Вершинин Лев Идем на восток! Как росла Россия
© Вершинин Л. Р., 2014
© ООО «Издательство Алгоритм», 2014
Вместо предисловия. Суета вокруг сарая
Общеизвестно, что Куликовская битва была событием знаковым, но точки над «ё» не расставила. Спустя два года хан Тохтамыш взял и сжег Москву, после чего формальная зависимость Москвы от Орды восстановилась. Это не секрет. Вместе с тем, в последние два десятилетия, – и, как правило, из уст историков, склонных переоценивать прошлое, – звучат мнения, скажем так, достаточно политизировано окрашенные. Например, что, дескать, «Мамай был “бунтарем” и не принадлежал к роду Чингизидов, а Дмитрий Донской воевал с ним по заданию хана, будучи верным вассалом Орды, а Русь еще пару веков после того платила Орде унизительную дань, и этот факт упорно замалчивается». Буду откровенен: это раздражает. Даже не потому, что о нашествии Тохтамыша и сожжении Москвы писалось в школьных учебниках для 7 класса, а 98 лет, разделяющие битву и день, когда Иван III погнал послов Ахмата пинками, все-таки не «пара веков». Дело в том, что ключевым тезисом таких построений являются не эти второстепенные пунктики, а общая картина геополитической ситуации того времени, рисуемая с очевидным (хотя и не знаю, насколько осознанным) стремлением «занизить» роль Москвы в процессе сплочения Руси и разрушения ордынского влияния. Дескать, и Москву сожгли, о чем стараются умалчивать, и никакого смысла в победе не было, поскольку дань и после победы платили, и не за Русь умирали ратники на Куликовом поле, а по «заданию хана». Такая трактовка, на мой взгляд, идеально укладывается в требования «новой мифологии» и служит недобрым целям.
А потому вспомним общеизвестное.
Великий темник (главнокомандующий) Мамай происходил из ногаев, внеродовых кланов, державших Дикое Поле еще со времен великого темника Ногая, фактически отделившегося от Орды, и находившихся с Сараем в сложных договорных отношениях даже при Джанибеке. Как бы и подданные, но сложные, с характером и особыми правами. Волевой и талантливый джигит приглянулся последнему реально великому хану Большой Орды, получил в жены его внучку, став зятем («гурганом») и близким другом Бердибека, наследника Джанибека (в будущем отцеубийцы и последнего кок-ордынского хана по прямой линии Джучи). Опирался на родственников-ногайцев, ставших в годы «великой замятни» очень заметной силой, тем паче что слово «тюре» (Чингизид) для этих классических людей длинной воли было если и не совсем пустым звуком, то около того. Контролировал Крым с его торговлей, был невероятно богат и, как правило, удерживал столицу от имени подставных ханов, если же и оставлял ее очередному калифу на час, то ненадолго. На территории Кок-Орды, от Хаджи-Тархана до Булгар, влияние Мамая было реальным, но не абсолютным, как на юге: местные князьки были вполне независимы в своих уделах, подчас даже в ущерб «центру». Так, знаменитый набег Араб-шаха на нижегородские земли в 1377-м был Мамаю совершенно не нужен, поскольку Москва и так исправно посылала дань с нижегородских земель, зато после этого набега Москва заявила о невозможности платить положенную сумму. А когда Мамай послал Бегича вразумлять слишком возомнивших о себе москвичей, те, как известно, дали карателям по ушам на Воже и вообще прекратили выплаты.
К слову. Были ли вообще русские княжества, условно объединявшиеся под Великим Столом Владимирским, вассалами Орды? Понятие «вассалитет» в «западном» смысле, со строгой лестницей, – как, скажем, в Иль-де-Франс, – ясное дело, применять нельзя. Но, безусловно, Русь несла набор определенных обязанностей. Хан считался верховным арбитром, верховный князь выбирался из числа претендентов и утверждался ханом, с русских княжеств взималась ежегодная дань, а русские князья обязаны были поставлять вспомогательные войска для ордынских походов. Однако ко временам Дмитрия, Мамая и Тохтамыша ситуация была прописана уже не столь четко. С начала «великой замятни» в Орде и развала ее на Синюю и Белую (за Волгой), поставка войск была явочным порядком прекращена, а размер дани постоянно снижался по ходу умнейшего лавирования между претендентами. А затем хан Амурат вообще дал «добро» на то, что Москва сама будет определять размер выплат, исходя из возможностей (конечно, некая средняя ставка предполагалась, но уже не оговаривалась). Тогда же и ярлык на княжение сделался сугубо юридическим документом, подтверждающим «особые права» Москвы, и только Москвы. То есть в описываемые времена великий князь московский вассалом Орды уже не был ни в коей мере, он был ее «данником», и едва ли будет ошибкой сравнить эту дань с теми «дарами уважения», которые императоры Китая из века в век отправляли северным кочевникам, исходя из того, что воевать выйдет дороже, чем откупиться.
Однако вернемся к Мамаю. Он, конечно, человек сильный, с трудностями справляться умеет, но в 1380-м положение выходит из-под контроля. В Хорезме возникает «фактор Тимура», Тимур выдвигает и спонсирует молодого, крайне амбициозного Тохтамыша, Тохтамыш по клочкам склеивает разбившуюся вдребезги Белую Орду и ставит перед собой задачу объединения всего улуса Джучи. То есть, конечно, не всего, поскольку в Хорезме сидит Хромец, но Дешт-и-Кипчак – обязательно. Он, собственно, уже ведет наступление на земли Кок-Орды, его отряды прорываются на левый берег Волги и даже занимают Сарай. Так что необходимо собирать все силы. Что невозможно без серебра. А Москва, самый надежный источник реального дохода, вожделенного серебра после Вожи не дает. Вернее, готова давать, но на своих условиях: без выплаты за те годы, когда не платила (типа, компенсация за наезд Бегича) и в «урезанном» масштабе, «как при Амурате». Что никак не устраивает Мамая, которого все больше поджимает время: весенний набег Тохтамыша на Сарай был пристрелочным, но следующей весной хан Ак-Орды, несомненно, придет всерьез. Кое-что, естественно, можно взять в долг у сарайских купцов, кое-что у – генуэзцев в Крыму, но все это капли в море.
В общем, без решения «московского» вопроса Мамаю никак. И дело даже не только в серебре. У великого темника катастрофический недостаток надежной живой силы. Ногаи, конечно, дело хорошее, но только на них не выехать, генуэские наемники и адыги не слишком впечатляют, на дружины волжских князьков вообще полагаться не приходится, это друзья до первого тохтамыша. А вот ежели сломать Москву и заставить, чтобы все было «как при Узбеке и Джанибеке», то бишь возобновить «дань кровью», гарантированную массовой выдачей заложников, – это решение. Это минимум вдвое увеличит войско, причем без вложения средств и за счет очень качественного личного состава, которому просто некуда отступать, поскольку всем понятно, что Тохтамыш, если победит, на рубежах Руси не остановится. В Москве это прекрасно понимают, как понимают и то, что поход Мамая – это даже не Батыево нашествие, а нечто худшее. Бату требовал всего лишь повиновения, дани и вспомогательных войск, а Мамаю нужно ВСЕ, вплоть до перенесения центра улуса из ненадежного волжского Сарая западнее, о чем и в летописях сказано («Не запасайте на зиму корма, будет у вас довольно кормов»). Так что Москва готовится к бою, и готовится, что называется, не по-детски. Ситуация, что интересно, ясна и дворцам, и хижинам, поскольку на княжеский зов «черный люд» стекается десятками тысяч, при том что ополчение было делом сугубо добровольным (никакой воинской обязанности и никаких методов принуждения в те времена и в помине не было). Более того, ситуация настолько жесткая, что на помощь Дмитрию выдвигаются и войска Литвы во главе с самим великим князем Ягайлой.
Опять к слову. Именно так. Вы не ослышались. Я в курсе, что традиционно принята версия о союзе Ягайлы с Мамаем, причем считается, что литовский князь, будучи совсем близко от Куликова поля, просто не решился вмешаться, боясь грозных московских ратей. Но давайте на секундочку отключимся от обаяния традиции и подумаем мозгами. Во-первых, что испугался – чушь; после битвы победители были в таком состоянии, что свежее литовское войско могло не просто брать их голыми руками, но и изгоном захватывать Москву. Чего сделано не было. Ибо незачем было. Москва Литве, конечно, не друг, но их вражда – частная, порубежная, городок туда, городок сюда; вся стратегия закончилась после провала московских походов Ольгерда. Зато Мамай – враг реальный, серьезный. Именно его ногаи контролируют Дикое Поле, тревожат только-только присоединенную после Синих Вод (где Ольгерд их же и разбил) Малую Русь. А победа Мамая, с высочайшей степенью означающая и победу его над Тохтамышем, означает, что великий темник, решив первоочередные проблемы, вновь вернется к вопросу о Киевщине, Переяславщине и так далее. Так что какой резон Ягайле помогать Мамаю? Никакого. Зато в войске у Дмитрия срочно появляются два Ольгердовича, Андрей и Дмитрий, родные братья Верховного Князя. Перебеги? Ни в коем случае, клан Гедимина был настолько сплочен, что даже Витовт чуть позже простит Ягайле гибель отца, а ведь он – не Ольгердович. К тому же после Куликова поля оба брата не остались на Москве, почивать на лаврах, а достаточно скоро вернулись в Литву, где один вскоре умер, а второй позже погиб на Ворскле, сражаясь уже не под московским стягом, а под родным, литовским. То есть оба младших Ольгердовича действовали, как минимум, с ведома старшего брата. А то и вообще по приказу. Можно уверенно предполагать, что окажись удача не стороне Мамая, Ягайла приказал бы атаковать татар. Но, поскольку одолела Москва, вмешиваться было уже ни к чему. Вот и простейшая разгадка загадочного «стояния» Литвы в десятке верст от Поля.
О самой битве говорить нужды нет. Ее масштаб и значение известны. На следующий год Мамай попытался остановить Тохтамыша, не смог и бежал в Крым, где благополучно погиб. А Тохтамыш, сойдя, так сказать, с танка, выяснил, что праздники кончились. Да, он воссоединил Улус Джучи, правда, без Хорезма, но в Хорезме – Тимур, тягаться с которым страшно (правда, позже он на свою голову таки попытается, но это будет очень нескоро). Однако воссоединение вещь хорошая, а деньги все-таки нужны, как и презренному Мамаю. Чтобы, как минимум, показать ордынцам обеих Орд, что за ним стоило идти, ибо не босяк-временщик, а реальный хозяин. Ногаев надо срочно перекупать, чтобы не тосковали по Мамаю и не искали «своих» претендентов. Джигитам из-за Волги тоже надо срочно платить, не то ведь взбунтуются, а подавлять бунт нечем. А еще ведь есть и хорезмийские заимодавцы, и Тимур оказывал помощь в кредит, но не безвозвратно. Откуда брать деньги? Казну Орды растратил на подготовку к войне Мамай, а что не растратил, то увез, и генуэзцы не отдадут. С транзита никак не получается. Пошлин с «волжского пути» мало, а «шелковый» иссяк: Тимур перемкнул караваны с «верхней» дороги на «нижнюю», это было одним из условий поддержки. Внутренние ресурсы тоже отсутствуют. Люди Мамая, перейдя к законному хану без боя, подложили новому владыке огромную свинью – в случае битвы и победы он бы просто ограбил Кок-Орду по праву завоевания, а теперь этой опции нет. Можно, конечно, начать репрессии и реквизиции просто так, но это будет сигналом к новой «великой замятне», не нужной ни Орде, ни Тимуру, ни Тохтамышу. Хан, конечно, конфисковал имущество князей, погибших на Куликовом поле, но это капля в море. Нужно еще.
То есть начинается все то же «Дай миллион!» в адрес Москвы. Уже с упором на то, что, дескать, хан теперь законный, так что и поступать надо по закону. На что Дмитрий, в принципе, даже не возражает. Но дьявол, как всегда, в нюансах. Москва соглашается на выплаты «как при Амурате». Это справедливо, на то и ярлык имеется. Тохтамыш же, который в долгах как в шелках, стоит на том, что после Бердибека законных ханов не было, а все его предшественники – либо узурпаторы и цареубийцы, либо вообще не Чингизиды, а значит, воры и самозванцы. И раз такое дело, то москвичи сами виноваты, что платили непонятно кому, а сейчас должны уплатить дань за 18 лет, без всяких ссылок на каких-то мутных «амуратов». Можно в рассрочку. Но недолгую. И с процентами. О чем Москва, в свою очередь, не желает и слышать, ибо – с какой стати? По факту это уже отношения не вассала с сеньором, а бизнесмена с рэкетиром, когда проще от «зверька» откупиться, но только «по понятиям», а не как в последнее десятилетие прошлого века. При этом ссылки на то, что «хан законный», никакой роли не играют. По сути, вплоть до 1381 года Тохтамыш для Москвы был никем и звали его никак. Москвичам не было дела до молодого оглана из заяицких степей, не имевшего ничего, кроме огромных амбиций, крохотной кучки нукеров и права на белую кошму. Даже после 1377 года, когда Тохтамыш с помощью Тимура занял Сыгнак, передушил конкурентов и стал легитимным правителем Белой Орды, ситуация никак не изменилась, поскольку все обязательства, которые были у Москвы, относились исключительно к Орде Синей. То есть, к Сараю. А там, пусть и под фактическим контролем Мамая, правили полноценные Чингизиды. Иными словами, реальные основания предъявлять Дмитрию претензии у Тохтамыша появились лишь весной 1381 года, после полного поражения Мамая, исчезновения «его» хана Араб-Шаха и воссоединения Орды. Будь предположения о «покорном исполнении приказа» хоть как-то похожи на истину, логично было сразу после победы над узурпатором ждать исполнения Москвой ханских требований и, как полагалось, визита князя в Сарай с личными изъявлениями покорности и за заслуженной наградой. Чего не было и в помине.
Тохтамыш, однако, зверел от безденежья. Он буквально клевал по зернышку, дойдя до торговли липовыми бумажками вроде ярлыка на Великое Княжение, выданного нижегородским князьям, хотя заплатить эти бедолаги могли сущие гроши (основную часть налогов в их вотчинах собирала Москва). К осени хан, уже окончательно, судя по всему, поехав мозгами, совершил то, что ни до него, даже во времена «великой замятни», ни после не делал никто: приказал перехватывать и грабить русские караваны. Причем не только тайно, в степи, где они были защищены степным торговым правом и Ясой, но и официально, на сарайской ярмарке, где они были защищены шариатом. Товары и деньги изымались, купцов бросали в зиндан на предмет выкупа. По сути, хан рубил последний сук, на котором сидел, – «волжский» путь транзитной торговли. Это было чистое безумие. Но Тохтамыш, как известно, при всей своей бешеной воле, энергии и амбициях был не стратегом, а еле-еле тактиком, причем очень хреновым. Главным для него было не то, что будет завтра, а то, что большой единовременный доход, полученный с этой уголовщины, позволил заткнуть самые зияющие, первоочередные дыры. Но теперь никаких вариантов, кроме похода на Москву, у хана вообще не оставалось.
Эксцесс 1382 года уникально своеобразен. В принципе, не случись по ходу дела падения Кремля, это мероприятие осталось бы в памяти потомков всего лишь крупным набегом по принципу «хватай и беги». Походом, более того, СОБЫТИЕМ, оно стало исключительно в связи с падением и сожжением Кремля. Этот инцидент был столь громок и неприятен, что московской пропаганде пришлось задним числом валить вину на кого угодно. Досталось и вечно во всем виноватому Олегу Рязанскому, якобы «показавшему Тохтамышу броды на Оке» (словно татары, уже полтора века грабившие рубежи Рязанщины, не знали этих бродов). Огребли свое и нижегородские князья, опять же якобы обманувшие москвичей (хотя говорили они чистую правду: они и в самом деле пришли править, имели ярлык и никак не подозревали, что случится на самом деле). Но на самом деле Москва, конечно, понимала неизбежность появления Тохтамыша и готовилась. Только готовилась она по-крупному, исходя из того, что хан, как всегда бывало, прежде всего ударит в направлении Владимира, чтобы провести инаугурацию своих новых фаворитов. Именно там, к северу от Москвы, были расположены войска, предназначенные встретить неприятеля, и именно туда направился Дмитрий, когда – неожиданно – Тохтамыш повернул на Москву. Была ли допущена ошибка? Вряд ли. Москвичи закладывались на политический подтекст ордынского похода, и никто не мог даже допустить, что истинной целью хана будет вульгарная, не слишком скрываемая уголовщина – грабеж с отчетливой линией на уход от крупных сражений с русскими ратями. Собственно, и падение московской крепости было казусом, который невозможно было просчитать, итогом не слабости стен или гарнизона, а паники в городе, тупости коменданта и (главное) предательства митрополита Киприана, на которого Дмтрий фактически оставил город, никак не предполагая, что у митрополита попросту сдадут нервы. Позже владыка, струсивший и бросивший паству, так и не решился вернуться в Москву, исполняя обязанности издалека.
Все, что творилось после падения Кремля, – скорее трагифарс, нежели трагедия. Ограбив княжескую казну и монастырские ризницы, Тохтамыш срочно развернулся и отбыл в родные степи, не озаботившись даже собрать растекшееся по весям на предмет грабежа воинство, попавшее под клинки небольшой, но мощной дружины Владимира Серпуховского, а затем практически в панике, мелкими отрядами бежавшее при известии о приближении основной рати. На уровне обоснованных предположений позволю себе допустить, что такой вариант как раз и был по душе хану: основная часть его войска состояла из ак-ордынских джигитов, считавших себя пупом земли по факту устранения Мамая, и плачевное бегство помогало поставить их на место. Не говоря уж о потерях, позволяющих сократить выплаты за поход 1381 года.
По большому счету, выигрыш Тохтамыша был весьма скромен. Очень богато подогревшись в Москве, он сумел решить первоочередные проблемы, раздать кому надо наградные, отослать дань Тимуру и расплатиться с хорезмийскими кредиторами. Плюс получил на несколько лет вперед гарантии стабильного получения «выходов» – москвичи, оказавшись перед необходимостью восстанавливать столицу и нуждаясь в передышке, уже не могли держать тот фасон, что раньше, и согласились возобновить выплаты, отправив наследного княжича Василия в Сарай в качестве заложника. Но – все на тех же условиях, что и ранее, – «как при Амурате», безо всяких платежей «за прошлых царей», и Тохтамыш это проглотил. Более того, он отозвал ярлык, данный нижегородским князьям, подтвердив неотъемлемую принадлежность великого стола Москве. С этого момента выплаты все более принимают эпизодический характер; чем больше залезает в свои неудачные эксперименты Тохтамыш, тем меньше поступает денег из Москвы, а после бегства Василия ручеек иссякает совсем, и даже новый крупный поход на Москву нового сильного человека Орды, Едиге, – уже после краха Тохтамыша, – картины не меняет. Потоптавшись под стенами Кремля, татары уходят восвояси без особого навара, что вскоре станет причиной падения Едиге и новой замятни в Орде. Последний же договор о «дани» будет заключен Москвой много позже, после поражения Василия Темного в битве с казанским Улу-Мухаммедом, и выплаты будут уже не признаком зависимости, а, по большому счету, колоссальным, но единовременным выкупом за плененного князя. Такая себе контрибуция…
Собственно говоря, примерно в это время Москва впервые и всерьез заявляет о себе как о претенденте на роль нового объединяющего центра – верховного арбитра и гаранта порядка на всем пространстве, ранее контролируемом Ордой.
Часть I
Глава I. Казань брал…
Для начала чуть-чуть теории. Доморощенные «эуропейцы», обожающие топырить губы, сравнивая Московскую Русь с Ордой, не понимают одного совершенно элементарного нюанса. Того простенького факта, что, если уж строго терминологически, то Орда – это всего лишь Ставка. Центр. Не более, но и не менее. А по сути – смещенный на Восток аналог т. н. «Священной Римской Империи германской нации». Которая, кстати, на поверку не была ни «священной» (мало ли кто как себя называет, да и протестантов там имелось в избытке), ни «Римской» (ибо Рим ни секунды не был ее столицей), ни «германской» (поскольку включала, кроме немецких, также итальянские и славянские земли). И точь-в-точь как Орда, являлась рыхлым конгломератом предельно непохожих друг на друга «улусов», от вольных городов-республик и мелких сеньорий до централизованных королевств, имеющих свои законы и относящихся как друг к дружке, так и к центру по-всякому. Более того, сам Центр зачастую бывал сугубо номинален. И тем не менее его уважали, к нему прислушивались, к нему старались быть поближе. По той простой причине, что наличие Центра предполагало и наличие некоего единого порядка, законности, арбитража. То есть, пусть в какой-то мере, но гарантировало поддержание стабильности. Именно поэтому даже в периоды предельного ослабления Орды отдельные ее улусы, даже в моменты взлета, не стремились к полному освобождению, соблюдая положенный пиетет, выплачивая пусть символические, но взносы и по умолчанию подчиняясь арбитражу. Если же слабость традиционного Центра становилась необратимой, естественным образом возникала тенденция к его переносу в тот или иной улус, способный выполнять функции центра эффективнее. Поняли, нет? Впрочем, неважно.
Старший по общаге
Улу-Мухаммед, потомок Джучи по линии Тука-Тимура, был, очевидно, последним ханом Большой (Синей) Орды, всерьез способным восстановить хотя бы относительный закон и порядок на территории от Днестра до Волги. Талантливый полководец, дипломат и политик, он добился очень многого, но в итоге проиграл мелочи, не годившейся ему в подметки, – именно потому, что эта мелочь, разорвав и поделив Орду, не хотела очередного усиления ханской власти. Однако, имея голову на плечах, военный талант и далеко идущие планы, не смирился, ушел на Каму, в земли бывшего Булгарского царства, где был с восторгом встречен населением. Что и понятно: богатейшие земли вокруг Казани, перегнавшей к тому времени захудавшие Булгар и Биляры, не имели реальной защиты, и грабили их все подряд, от русских ушкуйников до татарских беспредельщиков. Здесь хан быстро укрепился, создав базу для реализации реставрационных планов. Естественно, восстановление контроля над русскими землями при этом рассматривалось как первый этап большого пути, тем паче что на Руси не все было ясно в смысле гражданского мира, наследники Донского увлеченно ослепляли один одного, и Улу-Мухаммед не сомневался в успехе. Среднее Поволжье он рассматривал как базу для реставрации, а Московское княжество – как первый этап этого процесса. Походы 1439-го, 1444-го, 1445 годов были очень удачны, а попытки Москвы огрызаться – наоборот, вплоть до разгрома великокняжеских войск, пленения Василия Темного и расширение власти Улу-Мухаммеда над Русью. Вплоть до восстановления «баскачества»! На Русь, чего не было уже лет сто, вводился гарнизон «смотрящих» во главе с Касимом, сыном хана. Походы продолжались и после смерти Улу-Мухаммеда, при его сыне Махмуде. Но агрессивный потенциал Казанского ханства быстро выдыхался. Внутренне укрепившись, наладив экономику и приведя в порядок управление, наследники Улу-Мухаммеда быстро теряли темп, и это было очевидно всем. В частности, «баскак» Касим, любимый сын покойного хана, после отказа Москвы от выплаты дани предпочел не оспаривать престол, на что имел полное право, а остаться на Руси, присягнув великому князю и получив в удел вполне автономное «ханство», названное в его честь Касимовским. Казанские царевичи вошли в высший московский бомонд и верно служили новому сюзерену, сражаясь не только с Дмитрием Шемякой, но и с собственными соплеменниками.
В 1467 году вектор сменился окончательно. Казань уже не стремится подчинить Москву, понемногу переходя в глухую оборону, Москва же постепенно начинает набирать очки. Все долгое царствование хана Ибрагима и его наследников было попыткой если и не переломить ситуацию, то хотя бы сохранить баланс. Войны шли практически непрерывно, с переменным успехом, однако с постоянным нарастанием перевеса Москвы. В самой же Казани возникла и все более укреплялась «московская» партия, вопреки мнению партии «степной», по-прежнему разделяющей доктрину Улу-Мухаммеда, полагающая, что борьба за роль нового центра проиграна и ханству следует принять новые реалии. Межпартийная борьба была шекспировски страстна и кровава, кто-то погибал, кто-то эмигрировал, кто-то возвращался – с ногайской ордой или русской подмогой, ханы сменяли друг дружку, но в конечном итоге, в 1487-м, московское войско, без штурма войдя в Казань, утвердило на престоле уже не раз свергнутого и возвращавшегося Мухаммед-Амина. Между прочим, запомнившегося современникам фразой «Если на то воля Аллаха, чтобы Сарай был в Москве, а не в Казани, следует ли мусульманам оспаривать это?». Именно он впервые официально присягнул Ивану III, положив начало эпохе вассалитета. Он же был и последним представителем династии Улу-Мухаммеда по прямой линии, после чего трон унаследовали Шах-Али, потомок того самого Касима, о котором уже шла речь. Дабы не растекаться мысию по древу, дотошно характеризуя политические воззрения сего персонажа, сообщу лишь, что он, кроме Касимовского ханства, владел еще и громадными землями на собственно Руси, по статусу входил в Боярскую Думу и в царствование Василия III был одним из ближайших конфидентов великого князя, а позже и Елены Глинской. Еще позже, на первом этапе Ливонской войны, он же стал главнокомандующим русских войск и одержал наиболее известные победы в Прибалтике, а под конец жизни, оставаясь владетельным ханом Касимова, ведал всей пограничной службой Московии.
Внешний фактор
В сущности, воцарение Шах-Али означало полное и окончательное торжество реалистов-«московцев». Альтернативы «восточники» не имели ни на политическом уровне (что силенок у Казани не хватает, сознавали все), ни на идеологическом (Казань как новый центр Орды не признавал никто). Однако плавный ход событий нарушился с появлением в мировой политике нового игрока – Оттоманской Порты, после уничтожения Византии заявившей о себе как о новом претенденте на объединение Римской Империи, уже под знаменем ислама (вспомним, что после покорения Египта султан считался одновременно и «халифом всех правоверных»). Осуществленное в конце 15 века подчинение Крыма, а затем и степняков-ногайцев, означало и заявку на объединение под эгидой Стамбула наследия Золотой Орды. Расклад, согласимся, принципиально новый. Обретя столь серьезный тыл, оживляется и «восточная партия». В ответ на ее тайные призывы о помощи крымский хан Мехмед-Герай, заручившись одобрением Стамбула, посылает в Казань своего младшего брата и наследника Сахиб-Гирея с небольшим, но сильным отрядом, и тот, практически без боя изгнав Шах-Али, занимает ханский престол, провозгласив в мечетях двойную хутбу на верность – хану Крыма и падишаху Порты. Не отреагировать Москва не может. После серьезной подготовки в 1524-м на Казань выступает огромная армия под руководством князя Бельского. Войны, впрочем, не случилось. С одной стороны, защищаться казанцам было нечем, да и единства в элите ханства по этому вопросу не наблюдалось, с другой – крымский хан угрожал Москве «великими бедами за обиду», а Василий III, перманентно враждующий с Литвой, не мог рисковать открытием второго фронта. Так что стороны пришли к компромиссу: Сахиб-Гирей ушел в Крым (где, кстати, несколько позже став ханом, окончательно привязал ханство к Порте), хутбу султану тут же отменили, а правительство сформировали «московцы» во главе с князем Булатом Ширином и царевной Гаухар-Шад, но в Казани остался сильный крымский гарнизон, официально считающийся «почетной охраной» 13-летнего Сафа-Герая, племянник Сахиба.
Прочным такое положение быть не могло, тем более что джигиты-къырымлы никому не подчинялись и активно грабили окрестные племена, разрушая установленный в эпоху Улу-Мухаммеда баланс отношений власти и подданных, и в итоге, когда после провала Венских походов Турция временно приостановила внешнюю активность, «московцы» изгнали из города Сафа-Герая и его «почетную охрану», пригласив на престол касимовского хана Джан-Али, беспрекословно верного Москве, полностью занятого проблемами своего удела и не особо интересующегося внутренними делами Казани. На какое-то время наступил мир на основе status quo 1521-го, «догерайского», года. Однако прочным такое положение быть не могло. Уже в 1535-м, вернувшись с большим крымским войском, повзрослевший Сафа-Герай, изгнав не слишком этим огорченного Джан-Али, вновь утвердился на престоле и, не особо увлекаясь репрессиями, вытеснил «московцев» из реальной политики. Теперь это был отнюдь не «компромиссный» мальчик десятилетней давности, а взрослый мужчина, благодаря женитьбе на дочери ногайского бия располагающий собственной военной силой и имеющий четкий политический план. Казань становится форпостом турецко-крымской экспансии, опорным пунктом реставрации Большой Орды как вассала Порты, в ее мечетях вновь звучат хутбы «верховному хану и падишаху», но главное – практически сразу после реставрации Сафа-Герай открывает «сезон охоты», всего за 12 лет осуществив около 40 разного масштаба походов на Русь.
Костлявая рука рынка
Это уже не просто «драки на меже»; основная цель набегов – пленники, как можно больше пленников, крайне необходимых Порте. Как на южных рубежах Руси и Литвы крымцы, так теперь и казанцы (вернее, ногаи) тысячами угоняют девушек для гаремов, мужчин для галер, мальчиков для пополнения янычарского корпуса. «От Крыма и от Казани до полуземли пусто было», – позже напишет Иван Грозный. Это серьезная политика. «Людские ресурсы» с Севера ежегодно закладываются в планы стамбульских диванов, при дворе возникает мощное работорговое лобби. Короче говоря, Казань не только быстро уходит под контроль Крыма, но и интегрируется в глобальную экономику Pax Osmanica, ставя Стамбул в ситуацию, когда активная защита ее, как и защита Крыма, станет одним из краеугольных камней внешнеполитической концепции Порты. Что характерно, коренных казанцев такие новации не очень радуют. Ни элиту, ни «улицу», политикой ранее мало интересовавшуюся. Причина проста: в отличие от полудиких ногайцев, Казань – серьезное, развитое государство. Вопреки существующему мнению, рабство там не в чести; то есть невольники были и ранее, но увеличение их числа на полтора порядка лишает работы «адамон базар», свободных поденщиков, носильщиков, каменщиков и прочий «черный люд». Кроме того, людоловов мало интересовало подданство угоняемых, в связи с чем по всему ханству прокатились мятежи ранее абсолютно лояльных податных народов – черемисов, вотяков, мещеры. Неудивительно, что на верхах возникают заговоры, оживают притихшие лидеры «московцев». Сафа-Герай отвечает свирепыми репрессиями, вопреки всем негласным конвенциям казня даже высшую знать, вплоть до «премьер-министра» Булата Ширина. Итог: всеобщее восстание, изгнание Сафа-Герая и очередное возвращение Шах-Али, тотчас предложившего Москве ни много ни мало «пакт об унии» – дабы Казань вошла в состав Москвы на правах Касимова, а «великий князь Московский» впредь именовался и «царем Казанским». Москва не возражала, но переговоры были сорваны возвращением в том же 1546-м Сафа-Гирея, пришедшего с огромной ногайской ордой и установившего уже ничем не прикрытую военную диктатуру. Союз Казани с Крымом и Ногайской Ордой из фактического становится официальным, и более того, Казань и ногайский Хаджитархан (еще не Астрахань) начинают согласованно диктовать условия волжской торговли, грозя обрушить один из столпов московской экономики.
Слезам не верящие
Терпение Кремля, как известно, почти беспредельно, но не секрет и то, что Москва бьет с носка. «Волжская проблема» выносится на обсуждение Избранной Рады, и уже в декабре 1547 года русские рати идут на Казань. Это пока еще не «удар милосердия», а всего лишь демонстрация. Сильно (но – показательно – не сильнее, чем джигиты Сафа) опустошив западные земли ханства, московские рати добираются до Казани, отдыхают под воротами и весной 1548-го возвращаются восвояси с добычей. Урок, однако, впрок не пошел. На столь мягкую, сугубо увещевательную меру воздействия хан отвечает крупнейшим походом под лозунгом «защиты веры», обратившись за помощью к Крыму и получив оттуда гарантии. Однако человек предполагает, а располагает лишь Бог. В марте 1549 года, за пару месяцев до прихода крымских отрядов, молодой (всего 43 года) цветущий Сафа-Герай умирает при крайне подозрительных обстоятельствах. Вроде бы в итоге «несчастного случая», но слишком уж вовремя, очень к месту приключившегося. Как бы то ни было, Москва приостанавливает подготовку к новому походу и соглашается принять посольство нового правительства, куда входят уже и умеренные лидеры «московцев». Переговоры, однако, завершаются ничем. Кремль требует возвращения в Казань надежного и проверенного Шах-Али, но готов согласиться и на кандидатуру малолетнего Утямыш-Гирея, наследника Сафа, однако при обязательном условии расторжения казанско-ногайско-крымского союза и назначения «московского» регента, что неприемлемо для представителей Крыма, уже утвердивших на пост регента мать хана-младенца, ногайскую княжну Сююмбике. В связи с чем осенью Москва совершает второй масштабный поход на Казань. О присоединении речи все еще нет, однако превосходство сил русские продемонстрировали в полной мере, а главное, уходя, в рекордно короткие сроки воздвигли вблизи Казани мощную крепость Свияжск, фактически лишившую казанское правительство возможности контролировать территорию ханства. Всем было ясно, что развязка не за горами.
Ситуация в описываемое время складывалась исключительно удачно для Москвы. Ногаи угрозой для нее не были, Крым ориентировался на Турцию, а турки хотя и блистали в зените, но любые силы имеют предел; именно в это время Порта вела сразу две тяжкие войны на приоритетных направлениях: в Европе назревало новое столкновение с недавно побежденной, но желающей реванша Австрией, а персы, война с которым продолжалась уже почти 20 лет, собравшись с силами, перешли в контрнаступление. Немало сил отнимали и второстепенные фронты – требовали подкреплений экспедиционные корпуса в Марокко, Сомали и в Ормуздском проливе. Короче говоря, и у Стамбула, и тем более у Бахчисарая руки были связаны, но и идти на уступки Кремлю они запрещали, напротив, требовали увеличения поставок «живого товара», хотя бы и за счет податных «языческих» племен ханства. Что, в свою очередь, провоцировало расширение мятежей тех самых племен, ополчения которых еще лет десять назад верой и правдой служили ханскому престолу. Впрочем, совсем без помощи Казань не осталась. Не имея войск, стамбульские визири приняли остроумное решение превратить войну феодальную в войну народную; в течение 1550 года Казань наводнили многие сотни дервишей из Стамбула, Крыма и даже далекой Бухары, активно и умело проповедовавших на улицах и базарах идеи джихада против проклятых гяуров, которые во всем виновны. Для Казани, города многоязычного и веротерпимого, это было в диковинку, ораторов охотно слушали, а поскольку они имели в запасе простые ответы на самые сложные вопросы, истерия нагнеталась быстро и количество ранее аполитичных люмпенов, готовых, ежели что, отдать жизнь за дело Пророка, росло. Что, правда, имело и негативные стороны. Вспышка мусульманского фанатизма окончательно отпугнула язычников; в том же 1550-м луговые черемисы (мари), один из главных «боевых» народов ханства, слагают с себя присягу хану и безо всякого принуждения присягают Москве. Серьезно обеспокоена была и коренная казанская элита, совершенно не настроенная делиться властью с непонятно откуда нагрянувшими муллами, улемами и талибами.
Следствием этого беспокойства стал верхушечный переворот конца 1551 года. Регентша Сююмбике вместе с маленьким ханом была смещена и выдана Москве, правительство разбавлено «московцами», а ханом признан – вы правильно поняли – Шах-Али. Однако Москва отреагировала не так, как привык казанский истеблишмент. На переговорах в Свияжске ранней весной 1552 года представителям ханства, на сей раз практически поголовно «московцам», готовым на самые широкие уступки вплоть до «унии» образца 1546 года, было сообщено, что «уния» дело хорошее, но игры закончились. Отныне, во избежание «измен», царь, принимая на себя титул «царя Казанского», намеревался взять Казань под прямое управление.
Требование назревало долго, было вполне естественным и не встретило особых возражений среди основной части казанской элиты. Однако обстановка в городе уже не позволяла реализовать его мирным путем. До звона взвинченная проповедниками «улица» и ряд наиболее религиозных «промосковцев» во главе с князем Чапкыном Отучевым восстала против подчинения «гяурам» и нарушения верности «халифу правоверных». В обстановке полного хаоса хан Шах-Али отрекся от престола и в очередной, последний раз покинул Казань, а на вакантное место правительство, возглавленное Отучевым, пригласило астраханского царевича Ядгар-Мухаммеда. Выбор был знаковым: с одной стороны, ногаец, сын верного вассала Порты, с другой – отнюдь не враг Москве, с ранней юности служивший в войсках великого князя, имеющий на Руси поместья и покинувший службу только по приказу отца. Это, однако, была уже агония. Летом 1552 года московские войска, едва ли не наполовину состоящие из служилых татар, в том числе и казанских, и черемисско-мещерских ополчений, рассеяли полевую армию казанцев и начали обстоятельную, по всем правилам военного искусства, осаду, а в октябре, после тяжелейших городских боев Казань была взята штурмом. Строгий приказ царя щадить всех сдающихся «граждан» мало кому помог: понимая, что пощады не будет, приезжие проповедники призывали шахидов сражаться до конца, суля мгновенное попадание в рай. И «улица» сражалась…
Раздача слонов
Тотчас после взятия города Москва объявила о введении специальных законов, регулирующих статус новоприобретенных земель в составе России. Статус «Казанского царства» формально сохранялся, титул «царь Казанский» становился неотъемлемой частью титулатуры царя Московского и Всея Руси, вновь учрежденной архиерейской кафедре строжайше запрещалось насильственно обращать в православие как мусульман, так и язычников. Впрочем, очень скоро, вслед за влиятельнейшим черемисским родом Тугаевых горные язычники и правоверные, включая двух последних ханов, начали принимать крещение добровольно. Одновременно были посланы «по всем улусам черным людям ясачным жалованные грамоты опасные, чтобы шли к государю не бояся ничего; а кто лихо чинил, тому Бог мстил; а их государь пожалует, а они бы ясаки платили, якоже и прежним казаньским царем», и недостатка в желающих не оказалось. В итоге вводить на проблемной территории ханства военный режим не потребовалось, напротив, когда лидер «непримиримых» мурза Япанча во главе луговых черемисов и подоспевших ногайцев попытался развернуть в крае партизанскую войну, для подавления ее не потребовалось даже подкреплений из Москвы. Вопрос был решен ополчением казанских татар и черемисов.
Уроки противостояния Москвы и Казани были правильно поняты и оценены властителями мелких улусов – наследников Большой Орды. Вскоре после триумфа 1552 года сделал окончательный выбор тюменский хан Едигер, официально попросивший Ивана IV, чтобы он «всю землю Сибирскую взял под свое имя и от сторон ото всех заступил (защитил) и дань свою на них положил и человека своего прислал, кому дань собирать». Чуть позже, после серии переворотов в Ногайской Орде и вопреки яростному противодействию Крыма, была без боя сдана и включена в состав России Астрахань. Когда же, несколько позже, всерьез обеспокоенный происходящим победоносный Стамбул приступил к реализации масштабного плана реставрации мусульманских государств на Волге, пар ушел в свисток. Огромная крымская Орда, поддержанная многотысячным корпусом янычар с великолепной артиллерией, завязла под Астраханью, так и не дождавшись помощи ни от ногайцев, ни от астраханских татар, а затем, разбитая многократно меньшими русскими войсками, отступила, понеся более чем серьезные потери. А весной 1570 года русское посольство подписало в Стамбуле договор с Портой, зафиксировавший признание турками новых реалий.
А теперь, сказав все, что хотел, не удержусь от вопроса: укладывается ли в описанном сюжете роль Москвы в формулу «оккупант и захватчик» или дело все же обстоит несколько иначе?
Глава II. Полумесяц с икоркой
Осетрина первой свежести
Державы, как и люди, болеют. Захворав, могут умереть, а если повезет на врача (лидер) – подчас выживают. Однако если этот лидер, обладая всеми возможными достоинствами, при этом напрочь лишен мозгов, кризис неизбежно перерастает в агонию. По итогам правления Тохтамыша, мечтавшего не менее чем о «как при Узбеке», Золотая Орда, раздавленная Тимуром, перестала существовать. Земли за Волгой, населенные кочевыми племенами – основными поставщиками ханской конницы, – вообще ушли на вольные хлеба, при «великом эмире» Едиге и его сыне Нураддине оформившись в Ногайскую Орду, – довольно сильное (до 140 тысяч всадников), но совершенно аморфное квазигосударство с кукольными привозными ханами и полным всевластием Совета мурз. Потомкам Чингиза подчинялись только степи от Волги до Дона, но подчинялись условно: местные мурзы устраняли ханов при малейшей попытке хоть как-то заявить претензии на реальную власть. Слабенького хана Кичи-Махмуда никто не слушал, его наследника, Махмуда, тоже; Орда расползалась на глазах, превращаясь в подобие Ногайской, однако в 1459-м младший брат хана, Ахмат, волевой и амбициозный мужик, притормозил процесс, перехватив вожжи на себя. Сделав нескольким особо наглым князькам секир-башка, братишку он, однако, добивать не стал, а отпустил с миром, позволив осесть в Аш-Тархане (Астрахани), городе некогда крайне богатом, но сильно потрепанном после нашествия Железного Хромца. Позже, в 1476-м, Ахмат (судя по всему, был он хоть и крут, но по тем временам и местам достаточно милостив) разрешил племяннику Касиму унаследовать престол. А спустя еще пять лет, когда – после фиаско Ахмата на Угре и гибели от сабель ногайцев – Большая Орда умерла, Астраханское ханство, безо всяких к тому усилий, обрело независимость. Политически, правда, довольно жалкую (самый маленький осколок былого величия, сплошные солончаки, не более 20 тысяч населения и максимальный мобилизационный потенциал около 3000 сабель), но с точки зрения экономики вполне реальную. Даже после шалостей Тимура выгоднейшее географическое положение делало город в устье Волги идеальным перевалочным пунктом торговли Запада с Востоком и Севера с Югом, к тому же белая рыба и черная икра в те времена тоже были белой рыбой и черной икрой, так что казна никогда не пустовала. Что, разумеется, имело и побочный эффект: миролюбивой, старающейся никуда не лезть и дружить со всеми Астраханью весьма интересовались соседи, ногайцы и Крым, без особого такта проталкивавшие на тамошний престол своих ставленников. Так что местным авторитетам приходилось вертеться.
Прилетай, крыша!
Расклад, правда, был не слишком сложен. Ногайцев Астрахань интересовала, главным образом, как источник живых денег, место для беспошлинной торговли и питомник номинальных ханов из «правильного» рода. С Крымом же дело обстояло куда сложнее. Он и сам по себе в это время был на взлете, но, будучи к тому же и симбионтом (ни в коем случае не просто вассалом, это расхожее мнение ошибочно!) Порты, стремительно шел к зениту могущества. Позиционируя себя как полномочных представителей Османов, Гераи откровенно претендовали на роль восстановителя Золотой Орды и активно работали в этом направлении, в первой четверти XV века практически подмяв под себя богатую и сильную Казань, на фоне которой Астрахань вообще не смотрелась. Тихий, не претендовавший ни на что, кроме спокойной жизни, торговый город в дельте Волги они рассматривали как плацдарм для движения вверх, к Каме и границам Московии. Что совершенно не нравилось ни купцам, ни мурзам, – поскольку для Гераев, по факту не Чингизидов, права и привилегии «законной» степной знати не значили ровным счетом ничего. В такой ситуации симпатии астраханских элит были, конечно, на стороне ногайского Сарайчика, нежели Бахчисарая. Однако возлагать на помощь степняков слишком большие надежды не приходилось. Единой власти за Волгой не было, и крымская агентура, обильно оснащенная золотом и прочими приятными вещами, играла на противоречиях между князьками, вовсю дергая за ниточки уже купленных, побывавших в Крыму и навеки ушибленных тамошней роскошью марионеток, умело прикупая еще не купленных и устраняя упрямых. В конце концов, основным акционерам «астраханского проекта» такая ситуация надоела. Сугубые реалисты, они вовсе не собирались бодаться с дубом и готовы были платить отступные, но заложниками чужих, совершенно никакой выгоды не сулящих, напротив, вредных для свободной торговли игр становиться не желали. В 1533-м, аккурат когда Казань полностью оказывается в сфере влияния Крыма, а в Ногайской Орде начинаются серьезные разборки на тему «С кем быть?», в астраханском Кремле впервые заявляет о себе «урус-кешк», так сказать, русская придворная партия, полагающая, что в пасьянс следует включить московскую карту. Логика проста: с одной стороны, всякому, кто не слеп, было видно, что Москва становится все сильнее, даже сильнее Казани, и конфликтует с Крымом, при этом поддерживая приличные отношения с ногайцами, с другой – она все же достаточно далеко, чтобы не предъявлять чрезмерных требований, удовлетворившись льготами в волжской торговле и промыслах.
Русские идут!
Подробностей прихода к власти Абдул-Рахман-хана, выдвиженца «урус-кешк», мы не знаем, хотя, скорее всего, обошлось без крови (перевороты в Астрахани случались часто, но убийства были не в чести), но первой же его политической акцией стала отправка в Москву полномочного посольства и заключение договора о союзе, экономическом сотрудничестве и взаимной координации действий в сфере обороны. Что характерно, сия «новая линия» встретила полное понимание и в заволжской степи, в ставке самого сильного из ногайских мурз – Исмаила, лидера с харизмой и претензиями, мечтающего покончить с институтом «кукольных ханов» и стать первым парнем на Орде. Крымская агентура ему весьма докучала, гонял он ее из своих кочевий нещадно, так что союз с Москвой ему виделся вполне нормальным ходом для того, чтобы прищучить мелких и слишком борзых коллег, берущих крымское золотишко. Так что вскоре в Белокаменной появилось и ногайское посольство. Правда, у Исмаила были свои интересы – дивидендами от астраханской торговли он поступаться не желал, в связи с чем попросил у москвичей отпустить на родину троюродного племянника Дербиш Али, астраханского «царевича», по маме ногайца, безбедно сидевшего на Москве в роли то ли «вечного гостя», то ли заложника. Это, конечно, был удар под дых лично Абдул-Рахман-хану, но до таких мелочей думным боярам снисходить было, что называется, западло: главное, что и те, и эти политически правильно ориентированы. Так что Дербиш Али отпустили восвояси, после чего в Астрахани началась кадровая чехарда. Впрочем, по доброй традиции вполне вегетарианская. Ханы менялись, уходили, возвращались, состав правительств время от времени тасовался, но казней – по договоренности – никаких не было, «урус-кешк» вполне находил общий язык с Исмаилом, а курс на сотрудничество с Россией оставался неизменным.
Аж до 1551 года, когда на престол в Бахчисарае взошел Девлет Герай I, самый, пожалуй, великий политик и полководец Крымского ханства за всю его долгую историю, один из немногих тамошних ханов, сумевших стать в глазах Османов не подчиненным, а фактически равноправным партнером. У этого человека было свое видение реальности, и главным супостатом в этом видении являлась Москва, без каких-либо оснований позволяющая себе претендовать на законное наследство Гераев. Еще не отойдя от торжеств по поводу инаугурации, Девлет Герай занялся большой политикой, предприняв крупный набег на московские земли – с целью, если повезет, оттянуть русские силы от уже обреченной Казани. Повезло не вполне: операция была скверно продумана, так что дело кончилось серьезным поражением татар под Тулой, однако в Степи неудача была компенсирована с лихвой. В результате молниеносного наезда крымцев ханом Астрахани вместо едва успевшего унести ноги (крымцы были парни суровые) Дербиш Али стал Ямгурчи, сын крымской княжны. Чуть позже коалиция мелких мурз, опять-таки с крымской помощью, сместила Исмаила, объявив лидером его брата Юнуса, тотчас принявшего присягу на верность Бахчисараю и Стамбулу. Судя по всему, организаторы обоих переворотов рассчитывали, что Москва, занятая кампанией против Казани, не вмешается, Ямгурчи даже направил в Белокаменную посольство с разъяснением своих прав на престол и заверениями в полной лояльности. Какое-то время он этим выиграл, однако после падения Казани в Астрахань (доверяй, но проверяй) была направлена инспекция во главе с Севастьяном Аврамовым. Увиденное, надо думать, оказалось столь не отвечающим заверениям хана, что гонец с отчетом был задержан нукерами в степи, а посол арестован и сослан на один из островов Каспия. Вероятно, у хана просто не было иного выхода, но это означало войну.
Мышеловка для москвофила
Всем, кроме, возможно, самих астраханцев и «великого мурзы» Исмаила, было понятно: дело не в Астрахани как таковой и не в желании отомстить «за свою обиду и срамоту, яже царь Ямгурчеев обеты своя изменил и посла ограбил». Более того, не в «новой земельке», приобрести которую считала главной задачей московская Избранная Рада, и даже не в ценах на черную икру. В степном захолустье разыгрывалась глобальная партия. Взяв на себя за тридцать с лишним лет до того, после оккупации мамлюкского Египта, функции «халифа правоверных», султаны Порты одновременно и приняли обязательство, во-первых, везде и всюду защищать мусульман от гяуров, а во-вторых (и в-главных) исполнять завещание Пророка насчет подчинения Исламу всего «неверного» мира. Учитывая, что это была эпоха Сулеймана Великолепного, работа в этом направлении велась, и велась удачно – от Вены до внутреннего Ирана. Великая Степь и Россия, конечно, в этой программе были пунктами не первоочередной важности, но, учитывая фактор Девлет Герая, способного и готового возглавить мусульманский «Drang nach Norden», пренебрегать ситуацией на нижней Волге царское правительство не могло и не собиралось. Так что уже в октябре 1553 года Иван обсудил «астраханское дело» с посланцами отсиживавшегося в степях Исмаила, а три месяца спустя официально, устами посла Микулы Бровцына, уведомил союзника о готовности «по весне Аштархан упокоить и другу Исмаилу ханство возвратити». Даже отчаянная попытка мурзы Юнуса изменить ситуацию, бросив весной 1554 года на Москву практически всю Ногайскую Орду (около 120 тысяч всадников) не остановила приготовлений: в районе Серпухова ногайцы были разбиты, сам Юнус сгинул где-то в степи, после чего к власти вернулся Исмаил, а русские войска – 30000 бойцов «со многими пушками и со всяким воинским снарядом», казаки и нукеры Дербиш Али (по любым меркам, сила очень солидная) – начали движение на юг. 27 июня возле Черного Яра, даже без поддержки конницы Исмаила («великий мурза» опоздал к месту сбора), передовые отряды Ямгурчи были разбиты. 2 июля сдалась без боя покинутая ханом Астрахань. Сам хан, сперва предполагавший ждать помощи из Крыма, партизаня в болотах дельты, резко передумал, и, бросив на милость победителей гарем, кинулся спасаться в турецкий Азов, по ходу дела в стычке с преследователями потеряв всю гвардию, прикрывавшую отход суверена. 9 июля на астраханский престол в очередной раз взошел Дербиш Али, торжественно присягнувший на «вечную верность».
Согласно договору, за царем было признано право определять наследников правящих ханов, пошлины на торговлю и рыбные промыслы для русских купцов отменялись, а на ханство налагалась ежегодная дань (1200 рублей серебром и 3000 осетров размером в 2,5 метра). Введение в город ограниченного контингента русских войск в документе не оговаривалось, подразумеваясь само собой, причем Дербиш Али, достаточно поживший среди русских и даже слегка обрусевший, не только ничуть не возражал, но, напротив, был этому нюансу очень рад. Как и большинство «коренной» туземной элиты. Однако от их мнения уже мало что зависело. Бахчисарай встал на уши – и уже спустя несколько месяцев в Ногайской Орде вспыхнули серьезные беспорядки, спровоцированные родственниками покойного Юнуса, вынудившие Исмаила, обязавшегося «по воле царской» присматривать за порядком в регионе, отвлечься на более актуальные для него проблемы. Одновременно в плавнях дельты объявился Ямгурчи, начавший перехватывать караваны и вообще всячески докучать. А главное, Дербиш Али посетили тихие, никому не ведомые люди, сообщившее, что Крым готовит последний и решительный поход на Москву, который, безусловно, завершится победой, так что пусть его высочество поскорее решает, на чьей он стороне, и если решит неправильно, пускай потом пеняет только на себя. Так что поздней весной 1555 года в Астрахань вошел крымский отряд, наполовину (300 янычар и 700 спахи) состоящий из турок, а царский наместник Кафырев в ответ на вполне резонный вопрос, что тут, собственно, происходит, услышал, что никто ему, гяуру поганому, отвечать не обязан. И вообще пусть он со своими собаками убирается восвояси, пока хан добрый.
Порядок быть должон
Откровенно говоря, в какой-то степени Дербиш Али можно понять. Он не был врагом Москвы, скорее наоборот, он долго жил там, имел много друзей, он, в конце концов, ненавидел Ямгурчи, но, вот беда, Москва была очень далеко, а крымские всадники могли появиться в любой момент. Человек просто сделал выбор, как ему, несомненно, казалось, лучший из возможных в той ситуации. И, как показало самое ближайшее время, ошибся. Очень жестокая резня в Степи оказалась непредвиденно кратковременной: крымское золото до простых джигитов не доходило, а торговля с Москвой была нужна всем, так что все завершилось в итоге не просто победой Исмаила, но реальным сплочением под его бунчуком всей Ногайской Орды. Уцелевшие диссиденты, недруги Москвы, бежали прочь, кто в Хорезм (где эмигрантам, кстати, со временем пришлось очень несладко), кто на Кубань, под крымскую крышу, где беженцев приветили, но воли не давали. Параллельно, вопреки всем ожиданиям и прогнозам, 4 июля поражением во встречном сражении при Судбищах завершился и масштабный (60 тысяч сабель), позже названный «первым» поход Девлет Герая на Москву. Теперь, когда все козыри были биты, астраханской шестерке оставалось только ждать исполнения приговора. А Москва измен не прощала. Правда, и муху в слона не раздувала: карательный поход готовился не менее тщательно, нежели предыдущий, но куда менее масштабно – кругом-бегом не более 3000 бойцов, в десять раз меньше, чем два года назад. Фактически, не слишком большая полицейская операция.
Впрочем, хватило и этого. В начале августа московские войска вышли к Астрахани и – опять безо всякого труда – заняли ее, причем гарнизон даже не сделал попытку запереться в Кремле. Затем, после коротких, иногда ожесточенных стычек с крымцами и турками в плавнях, была уничтожена полевая ставка хана. Дербиш Али, как совсем недавно Ямгурчи, бежал в Азов. Там, за что-то обидевшись на турок, запросил Москву на предмет «Я больше не буду» и, не получив ответа (для Кремля он стал, что называется, нерукопожимаемым), эмигрировал в Мекку, а родня его, в основном, после ряда злоключений всплыла в Бухаре, где спустя полтора века потомки беглецов оказались даже на престоле. В общем, мир заключать было не с кем, да никто уже и не собирался. 26 августа 1556 года жителям города было объявлено, что титул «Царь Астраханский» отныне включается в полный чин именования Царя Московского и Всея Руси, править бывшим ханством отныне будут воеводы, а новым подданным гарантируются защита от всех супостатов и обширные торговые льготы. Процедура присяги прошла спокойно, всего за несколько дней. Полгода спустя уже не союзником, а подданным Москвы признал себя и «великий мурза» Исмаил, обеспечив тем самым себе и своему потомству десятилетия – аж до появления калмыков – спокойной власти. На верность «белому государю» присягнули и племена башкир, что, учитывая специфику региона, означало признание власти Москвы всеми бывшими подданными Сарая (впрочем, о столь интересном нюансе, как «башкирский фактор», мы, дайте срок, обязательно поговорим особо). Отныне границей России на юге и юго-востоке стал Терек, а на востоке – Урал, за которым начинались владения уже вполне готового к употреблению и активно на него нарывающегося Сибирского ханства.
Реконкиста
Впрочем, все только начиналось. Вторую после поражения под Судьбищами плюху подряд Девлет Герай, видимо, воспринял как вызов Судьбы на поединок, а он был из тех людей, которые не боятся побороться и с Судьбой. Не бросаясь на рожон сразу, он на время занялся другими делами, приводя в порядок отношения с крымскими мурзами и приручая джигитов успешными походами за добычей, а в 1563-м, собрав армию то ли в 40, то ли в 50 тысяч сабель, попытался взять реванш, атаковав Астрахань. Правда, неудачно, зато сделав выводы: силами степной конницы отстроенную русскими «правильную» крепость с мощным (около 1000 стрельцов) гарнизоном и хорошей артиллерией не взять. То есть без турок не обойтись. А следовательно, надо работать со Стамбулом. Три последующих года, как сообщал государю Афанасий Нагой, московский посол в бывшем Царьграде, крымские представители активничали на Босфоре, лоббируя среди визирей и пашей идею хана. Сперва без особого успеха: в Стамбуле понимали, что в реализации проекта заинтересован в основном Бахчисарай, и не видели смысла отвлекать силы с традиционных фронтов на авантюру, даже в случае победы чреватую появлением на севере нового претендента на роль лидера исламского мира. Так что, пока мудрый и опытный Сулейман был жив, вопрос хотя отказа не встречал (никто не понял бы), но тормозился в инстанциях. Однако после смерти великого султана новые люди из окружения Селима II сочли нужным утверждать себя собственными идеями и победами – и весной 1569 года Девлет Герай получил, наконец, долгожданное «добро». А также 3000 янычар, лучшей пехоты тогдашнего мира, во главе с опытным, из сулеймановской плеяды полководцем Касим-пашой и группой европейских военных инженеров. Предполагалось, пройдя «водой» из Азова вверх по Дону, прорыть канал, чтобы доставить к Астрахани тяжелую осадную артиллерию. Не получилось – рельеф местности исключал простые варианты работ, а искусство обустраивать систему шлюзов османским специалистам еще не было знакомо, однако в сентябре крымско-турецкое войско, таща посуху малые и средние калибры (осадные бомбарды пришлось оставить на судах) все же достигло Астрахани.
С ходу, однако, взять город не вышло, осада же с самого начала не задалась. В первый же день зарядили ливни, делая жизнь осаждающих трудно выносимой, попытки взрыва стены, а затем и подкопа русские саперы предугадали и предотвратили, а генеральный штурм, несмотря на всю выучку янычар, закончился ничем, причем в отражении его, наряду с гарнизоном, участвовали почти поголовно все астраханские татары, способные держать оружие. «Освободителей», как ни странно, никто не ждал. Дожди не прекращались, губя порох и продовольствие, то и дело налетали «русские» ногайцы, справиться с которыми, не зная местности и путаясь в плавнях, крымские всадники не могли. Спустя неделю янычары начали роптать, и Касим-паша, зная, чем такой ропот чреват, поставил перед ханом вопрос об отходе. Скандал вышел грандиозный. Девлет Герай требовал остаться на зимовку, упирая на то, что он тут главный, паша резонно возражал, что начальство его сидит в Стамбуле, а жрать нечего, порох промок, греться и сушить промокшее нечем, так что его парни на взводе и, ежели взбесятся, порвут всех на фиг. До стычки, правда, не дошло. 26 сентября Касим отдал приказ отходить к Дону, на следующий день то же самое сделал и Девлет Герай, запретив своим джигитам прикрывать отступающих янычар от ногайских налетов. В итоге до Азова добралось менее трети турок, выступивших в поход. Бедного пашу по приказу из столицы удавили, а хан отметил такую радость пышным пиром с фейерверками, однако вскоре и загрустил, поскольку очень скоро, в начале 1570 года, Порта, изучив вопрос, официально уведомила Москву об отказе от претензий на Астрахань.
Ва-банк
Фактически это означало крах проектов хана. Однако Девлет Герай был Девлет Гераем. Не прося у Стамбула ни разрешения, ни помощи, он в 1570-м учинил большой набег на Рязань, показав джигитам, что русских вполне можно бить, а в 1571-м, скоординировав действия с поляками, организовал знаменитый «великий поход», не просто жутко разорив южные русские земли, но даже спалив Москву (кроме Кремля) и вынудив Грозного просить мира в крайне унизительной форме. Царь, похоже, был всерьез потрясен и готов на многое. Он не только предлагал уступить крымскому коллеге Астрахань, но и – чего не случалось ни до, ни после, – выдал на расправу «хранителю веры» крымского эмигранта, принявшего на Москве православие. На беду хана, его уже несло вразнос. Возомнив себя как минимум Тохтамышем, он требовал еще и Казань, а также, по сообщению ряда авторов, «выходов» как при давно забытом Амурате, отказа «московского князя» от царского титула и согласия получать ярлык на княжение в Бахчисарае. Едва ли, кстати, веря в согласие. Напротив, согласие ему в этот момент, на гребне успеха, нужно было менее всего – теперь, на фоне сгоревшей Москвы, ему было что предъявлять Стамбулу, не прося, а требуя у султана и халифа поддержки. Которая и была, невзирая на официальный демарш двухлетней давности, оказана. Впрочем, как известно, у корриды свои законы. Бывает, что бык матадора, но, как правило, матадор быка. Летом следующего, 1572 года, 120-тысячное крымское войско, поддержанное 8-тысячным корпусом янычар и турецкой артиллерией, было остановлено, опрокинуто и едва ли не поголовно уничтожено вдвое уступавшей ему по численности армией Михаила Воротынского при Молодеях. Этот поход стал последней крупной кампанией Крыма против России и – по факту – началом конца его «симбиотического» статуса в составе Порты. Что до «астраханского вопроса», вернее сказать, «вопроса о правопреемстве», то он был решен окончательно и бесповоротно. Однако, сказав «а» и «б», не сказать «в» было уже невозможно…
Глава III. Мужские игры на свежем воздухе
Право собственности
Насколько можно судить, в Западной Сибири, на удобных для кочевья берегах Иртыша и Тобола, не говоря уж о Барабинских степях, тюрки, крохотные осколки Великого Переселения народов, появились очень давно. Где-то в XI веке созрело даже нечто, похожее на государство со столицей в городе Кызыл-Тура, Красная Крепость. История его смутна и почти легендарна; казанские историки, плотно поработав, предлагают составленные по отрывкам отрывков списки правителей, естественно, по их мнению, вассалов Великой Булгарии. Как бы то ни было, люди жили, облагали данью манси, хантов, прочие малые народцы, обеспечивали безопасность транзита на участке Хорезм – Волга, решали (почему другим можно, а нам нет?) местечковые, но важные для них вопросы наследования, слегка, но без лишнего напряга интересовались исламом. И так примерно аж до монголов. Которые прибрали «страну Шибир» настолько легко, походя, что этот поход даже не описан в летописях. Известно лишь, что некий Тайбуга, князек мелкой (500 всадников) кипчакской орденки, кочевавшей под Бухарой, примкнув к Чингисхану, оказал какие-то услуги, а затем выпросил у Потрясателя Вселенной право завоевать себе юрт (удел) по рекам Ишиму, Иртышу и Туре. Взамен обязавшись верно и аккуратно платить «тюмень», дань с 10000 человек (минимальная ставка для «автономий» в составе Орды). Поход удался. Старую династию вырезали, учредили конфедерацию двух княжеств, Чинги-Тура и Искер, по количеству наследников Тайбуги. В принципе, смена династии мало что изменила, разве что «примучивать» малые народы новые власти стали намного успешнее, да еще ислам, раньше проникавший понемножку, с купеческими караванами и бродячими дервишами-энтузиастами, и бывший делом сугубо добровольным, стали насаждать силой. В конце XIV века грянула даже настоящая «священная война», стоившая жизни многим бухарским миссионерам. В итоге язычники, как положено, проиграли, ислам утвердился, но не очень: влияние Бухары в городах стало неоспоримым, зато в лесах «идолопоклонники» рулили и полтора века спустя.
Обязательства перед Ордой наследники Тайбуги блюли четко, что, однако, не спасло их от головной боли. Сложности боссов, как водится, отразились на низах; когда в самом начале XV века, проиграв в очередной раз, в Западную Сибирь отступил амбициозный неудачник Тохтамыш; он – по сути, нуль без палочки, но все же Чингизид с парой тысяч нукеров, – в этих малолюдных краях стал бесспорной величиной. А потому легко занял престол в Искере, оставив вассалам-Тайбугидам только Чинги-Туру. Чуть позже, добив Тохтамыша, знаменитый эмир Едигей устроил здесь своего рода «теплицу», где держал ручных потомков Чингисхана, доставая по мере надобности. После гибели Едигея его сын Мансур сажает на престол Сибири и основанной покойным папенькой Ногайской Орды очередного «законного» хана Хаджи Мухаммада, перебравшегося из Искера в древнюю Кызыл-Туру. Акцией этой он явно показал, что намерен покончить с разделом юрта, за что, скорее всего, и погиб от рук узбекского хана Абулхаира, тоже потомка Чингисхана по линии Шейбани, вовсе не заинтересованного в том, чтобы в Сибири появился сильный претендент. На какое-то время чинги-турские Тайбугиды, Махмутек и Ахмад, возвращают себе прадедовский юрт, уйдя под крышу Узбекской Орды. Когда там начались проблемы, ногайцы берут реванш: Ибрагим, он же Ибак – внук убиенного Хаджи Мухаммада, в 1480-м не просто возвращается, но и уничтожает княжество Тайбугидов, сделав их столицу, Чинги Тура, центром всего юрта. Однако сыновей казненного князя все же пощадил, дав им в кормление маленькие уделы на периферии. Судя по всему, он был человеком достаточно гуманным – по меркам степных войн род врага считалось разумным искоренять, но, с другой стороны, речь все-таки шла не о Чингизидах, права на ханский титул помилованные не имели, так что, как, скорее всего, рассуждал хан, и не были опасны. Насколько он ошибался, выяснилось очень нескоро.
Собственность по факту
Ибак был человек серьезный, на две головы выше прочих. Покончив с внутренними проблемами, он занялся большой политикой, 6 января 1481 года разгромив и убив Ахмада, последнего хана Золотой (тогда уже просто Большой) Орды, незадолго до того безуспешно ходившего на Русь, а «весь ордабазар поведе с собою». После чего сообщил в Москву, что отныне «ставка Бату-хана пребывает в Тюмени». Учитывая, что под бунчуком Ибака на тот момент собрались Сибирь, Ногайская Орда и остатки Большой Орды, это соответствовало истине. Была, правда, еще и Казань, в то время уже протекторат Москвы, но Ибак не скрывал, что намерен решить и этот вопрос, активно зазывая и привечая казанскую оппозицию. В сущности, Орда Ибака стала региональной сверхдержавой, и, видимо, как раз это его и погубило. Ногайским бекам хан с тяжелой рукой не нравился; они то смещали его, то звали обратно, но и позвав, всячески ставили палки в колеса. Еще больше опасались активного сибиряка казанские мурзы, не жалевшие средств на поиски решения. Так что убийство Ибака в 1495-м людьми князя Мухаммада, отпрыска неосмотрительно недорезанных Тайбугидов, следует рассматривать как грустную закономерность. В родовом гнезде убийца, правда, оставаться не стал, немедленно перебравшись в Искер, Чинги Тура же с округой осталась за семьей покойного хана, спасенной от полного изгнания казанскими эмигрантами, но главное – подоспевшими ногайцами, надеявшимися с их помощью давить и на Сибирь, и на Казань. Что и имело место аж до 1530 года, пока Тайбугиды, набравшись сил, не упразднили княжество.
Как бы то ни было, переворот Мухаммада следует считать моментом рождения Сибирского ханства как самостоятельного государства, ни на что, кроме своих традиционных владений, не претендующего и ни с какими Ордами себя не соотносящего. Учитывая, разумеется, что с точки зрения тогдашнего международного права государство это было хотя и состоявшимся, но не вполне легитимным – сами Тайбугиды именовали себя ханами, но в глазах зарубежной общественности таковыми, естественно, не были, именуясь в дипломатической переписке только беками. Их это, впрочем, не слишком волновало. Жизнь понемногу налаживалась, при Ядгар-Гази (Едигере) и его брате Бек-Булате, внуках Мухаммада, нашли общий язык (караванная торговля – святое дело) даже с ногайцами, а в 1555-м Едигер отправил Ивану Грозному поздравление с победой над Казанью и предложил себя Москве в вассалы и данники. Не из врожденной, ясен пень, подельчивости, а имея в виду гарантии против засевших у ногайцев и в Бухаре Шейбанидов. Грозный, естественно, предложение принял, положив Сибирскому «княжеству» тысячу соболей и тысячу белок ясака на год, по ходу дела заодно и выяснив, что податных душ под рукой нового вассала числится 30 700 (хотя, скорее всего, раза в полтора больше, поскольку многие наверняка от переписи уклонились). Дело, однако, было не в соболях. По чести сказать, Кремль мог бы и сам приплатить, поскольку политически важность «демарша Едигера» была неоценима: впервые именно Москве, юридически, как ни крути, одному из осколков Орды, добровольно (!), без завоевания, присягнул на верность другой, формально ничем не отличающийся осколок. По факту, это было доказательством того, что московский Царь – настоящий, и, стало быть, имеет не только право облагать данью всех «менее равных», но даже обязан покончить с сепаратизмом, восстановив «большой улус». А что первыми новые реалии признали какие-то второстепенные Тайбугиды, так это, в сущности, неважно. Лиха беда начало, главное, что процесс пошел.
Возвращение государя
На беду сибиряков, именно в это время Москве было не совсем до них. Назревала война за раздел ливонского наследства, и все внимание Кремля было приковано к западному направлению. А между тем на арену вновь вышли Шейбаниды. После долгих и тяжелых войн далеко на юге вновь усилились узбеки, успевшие из кочевых стать вполне оседлыми. Абдулла, хан Бухары, один из последних великих потомков Чингиса, принял решение вернуть под власть своего дома все, что было утрачено за годы смут. Из нафталина был извлечен престарелый, слепой и глухой сибирский наследник Муртаза бен Ибак, благословивший на поход сына, очень шустрого и хваткого Кучума. Абдулла, приняв присягу на верность, дал протеже несколько сотен конницы, после чего протеже резво захватил Кызыл-Туру, а затем, правда, после довольно нудной войнушки, добрался и до Искера, списав при взятии крепости в расход и Едигера, и Бек-Булата, и всех попавшихся под руку потомков Тайбуги. С этого момента Сибирь, наконец, стала настоящим ханством во главе с потомком Чингисхана. Причем абсолютно независимым, поскольку Ногайская Орда к тому времени отказалась от «собственных» ханов, номинально уйдя «под Крым», а бухарец Абдулла, хотя как бы и суверен, однако пребывал слишком далеко, чтобы вмешиваться. Да и не собирался – для него усадить родню на трон было делом принципа. Ну и, конечно, меха…
Совсем иное дело – Москва. Тайбугиды для нее были мелочью, нижней строкой в списке политических приоритетов. Зато теперь, когда в Сибири пришел к власти настоящий чингизид, допустить прекращение дани было невозможно. Кремль на это намекнул крайне жестко, и Кучум, желая выиграть время для укрепления на престоле, все подтвердил и все выплатил, так что Москва ни о чем худом не думала аж до 1569 года, когда, добив последних защитников дома Тайбуги, Кучум приостановил выплату дани. Кремль зарычал. Хан уступил. Но в 1571-м, после погрома Москвы крымцами, отказался от выплат официально. Более того, в 1573-м отправил племянника, Махметкула, в «строгановскую» Пермь, восстанавливать старые порядки. Хотя, согласно строгому приказу хана, русских татары не трогали, убивая и грабя только коми, для Москвы эта сибирская акция была крайне неприятна: именно туземцы платили Строгановым пушной ясак, львиная доля которого шла в истощенную войной царскую казну. К тому же Кучум, следуя примеру деда, Ибака, широко открыл двери всем беглым казанцам, еще не прекратившим сопротивление, и был признан ими в качестве кандидата в «освободители» Казани. Более того, наладил отношения с ногайцами, а через них и с Крымом, замирился с казахами, ранее «промосковскими», но к тому времени уже, так же как он сам, ставшими вассалами Абдуллы, и, наконец, выписал из Бухары «сеидов» (потомков Пророка), начавших обрабатывать население на предмет подготовки к джихаду против неверных. Короче говоря, Кучум становился серьезной проблемой для Москвы. Но в первую очередь – для уже помянутых Строгановых.
Специалист
Для понимания логики событий необходимо иметь в виду, что русские в Сибири чужими не были. Право собирать дань с северных народов они (тогда еще новгородцы) оспаривали у татар еще со времен «старых ханов». При Иване III, вновь заинтересовавшемся сибирской «мягкой рухлядью», московские дружины пару раз совершили глубокие рейды в земли хантов и манси, облагая их ясаком по «древним урядам», однако татар не трогали даже в 1483-м и в 1499-м, когда торжественно промаршировали почти под стенами Чинги-Туры. Татары, естественно, нервничали, но неприятные эпизоды быстро забывались, а дань с туземцев они собирали, как только русские уходили восвояси. А вот когда пришли Строгановы, шутки кончились. Владения их, в сущности, были частным государством, типа более раннего «Тульского княжества Ахметова» или более поздней Вишневеччины. Люди приходили туда сами, охотно, ибо в тамошних «слободах» можно было свободно работать и хорошо зарабатывать, а порядки были достаточно мягки. До времени Москва не возражала, так что «Строгановщина» обернулась «княжеством без князя», щедро оплачивающим невмешательство Кремля в свои дела и вдобавок исполняющим роль «буфера» на северо-восточных окраинах. В связи с чем и не могло рано или поздно не столкнуться с Сибирским ханством. А поскольку стражи для серьезной войны было мало, собирать ополчение не представлялось возможным (люди шли в слободы не воевать и были вправе рассчитывать на хозяйскую защиту), пришлось задуматься о собственной армии. Собрать которую, в принципе, не было особой проблемой, дело стояло только за дозволением Москвы, шутить с которой на эту тему было бы рискованно, – и 30 мая 1574 года, после долгих и недешевых хлопот Строгановы получили свое. Иван IV – точно так же, как в свое время Чингисхан Тайбуге – дал им Жалованную грамоту на право завоевать для Москвы земли Сибирского ханства и править завоеванным на правах московских вассалов.
Вот тогда-то и явился Ермак. Он же Токмак. Профессионал. Человек с пестрой биографией и вполне определенной репутацией. Возможно, обрусевший ордынец, вроде бы из-под Ярославля. Опять-таки «вроде» начал карьеру, разбойничая под Муромом, отсидел пару лет в тюрьме, слегка одумался – в том смысле, что перестал беспредельничать на Руси, изменив вектор профессиональных интересов в сторону Волги. Собрал весьма крупную и боеспособную brigada. В 1580-м тысячами угонял коней у ногайцев, затем, набравшись опыта, нанялся на Ливонскую войну. Всерьез повоевать не успел. Однако, видимо, зарекомендовав себя, получил лестный и выгодный госзаказ. Москва была очень обеспокоена участившимися набегами ногайцев (те пытались, в частности, вернуть угнанных коней, но грабили, понятно, не тех, кто украл), однако сил гоняться по степям за наглецами не имела, в связи с чем дала полную свободу (что-то вроде европейской «каперской грамоты») атаманам вольных brigadas, а те, хорошо зная повадки и слабые стороны ордынцев, лихо взялись за дело, в конце июля 1581 года даже разграбив ногайскую столицу Сарайчик. А затем случилось неожиданное. Где-то на Волге, у Соснового острова, к Ермаку, человеку серьезно авторитетному, «прибежали» гонцы от другой гоп-компании, считавшейся опасным конкурентом. У пацанов была серьезная проблема: они сдуру учинили беспредел, поголовно порубив посольский караван, идущий в Москву из Бухары, и тут уже дело, несмотря на все царевы «милостыни», пахло плахами и петлями.
Вариантов у Ермака было два: умыв руки, увести своих людей подальше от обреченных коллег или взять идиотов под себя, с одной стороны, войдя в тяжелые контры с Москвой, с другой – вдвое увеличив свои силы за счет опытных и по необходимости верных отморозков. Первый вариант был, конечно, разумнее, однако Ермак – как, видимо, поступили бы на его месте и синьор Писарро, и мистер Дрейк, – выбрал второй. И уже в статусе «государева вора» увел объединенный стан сперва на Яик, оттуда опять на Волгу, а затем – по воде – на Урал, где братки по ходу дела столкнулись с недружелюбными вассалами Кучума и без труда перебили их. Слухи о побоище растеклись по краю очень быстро, и вскоре на остров Сылва, где зимовала brigada, явились агенты Строгановых, которых начали всерьез тревожить князьки вогулов и остяков, подстрекаемые Кучумом не только на грабеж, но и на убийства – с целью спровоцировать бегство русских поселенцев из «Строгановщины». Договорились быстро.
Большая стрелка
Имея базу и неограниченное финансирование, не имеешь проблем. Всю зиму Ермак тренировал пацанов, щемя близлежащих вогулов, участвовавших в налетах, но теперь уже рвавших на себе волосы на предмет «Зачем?», и где-то к середине весны 1588 года формальная часть работы была выполнена: вогулы, а вслед за ними и остяки запросили пощады. Оставалось замирить только Пелым, самое сильное из «криминальных» княжеств, и тут фарт сам пошел казакам в руки: напуганный вусмерть князек Аблегирим запросил помощи у Кучума, и хан не счел возможным бросить в беде самого верного своего вассала. В пределы «Строгановщины» ворвались отряды ханского наследника Али, начавшие грабеж Соли Камской. По логике вещей, Ермак обязан был разделить собранные для похода на Пелым силы и бросить их на борьбу с вторжением, однако получилось иначе. 1 сентября, в тот самый день, когда отряды Али и Аблегирима осадили Чердынь, Ермак, оставив город без подмоги (он, впрочем, устоял), двинул войско вглубь Кучумовых владений. Кстати сказать, войско по тем временам и тем местам более чем солидное – 840 бойцов, в том числе, кроме казаков, откуда-то взявшиеся (возможно, нанятые Строгановыми) литовцы и немцы, включая военных инженеров, а также «свои» татары, охотно воевавшие под русскими знаменами с кем угодно, не глядя на веру. Перевалив через Урал, brigada пошла вниз по Туре, разгромила мурзу Епанчу, одного из самых сильных сибирских князей, вышло к Чинги-Туре и, взяв город штурмом, сделала его своей базой. К Кучуму отправилось посольство: время качать права прошло и лучше решить дело добром, не то хуже будет. Ответа на это, естественно, не последовало. Кучум был не тот мальчик.
Всю зиму хан готовился к войне, собирая войска и укрепляя Искер, а в середине весны 1583 года состоялась основная кампания. Сперва, в мае, сибирские войска потерпели поражение в многодневной битве на Тоболе. Затем, после долгого перерыва, 23 октября, на берегу Иртыша, на Чувашском мысу, казаки ценой страшных потерь (107 бойцов только убитыми) разгромили огромную армию, ведомую самим Кучумом, заняв после этого брошенный ханом Искер, где нашли гигантские склады отборной «мягкой рухляди», оправдав тем самым все затраты на подготовку к походу. Больше того. Остяки и вогулы, давно уже недовольные налоговой политикой Кучума (меха для хана, меха для Бухары, меха для ногайцев, меха для казахов) и нравами его князей (меха, меха, меха!), пошли к Ермаку толпой, охотно принося шерть – клятву верности. Благо ставки ясака Москва назначала более чем умеренные, а присягнувших туземцев (в отличие от «немирных») казаки не обижали под страхом смерти. В сущности, на этом война с Сибирским ханством была завершена. Продолжалась война с Шейбанидами, не собиравшимися отказываться от своих прав. Война нудная, но не слишком трудная: даже лучшие татарские полководцы, вроде кучумова племянника Махметкула (позже, уже в плену, ставшего известным московским воеводой), сталкиваясь с людьми Ермака, из раза в раз терпели поражения. Редкие и весьма небольшие удачи случались лишь благодаря хитростям вроде ложных присяг и ударов в спину. 22 декабря 1583 года в Москву пошло сообщение о покорении Сибири и сокрушении ханства. В Кремле весть встретили с не меньшим восторгом, чем некогда весть о взятии Казани. Награды и милости, не говоря уж об амнистиях, пролились дождем, по царскому приказу в Сибирь двинулось солидное (500 стрельцов с «огненным боем») подкрепление во главе с князем Болховским. Однако при всем внешнем блеске успех был с червоточиной. То, чего не могли сделать татары, сделал голод. За полтора года войны хозяйство страны было полностью разрушено, запасы исчерпаны, сеять казаки не умели, да и не могли, а реквизировать запасы у присягнувших туземцев строго запрещала Москва, тем паче что такие реквизиции могли повлечь за собой всеобщий бунт или, по крайней мере, уход «мирных» в леса. Скудные припасы, привезенные в обозе Болховского, ситуацию не облегчили, а едоков прибавилось. В сущности, стабильность в brigada держалась только на абсолютном авторитете атамана и вере братвы в то, что Папа чего-то придумает. Возможно, и придумал бы. Но в ночь на 6 августа 1584 года, попав в засаду на берегу Иртыша, Ермак погиб, и его гибель деморализовала казаков настолько, что они вместе со стрельцами Болховского просто бежали из Сибири, бросив завоеванное на произвол судьбы. В пустой Искер вновь вошли татары.
Охота на лохов
Воспользоваться шансом Кучум не сумел. Он, похоже, был тяжело болен, а его сын Али не удержал ситуацию и увяз в борьбе с Сейдяком, племянником убитого некогда Едигера, как снег на голову свалившимся из Бухары с дружиной очередных искателей приключений. Основной задачей, решить которую пытались оба, было вновь «примучить» ясачные народы, отучив их от такой глупости, как «русские» расценки. Ясачные не соглашались. В стране начался бардак, в котором участвовали все, кроме русских, никуда не спешивших. Лишь в конце 1585 года воевода Мансуров, выйдя к Оби, построил там городок, перезимовал и вернулся в Россию, сообщив царю и Думе, что ничего особо страшного нет. После чего 300 стрельцов под началом Василия Сукина, Ивана Мясного и Данилы Чулкова без боев прошли по территории ханства, 29 июня заняли покинутую татарами Чинги-Туру и в тот же день рядом с ней заложили Тюмень – первый полноценный русский город в Сибири. Полгода спустя, весной 1587 года, под боком у второй столицы, Искера, был основан Тобольск; в 1588-м был интернирован и вместе со свитой отправлен в Москву Сейдяк, после чего его войско разбежалось, а Искер с тех пор опустел навсегда. Драться продолжал только Кучум. Это была уже, по сути, партизанщина, отчаянная и злобная. Поймать хана не удавалось, от любых, самых почетных условий сдачи он отказывался. Лишь после разгрома 20 августа 1598 года впервые не угадавший засады Кучум, потеряв почти всю дружину, свиту и семью, отрекся (формально «по состоянию здоровья») от титула в пользу Али, посоветовав ему искать помощи в Бухаре, а сам с крошечным отрядом загулял по лесам, пытаясь осесть хоть где-то. Безуспешно. Упрямого старика, при малейшей возможности гадившего русским, выгоняли и бывшие подданные, и ранее дружественные ногайцы, не говоря уж о старых недругах – казахах. Хорошо зная, насколько тяжелой может быть рука Годунова, связываться с Москвой степняки не хотели, – и, в конце концов, в начале 1601 года потомок Чингиза был убит старым ногайским побратимом, зарезавшим его с пояснением: «Если русские узнают, что ты с нами зимуешь, они и тебе, и нам лихо сотворят, а так всем хорошо будет».
Дальнейшее грустно и смешно. Сыновья Кучума бегали по лесам, аж до Уфы, пытаясь уговорить хоть кого-то «подняться» хоть за ханство, хоть за веру. Татары их не желали слушать, а вогулы с остяками просто вязали и сдавали. Один за другим – Али, Канай, Ишим – они попадали в плен, где с удивлением обнаруживали, что принимают их с уважением и почетом, наделяя землями, чинами и титулами. Войну пытались продолжать их молодые, жадные до власти дети, Кучумовы внуки. Добиться чего-то серьезного они, конечно, не могли, города, даже маленькие, им были не по зубам, но пакостили «царевичи» изрядно. Из года в год повторялось одно и то же: летом – набеги, весной, когда кочевники были ослаблены зимовкой, – зачистки, сперва силами сотни-двух стрельцов, затем двумя-тремя десятками. Хватало с лихвой. Русские крестьяне очень быстро научились обращать на налеты внимания не больше, чем израильтяне на хамсин, при необходимости справляясь и своими силами. Последний «царевич», еще устроивший какую-то докуку, Давлет Гирей, осаждавший в 1648-м Тюмень, а в 1662-м приглашенный «на ханство» мятежными башкирами, был, судя по всему, просто фанатиком джихада. В целом борьба выдохлась. Ни для кого из Чингизидов не было секретом, что Москва ребенка не обидит. Выбор был прост. Можно было бегать по болотам, получая плюхи со всех стороны, в первую очередь даже не от русских, а от своих же ногайцев или, еще хуже, от невесть откуда взявшихся калмыков. А можно было жить в имении под Москвой, наслаждаясь почетом и роскошью, при особом везении даже сидя на пусть декоративном, но все же престоле – как один из сыновей Али, назначенный ханом Касимова. Так что один за другим сибирские «царевичи» делали правильный выбор, в итоге пополняя ряды русской элиты, а те, кто решил еще и креститься, – даже высшие ее эшелоны.
Глава IV. Терек воет (1)
История присоединения к России Казани, Астрахани, ногайских степей и Сибири, казалось бы, самодостаточна. Все «почему» объяснены, все последствия рассмотрены, и точка. Ан нет. История, как и жизнь (хотя, собственно, почему «как и»?), не останавливается на достигнутом. Один сюжет, хотим мы того или не хотим, плавно перетекает в другой, не давая ни участникам событий, ни нам, наблюдающим издалека, возможности остановиться, и любое «уже», опять-таки, вне наших пожеланий и планов, неизбежно влечет за собою «а потом». В политике, безусловно, тоже.
Перезагрузка
Крушение Большой Орды изменило политическую карту Евразии, окончательно сломав устоявшиеся, пусть под конец во многом формальные, но все-таки правила. Теперь каждый устраивался как мог. Началось почкование и в предгорьях Северного Кавказа, тогда, в отличие от теперь, населенных отнюдь не варварами. Адыги, древнейшие жители запада и центра региона, обитавшие от Кубани до Терека, сперва сорганизовались под властью полулегендарного Инала, судя по всему, «смотрящего» при последних ханах Большой Орды, а затем, после его смерти, разделились на три княжества Иналидов – Кайтыкуэхэ (потомки Кайтука), Идархэ (потомки Идара) и Талостанхэ (потомки Тлостана), образовав нечто вроде раннефеодальной конфедерации во главе с пщышхуэ, номинальным великим князем всея Кабарды, – как правило, князем из рода старшего брата Идара. Княжества были сильные, богатые, достаточно культурные (правда, в основном языческие, однако христианство там знали и уважали еще со времен Византии), так что борьбу с наследниками Орды – Крымом и ногайцами – вели довольно успешно. Достаточно быстро устаканилось и на востоке, в Дагестане. Там выстроилась целая пирамида племенных княжеств, а наиболее сильными оказались Аварское ханство и – в первую очередь – кумыкский Шамхалат со столицей в Кумухе и второй столицей в Тарках. В отличие от соседей, издавна и прочно исламизированное, княжество шамхалов было в социальном смысле куда более развитым, чем даже Кабарда, там уже имелась полноценная феодальная лестница, понемногу ограничивались права общинников, но главное – вовсю шли завоевательные походы под знаменем ислама, завершавшиеся раздачей земель родственникам правителя. В начале XVI века власть шамхалов распространялась на значительную территорию Дагестана, либо напрямую, либо – как с Аварией – на основах вассалитета. Хозяев Кумуха называли Великими Валиями (арбитрами) Дагестана и даже падишахами, а во внешней политике они ориентировались на Османскую Порту, во всем подражая крымским ханам, – и точно так же, как крымские ханы, обеспечивали турок важнейшим для тех стратегическим товаром, живой силой, необходимой для пополнения гаремов, экипажей галерного флота и янычарского корпуса. Какое-то время основным источником полона служили соседние племена, однако к концу первой трети XVI века все они были исламизированы, а поскольку порабощать единоверцев Пророк не велел, шамхалы понесли знамя «священной войны» в «языческую Кабарду».
Адыгам пришлось очень нелегко. Управляться с крымцами и ногайцами им сил хватало, но теперь, оказавшись меж двух огней, приходилось искать новые решения. И тут, очень кстати, заняв и присоединив Астрахань, а чуть позже поставив на Тереке небольшую, но сильную крепость, вплотную к предгорьям Северного Кавказа вышла Россия, отношения с которой у «черкасов», надо отметить, были традиционно, еще с эпохи Руси Киевской, очень приличными, оставшись такими и в ордынские времена; по старой памяти адыгская знать считалась на Москве ровней. Так что, когда там начали искать невесту овдовевшему царю Ивану, княжна Идархэ Гуашеней, дочь пщышхуэ Идарокуэ Кемыргокуэпща, стояла второй в списке кандидаток, а после того, как не сладилось с польской королевной, вышла на первую позицию, став в 1561-м царицей Марией Темрюковной. Вместе с девушкой на Москву прибыли многочисленные кузены, ставшие родоначальниками многочисленных ветвей рода Черкасских, так что лоббировать адыгские интересы в Белокаменной очень даже было кому. Уже в 1560-м, аккурат в период сватовства, в качестве одолжения будущим родственникам, царь направил на Тарки войско под командованием Ивана Черемисинова, который, с минимальными потерями разгромив дружины шамхала Чупана, сжег его равнинную столицу и с победой вернулся в Терский городок. Урок пошел впрок, но всего года на два: обойтись без набегов кумыки не могли, так что в 1566-м князь Матлокуэ Темрюкович вновь попросил свояка Иванокуэ подсобить, на сей раз прося не посылать войска, а раз и навсегда поставить в удобном месте (карта прилагалась) крепость, перекрывающую абрекам путь в Кабарду. В общем, насколько желательно отрезать шамхалат от Крыма и Малых Ногаев, московское правительство и само понимало. Так что и дополнительного вмешательства царицы не потребовалось. Уже в 1567-м «князья Андрей Бабичев и Петр Протасьев со многими людьми, пушками и пищалями» поставили на слиянии Терека и Сунжи обустроенную по последнему писку науки крепость Терки, крайне неприятно удивив шамхала. Пару раз безуспешно попробовав прорваться в адыгские земли, бедняга Чупан начал писать в Крым, коллеге Девлет Гераю. Объясняя, что, – как докладывал начальству Афанасий Нагой, московский посол в Крыму, – «не дать ставить город на сей его реке ему, шевкалу, по силенке его было не мочно», но как только хан с турками пойдет к Астрахани, так он, блин, всегда готов. В тот раз, правда, обошлось без драки. После фиаско 1569 года Порта предложила Москве мир, отказываясь от Астрахани и обязуясь «не велети тому шевкалу обиду черкасам чинити», но категорически требуя снести все русские крепости на Тереке и Сунже. На чем и поладили, – к полному удовлетворению кабардинских Идаровичей. Шамхалу же, которому без рабов был полный зарез, пришлось отныне уделять больше внимания другим соседям, в связи с чем очень скоро Москву посетило очередное экзотическое посольство…
Христа ради…
Необходимое отступление. Возникающие иногда разговоры о том, что Грузия, дескать, никогда собой ничего не представляла, будучи вечным халявщиком, истине ни в коей мере не соответствуют. Феодальное ничуть не меньше, чем какая-нибудь Франция, развитое и культурное православное государство, объединившее в XI веке родственные племена эгров, чанов и картвелов, она знавала блестящие времена, когда по праву считалась региональной сверхдержавой. Бывали, конечно, – как после нашествия татар, а позже семи походов Тимура, – и периоды падения и разрухи, вслед за которыми начинались феодальные усобицы. В конце концов, когда выяснилось, что война всех со всеми поставила на грань гибели уже не страну, а народ, сработал инстинкт то ли этнического, то ли социального самосохранения. В 1494 году Великий Дарбази (Верховный Совет) страны официально постановил расформировать государство по границам входящих в него и никак не способных договориться племен «до тех пор, пока Господь нас, безумных, не вразумит». Единая Грузия распалась на три царства и пять княжеств и в таком состоянии вступила в XVI век – век борьбы за господство над Кавказом двух великих империй, Порты и только что, после тысячи лет небытия, возрожденного Ирана, быстро поделивших сферы влияния. Туркам достались царство Имерети и все пять княжеств, персам – два восточных царства, Картли со столицей в Тбилиси и Кахети со столицей в Греми, но оказавшимся под персами повезло немного больше. Во-первых, «война зеленых и красных» протекала на первых порах с явным перевесом Турции, уже успевшей набрать обороты, так что кызылбаши старались не перегибать палку в отношении сателлитов. Во-вторых, хотя персы тоже брали дань людьми (а что еще взять с нищих?), в отличие от турок, меры не знавших, они, по крайней мере, устанавливали твердые квоты. К тому же, опять-таки, не в пример туркам, девушек отдавали в гаремы не последним людям государства, не запрещая поддерживать связи с семьей, а мальчиков, обратив в ислам, либо направляли в офицерский корпус, либо посылали обратно домой, назначая на хорошие должности при вассальных царях. И тем не менее грузинам это сильно не нравилось. Да и не привыкли еще в те времена к тому, что православный на собственной земле должен терпеть указания мусульман. В связи с чем в «иранской сфере» (в отличие от «турецкой», где все стояли по струнке, тихо мирясь с тем, что жизнь сурова) время от времени проявлялось недовольство. В первую очередь, в Кахети, где, в отличие от Картли, не было междоусобий, а престол с 1574 года занимал царь Александр II, резко выделявшийся на фоне довольно тусклых коллег. Очень толковый мужик, эффективный менеджер с амбициями, судя по всему, мечтавший стать новым Давидом Восстановителем. Но сил было мало. Очень. Приходилось искать нетрадиционные варианты. Взойдя на престол как, естественно, вассал Ирана и получив от Исфахана массу льгот, он очень скоро, как только Иран проиграл войну, объявил себя верным подданным Порты, прося подтвердить привилегии, данные персами. Увы, Османы тут же наложили дань людьми, которая при персах считалась бы фантастикой, а ко всему еще и назначили «старшим по зоне» шамхала, получившего, таким образом, право и возможность резвиться в Кахети на законных основаниях.
Легко представить себе, с каким интересом воспринял его высочество, будучи еще наследником, информацию о появлении в относительной близости от его страны русских войск, мало того что давших грозным янычарам отлуп под Астраханью, а страшному крымскому хану – под Молодеями, но еще и (что было куда актуальнее) по просьбе кабардинских князей поставивших раком аж самого шамхала. Правда, в отличие от Идаровичей, такого козыря, как родственные связи с северными людьми, Багратиды в обозримом прошлом не имели, однако зачем козыри, если на руках джокер? Короче говоря, в 1586-м Москва с некоторым удивлением, но и с удовольствием встречала посольство из далекой «Иверии», бившее челом «великому базилевсу православному, чтобы он, единственный православный государь, помиловал, принял их народ в свое подданство и спас их жизнь и душу, сделав тому богопротивному шевкалу великое утеснение». От имени царя Кахети послы присягнули совершенно не ожидавшему такого царю Федору «на верное служение православному Государю Московскому», получив взамен (а куда деваться?) согласие стать «старшим государем Иверийским и оберегать того князя Олександра от всех недругов его». Само по себе это ничего не значило, декларация о намерениях, не более, однако с этого момента посольства пошли косяком, из года в год. В 1588-м приехал «княжич Каплан», в 1589-м «боярин великий Хуршит». Рассказывали, какой нехороший человек шамхал, как неправильно сделал Черемисинов, что «при прежнем государе покинул Терки», потому что тогда горцы вели себя хорошо, а нынче плохо. Короче, просили послать войска. Или хотя бы, ежели «базилевс, синклит его и патрикии» не верят, – посольство, чтобы северные братья убедились на месте, «каковые обиды иверскому люду честному православному басурмане безвинно чинят». Посольство съездило. Побывало в Греми, в Кумухе. Убедилось: да, чинят, но ссоры с Москвой шамхал очень не хочет и готов к разумным компромиссам. Однако информация о том, что «мочно шевкала миром потеснити, и он примет шерть и даст заложников, и тогда дорога через него будет чиста, без опаски», кахетинской стороной воспринята не была. Александр настаивал на том, что переговоры с шамхалом вести нельзя, ибо «сей собаке верить никак не мочно, что скажет, то соврет, а если и сына даст в заклад, и то ни во что, сынов у него много, что собак». Так что «во имя веры православной гнать его должно в Дербент, чтобы и след простыл».
Жди меня
В общем, позицию кахетинского царя понять можно: раздавить шамхалат означало избавиться от сильнейшей головной боли, усилив страну на порядок. Москве, в отличие от Греми, ситуация столь уж простой не казалась. Война с Турцией была совершенно не нужна, русские поселки на Тереке шамхал (уже не Чупан, а его сын Сурхай) не очень тревожил, торговые дороги в Персию берег и абреков старался усмирять, – чего еще? Но, с другой стороны, когда басурманы обижают православных и угоняют их в рабство, тоже терпеть нельзя. Тем паче ежели кланяются в ноги и называют базилевсом. Так что осенью 1589 года посол, направленный в Кахети, передал терскому воеводе царскую грамоту для шамхала с тайным приложением – дескать, ежели шамхал отреагирует неправильно, его «добро будет не излиха позадирати». В самой грамоте говорилось о «многих шевкаловых неправдах доброму нашему грузинскому православному люду» и выставлялось требование, чтобы «он, шевкал, исправился бы перед государем и заедино с царем нашим иверийским и князьями нашими кабардинскими стоял бы на всех недругов государя за один». Кроме того, посол по большому секрету сообщил специально вызванному в Терки кабардинскому князю, свояку шамхала, что ежели шамхал не прислушается к доброму слову, может случиться всякое. Параллельно воеводе были даны полномочия начать обработку вассалов и союзников шамхала, в частности, хана Аварии, тяготившегося зависимостью от Кумуха. Аварцам назначили жалованье от царя и давались гарантии помощи в случае чего. Работали и тоньше; Александр вел переписку с крым-шамхалом, братом и соправителем Сурхая, суля ему престол в Тарках и руку кахетинской царевны, воевода – с одним из шамхаловых сыновей, Алхасом, который в итоге тайно присягнул царю. Правда, контрразведка Сурхая была на высоте: сына он поймал с поличным и изгнал, но все равно было страшно. Он даже сделал попытку помириться с Кахети, чтобы «быть отныне как одно сердце и стояти на своих недругов вместе за один», но прекращение набегов, естественно, не гарантировал, одновременно направив письмо и султану, предупреждая о возможном союзе Кахетии, Персии и России, который, если случится, уничтожит все успехи Порты в регионе. В связи с чем он, как верный вассал повелителя правоверных, просит прислать янычар.
Александр давил на Москву как мог. Новые послы, Адам и Кирилл, в конце 1592 года сообщили Годунову, что с крым-шамхалом все на мази. Дескать, «сей князь с нами в дружбе, а с братом во вражде, и кумыцкая земля половина с ним стоит, и меж собой бранятся, и шевкальское дело плохо стало, да и у них же междоусобная рознь». Активно просили поддержки и у весьма авторитетного патриарха Иова, мнением которого правитель очень дорожил. И наконец, в июне 1593 года, Годунов решился. Послам велено было передать Александру, что войска для посылки в Дагестан уже готовы, и если он даст клятву ударить одновременно, двинутся в поход не позже весны. Александр, естественно, поклялся, царь Федор по приговору Думы добавил в титул «государя Кабардинской земли, черкесских и горских князей» формулу «земли Иверской грузинских царей», и в марте 1594 года князь Хворостинин «со многою ратью» (2500 стрельцов и чуть меньше казаков) двинулось от Терека в направлении Койсу, имея приказ для начала занять Тарки и соединиться там с кахетинскими дружинами царевича Георгия Александровича. Что и было сделано. Как быстро выяснилось, московская разведка сработала блестяще. Приди на помощь к Сурхаю все его союзники и вассалы, Хворостинину пришлось бы иметь дело примерно с 15000 противников, минимум на треть – профессиональных воинов, но реально шамхала поддержали только не слишком влиятельные уцмий кайтагский и майсум табасаранский. Даргинские «вольные общества» не простили шамхалату попыток их подчинить, а ханы Аварии, воспользовавшись случаем, объявили, наконец, о разрыве вассальной присяги и, хотя не прислали в поддержку русским своих джигитов, но дали им проводников и поставили продовольствие. Так что после штурма Тарков шамхал ушел в горы, намереваясь, как сказано в предании, «ловить скорпиона за хвост», а Хворостинин приступил к укреплению крепостных стен в Тарках, ожидая прибытия кахетинских дружин царевича Георгия Александровича и отрядов крым-шамхала, чтобы, как предполагалось по второму этапу плана, атаковать высокогорный Кумух.
День, однако, шел за днем, а союзников не было. Хворостинин не знал (не мог знать, это выяснилось много позже), что их и не будет. Заверения кахетинцев насчет готовности шамхальского брата присягать русским оказались блефом. Возможно, даже и не злонамеренным, скорее, Александру настолько хотелось видеть близ своих границ православное войско, что он просто принял желаемое за действительное. А сам царь, уже готовый к походу, отменил его, видимо, с некоторым запозданием осознав, что в Стамбуле могут рассердиться, или еще почему-то. Как бы то ни было, несколько недель спустя воеводе стало ясно: ждать помощи неоткуда и о походе на Кумух можно забыть, наоборот, надо думать о том, как спасать армию, поскольку близ Тарков объявились отряды горцев, взвинченных муллами, по просьбе Сурхая объявившими джихад неверным. Эти отряды, ежедневно вырастая в числе, блокировали город, круглосуточно тревожа гарнизон обстрелами и имитациями штурма, продовольствие иссякало, пополнять запасы было немыслимо, начались болезни, а в ответ на чудом проскочившее с гонцом-добровольцем письмо в Греми последовал только невнятный ответ о «непреодолимых обстоятельствах». В такой ситуации изменилась и позиция аварского хана. Выговорив у шамхала признание независимости, он поддержал Сурхая уже не как вассал, а как союзник. Единственным вариантом оставалось отступление. Без гарантий успеха, сквозь тысячные толпы горцев, влача огромный обоз с сотнями больных и раненых, – но иного выхода не было. Позже за этот отход по ходатайству Думы царь пожаловал Хворостинину шубу со своего плеча – и было за что. Двухдневный переход без единой минуты передышки, практически непрерывное сражение с горской конницей, оттеснившей русских в болота Озени, – честно говоря, выдержать подобное не совсем в человеческих силах. И тем не менее русские шли вперед, время от времени, когда приходилось очень уж туго, строясь в «кольцо». К исходу второго дня, когда, как позже будет сказано в отчете, «много изгибло дворян и голов стрелецких, ратных же людей на том бою пало яко 3000», а со стороны кумыков, согласно преданию, «ушло в сады Аллаха семь сотен и еще шестнадцать храбрых узденей, а людей их не сосчитать сколько», воевода, потеряв две трети личного состава, но не бросив ни одной «санитарной» телеги, вывел остатки армии на берег Койсу, – и шамхал, обескураженный потерями, приказал своим людям прекратить преследование.
Глава V. Терек воет (2)
Спаси и сохрани!
Разбор полетов был жестокий. К Хворостинину, конечно, претензий не было, к его стрельцам и казакам тоже. Основным виновником неудачи Дума признала Александра, «иже крест целовав, шерть нарушил, не послал своего сына Юрья на помощь». С таким обвинением в Греми прибыли русские послы Савин и Плуханов. Александру, судя по всему, было крайне неудобно. «При владыке Иосифе да при всем лучшем боярстве царь ся каяти», объясняя задержку сугубой географией. Дескать, «ни самому ходить, ни людей своих посылать на шевкала нельзя было, что шевкал живет за горами высокими, дорога к нему тесна». Когда же Семен Савин резонно заметил, что если «разбойник шевкал» как-то добирается до Кахети, то и кахетинцы вполне могли добраться до Тарков, – так что, может быть, московская помощь Александру и не нужна? – у царя, видимо, взыграла гордость. Послов выпроводили восвояси, и на несколько лет контакты между Москвой и Греми были заморожены. А политическая ситуация тем временем менялась. Турция все более увязала в войне на европейском фронте, и война эта была не слишком удачна для Османов, зато в Иране после периода слабых шахов и смут пришел к власти молодой, талантливый и амбициозный шах Аббас, поставивший перед собой цель взять реванш за поражения прадеда, деда и отца. Что хватка у парня железная, а турки мышей в регионе не ловят, стало понятно быстро, и местные лидеры засуетились. В 1599-м, уже при Годунове-царе, в Москву приехали Сараван и Арам, первые за 5 лет послы Александра, направившиеся первым делом к патриарху, просить замолвить слово «по православному братству нашему». Типа, конь о четырех ногах, и тот ошибается; кроме того, наконец-то были приоткрыты карты насчет истинных причин неявки кахетинских дружин к Таркам, и это объяснение было «по милости государевой и заступе царевича Феодора» принято с пониманием. Согласие восстановилось. «Клятвенную запись» официально подтвердили. А ни о чем большем Александр пока и не просил: перед ним стояла тяжелейшая задача найти общий язык с Аббасом, вовсю готовившимся к войне с турками, а связь с Россией, которую молодой шах считал желанным союзником, давала кахетинскому царю, как ему казалось, серьезные козыри в предстоящей ему непростой игре.
В принципе, он не ошибся. По ходатайству русского посла Аббас публично признал право вассала из Греми на «двойную присягу» и простил ему былую измену (переход на сторону турок). Но, видимо, решил, что «кахетинский лис» чересчур засиделся на троне и его пора менять на кого-то более надежного. Благо кандидаты были – сыновья Александра, люди уже немолодые, кисли в ранге царевичей и по этому поводу очень злились. В октябре 1601 года второй сын Александра, Давид, арестовал отца, вынудил постричься в монахи и объявил себя царем Кахети, тотчас получив признание шаха и не поспешив посылать в Москву посольство на предмет подтверждения клятвы. Есть основания полагать, что экс-царя планировалось выслать в Россию. Однако ровно через год, 2 октября 1602 года, Давид скоропостижно скончался, а старший наследник, Георгий, которому персы предложили престол, оказался хорошим сыном. Александр II вернулся на трон, начав второе царствование немедленной отправкой в Москву все того же Кирилла с просьбой как можно скорее прислать в Кахети побольше стрельцов (разумеется, «в защиту от шевкала и с ним богопротивных турок»; о персах в письме не поминалось). Послы прибыли в Белокаменную в конце января – и столкнулись там с посланцами шамхала, тоже пытавшегося выжить в новых условиях. Ранее именовавший себя «верным слугой повелителя правоверных в стране гор», Сурхай теперь умолял царя Бориса «злобу старую позабыти, бо все люди горские ныне хотят ыти под государевою рукою во всем послушан, а по ся место служил он Туркскому и от Туркского ныне отстал, хочет государю служить и прямите и до своего живота». Пикантность ситуации, честно говоря, уникальная, думаю, даже Годунов, при всем его светлом уме, на какое-то время впал в ступор.
По сути, все было ясно. Учитывая, с одной стороны, заинтересованность Аббаса в дружбе с Кремлем, а с другой – что вечных друзей в политике не бывает, логичнее всего в новых условиях было поддержать Сурхая, создав тем самым буфер между южными границами России и пока что дружественным, но опасно усилившимся Ираном. Что касается Кахети, то даже не говоря о пользе, которой от нее никакой ждать не приходилось, реально прикрыть ее от всех опасностей, введя серьезный гарнизон, было невозможно. Разумнее всего, и на этом, судя по летописям, настаивал Семен Годунов, дядя царя и начальник его спецслужбы, оставить ее в зоне традиционного «персидского» влияния, оговорив, по признанному шахом праву «второго суверена», режим наибольшего благоприятствования. Ну а Аббас, со своей стороны, просил вообще не вмешиваться в кавказские дела, обещая прижать шамхала своими силами так, что он закается шкодничать, и это, если смотреть совсем уж политически, тоже был не худший вариант. Однако в Москве по-прежнему исходили из того, что проза прозой, а есть вещи, как говорил Рейган, более важные, чем мир, и оставлять «наших православных людей грузинских» на усмотрение басурман никак нельзя. На такой позиции по-прежнему стоял патриарх, а Иов был одним из очень немногих, чье мнение могло повлиять на решение Годунова. К тому же Кирилл вновь, как 10 лет назад, сообщал, на сей раз еще и целуя крест, что в Шамхалате вот-вот начнется усобица, так что война будет легкой прогулкой. По его словам выходило, что надо лишь взять Кумух, «а только государевы люди в тех местах его найдут и ему только бежать из турского города – в Шемаху али в Баку».
Не бойся, я с тобой!
Трудно проникнуть в замыслы другого человека, тем паче давно ушедшего, но, по логике, Александр плел очень тонкую интригу. В воздухе все явственнее пахло войной, и было понятно, что, как только полыхнет, Кахети (никуда не денешься) придется встать рядом с персами. Что, в принципе, было и неплохо: если помощь окажется полезной, шах, глядишь, и земельки подкинет. Но вот появление персидских сарбазов еще и на севере, в Шамхалате, кахетинскому царю вовсе не улыбалось. Сидеть в клещах всегда неприятно. Если бы дружественные Исфахану русские извели шамхала еще до начала военных действий, надобность посылать шахсевенов на север была бы снята. Однако, сколько ни считай, кирдык, как известно, всегда внезапен. Грянуло летом 1603 года. Потеснив турок, Аббас в начале ноября подошел вплотную к Еревану и повелел вассалам, царям Картли и Кахети, прибыть в свою ставку с максимумом войск. Картлийский царь подчинился мгновенно. Александр же, используя все возможные предлоги, послал к суверену лишь малую дружину, а сам продолжал сидеть в Греми – аж до марта 1604 года, когда к нему прибыло посольство во главе со стольником Татищевым на предмет переговоров о совместных действиях против шамхала. По большому счету, тут он был неправ – война меняла предыдущие расклады и говорить с Москвой на такие темы следовало бы шаху, но телефонов-телеграфов тогда не было, Татищев исполнял данные ему за полгода до того указания, Александр ему подыгрывал, и, в конце концов, стольник убыл из Греми в полной уверенности, что союзник к выступлению готов, а царь, едва проводив гостя, во главе основных сил своей армии, поспешил под Ереван, к Аббасу, где и застрял почти на год, исправно выполняя приказания суверена, в частности, прекрасно зарекомендовав себя в ходе осады и взятия стратегически важной крепости Эривань. А когда в конце года, наконец, вернулся, узнал, что русские уже пришли. И не просто пришли.
Разрабатывая план кампании против Шамхалата, московские штабисты постарались учесть все огрехи, допущенные при подготовке похода Хворостинина. На сей раз «сильные полки», идущие на Терек под командованием воевод Бутурлина и Плещеева, насчитывали более десяти тысяч пищалей и сабель, а командованию предписывалось не увлекаться успехами и на пути к Таркам, а потом и Кумуху создавать сеть укреплений и продовольственных баз. На помощь кахетинцев на сей раз рассчитывали твердо, но – в соответствии с информацией Татищева – относя ее во времени на весну 1605 года, когда царь исполнит свои обязательства перед шахом и вернется в Греми. Медленно, но верно продвигаясь вперед, русские поставили крепости на Сулаке и Акташе, а затем двинулись на Тарки, где – в крепости, обустроенной на европейский манер еще Хворостининым, – уже приготовились к бою основные силы Шамхалата. После нелегкого штурма город был взят, Сурхай бежал к аварскому хану, где публично признал, что старость не радость, передав власть и командование любимому сыну Султан-Муту, способному полководцу, еще в ранней юности прозванному «ужасом Кахети». Взяв Тарки, Бутурлин начал укреплять их, но осенние дожди затормозили работу, а малая война горцев срывала поставки продовольствия, так что – во избежание голода и эпидемий – половину войск пришлось отослать на Терек, и даже при этом запасов оказалось в обрез. Зимовка была тяжелой, а тем временем Султан-Мут успел поднять весь Дагестан, вынудив гарнизоны острожков на Сулаке и Акташе сжечь городки и уйти на север. После такого успеха к джихаду присоединились привычно выжидавшие аварцы, и поздней зимой, дождавшись еще и крымской подмоги, скрытно прошедшей сквозь Кабарду, молодой шамхал, подойдя к Таркам с двадцатитысячным войском, потребовал, чтобы воеводы уходили к Тереку, обещая выпустить. На что, естественно, получил отказ с напоминанием о предательстве отца и сообщением, что любой следующий посланник будет повешен на стене.
Теперь все зависело от Александра. Русские могли держаться в Тарках долго, но не бесконечно. Возвращения отосланных на зимовку отрядов раньше конца апреля ждать не приходилось, поскольку терский воевода, не имея достаточных припасов, отослал их в Астрахань, откуда путь неблизкий, а у кахетинского царя стояла под знаменем только что обкатанная в боях под Эриванью армия. Однако Александр, до которого гонцы Бутурлина с немалыми сложностями сумели добраться, не спешил. У него было точное указание шаха: дав войску отдых, идти на юг, на Ширван, и рядом с ним в качестве личного шахского представителя находился младший сын, выросший в Исфахане Константин-мирза, естественно, мусульманин, с сильным отрядом кызылбашей. Так что русским послам старый царь дал ответ обнадеживающий, не отказываясь от данного слова, но и неопределенный, ничего конкретного не обещая. Однако и выступать на Ширван не спешил, чего-то выжидая и что-то прикидывая, – аж до 12 марта, когда после ссоры по этому поводу был, вместе с наследником Георгием и ближними людьми убит по приказу Константина, который, впрочем, спустя пару недель, объявив себя царем, но так и не дождавшись помощи от шаха, был убит во время смотра войск, собранных для похода на Ширван. Насколько вероятна версия о том, что инициатором переворота был Аббас, судить трудно, но в выигрыше, с какой стороны ни посмотри, остался именно он: от ненадежного старика избавился, отце– и братоубийцу не поддержал (что повысило его ставки в Кахети), а на престоле в итоге оказался малолетка Теймураз, сын покойного друга персов Давида, окруженный воспитателями – как и отец, убежденными друзьями персов.
Горько! Горько!
Для Бутурлина вся эта суета вокруг дивана была приговором. Он, скорее всего, так и не узнал о кадровой чехарде в Греми, но что история Хворостинина повторяется, было понятно даже стрельцам. Сил отстаивать город становилось все меньше, а вскоре на помощь молодому шамхалу подошли и турки из Дербента, совсем немного, зато с двумя пушками, пусть и малого калибра. Тем не менее русские держались. Даже когда часть укрепления была взорвана, прорваться в крепость горцам не удалось. И тем не менее потери и растущее число раненых давали о себе знать. Когда раздосадованный неудачами Султан-Мут вновь предложил решить дело миром, Бутурлин согласился. Однако, помня прошлое, потребовал, чтобы горцы отошли от Тарков и освободили путь, дав в заложники сына шамхала, а также клятвы на Коране, что шамхал позаботится о больных и раненых, которых нельзя взять с собой, а потом, подлечив, отпустит их. Встречное требование – тоже дать сына в заложники и дать клятву на кресте, что русские никогда больше не придут в Тарки, – воевода отверг, справедливо указав, что он уходит, так что в заложнике нет никакого смысла, а «шерть дати то не мое, холопье, но государево дело». На том и поладили. Шамхал начал готовиться к свадьбе с дочерью аварского хана, пригласив все 20000 джигитов быть дорогими гостями, а русские, оставив всех больных и раненых на попечение горцев, выступили из Тарков и двинулись к Сулаку. Шли, говорят, беспечно, зная по опыту, что клятва на Коране для мусульманина нерушима, но, увы, не зная ни что еще до начала переговоров Султан-Мут авансом выхлопотал у некоего святого старца, обитающего в горной пещере, освобождение от любых клятв, данных неверным, ни что выданный в аманаты сын султана на самом деле вор-смертник, давший согласие сыграть роль в надежде, что кривая вывезет. Так что, выкатив 200 бочек бузы и хорошенько разогрев дорогих гостей, счастливый жених предложил вместо положенных по канону скачек резать гяуров, благо те, идиоты, сложили громкие палки в телеги.
Это сообщение воодушевило джигитов особенно. И поскакали. А догнав и отрезав от обоза, сперва по-хорошему предложили сдаться и принять истинную веру, в ответ на что, к удивлению великодушных горцев, неблагодарные гяуры, даром что обескураженные, слова не говоря, пошли в рукопашную. Предания горцев, отдадим должное, рассказывают об этом сражении очень уважительно, особенно о самом Бутурлине, который дрался, как «седобородый дэв», воодушевляя своих людей, дравшихся, «пока не падал последний человек, боясь, – как говорит летописец, – не смерти, а позора». В многочасовой резне полегли и Бутурлин, и Плещеев, и все стрельцы, до последнего, однако «двухсотых» горцев, когда все кончилось, насчитали почти вдвое больше, а в их числе оказался и «кошмар Кахетии». После чего оставленные в Тарках больные и раненые русские были по приказу безутешной невесты, так и не успевшей стать женой, выведены на майдан и торжественно разорваны на куски.
Финал сезона
А затем была Смута, и России стало не до Кавказа. С последствиями. Прежде всего, туговато пришлось кабардинцам. Там дом Кайтыкуэхэ, найдя общий язык с Крымом, начал исламизировать соседей, параллельно наладив бесперебойную поставку рабов на рынки Кафы, с ханской помощью вытеснив дом Идархэ и дом Талостанхэ, по старинке считавшие, что людьми торговать нехорошо, далеко на восток. Еще круче пришлось грузинам и дагестанцам. Шах Аббас оказался крут. Он бил турок в хвост и в гриву, наращивая обороты из года в год и выстраивая великий Иран очень успешно, но безо всякого гуманизма. Суннитов за людей не считал, местную знать резал под корень при малейшем писке, не щадил и простой люд, заселяя освободившиеся после зачисток земли кочевниками-шиитами. К христианам относился немного мягче, но любые попытки хоть как-то лавировать или заикаться об автономии карал свирепо, десятками тысяч угоняя выживших в глубинные районы Персии. Только в Кахети, подросший царь которой попытался было не возражать даже, а о чем-то просить, ссылаясь на старые договоры, Аббас, после заключения в 1612-м Серавского мира с турками взявшийся унифицировать Закавказье, уничтожил до 70 тысяч и увел в плен до 100 тысяч человек. Горцев же, как он говорил, «должно считать дикими животными, непригодными ни к стрижке, ни к дойке, а потому избавиться от них будет благом». Присяги не помогали. Шах был уверен, и правильно уверен, что верить этим людям опасно. Ничего удивительного, что в полной безнадеге горские князьки кинулись за помощью к Москве, только-только начавшей выползать из пропасти. 28 июля 1614 года посол шамхала Гирея Томулдук передал в думу письмо с раскаянием за «дерзость брата и отца, посмевших нанести природному государю нашему и людям его обиду», и слезной мольбой о покровительстве. В ответ в сентябре 1614 года в Тарки прибыла миссия Ивана Селиверстова, принявшая от общего схода элиты Шамхалата грамоту с клятвой «быти отныне всем в одиночестве и служити, и прямити… государю, и добра во веки хотети, и впередь быти под… царского величества высокою рукою в холопстве не отступним навеки», а в ноябре шамхал Гирей отдельно поклялся «литовке Маринке с сыном не служити и к шах Басу от царского величества не отстати, быти в прямом холопстве под царскою высокою рукою неотступным и верным навеки». В обмен Москва замолвила слово перед Исфаханом, и Аббас, готовя новый тур войны с Османами, уважил союзника. Поход не состоялся. Правда, Дагестаном занялись другие, более компетентные ведомства.
Менее всего хотелось бы исследовать драку пауков в банке, описывая перипетии «тихого» изнасилования персами Дагестана. Достаточно сказать, что полилось много крови. Как и в Грузии, где, осознав, что меч навис не только над государственностью, но и над верой, князья, временно забыв об играх, оказали Аббасу достаточно мощное, хотя и безуспешное сопротивление. Все попытки подросшего царя Теймураза Кахетинского добиться хоть какого-то объединения княжеств Кавказа, не обращаясь за помощью к Турции, дабы лекарство не оказалось страшнее болезни, проваливались одна за другой. Время от времени, когда кровопролитие становилось совсем уж неприличным, терские воеводы, имевшие приказ царя «в последнем случае именем Господа нашего сирых защищать», посылали войска, кое-как наводившие порядок и тотчас уходившие восвояси, а 12 апреля 1618 года князь Казы Ханмурза от имени шамхала Андия вновь подтвердил верность Шамхалата «государю нашему царю». Пять лет спустя клятва была подтверждена его наследником, шамхалом Ильдаром, первым из горских владетелей, получившим из Москвы жалованную грамоту на шамхальство с «большой государственной печатью» с условием не беспокоить Кахети и в течение всего срока правления, несмотря на недовольство подданных, слово державшим. А в 1643-м, после смерти Ильдара, убийства его сына Айдемира и начала нового тура персидско-турецких войн, на сей раз, поскольку великого Аббаса уже не было на свете, пошедшего далеко не в пользу Ирана, сход дагестанской знати направил в Москву грамоту с требованием «о нас забыти, отныне к нам дела не имети, что твоего государева величества веление грузин не утеснять нам, храбрым людям, в обузу и ущемление». В сущности, с этого момента говорить в Дагестане лет на 150 стало не с кем. Шамхалат практически перестал существовать, а серьезно отреагировать на мольбы Теймураза, проигравшего все и бежавшего в Москву, русское правительство уже не имело возможности. Не то чтобы веры тамошним клятвам уже не было, Кремль долго обиды не таил, но слишком уж горячая каша заваривалась на куда более приоритетных европейских фронтах.
Глава VI. Волкоголовые
Вольные стрелки Урала
В точности ответить на вопрос, кто такие башкиры, не рискнут, пожалуй и уфимские историки. Ясно лишь, что на костяк из угорских аборигенов Урала век за веком, начиная в времен неведомых, накладывались осколки всех племен и народов, шедших на запад с востока, по тем или иным причинам отставшие от своих и после неизбежных битв за место под солнцем нашедшие это место среди чужих, с годами ставших своими. Чтобы выжить и прижиться, нужно было только мужество, мужество и еще раз мужество. Слабые не выдерживали, но слабы были далеко не все. В любом случае, к Х веку, когда великий Ибн Фадлан, проезжая в 921-м через будущий Башкортостан, описал населяющий его народ, «баш-корты» (то ли «волкоглавые» – не этноним, а собирательное наименование, из-за специфических головных уборов или особого боевого клича, а может быть, «вожаки волков», по имени стародавнего хана) уже были многочисленным и сильным племенем. Вернее, союзом племен (Мин, Бурзян, Кыпчак, Юрматы и так далее) разнообразного происхождения, говорящих на странной смеси угро-тюрских языков и, в свою очередь, разделенных на кланы, кочевавшие по обе стороны Среднего и Южного Урала от слияния Волги с Камой аж до Тобола. Обильные пастбищами, а значит, и скотом, «волкоголовые» кормились также всеми видами охоты, рыболовством и сбором дикого лесного меда.
А еще они, великолепные наездники и лучники, воевали. Много и очень удачно. Походы, устраиваемые ими, запоминались соседям надолго. И не соседям тоже, поскольку особым геройством считалось сходить за добычей куда подальше, в идеале – к предгорьям Северного Кавказа или к Каспию (хотя такие подвиги случались нечасто, а случившись, мгновенно заносились в шегерэ – устные летописи). Дома, правда, жили мирно: традиция кровной мести было очень жестка и рисковать никто не хотел, так что споры решались судом бия-старейшины. Или, в крайнем случае, народным собранием, игравшим немалую роль даже к XIII веку, когда военная демократия уже достаточно разложилась, но все же не настолько, чтобы сильные всерьез обижали слабых, и «батыр» (сильный и справедливый воин), будь он даже простым пастухом, мог при необходимости собрать ватагу больше любого бия – причем, в отличие от бия, не только из «своих». Единственными, кого башкиры не трогали, были булгары, от которых в земли язычников еще со времен Ибн Халдуна начал проникать ислам. Надо сказать, проникать по-доброму: булгарские проповедники годами жили среди башкир, учили, лечили и со временем стали людьми весьма уважаемыми, к советам которых полагалось прислушиваться. Неудивительно, что Булгар, на базарах которого башкирам полагались скидки, – опять же, со временем, – сделался чем-то вроде столицы, владыке которой башкиры обязались за хорошее отношение помогать военной силой (вскоре ставшей ударными частями бургарских войск) и не обижать его данников.
В здравом уме и твердой памяти
Явление Чингизидов, потряся и разрушив полмира, на башкирах отразилось не очень. Великий Булгар пал, но его место занял еще более великий Сарай – только и всего. Правда, теперь (куда ж деваться) пришлось платить ясак, – мехами, медом и лошадьми, – чего при булгарах в заводе не было, но даже это не особо напрягало: по достоинству оценив боевые характеристики «волкоголовых», Орда всячески поощряла поступление башкирских стрелков на ханскую службу, давая им возможность и лихость проявить, и добычей разжиться. Самым же достойным даровалось звание «тархана», автоматически возносящее владельца в элиту родовой знати, поскольку герой переставал платить ясак, а вместе с ним от уплаты налогов освобождался и весь клан. В общем, для башкир Золотая Орда злой мачехой не была, а после ее падения, когда мелкие ханства попытались объявить себя «владыками жизни и смерти», попытка сорвалась. Против службы на старых условиях «волкоголовые» ничего не имели, а вот за нахальство наказывали жестко: в случае малейшего насилия батыры собирали ватаги и, как сказано в тюрэнче «Кузы-Курпяч», – «приводили безумных в ум». В итоге новым как бы хозяевам – ханам Казани, Сибири и Ногайской Орде – башкиры не платили даже ясака, ограничивая службу (если ханы хорошо себя вели) поставкой конных стрелков. Одна беда: новые ханства постоянно враждовали, в связи с чем, впервые в своей истории, башкирским воинам, мобилизованным под разные стяги, пришлось воевать друг с другом, разоряя кочевья друзей и родственников, – что, разумеется, изрядно напрягало.
В связи с чем, после серии «казанских войн» и взятия русскими войсками Казани, когда Иван Грозный предложил башкирам присягнуть ему как «царю Казанскому», пообещав сохранить прежние права и привилегии, его послание выслушали с интересом. А затем, тщательно обсудив, – в тюрэнче сохранились краткие изложения выступлений биев и батыров, – пришли к выводу, что Россия более надежна, чем мелкие ханы. Так что, хотя ногайские мурзы и крымские дервиши изо всех сил запугивали народ, призывая и даже пытаясь силой вынудить их уйти на Кубань, служить крымскому хану, башкиры их прогнали и присягнули «белому царю». Добровольно и без принуждения. Сперва «малой» (заочной) присягой, а затем, в 1557-м, уже и «большой», в самой Москве, взамен получив жалованные грамоты, четко фиксирующие права и обязанности сторон. «Волкоголовые» обязались платить ясак (в знак признания Москвы прямым наследником Великой Орды), поставлять всадников в русское войско, «не воевати» царских данников и разрешить ставить на своих землях «царевы городки» (точные места расположения указывались). Царь же «на вечные времена» закрепил права башкир на их «отеческие земли и веру», а также «старые права» (самоуправление). Это вполне устроило и биев, и батыров, и мулл, и «черную кость», так что спустя 40 лет, после присоединения Сибири, восточные башкиры, отказав в поддержке Кучумовичам, охотно, без сопротивления признали власть Москвы на тех же условиях.
Обострение
Ну и зажили. Причем, совсем недурно. На «договорных» землях поставили несколько городов, один из которых – Уфа – стал центром Уфимского уезда, разделенного на 4 «дороги» (не в том смысле, что пути сообщения, а в соответствии со старым устройством, когда от имени мелких ханов за сбором ясака следил «даруга»): Казанскую – на западе, Сибирскую – на востоке, Ногайскую – на юге и в центре, Осинскую – на севере. «Дороги», в свою очередь, делились на волости (уделы кланов и племен), во главе которых стояли все те же бии, в русских документах именуемые «старшинами». Бии отвечали за порядок на территориях и сбор ясака, а главным арбитром (без права вмешательства во внутренние дела племен) считался уфимский воевода. В целом, несколько десятилетий все было идеально. Мелкие сложности быстро сходили на нет, а на агитацию ногайских мурз, беглых сибирских «царевичей» и крымских проповедников башкиры не реагировали. Даже в годы Смуты, когда все Поволжье полыхало огнем, башкирские земли оставались островком покоя. Однако с воцарением Романовых ситуация осложнилась. Пустая казна вынуждала Москву, практически не выплачивавшую аппарату жалованье, сквозь пальцы смотреть на коррупцию, расцветавшую повсеместно. В том числе, разумеется, и в Уфимском уезде. Служилые люди, не ограничиваясь поместьями на «договорных» землях, самовольно учреждали «слободки» на территориях кланов, произвольно увеличивая размер ясака. Начались конфликты. Нельзя сказать, что башкиры были правы всегда, но русским было куда жаловаться, а башкирам нет: немалая часть «сверхприбыли» аккуратно отстегивалась воеводам, и те, получая челобитные, вели себя соответственно. Впрочем, даже чудом дойдя до Москвы, жалобы хода не получали, о чем заботилось лобби знаменитых «царевых добытчиков» Строгановых, стремившихся вести на целинных башкирских землях поиски полезных ископаемых. Серьезную проблему «волкоголовым» создавали монастыри, учреждаемые (на предмет обращения язычников – мари и удмуртов – в христианство) хоть и не на их территориях, но в близком соседстве. Чьи земли «языческие», а чьи «договорные», святых отцов не интересовало, а найти на них управу было невозможно в принципе: тяжбы на эту тему, оказавшись в судах, рассматривались десятилетиями. Неудивительно, что теперь бии, тарханы, муллы, да и «карачу», куда теплее принимали гостей из Крыма, говоривших от имени уже не только Бахчисарая, но и Стамбула. В 1645-м в крае случились даже небольшие беспорядки, вскоре, впрочем, угасшие. А в середине XVII века возникла проблема, обострившая обстановку до синего звона, и называлась она «калмыки».
Следует сказать, что обязательство «не воевати» царских данников, взятое на себя биями и батырами как естественное, изрядно их тяготило. Отказаться от привычки к набегам, грабежам и уводу полона с последующей его реализацией в Крым оказалось совсем не просто, нападать же на тогда еще очень сильное Казахское ханство – что Москва не запрещала, – было опасно, а башкирские старшины, при всем бесстрашии, умели соразмерять выгоду с угрозой. В связи с этим появление в Великой Степи первых беженцев из Монголии, раньше других сообразивших, что воевать с Цинами чревато гибелью, «волкоголовые» встретили едва ли не с восторгом. Пришельцы были слабы, разрознены, деморализованы (великий исход джунгар еще не начался), а следовательно, казались идеальной добычей, не взять которую просто грешно. И брали. Пока калмыцкие князьки-тайши, оказавшись между двух огней (казахи рассуждали точно так же, как башкиры), не сообразили послать в Москву ходоков, присягнувших на верность «белому государю», в итоге оказавшись в списке тех самых «царских данников», которых «нельзя воевати». Башкирские же старшины мало того что лишились приработка, так еще и получили приказ вернуть еще не проданный полон, а попытка сделать вид, что не поняли, привела к тому, что уфимский воевода, стольник Алексей Волконский, исполняя прямое повеление царя, послал в кочевья отряды «имщиков», приступивших к изъятию живого товара. И рвануло…
Если Белый Отец не слышит нас…
Да, рвануло. Стольника, гордеца, взяточника и так далее, башкиры и раньше не любили, но его «товарищу» (заместителю) Федору Сомову, считавшемуся человеком справедливым и умевшему дружить с «волкоголовыми», до сих пор как-то удавалось улаживать конфликты, а теперь возможности не было. Летом 1662 года отряды башкир атаковали слободки и села, основанные без их разрешения, некоторые захватили, штурмовали даже вполне законный Катайский острог, а когда тобольские отряды полковника Полуектова разбили их близ озера Иртяш, в относительном порядке отступили на север – и уж там-то развернулись вовсю. Пали неплохо укрепленные Кунгур и Степанов острог, Воздвиженский и Рождественский монастыри, были разорены практически все «незаконные» русские деревне на реке Сылва. При этом единого центра у бунтовщиков так и не возникло, отдельные отряды возглавляли местные авторитеты, да и убийств, надо сказать, было совсем немного: башкиры в основном удовлетворялись изгнанием ограбленных до нитки «пришельцев», при этом постоянно сообщая в Уфу, что хотят мира, но только если прибудет арбитр из Москвы. На что Алексей Волконский, естественно, согласия не давал, поскольку рыльце у него было в пушку по самые брови, а казанский воевода Федор Волконский всячески покрывал кузена. Лишь после того, как мятежники, осадив Уфу и Мензелинск, объявились в окрестностях самой Казани, власти наконец спохватились. Федор Волконский, явившись под Уфу с войском, снял осаду, разослал по краю летучие отряды и предложил мятежникам сесть на кошму переговоров. Те охотно согласились, однако дело кончилось ничем: одним из главных их условий было убрать из Уфы воеводу-беспредельщика, заменив его Федором Сомовым, а такая кадровая рокировка была невозможна без согласования с Москвой, в результате чего Алексей Волконский неизбежно получил бы взыскание, чего Федор Волконский допустить не хотел.
В итоге весной 1663 года затихший мятеж полыхнул с новой силой. Давать крупные сражения башкиры уже не решались, но партизанили на коммуникациях столь эффективно, что в итоге – когда на русских землях появились беглые Кучумовичи, надеявшиеся поймать в мутной воде хоть какую-то рыбку, – информация все-таки дошла до Белокаменной, откуда грянуло указание: желаем выслушать, чего мятежники хотят. В начале февраля 1664 года видные полевые командиры Димаш Юлаев и Актай Досмухаметов отправились в Москву, где изложили свои претензии Думе в присутствии Государя, были признаны правыми и вернулись домой с жалованной грамотой, добившись назначения арбитром тобольского воеводы Степана Аргамакова, также слывшего «справедливцем». По итогам разбирательства причиной волнений были признаны злоупотребления на местах. Москва официально подтвердила вотчинное право «волкоголовых» на землю, Алексей Волконский был отозван и сослан, а на его место назначили «справедливца» Сомова, быстро и по-честному решившего все частные вопросы. В частности, и наказав дворян, позволивших себе особые нарушения. Со своей стороны, башкиры выдали властям несколько отморозков, запятнавших себя кровью мирного населения.
На том все и завершилось.
Ко всеобщему удовлетворению, но, увы, ненадолго…
Глава VII. Волкоголовые (2)
Воистину акбар!
Меры, принятые правительством Тишайшего по итогам бунта 1662–1664 годов, судя по всему, были весьма эффективны. Во всяком случае, в период победоносного шествия Стеньки Разина вверх по Волге, когда практически все поволжские народы, в первую очередь языческие, поддержали бунтовщика, в башкирских землях все было тихо и спокойно. Однако проблемы оставались. Не так нагло, как раньше, но уфимские и казанские помещики, а также и монастыри не мытьем, так катаньем стремились округлить свои владения за счет «договорных» иноверцев, а после смерти Алексея Михайловича, когда контроль Москвы ослабел, процесс пошел уже без стеснения. Помимо всего прочего, в результате ведомственной неразберихи (реорганизации приказов) основная часть башкир попала под двойное налогообложение, будучи вынуждена платить ясак и Уфе, и Казани, – и тут жаловаться было бессмысленно, поскольку сборы в основном шли в бюджет, а это дело святое. Тем паче что только-только завершившаяся серия войн с Польшей и Турцией истощила казну до крайности. Впрочем, налогоплательщикам до высокой политики дела не было, они просто были в бешенстве, и градус рос не по дням, а по часам. А тут еще и вовсю активизировались крымские дервиши, десятками проникавшие в волнующийся край по приказу турецкого султана, строившего планы реванша за поражение в Чигиринских походах. Хорошо подготовленные проповедники бродили по кочевьям, разъясняя простецам, почему так жить нельзя, а с грамотными интеллектуалами из местной знати ведя долгие беседы. Суть которых заключалась в том, что, во-первых, негоже правоверному подчиняться гяурам, а вот султану и халифу, напротив, очень даже гоже, а во-вторых, башкиры ничем не хуже крымских татар и тоже имеют право на свое ханство (естественно, под зонтиком Порты), и, наконец, в-третьих, что вокруг слишком много язычников, и тот, кто приведет их к Аллаху, однозначно попадет в Рай.
Под влиянием таких проповедей башкирские муллы и «ученые люди» развернули широкую агитацию среди соседей-идолопоклонников и даже добились определенных успехов, что, естественно, никак не могло понравиться Московской патриархии, под давлением которой царь Федор Алексеевич 16 мая 1681 года пописал Указ о крещении иноверцев. Документ был достаточно жестким. Всем, кто «погряз в поклонении камням и деревьям», предлагалось немедленно креститься. За отказ старшинам ясачных народов полагалось лишение прав, привилегий и владений, а простолюдинам – превращение в государевых крепостных. Несколько позже дополнительным Указом от 27 ноября в Уфе была создана самостоятельная епархия. О мусульманах – татарах и башкирах – в майском Указе ничего определенного сказано не было, прямо подразумевались, повторюсь, «идолопоклонники», но само собой разумелось, что агитация за ислам отныне считается преступлением. И крайне недовольные муллы, не говоря уж о крымских эмиссарах, пустили по и без того сильно взбудораженному краю слух о якобы предстоящем со дня на день насильственном крещении правоверных. В связи с чем уже летом 1681 года в лесах началась мелкая партизанщина. А в начале 1682 года старшина и мулла Сеит Садиир (Ягафаров), один из самых ярых приверженцев ориентации на Стамбул, получив из Крыма некое письмо, содержание которого так и осталось в тайне, объявил себя Сафар-ханом, а земли «волкоголовых» – ханством, вассальным Порте, после чего призвал башкир Казанской дороги к священной войне.
Моджахеддин э-халк
Реакция последовала мгновенно. Взвинченные всем вместе, от слухов о «насилии» до вполне реального двойного налогообложения, башкиры формировали отряды «борцов за веру», к которым присоединялись (и вольно, и невольно, под угрозой сожжения деревень) соседние народы. По всему краю запылали усадьбы, монастыри, церкви, деревни и слободки. Атаковали яростно, в отличие от событий двадцатилетней давности, по плану, координируя удары и на сей раз «неверных» не щадя, хотя специально к кровопролитию и не стремясь (убивали, скорее, экс-язычников, выбравших христианство, а не ислам, нежели русских). В апреле 1682 года мятежники, числом уже около 30 тысяч, обрушились на крепости за Камой, в мае их отряды блокировали Уфу, заняли семь пригородов Казани и даже дошли до Самары. Москва встревожилась. Правительство царей Ивана и Петра (Федор уже умер) обратилось к башкирам, сообщив, что слухи о насильственном крещении истине не соответствуют и скоро на сей счет будет официальное разъяснение, а параллельно направило в Казань несколько стрелецких полков, приказав казанскому и уфимскому воеводам, объединившись, как можно скорее решить вопрос.
В такой ситуации Тюлекей-батыру, военному вождю мятежников (сам Сафар-хан, прекрасный оратор и харизматический лидер, полководческими талантами не блистал), оставалось только дать бой на упреждение, пока отряды «неверных» не соединились. Это было единственно разумно, и выбор цели – уфимский отряд, как более слабый, – тоже следует признать точным, и тем не менее 28 мая 1682 года в тяжелом бою с превосходящими силами башкир на реке Ик уфимцы не только выстояли, но и рассеяли атаковавших, причем в ходе сражения был тяжело ранен сам Сафар-хан, с трудом вывезенный нукерами с поля боя. Для бунтовщиков это было тяжелым ударом, поскольку хан считался любимцем Аллаха, а следовательно, неуязвимым, да еще и накануне сражения имел неосторожность от имени того же Аллаха пообещать своим храбрецам победу. К тому же 8 июля была наконец получена и зачитана специальная грамота от имени царей, разъясняющая, что в Указе Федора Алексеевича от 16 мая 1681 года о мусульманах речи вообще не шло, а по сути и отменяющая сам Указ. Итогом стал раскол в монолитных ранее рядах «волкоголовых», и без того обескураженных афронтом на Ике. Большая часть их, посовещавшись, решила прекратить войну, выборные от них во главе с влиятельным старшиной Кучуком Юлаевым повезли в Москву челобитную о прощении, которое и получили «сполна на всех мирных», вместе с обещанием правительницы Софьи лично разобраться с двойным налогообложением.
В принципе, это было бы концом войны, не будь война «священной». Сеит Садиир, он же Сафар-хан, сдаваться не собирался. Правда, крымская конница, в приход которой он, судя по всему, свято верил, появляться не спешила, и потому любимец Аллаха не нашел ничего лучшего, как обратиться за помощью к идолопоклонникам-калмыкам, которые были уже далеко не теми «сиротами», что два десятилетия назад. Из далеких монгольских степей что ни год прибывали новые беженцы, решившие отдать Цинам землю, но сохранить жизнь, и к описываемому времени мелкие беззащитные улусы превратились в орду, объединенную хан-тайшой Мончаком. Его сын Аюка, сменивший отца, поддерживал с Россией странные, двусмысленные отношения: с одной стороны, как бы не отрицал, что Москва – сюзерен, и платил ясак, с другой же – вел в Степи вполне самостоятельную политику, без оглядки на кого угодно воюя с теми, с кем считал нужным. Так и на сей раз, получив приглашение, спрашивать мнения «белого царя» Аюка не стал: уже в середине июля четыре тысячи калмыцких всадников вошли в пределы «договорных» земель и с ходу начали военные действия, поддержав отряды Сеита, после поражения при Ик ушедшие на восток. По всей Сибирской дороге начались ожесточенные бои. 27 июля союзники осадили Мензелинск, захватили и уничтожили большие торговые села Николо-Березовка и Челны-Камские и в очередной раз блокировали Уфу, а некоторые особо ретивые батыры дошли в рейдах даже до Самары.
Однако лекарство оказалось хуже болезни. Калмыки, полагая себя в полном праве, взимали плату за помощь в полном объеме, грабя все подряд, без оглядки, враг или друг, давя любое сопротивление с утонченной, очень восточной жестокостью, а жалобы мятежных биев уходили в пустоту. У Аюки были свои планы. Очень скоро стало ясно, что в башкирах он видит не союзников, а подданных, считаться с которыми нет нужды, поскольку деться им все равно некуда. В итоге весьма успешно стартовавшее наступление захлебнулось: башкирские отряды, защищая свои кочевья, начали резать калмыков, калмыки не остались в долгу, – и в конце концов хан-тайша, получив к тому же очень серьезное предупреждение из Москвы, подкрепленное казачьими набегами на его земли, в начале 1683 года отозвал свою конницу, дав ей распоряжение «щедро вознаградить себя за поход» и прислав для этого дополнительные силы.
Бешбармак в решете
С этого момента на Сибирской дороге закрутилась кутерьма, разобраться в которой не смог бы никто. «Моджахеды» Сеита (вернее, Тюлекея, поскольку сам бывший Сафар-хан куда-то исчез и более в источниках не упоминается) атаковали «гяуров», параллельно стараясь не позволить вовсю вознаграждавшим себя калмыкам грабить свои кочевья. «Верные» башкиры сражались и с теми, и с другими. Русские отряды выдавливали «моджахедов», вступая в стычки с калмыками, когда те грабили «верных», но глядя сквозь пальцы на разграбление людьми хан-тайши «бунташных» поселений. Это уже был не мятеж, а всеобщий хаос, понемногу смиряемый силами правопорядка, возглавляемыми опытным полководцем князем Юрием Урусовым. Сколько-нибудь осознанный бунт продолжался только на западе, где позиции «моджахедов» все еще были достаточно сильны. Весной 1683 года отряды Тюлекея атаковали Билярск и, хотя крепости взять не сумели, дотла сожгли слободу, перебив множество мирных «урусов», в том числе – чего раньше не случалось – женщин и детей. Возбуждаемые муллами, вновь заволновались многие волости за Камой, и спешно посланным на погашение очага яицким казакам пришлось выдержать ряд серьезных боев в районе Мензелинска, завершившихся, впрочем, поражением бунтовщиков.
В целом, к началу декабря 1683 года операции по восстановлению порядка завершились. Сопротивляться продолжали только «моджахеды», которым нечего было терять, да еще джигиты очередного поколения Кучумовичей, в стороне от событий, естественно, не оставшихся. Но после столкновения в январе 1684 года у села Богородское, последней сколько-то серьезной стычки, это были фактически уже шайки грабителей, ни на что серьезное не способные и рассыпающиеся при первом столкновении с регулярными войсками. В результате последних «моджахедов» били и выдавали сами же башкиры, даже те, кто недавно бунтовал. Выдали, в частности, и Тюлекея, которого судили и повесили вместе с десятком отморозков и крымских дервишей. Прочие участники бунта, даже активисты, были прощены и отпущены под честное слово, о судьбе же Сеита так ничего толком и не ведомо, есть только устное предание, будто его похитили, ослепили и убили калмыки. А весной специально прибывший из Москвы в Уфу стольник в присутствии сотни башкирских старшин официально подтвердил жалованные грамоты Ивана Грозного в полном объеме и отсутствие у правительства намерений насильно крестить мусульман.
На том все и завершилось.
Ко всеобщему удовлетворению, но, увы, ненадолго…
Глава VIII. Волкоголовые (3)
Жизнь удалась
Конец XVII века в башкирских сказаниях назван «светлым временем, неизменным временем». Так оно и было. Москва держала слово, ни на привилегии башкир, ни на их веру никто не покушался, а мелкие злоупотребления местной администрации решались на местах же, не без небольших взяток, зато без конфликтов. Однако, при всем желании жить так, как при дедах-прадедах, сама жизнь не позволяла дремать. Пусть на сознательном уровне никто этого сформулировать не мог, но всем – и в Москве, и на «договорных» землях, – было ясно: нужны реформы, без них не обойтись. Прежде всего, башкиры понемногу осознали все выгоды земледелия и озаботились его внедрением. Самим им, правда, «тревожить землю» не позволяла вековая традиция, но насиловать себя и не было нужды – на легендарно богатую землю, подобно бабочкам на свет, стекались охочие люди, привыкшие к пашне. В основном, конечно, беглые русские крестьяне, но и переселенцы из соседних ясачных народов (этих называли «тептярями» и «бобылями»). Раньше они оседали в слободках, самовольно обустроенных местными помещиками, против чего активно протестовали башкиры, эти слободки сжигавшие, а поселенцев грабившие и прогонявшие, но теперь – как-то само собой – появилась новая традиция. Пришельцев понемногу начали «припускать» на общинные земли, разумеется, на определенных условиях. Запрещалось лишь самовольное поселение, однако теперь самовольщиков не прогоняли, а предлагали стать «припущенниками», на что они охотно соглашались, поскольку условия башкир – умеренный оброк, выплата части ясака и участие в подводной повинности – были все же намного выгоднее, чем в слободках, где льготы давались не навсегда, а на срок. Переселялись и семьями, и целыми племенами – как, например, «мишари» («мещера» летописей, к описываемому времени, совершенно забыв стародавние финно-угорские корни, ставшая одним из «татарских» субэтносов). Зато Москва – опять-таки, скорее интуитивно, нежели сознательно, – реагировала на происходящее более чем с одобрением, запретив даже «выводить» с башкирских территорий прижившихся там беглых.
Что и понятно. С точки зрения правительства, происходящее, помимо прочего, помогало ломать ставшую неудобной военную демократию: ведь на обустройство «припущенников» выделяли средства старшины, имевшие возможность, а следовательно, поселенцы попадали в зависимость от них, а не от общины, что меняло баланс интересов, отрывая клановую знать от «карачу». Более того, именно в эти «светлые годы» власти начали понемногу создавать «башкирское дворянство», так или иначе интегрированное в государственную систему. Если раньше звание «тархана» имели считанные десятки старшин, получивших его по наследству от предков, то теперь Белокаменная раздавала «тарханство» не скупясь, чуть ли не всем биям и даже лояльным батырам, вместе с правом свободно, не спрашивая у народа, пользоваться охотничьими угодьями и бортями в «общих» лесах. Да, в общем, и пастбищами (правда, царь прямо такого права все же не давал, но при малейшем конфликте его представители становились на сторону «тарханов»). Короче говоря, всем, кто читал «Степана Разина» и «Тихий Дон» и знает, кто такие «домовитые» и кто такие «иногородние» должно быть ясно, какую мину подкладывали под себя башкиры. Все один в один. Но они, разумеется, о том не догадывались, будущее еще не пришло, настоящее же было «светлым и неизменным».
В буднях великих строек
А затем пришло время Петра со всеми прелестями. Россия, встав на дыбы, училась жить по новым правилам, война, стройки и реформы требовали огромных, никакой традицией не предусмотренных людских и материальных затрат, а введение новых, даже самых причудливых прямых налогов не покрывало всех расходов государства. В связи с чем пришлось искать, скажем так, экстралегальные источники пополнения казны, изобретя так называемых «прибыльщиков», в отличие от давно известных «откупщиков» имевших право (правда, с разрешения правительства) давать волю фантазии и, по словам Василия Ключевского, «хорошо послуживших государю: новые налоги, числом до трех десятков, как из худого решета, посыпались на головы русских плательщиков». В соседней Польше, как известно, такие дела поручались евреям, с которых (нехристей не жаль), ежели что, и был спрос. Однако в России евреев практически не было, так что их место с великой охотой заняли стопроцентно халяльные профессионалы, среди которых особо выделялись и ценились специалисты по работе с «инородцами», с 1701 года, по приказу царя, сконцентрированные в аппарате Приказа Казанского дворца, в ведение которого перешли ясачные, окладные, оброчные и приходные книги Уфимской приказной избы.
Иными словами, башкиры, со времен Ивана Грозного платившие дань и подчинявшиеся непосредственно правительству, оказались в полном подчинении казанских воевод. А соответственно, и прибыльщиков, возглавляемых комиссаром Стефаном Вараксиным, «человеком Софьи», ухитрившимся, благодаря особым умениям наполнять бюджет, не только не попасть в опалу при Петре, но и угодить в клиентелу самого Александра Меншикова, обеспечив себе и своим сотрудникам полную безнаказанность, что бы в ведомстве не творилось. Тем более что разведанные к тому времени залежи уральских недр (Невьянский и Уктусский заводы уже работали на всю катушку), с точки зрения Петра, мыслившего государственно, оправдывали все, а уж нарушение каких-то древних грамот, писанных, когда еще и прогресса никакого не было, тем паче. В принципе, правы историки – в частности, Б. Азнабаев, – полагающие, что «правительство намеревалось унифицировать подданство, избавившись от пережиточных форм, и в самые короткие сроки уравнять башкир «в тягости» со всеми прочими. Примерно то же самое и тогда же имело место и в других «договорных» землях, в частности, в Малороссии, да и на Дону, – и, соответственно, роль «прорабов перестройки», как и там, исполняли прибыльщики, подкрепленные на всякий случай военной силой. В частности, заняться башкирами было поручено Андрею Жихареву и Михаилу Дохову, считавшихся в ведомстве Вараксина «добытчиками справными и умелыми». С того и началось.
Нам нет преград ни в море, ни на суше
5 октября 1704 года, прибыв с «комиссией» в Уфу, «добытчики умелые и справные» созвали башкирских и татарских старшин Мензелинского, Уфимского, Бирского и Исетского воеводств на оглашение «большого царева Указа», назначив местом сбора поле в 12 верстах от города, у слияния Белой и Чесноковки. Естественно, съезжались тарханы не в самом радужном настроении (слухами земля полнилась, а за пару баранов можно было добыть и более точную информацию), но, учитывая ситуацию, идти на уступки они были готовы. Однако услышанное многократно превосходило все ожидания. Четыре тысячи воинов на Северную войну – это ладно, башкиры воевать никогда не боялись, а что семьи мобилизованных не освободят от ясака, конечно, плохо, но стерпеть можно. Четыре тысячи лошадей – то есть вдвое больше обычая – для действующей армии тоже, покряхтев, согласились собрать. Но затем речь пошла о деньгах, и тут, вместо ожидаемых 23–25 новых налогов (на печную трубу, на посещение рынка, на каждый улей, каждую прорубь, каждое окно и прочее), пусть даже сильно завышенных в пользу исполнителя (дело житейское), г-да Жихарев и Дохов затребовали выплаты аж по 72 позициям. В том числе и совершенно диким. Например, на вход в мечеть, на бракосочетание (причем с жениха, невесты и муллы отдельно), на поминальную молитву, на каждую голову скотины, пасущейся в стаде, и отдельно на ее же еще не содранную кожу, на каждое колесо телеги, на каждую створку ворот и так далее. Вплоть до налога за цвет глаз: со светлоглазых по шесть копеек, а с черноглазых (то есть с абсолютного большинства) целых восемь.
Естественно, начался крик. Естественно, прибыльщики, переждав, пока старшины устанут вопить, повторили требования, сообщив, что за ослушание солдаты разорят кочевье, а если кто хочет жаловаться, так сколько угодно, хоть в Уфу, хоть в Казань, хоть в Москву. Имея за спиной Вараксина, а главное, самого Меншикова, активно вписанного в систему откатов, они совершенно ничего не боялись. И очень зря. Потому что башкиры, если уж планка падала, о последствиях не думали, а тут планка полетела конкретно. Разъяренные старшины избили обоих прибыльщиков, как писано в отчете, «едва ль не до смерти, потоптав да мало не вовсе покалечив», а озвученную ими бумагу, «изодрав в лоскуты, збросили в реку, поругав самое царское имя», – и хотя бумага никакого отношения к Указу не имела (ее составили прибыльщики), знать этого старшины никак не могли, а следовательно, случившееся однозначно толковалось не только как «насилие над царскими людьми», само по себе пахнущее виселицей, но и – еще страшнее – как атака на «слово и дело Государево».
Солдат на все готов
Реакция последовала, по тем временам, невероятно быстро. Генерал Никита Кудрявцев, комендант Казани, послал в Закамье полковника из низов Александра Сергеева («кабашникова сына», лично известного царю), а с ним два драгунских и четыре пехотных полка (общим числом 3 тысячи штыков и сабель) с артиллерией. В феврале 1705 года, войдя в Уфу, Сергеев созвал уважаемых людей из окрестных волостей, якобы намереваясь зачитать им новый Указ, однако, когда вызванные собрались, сообщил, что «покуда-де он в Уфе, будет им то и Москва», а говорить с ними станет только после доставки 20 тысяч коней, востребованных прибыльщиками. В ответ же на объяснения, что такое количество совершенно неподъемно и самый максимум – тысяч пять, приказал избить их, «как они царских людей били и свыше того», и пытать, а когда пытки не помогли – забить в колодки и бросить в подвалы, где многие так и погибли от побоев и голода. Сопровождающим лицам была оказана «милость», но очень специфическая. Их отпустили, заставив перед тем пить вино «за здравие Государя» до потери сознания, вследствие чего несколько джигитов, к спиртному не привыкших, скончались на месте. Через пару дней примерно то же самое повторилось и в Мензелинске. Параллельно по краю разъехались воинские команды с заданием «брать коней сверх подати для острастки, ничуть не опасаясь».
Ну и не опасались. Идя по Казанской дороге веером, реквизировали все подряд, не глядя, кто тархан, а кто не тархан, недовольных вешая, а если вешать почему-то не хотелось, грабя до нитки (у некоего Дюмея Ишкеева, очень уважаемого старшины, позволившего себе как-то не так поморщиться, угнали весь скот, который смогли найти, в одночасье сделав богатейшего бия просто зажиточным человеком). Такие методы усмирения, естественно, пугали. Старшины, естественно, пытались искать выход из ситуации. Однако Сергеев, ко всему прочему, оказался еще и из тех, кому за державу обидно. Получив от старшин одной из волостей, с которой полагалось 200 лошадей, просьбу урезать норму вдвое плюс красивый «подарок» (две дюжины белоснежных «ханских» аргамаков), полковник приказал оформить «дар» как штраф за попытку подкупить «казенного человека», а по волости прогулялся лично, собрав еще 225 лошадей (200 в счет налога, 25 дополнительно за «соблазнение воинского начальника»). Сверх того, солдатикам было дозволено «за обиду их полковника набрать мехов, сколько захотят», однако себе лично командир опять-таки не взял ни единой шкурки.
Конь блед
В конце концов воинские команды согнали-таки табун в четыре тысячи голов. Больше, как и предупреждали старшины, просто не было. И лишь тогда полковник повернул на Уфу. Но, поскольку шли в спешке – лошадей нужно было сдавать срочно, а Сергеев привык исполнять инструкции в точности, – более тысячи были загнаны насмерть, в связи с чем было решено восполнить потери, прогулявшись на Ногайскую дорогу, уже успевшую (слухи о художествах полковника разлетелись быстро) сдать все, что требовалось. Тут, однако, вышла неувязка: большинство аборигенов, прослышав о предстоящем визите, бросили все и бежали за Яик – так что восполнить недобор не удалось. Зато в тылу, на Казанской дороге, начались беспорядки. Позже, уже на следствии, Александр Сергеев честно признал, что с тарханами вел себя чересчур круто. И в самом деле, первым, кто решился призвать разогретый добела народ к мятежу, оказался Дюмей Ишкеев. Тот самый разоренный старшина, слывший ранее «надежным и благонравным». По всему Закамью загорелись русские села, начались стычки, далеко не всегда заканчивавшиеся в пользу драгунских отрядов, а затем, после первых успехов Дюмея, некий Иман-батыр, тоже имевший зуб на Сергеева (ему не повезло быть среди «гостей» полковника в Уфе) последовал его примеру уже на Ногайской дороге.
Впрочем, события эти были пока еще локальны. Поскольку поддержать бунт большинство башкир, еще не пришедших в себя, опасалось, обоим протестующим, и Дюмею, и Иману, пришлось вооружить «припущенников», не особо того хотевших. Судя по всему, оба смельчака сознавали, что раскачать край будет сложно, и свой расчет строили на опыте предыдущих мятежей, исходя из того, что правительство, уразумев возможную перспективу и не желая доводить дело до крайности, пойдет на переговоры. Логика в таких рассуждениях была. Однако, на свою беду, насмерть обиженные и готовые добиваться своего тарханы не понимали, что мир изменился и теперь все будет совсем иначе…
Глава IX. Волкоголовые (4)
Москва слезам верит
Происходи все лет на двадцать раньше, местные власти, возможно, попытались бы скрыть от Москвы нюансы и решить вопрос своими силами. Но с Петром шутить такие шутки было себе дороже. Пришлось информировать, и новости царя не порадовали. Тем паче что война со шведами легче не становилась, и на окраинах все чаще звучали призывы «перевести бояр, подьячих и прибыльщиков», усугубленные агитацией староверов против Царя-Антихриста, своими нововведениями – табаком, бритьем, немецким платьем – «рушащего дотла веру христианскую». В июле 1705 года в Астрахани вообще начался стрелецкий бунт, причем разведка доносила, что мятежники намерены соединиться с приволжскими кочевниками и «йти Стенькиной дорогой, на верховые города», – то есть вверх по Волге. Неспокойно было и на Дону, где, правда, беспорядки пока что ограничивались грызней «разбойника (еще даже не вора) Кондрашки Булавина» с Изюмским полком, но слишком явно назревало нечто очень неприятное. Рисковать в такой ситуации утратой связи с Сибирью и уральскими заводами (что башкиры вполне могли устроить) было совсем не с руки. В связи с чем Петр, верный привычке не рубить сплеча, не разобравшись досконально, направив усмирять Астрахань фельдмаршала Бориса Шереметева, в честности которого не сомневался абсолютно, поручил ему заодно побывать в Казани и выяснить, что там стряслось.
Уже 18 декабря (бунт в крае тлел, не разгораясь) Борис Петрович прибыл в Казань и, не слушая объяснений местных чиновников, вызвал на встречу башкирского старшину Усея Бигинеева, недавно вернувшегося с фронта, где он служил под личным руководством фельдмаршала. Судя по всему, разговор был долгим и откровенным. О чем говорили, неведомо, но по итогам высокий гость, «крепко изругав» коменданта Кудрявцева, приказал выпустить на волю башкирских старшин, арестованных Сергеевым, объявил об отмене всех новых налогов, начале следствия над «злыми» прибыльщиками и «государевом изволении принять челобитную». В качестве жеста доброй воли уфимским воеводой был назначен недруг Кудрявцева и Сергеева дворянин Александр Аничков, которого башкиры знали и уважали. Все это, безусловно, произвело впечатление. Правда, приехать в Казань на переговоры, как призывал фельдмаршал, мятежные старшины все-таки не рискнули, но задумались всерьез, о чем и сообщили в Казань. После чего Шереметев, укрепив гарнизон на всякий случай четырьмя полками и «крепко указав» местному начальству работать с бунтовщиками мягко, уговорами и мелкими уступками, «ни за что не применяя огня», отбыл усмирять Астрахань, а старшины, от своих людей в Казани прознавшие об этих распоряжениях, собравшись на общий сход, приняли решение идти на мировую.
Напиши мне письмо
Требования, изложенные в челобитной, были просты: официально подтвердить, что знаменитый «Указ из 72 статей» – фальшивка, и наказать полковника Сергеева за «злое самовольство». На всякий случай разработали и версию, убедительно объясняющую причины возмущения: дескать, Сергеев, находясь при исполнении, приказывал всем называть его не Александром Саввичем, за что грозился повесить, но «царевичем», будучи всего-навсего «кабашниковым сыном», а «башкирцы и татары, прознав, что он назывался облыжкою, разбежались в свои деревни и сказали, что не царевич, и оттого-де от башкирцов и татар весь бунт зачался». Задумка была, что и говорить, неплоха: самозванство любого вида в те времена считалось серьезным государственным преступлением, очиститься от подозрений в котором считалось почти невозможным, а отказ подчиниться самозванцу, наоборот, мог быть зачтен как очень веское смягчающее обстоятельство. Однако казанское руководство, не чая для себя от следствия ничего доброго, тоже принимало меры.
В первую очередь, были отправлены письма «отцу и благодетелю» Александру Меншикову, единственному, чье слово могло перевесить слово Шереметева. Затем Никита Кудрявцев, своей властью и в нарушение приказа фельдмаршала, отменил назначение Аничкова, послав вместо него в Уфу своего ближнего человека Льва Аристова, одновременно запретив башкирам везти царю челобитную, а всем грамотеям Казани, под страхом смерти, писать ее. Тем не менее жалоба – при помощи Аничкова, расправиться с которым у коменданта были руки коротки, – была составлена, переведена, переписана, и депутация из восьми уважаемых старшин во главе с уже известным нам Дюмеем Ишкеевым отправилась в путь. Однако не прямо в Москву, а в Астрахань, поскольку весь левый берег Волги был перекрыт постами напуганного и озлобленного Кудрявцева. Добрались благополучно и были тепло встречены Борисом Петровичем, который, добавив к челобитной письмо царю с просьбой помочь башкирам, поскольку правда на их стороне, направил ходоков в Москву безопасной дорогой, для верности обеспечив их охраной.
В чужом пиру похмелье
Казалось, все идет как нельзя лучше. Посланцы без приключений добрались до столицы, были мило приняты в нескольких приказах, повидались с думными, у них приняли и челобитную, и письмо фельдмаршала, твердо обещав, что все будет передано адресату, однако с самим Петром, находившимся в тот момент в Смоленске, повидаться не вышло. Забегая вперед, отмечу: и челобитная, и письмо Бориса Петровича до Государя все же дошли. Он их прочитал и срочно вызвал к себе, в штаб действующей армии, обоих фигурантов, Кудрявцева и Сергеева, устроив им жестокий разнос и приказав немедленно отменить фальшивый «Указ», а прибыльщиков примерно наказать, «чтобы оные воры башкорцы довольны были». Вариантов не оставалось. Немедленно по возвращении в Казань комендант запросил старшин о встрече, а получив отказ, отважился поехать в Уфу сам. Но было уже поздно. Говорить с генералом башкиры не собирались. У переправы через Ик сильный отряд башкир перекрыл Кудрявцеву дорогу, передав ему, что на другом берегу его ждет смерть.
«Волкоголовые» уже не хотели мира, и причина на то была крайне веская: делегация Ишкеева так и не вернулась домой. Судьба несчастных сложилась по классической формуле «Жалует царь, да не жалует псарь» – они, прибыв в Москву, сами того не понимая, угодили в жернова разборок между группами поддержки «полудержавного властелина» и фельдмаршала, и «меншиковское лобби» оказалось сильнее. Пока челобитная добиралась до Смоленска, все восемь ходоков были арестованы, закованы в цепи и отправлены в Казань, где «заводчика и ослушника Димейку», как следует помучив, публично повесили перед Кремлем, а остальных, тоже помучив, закрыли в подвалах. Никакой вины правительства в случившемся не было, позже виновные были даже наказаны, но в тот момент вера башкир в справедливость властей рассыпалась в прах, и по всем четырем дорогам пошли разговоры о том, что «от русских людей нам, башкирам с татарами, жить обидно»
Практика большого взрыва
Все началось осенью 1707 года, и началось всерьез. Получив от кого-то сообщение, что уважаемый тархан Алдар-батыр Исекеев и другие старшины Ногайской дороги поддерживают контакты с Крымом, уфимский воевода Лев Аристов послал в конце ноября на юг отряд князя Ивана Уракова, приказав проверить, насколько информация соответствует реальности. А она, как оказалось, соответствовала с лихвой: в имении батыра аккурат праздновали прибытие почетных гостей-Чингизидов – муллы Султана-Хаджи с Кубани и каракалпакского «царевича» Мурата, по ходу торжества обсуждая вопрос об «выходе из-под руки белого царя». Русских, соответственно, приняли неприветливо, и в итоге имение сгорело дотла, однако заговорщики, прикрывшись охраной, сумели уйти, и очень скоро Алдар-батыр объявил «священную войну», двинувшись во главе ежедневно растущего воинства на Уфу. Полк Петра Хохлова, брошенный на перехват, 4 декабря попал в засаду у горы Юрак-тау и был разбит наголову, потеряв две трети личного состава (900 из 1300). В руки башкирам попали обоз, 5 пушек, боеприпасы и полковая казна, но главное, в ходе боя на сторону Алдара перешло вспомогательное ополчение «верных» башкир, возглавляемое Кусюмом Тюлекеевым, сыном Тюлекея, четвертью века ранее моджахедившего вместе с Сеитом и повешенного. По мнению ряда историков, он тоже участвовал в заговоре, но умело шифровался.
Разгром Хохлова, а вслед за ним и неудачи (хотя и не такие беспросветные) полков Ивана Рыдаря и Сидора Аристова, брата воеводы, взорвали край. Войско Алдара и Кусюма множилось, и не только за счет башкир: восстали все, у кого были хоть какие-то претензии к властям, а претензий хватало. В такой радостной обстановке Алдар и Кусюм приняли решение о восстановлении Казанского ханства, объявив ханом того самого «царевича» Мурата, немедленно отправившегося в Крым просить признания и помощи (до его возвращения «малым ханом» был назван Султан-Хаджи, «муж мудрый, блистающий ученостью»). Торжественное провозглашение ханства подбросило в огонь дополнительных дровишек. В начале декабря мятежники (общим числом уже свыше 40 тысяч сабель) вышли к Каме, осадили Мензелинск, штурмовали Билярск, взяли Заинск и десяток городков поменьше, после чего местным воеводам, до тех пор боявшихся сообщать царю, что происходит, стало ясно, что шутки кончились.
Полный пердимонокль
26 декабря в Москву примчался Кудрявцев, сделавший на следующий же день подробный доклад о «воровстве диких и кровожадных врагов христианского мира». В некоторых источниках упомянуто, что царь был крайне «гневен», справедливо считая генерала, по беспределу повесившего беднягу Дивея, главным виновником обострения, однако разбираться в нюансах у царя не было времени. Его крайне беспокоили царя данные разведки, из которых неопровержимо следовало, что «царевич» Мурат уже в Крыму, а «батыри Алдарко, Кусумко, Уразайко и всех дорог башкирцы (…) начали мыслить к воровству тому четвертой год, чтоб им всем под рукою и под волею великого государя не быть. И для того посылали к салтану турецкому и к хану крымскому (…), чтоб им дал кому ими владеть. И те их посыльщики привезли с Кубани Салтан-Хазю, что называетца ханом, и все ему куран целовали… и все башкирцы за святого его почитают и воздают ему честь…». Оставив оргвыводы на потом, царь 30–31 декабря царь провел экстренное совещание, повелев направить «для отпору башкирцов» дополнительно 5 полков, тысячи ружей, созвать дворянское ополчение, «охочую вольницу» и вызвать яицких казаков, поручив командование талантливому полководцу Петру Хованскому.
Кроме войск, однако, князь получил «особое повеление» сделать все, чтобы уладить конфликт мирно, поскольку сил на все фронты не хватает. Во исполнение чего, прибыв в Казань под конец января 1708 года, командующий первым делом сообщил повстанцам, что он «от великого государя милость привез», приказав немедленно отозвать из Уфимского уезда всех прибыльщиков. Ответа, однако, не последовало: дела у мятежников казались слишком хороши, чтобы мириться. Они наступали по всем фронтам, а в феврале 1708 года, прорвав Закамскую линию, подошли, наконец, и к вожделенной Казани, где в какой-то момент началась форменная паника. Войска Хованского были еще в пути, а сил гарнизона, даже усиленного полками, оставленными Шереметевым, хватало лишь на то, чтобы отгонять «дикие» ватаги бунтовщиков. Всем было ясно: начни Алдар и Кусюм штурм всеми наличными силами, города не удержать.
Давайте жить дружно
И здесь следует отдать должное Никите Кудрявцеву. Говно-человек, как администратор и военный в этой непростой ситуации он проявил себя наилучшим образом (хотя, если подумать, особого выбора у него и не было: царь всерьез подумывал о том, чтобы его повесить, а попади казанский комендант в руки башкир, дело, пожалуй, одной виселицей не ограничилось). Как бы там ни было, укрепляя город, генерал творил чудеса. Под ружье встали все, способные держать оружие. При этом, что нельзя не отметить, татарское «дворянство» отозвались на призыв охотно, заявив, что «клялись белому царю на коране и клятвы не сломаем», зато пресечь бегство горожан, и татар, и русских, уже загружавших телеги, удалось только после того, как – «ради надежной охраны от всякой опасности» – из слобод были согнаны в тюремные дворы их жены и дети. В итоге возникло несколько «охочих отрядов», и оборонять город до прихода государевой подмоги стало кому. Генеральный штурм теперь был невозможен, а к началу последней декады февраля, дождавшись подхода основных частей, вступил в дело и Хованский. Умело оперируя 15 полками (около 9 тысяч солдат, драгун и казаков), он двинулся против главных сил мятежников, понемногу заставляя их отходить в Уфимский уезд. По его следам двигались и «охочие отряды», щедро вознаграждая себя захватом пленных на продажу в мятежных селах (к слову сказать, еще одна разумная идея Никиты Кудрявцева, правильно рассчитавшего, что бунтовщики, прослышав о судьбе семей, покинут мятежников и кинутся спасать близких – что и произошло). Полки же Хованского, не быстро, но неуклонно, ломая сопротивление, дойдя до западного берега Камы, с переправой на «договорные» земли спешить не стали. Мелкие стычки не прекращались, но теперь башкирские командиры уже были согласны говорить.
А говорить было о чем. С одной стороны, успокоить край поскорее требовал царь: на Дону уже вовсю гулял Булавин, открыто похвалявшийся, что «он божиею помощью состоит в союзе с башкирцами», и проверять, так ли это, душа не лежала. С другой стороны, скверные вести получили и вожди мятежа. Как раз в это время вернулись несколько нукеров Мурата, сообщив, что в Бахчисарае и даже в Стамбуле «царевича» приняли с почестями, но помочь войском или хотя бы признать «башкирским ханом» не пожелали. Все, что удалось, – доносили очевидцы, – это собрать полторы тысячи кубанских татар, но попытка открыть второй фронт под Терским городком провалилась и бой с астраханскими стрельцами проигран, так что теперь «Мурат-хан» в плену и живым его едва ли кто-то увидит. Особо печально для Алдара и Кусюма было то, что в одну из ночей исчез и «малый хан»: не желая рисковать, ученый Султан-Ходжа по-тихому покинул ставку и ускакал на родимую Кубань.
В мире, в мире… Навсегда?
При таком раскладе не договориться умным людям было просто невозможно, а люди с обеих сторон были умные. Тем паче башкиры многого и не требовали: их устраивали условия, согласованные в свое время с Шереметевым, плюс наказание казанских властей и прибыльщиков за произвол. Хованский признал претензии башкирских вождей приемлемыми и справедливыми, правительство утвердило его решение, понизив в должности Кудрявцева, а против Сергеева, Жихарева и Дохова возбудив уголовные дела. «Пущим же заводчиком всей смуте» (то есть основным козлом отпущения) оказался несчастный каракалпак Мурат, доставленный в Казань и торжественно подвешенный перед Кремлем за ребро. На том, в общем, и поладили. Правда, искры носились в воздухе еще года два, грозя новым пожаром. В 1709-м и 1710-м башкиры опять бунтовали, протестуя против попыток все того же Кудрявцева, хоть уже и всего лишь вице-губернатора, саботировать пакт «Хованский – Алдар и Кусюм». Но вспышки эти были локальными, в сравнении с прошлыми незначительными, и новому казанскому боссу, Петру Апраксину, удалось убедить недовольных действовать по закону, самых же упорных уговорили не выпендриваться всадники хан-тайши Аюки, уже постаревшего, помудревшего и теперь служившего «белому царю» верой и правдой. Последняя попытка возобновить «священную войну», предпринятая с помощью каракалпаков, захлебнулась летом 1711 год под Уфой – не в последнюю очередь потому, что Петр сдержал обещания. Ни один из лидеров мятежа, вплоть до (объективно) предателя Кусюма, не подвергся преследованиям, Кудрявцев, в конце концов, получил полную отставку без пенсиона, а процесс по делу «обидчиков», хотя и затянулся надолго, завершился в 1721-м самым лестным для башкир образом: прибыльщики Дохов с Жихаревым и каратель Сергеев были признаны виновными, осуждены и пошли на эшафот. Желать большего никто и не смел, и в 1725-м, вернувшись из казахских степей, на верность России присягнули самые непримиримые.
На том все и завершилось.
Ко всеобщему удовлетворению, но, увы, опять ненадолго…
Глава X. Волкоголовые (5)
Время-Не-Ждет
Констатируем факт: байки о «жестокой и беспощадной российской экспансии» и «угнетении Москвой коренных народов» и есть байки. Все без исключения бунты башкир были вызваны исключительно злоупотреблениями на местах, и во всех без исключения случаях вмешательство Москвы восстанавливало порядок силой не столько оружия, сколько закона, даже тогда, когда нарушение закона пошло бы на пользу власти. Лучшее свидетельство – результат бунта 1705–1711 годов. Петр был жесток, Петр ставил державный интерес превыше всего, Петр не прощал мятежников, тем паче если их действия играли на руку врагу, – и все-таки требования башкир были удовлетворены, как законные, и никаких репрессий не последовало. А тем, кто скажет, что Петру было важно любой ценой закрыть проблему, в связи с чем он и пошел на уступки, отвечу: будь так, император, умевший помнить и добро, и зло, расплатился бы с бунтовщиками сполна, когда война со шведами завершилась победой. Однако случилось совсем иначе: в 1721-м на виселицу пошли не Алдар и не Кусюм, а зарвавшиеся прибыльщики и даже полковник Сергеев, всего лишь позволивший себе, исполняя цареву волю, слишком зарваться. А это говорит само за себя, и спорить не получится. И тем не менее…
Тем не менее жизнь не стоит на месте. Право правом, но России были необходимы заводы. А значит, и залежные уральские земли, о богатствах которых ходили легенды. Россия выходила в Великую Степь. А значит, не могла обойтись без строительства новых форпостов, обеспечивающих покой новых вассалов и караванных путей. И всему этому мешали башкиры, согласные жить только по жалованным грамотам Грозного, и никак иначе. Собственно говоря, в новых условиях башкиры со своими вольностями были анахронизмом, что понимали все, кто хоть как-то занимался проблемой, от управленцев и военных до геологов и геодезистов. Скажем, Артемий Волынский, один из умнейших людей своего времени, в бытность свою казанским губернатором (1730-й) составил специальную аналитическую записку, полностью посвященную башкирскому вопросу, указывая, что вопрос этот рано или поздно придется решать, поскольку «наш век иной, нежели век минувший, и по-старому жить никак не выйдет, хоть лоб разбей. Потому уповаю я неправильным, что не совершенно известно о состоянии башкирского народа, который мы внутри государства, почитая себе подданными, имеем, а имеем ли, то Бог весть». Вскоре на стол императрице лег и доклад Ивана Кирилова. Обер-секретарь Сената указывал, что в связи с появлением в Степи нового, неизвестного и очень воинственного народа (джунгар) и просьбой Абулхаира, хана Младшего казахского жуза, о приеме его в подданство, остро необходимо поставить в устье реки Орь «сильную крепость с торгом», следствием чего, по его мнению, в будущем могло бы стать покорение ханств Средней Азии. Эту идею поддержали решительно все советники, с мнением которых императрица считалась, и в конечном итоге Анна Ивановна, все обдумав, изволила 1 мая 1734 года начертать «Город при устье реки Орь строить и дать ему имя впредь Оренбург». Также указывалось определить места и для других «должных крепостей, равно и заводов». Мгновенно выделили средства, а для исполнения монаршего повеления создали особую Оренбургскую экспедицию во главе с (назвался груздем, полезай в кузов) Иваном Кириловым, в помощь которому был придан князь Алексей Тевкелев, лучший специалист Империи по восточному вопросу.
Чужие здесь не ходят
О делах столичных башкиры, разумеется, в подробностях знать не могли. Но ситуацию чувствовали и старались по мере сил отслеживать, как на уровне слухов, так и скупая новости у мелких уфимских чиновников. О задачах же Оренбургской экспедиции им и вовсе стало известно почти что из первых рук: один из толмачей Кирилова, мулла Токчура Алмяков отправил гонца к своему другу Кильмяк-Абыза Арушеву, влиятельному бию Ногайской дороги, изрядно обиженному на русских (незадолго до того под строительство Чебаркуля незаконно разрушили его родовое селение). В конце 1734 года близ Уфы состоялся съезд тарханов на предмет, что делать. Мнения разделились примерно поровну, в зависимости от того, кого вопрос (по месту жительства) тревожил больше, а кого меньше, в связи с чем было решено подумать еще какое-то время (благо оно пока еще было), и на следующий курултай в апреле 1735 года съехались уже только те, кто твердо решил «всеми силами противиться и город Оренбург строить не давать». В связи с единством взглядов обсуждать было нечего, и двум почтенным людям было поручено сообщить Кирилову мнение съезда. Так что, 15 июня в ставку Кирилова, уже покинувшего Уфу, прибыли гости. Разговор был краток: Ивана Кирилловича уведомили, что если правительство не откажется от планов постройки Оренбурга, пусть пеняет на себя.
Согласно наставлению съезда, ходоки вели себя жестко, однако коса нашла на камень. Усмотрев в их поведение «ущемление чести Государыни», Кирилов приказал заковать гостей и допросить с пристрастием, в результате чего один из них умер от разрыва сердца, экспедиция же, как и предполагалось, двинулась на Орь, – и очень скоро выяснилось, что послы не блефовали. Уже 1 июля большой – не менее 3 тысяч сабель – отряд бунтовщиков сел на хвост Вологодскому полку, охранявшему отставший от основных сил обоз. Правда, нападавшие были, в конце концов, отогнаны, но в ходе длившихся почти неделю стычек погибло около 60 человек, в том числе и комполка Чириков. И это был только первый звонок. Экспедиция еще шла, а край уже полыхал, причем не стихийно, а по плану, принятому на курултае: уже в середине июля «воровские орды» во главе с Акаем Кусюмовым (сыном известного нам Кусюма и внука не менее известного нам Тюлекея) атаковали крепости Старой и Новой Закамской линий, а затем, вырвавшись на оперативный простор, осадили Мензелинск, Заинск и многие другие города левобережья Камы. Штурмы, правда, успехом не увенчались, но русские села, лежавшие на пути башкирских отрядов, были уничтожены. При этом вели себя башкиры с ранее не присущей им жестокостью, вырубая мирное население без оглядки на пол и возраст. Это нравилось далеко не всем: некий Карагай-батыр, дядя влиятельный, даже угрожал вождям мятежа «перебросить саблю в другую руку», если те станут «обиду делать мирным русским», и это возымело эффект. Убийств стало меньше. Но все коммуникации были оборваны, а в августе бунтовщики разгромили крупный, хорошо охраняемый обоз, поставив строителей Оренбурга на грань голода.
Лаской или таской
В столице, где Оренбургская экспедиция считалась государственным проектом первостепенной важности, на известие о мятеже отреагировали мгновенно. Уже 13 августа была сформирована Комиссия башкирского дела, военно-политическим руководителем которой стал генерал-лейтенант Румянцев, получивший инструкцию, «употребляя в начале всякие пристойные, добрые способы и уговариванья… а ежели оные добрые способы для скорейшего усмирения их не преуспеют, то в таком случае употребить оружие, и против тех возмутителей неприятельски действовать…». В сущности, предлагалось действовать старыми, хорошо апробированными методами, не раз оправдывавшими себя в прошлом: не допуская разрастания мятежа, «замирить» башкир путем уступок, – и Александру Ивановичу такая методика была по душе. А вот Кирилову, в отличие от многих, понимавшему смысл происходящего, – нет. Уже 16 августа он направил в Сенат письмо, убедительно разъяснявшее, что компромисс невозможен, поскольку «мирный путь» означает отказ от строительства Оренбургской линии со всеми проистекающими из этого последствиями, а коль скоро так, то усмирять бунт необходимо раз и навсегда. Для чего, по его мнению, следовало, опираясь на «верных» башкир и всячески привлекая к сотрудничеству «припущенников», строить вдобавок к Оренбургу дополнительные крепости, ибо «никак не возможно одною Уфою, сколько б она многолюдна ни была, такую великую обширность обнять», и максимально увеличить гарнизоны. А главное, «наистрожайше пресекать» любое сопротивление, «учреждая без пощады розыски и виновным казни».
Точка зрения Кирилова была, по российским понятиям, слишком непривычна, а главное, шокирующее откровенна, и Анна Иоанновна сочла за благо для начала действовать по старинке. Тем паче что шла война с Турцией, и с мусульманским бунтом в сердце Империи, к которому, как полагали (и правильно полагали) в Тайной канцелярии, приложили руку спецслужбы Порты, следовало кончать как можно быстрее. Такой подход был по душе и Румянцеву, в кратчайшее время разославшему по всем дорогам призыв прекратить «замешания» и прибыть в Мензелинск с повинной. В воззваниях особо отмечалось, что обсуждению не подлежит только вопрос о строительстве Оренбурга, а все прочие претензии будут рассмотрены, учтены и решены по справедливости. Если же такие условия не подходят, то кто не спрятался, я, генерал-лейтенант Румянцев, не виноват. Призыву вняли многие, в первую очередь, из взявшихся за оружие из чистого принципа: немало влиятельных старшин (кстати, и Акай Кусюмов), явившись с повинной в Мензелинск, получили полное прощение и разъехались по юртам. Правда, Кильмяк-абыз и другие бии Ногайской дороги, интересы которых строительство Оренбурга затрагивало впрямую, внять увещеваниям не пожелали, но бунт на Казанской дороге осенью почти угас, а эпицентр событий сместился на юг и восток.
Новое мышление
Примерно в это время, с подачи идеологов типа муллы Бепени Торопбердина, полагавшего ненормальной ситуацию, когда мусульмане подчиняются «неверным», зазвучали призывы к джихаду. Теперь бунтовщики расправлялись уже и с «верными» башкирами, не примкнувшими к ним изначально или сложившими оружие, определяя их – чего ранее не бывало – как «мунафиков» (отступников), а «припущенников» (мишарей, тептярей и бобылей) силой вынуждали браться за оружие, в ответ на что зависимые люди сотнями бежали к русским, вступая в формируемые теми иррегулярные полки. Короче говоря, вовсю торжествовал принцип «Кто не с нами, тот против нас», и в такой обстановке инструкции, данные правительством Румянцеву, утратили всякий смысл, поскольку всех, кого можно было уговорить по-хорошему, уже уговорили. На какой-то момент глава Башкирской комиссии растерялся, засыпая Петербург просьбами о дополнительных указаниях. Зато Иван Кирилов, крайне довольный тем, что жизнь подтверждает его правоту, никаких сомнений не испытывал, отвечая на жестокость бунтовщиков жестокостью не меньшей, а куда большей, благо его помощник Алексей Тевкелев знал в таких вещах толк и комплексов не испытывал. К слову сказать, интересная фигура. По сей день так и не выяснено, был ли Кутлу-Мухамет Маметулы крещен, но сам он предпочитал называться исключительно Алексеем Ивановичем, был замечен Петром, служил при нем личным «толмачом по секретным делам» (то есть в разведке), великолепно зарекомендовал себя в Персии. Еще лучше – в переговорах со степным ханом Абулхаиром, фактически единолично добившись присоединения Малого жуза к России, за что в 1734-м получил чин полковника.
Короче говоря, полиглот, умница, умелый администратор и тонкий дипломат. Даже больше. Петр Рычков в «Истории Оренбургской» указывает, что «киргиз-кайсаки, башкирцы и прочие народы за силу и убедительность его речей почитали его человеком сверхъестественным и едва ли даже человеком». Так вот, полковник Тевкелев не просто полностью поддерживал Кирилова, но настаивал на большем. «Как сам природный азиатец и с азиатцами дружный, – писал он, – свидетельствовать могу, что оные азиатцы милость и ласку принимают как слабость, а слабости не любят, если же быть суровым, такое только обращение им и в науку, и по нраву». Так и действовали. Лучший пример: вошедшая в сказания деревня Сеянтус, все население которой (около тысячи душ) было, согласно тому же Рычкову, «за одну ночь перестреляно и штыками переколото, а иные забраны в один амбар и тут огнем сожжены». Инцидент прогремел столь скандально, что Румянцев подумывал даже, не отдать ли Тевкелева под суд, однако полковник дал исчерпывающие объяснения своему «зверскому деянию». Согласно его рапорту, узнав о «скоплении близ многой воровской силы, числом тысяч в пять» и располагая всего лишь двумя тысячами штыков и сабель, из которых «к делу вполне были готовы драгуны, тептярские же и мишаркие люди, хоть и храбры, выстоять едва ли б смогли», военным советом было решено «к оному воровскому многолюдному собранию за показанными обстоятельствами не пойти, а пойти для искоренения и выискивания воров» в одну из мятежных деревень, встретив же там сопротивление (жители попытались атаковать спящих солдат), сделал то, что сделал, поскольку «хотя то и зверство, но и нравы тут зверские, а услыхав про такое, бунтующие согласники могут приттить в страх и разделение, ибо принуждены будут своих жен и детей охранять». Далее Алексей Иванович выражал готовность «пострадать», однако командующий, учитывая, что тактика полковника себя оправдала («многая воровская сила» после резни в Сеянтусе таки разбежалась по домам, так в войну и не вступив), дело постановил закрыть.
Новый курс
Как бы то ни было, невозможность решить вопрос по старинке, не отказываясь от строительства Оренбурга и заводов, в столице поняли, придя, кроме того, к мнению, что «священная война» окончательно подтверждает соучастие в случившемся вражеской (крымской и турецкой) агентуры, что, в принципе, было не столь уж далеко от истины. В связи с чем действия Тевкелева были признаны «здравыми», а точка зрения Ивана Кирилова, полгода назад сочтенная чересчур радикальной, становится востребованной. В феврале 1736 года Анна Иоанновна подписала два Указа на основе его проектов, юридически закрепив новации. Для защиты «всякого мирного люда» (православных и «верных магометан») предписывалось «где возможно, селения укрепить палисадником или окопать рвами, а для обороны, ежели надежные люди, определить ружья». То есть создавали своего рода «милицию», в то же время запрещая башкирам «владеть оружием и ковать оное, для чего кузницам их разорение учинить». Для природных воинов и охотников такой запрет означал коренной перелом жизненных устоев. Но еще убойнее оказались статьи Указов, фактически отменявшие жалованные грамоты Грозного. В частности, отменялся действовавший около века запрет на продажу и долгосрочную аренду вотчинных угодий. Отныне покупать и закреплять за собой эту землю разрешалось всем, кто того пожелает. Еще сильнее по «старым правам» били «милости», вводимые Указами для «припущенников». Служилым мишарам предоставлялось право «от башкирцев быть вполне отделенными, и за их верность и службу… земли и угодья, которыми они по найму у башкирцев владели, те дать им вечно, безоброчно», а тептяри и бобыли «за претерпенное их разорение от воров-башкирцев» освобождались от зависимости и объявлялись «своих земель полными хозяевами».
О том, что с момента обнародования Указов за участие в мятежах, в какой бы форме оно ни выражалось, полагались жестокие наказания, говорить излишне. А чтобы сомнений не возникало, местному начальству было четко указано, что «бунтовщиков всякими мерами искоренять и жилища их разорять, а пойманных воров с подвориками… на страх другим, по своей воле на месте казнить смертию…» отныне не их право, а их долг и обязанность. Что и стали претворять в жизнь – Кирилов, похоже, с удовольствием, а Румянцев с чувством облегчения от того, что стало, наконец, ясно, что делать. А поминание «подвориков» и вовсе развязывало руки. Называя вещи своими именами, это был террор. Но террор обоюдный. Бунтовщики, терпя поражения, вымещали досаду на мирном населении, причем в масштабах, заслуживших отдельного рапорта в столицу («…воры многих доброжелательных башкир побили, домы их без остатку разорили»), «доброжелательные башкиры» и (особенно) «припущенники» из разоренных деревень отвечали им «оком за око». На этом фоне поведение регулярных войск выглядело очень даже прилично.
А нас-то за что?
Как и предполагалось, «метод Тевкелева» плюс (на основе тех же Указов) массовые казни в Мензелинске довольно быстро возымели должный эффект. Войск в крае скопилось много, счет «двухсотых» шел на тысячи (говорят, зашкалило за пять), и мятежники, осознав, что имеет место система, а не эксцессы исполнителя, впали в ступор. Сами они позволяли себе многое, но оправдывали себя «священной войной», а вот реакция русских их поразила. Живя бок о бок уже почти два века, они не предполагали, что те способны действовать таким образом. Раньше, даже при Петре, гибли едва ли сотни, ни о каких массовых репрессиях речи не было, под честное слово отпускали даже пленных, взятых на поле боя, а вешали по итогам десяток-другой «пущих заводчиков», крымских агитаторов и отморозков, запятнавших себя кровью мирного населения. Теперь же шанс уцелеть был только у сложивших оружие. И то далеко не у всех: право на жизнь нужно было еще доказать. Понять, что случилось, вожаки бунта не могли. «Кажется мне, – писал Бепене его коллега-мулла Юлай, один из лидеров мятежа на Осинской дороге, – Аллах подменил русских или лишил их разума. Они ведут себя не как русские, и это внушает страх». Судя по всему, он был прав: после кровавой весны 1736 года активность бунтовщиков пошла на убыль, и к осени на четырех дорогах наступил затишье. Десятки старшин из числа «упорных» (вроде Кильмяк-Абыза), распустив отряды, поехали присягать, «непримиримые» типа Бепени куда-то сгинули, а Тевкелев, отложив саблю, занялся основанием Орска и Челябинска. После чего многие решили, что все кончено.
А между тем это самое все только начиналось…
Глава XI. Волкоголовые (6)
Всего лишь одна смерть
Виновником следующей, не очень ожиданной вспышки мятежа многие исследователи считают Ивана Кирилова, который, по их мнению, решив, что дело сделано, перебрал по части репрессий. В какой-то степени это верно. В отличие от предшественников, Иван Кириллович не довольствовался принесением сложившими оружие мятежниками коллективной повинной, через старшин, как было заведено, а потребовал, чтобы каждый «вор» покаялся лично, отдав в качестве штрафа за участие в «мерзостном деле» лошадь. Это напрягло еле-еле притихший край, и не без оснований. Во-первых, «самоличные» повинные откладывали признание кланов и племен «мирными», а следовательно, они по-прежнему считались бунтовщиками и подлежали как минимум реквизициям. Во-вторых, по правилам, признаваемым русскими властями, две лошади на семью считались ее неотъемлемыми достоянием, конфискации не подлежащим. Платить за «младших», не имевших третьей лошади, согласно обычаю, пришлось бы старшинам, поскольку же в ходе событий башкиры изрядно обезлошадели, выходило так, что «старшим» пришлось бы отдать всех своих лошадей, оставшись нищими. Столкнувшись с такой перспективой, старшины Сибирской и Ногайской дорог, собравшись «человек со 100 и больши и советовали, что такого штрафа не давать, а лутче власти российской отложитца и русских людей разорять». Однако Кирилов, сам понимая, что перебрал, почти сразу отменил распоряжения о взимании штрафных лошадей и «самоличной присяге» как ошибочные, оставив их в силе лишь в отношении тех, кто все еще не собирался сдаваться, так что упреки в его адрес по этому поводу все же вряд ли можно считать справедливыми. Виноват он, скорее, в том, что в середине апреля 1737 года умер от чахотки, что было тотчас расценено скрывающимся в лесах Бепеней и прочими как «знамение Аллаха» и сигнал к новой «священной войне», на что многие башкиры, имеющие основания мстить, клюнули. Жуткого Кирилова они боялись, а назначенный ему на смену Василий Татищев был незнаком и потому страха не внушал. Позже «волкоголовые» поймут, как трагически ошиблись, – в отличие от Ивана Кирилловича, башкир, похоже, просто ненавидевшего, Василий Никитич никаких предубеждений не имел, но характером был не менее крут. Однако, чтобы понять это, нужно было время. А ждать не хотелось. Хотелось действовать.
Сразу по получении известия о смерти «Кара-Кирилы» на Сибирской, Осинской, а затем и Ногайской дорогах начались серьезные беспорядки. Невесть откуда возник Бепеня, объявивший об уходе башкир «из-под руки белого царя» и начавший рассылать по краю «указы», якобы присланные крымским ханом и султаном Порты, якобы обещавшими башкирам прислать на подмогу сто тысяч всадников, – и в это верили. В конце апреля крупные отряды бунтовщиков атаковали только-только заложенные крепости, сумев некоторые, где стены еще не были возведены, захватить и сжечь, а в мае «сущая орда» батыра Кусяпы, мстившего за двух погибших братьев, напала даже на лагерь генерала Соймонова, главкома войск Башкирской комиссии, нанеся серьезные потери в живой силе. Впрочем, как только эффект внезапности рассеялся, стало ясно, что на серьезные дела «непримиримые» не способны, а «малая война» хотя и досаждала властям, но не приносила желаемых результатов. Набеги на небольшие русские поселки, грабежи и убийства ничего не меняли, зато желание властей примерно наказать «воров башкирцев» и навсегда покончить с беспорядками росло. Дошло до того, что русские начали казнить пленных теми же методами, какими казнили пленных бунтовщики.
Дальше всех в этом смысле зашел все тот же полковник Тевкелев, стремившийся восстановить утраченное после смерти Кирилова положение «серого кардинала». Подав новому начальству обстоятельный доклад о недавнем нашествии джунгар на казахов и организации ими голода, лишившего казахов возможности сопротивляться, Алексей Иванович предлагал «переять тот зюнгорский обычай», поскольку «гладом можно наивяще их привесть в ослабление и покорность». Исключение делалось только для тех, «кои, принеся повинную, ведомо по домам сидят», но не более 3 пудов на семью, «ради того, штобы с ворами не делились». Впрочем, это предложение было оценено Татищевым как «вовсе богопротивное», и Сенат, куда он его все-таки переслал, с мнением Василия Никитича согласился.
Мы мирные люди
Как бы то ни было, шансов у мятежников не было. Никаких. Прекратить «безобразие» их уговаривали даже те, кого при всем желании нельзя было записать ни в «мунафики», ни в изменники. «Ежели вы все не придете с повинною, – писал Бепене сам Кильмяк-Абыз, «пущий заводчик» прошлогоднего бунта, – то все вы з женами и з детьми погибнете, и всем людям много беды зделаете». Примерно то же самое писали тому же Бепене, влияние которого на «воров» признавали все, и его старый друг Юсуп Арыков, еще один «пущий заводчик», и мулла Юлай, как и Бепеня, считавший, что башкирам нужно «с под руки царя неверного пойти под руку царя правоверного». В сущности, довольно скоро поняли это и сами вожаки «непримиримых», тем более что ни один гонец, посланный на юг, в Крым и к ногаям, так и не вернулся. В июне 1738 года ими было отправлено русским властям письмо, где говорилось, что если «с них лошадей в штраф править и городов на их земле строить не будут, то хотят притти в подданство Е. И. В-ву. А ежели-де штраф будут править и городы на их земле строить, то хотят все быть в противности и бунтовать до последнего человека». Иными словами, требования выставляли, как после победы, а это исключало возможность компромиссов: вопрос о строительстве городов и крепостей, естественно, не подлежал обсуждению, снять же это условие «непримиримые» еще считали невозможным.
Помощи искали везде. Некий Елдаш-мулла, фанатик борьбы до конца, предложил даже написать джунгарам, но тут его не поддержал никто: далеких хан-тайши боялись страшно. Неудачно получилось с казахами: бий Уразай, съездив в Степь, привез оттуда «царевича» Шигая, решившего ехать по своей воле, без согласия родни, и объявленного «башкирским ханом». Но степные султаны слишком ценили союз с Россией, чтобы вписываться в сомнительные игры не слишком любимых соседей, а к тому же были далеко не столь фанатичны в исламе, как Бепеня и другие «дикие муллы». Так что, кроме двух-трех десятков «ханских» нукеров, ни из Младшего, ни из Среднего жузов не пришло ни одного воина. Зато старшины, чьи земли примыкали к казахским пастбищам, весьма недовольные такой инициативой, начали покидать Бепеню. А кольцо, умело замкнутое вокруг зараженных мятежом волостей Татищевым и Соймоновым, тем временем сжималось. В конце августа был пойман и по приказу Василия Никитича немедленно повешен Кусяп, после чего «перебег» старшин стал обвальным. Каяться приходили и поодиночке, и группами. Одна из таких групп, в подтверждение искренности раскаяния, привезла связанного Бепеню, которого Татищев тотчас отослал к Соймонову вместе с «пунктами, в чем спрашивать», чтобы «из него подлинного основания допытался», распорядившись сразу после допроса «вора» колесовать, что Леонтий Яковлевич и выполнил в присутствии зрителей. Все остальным (3194 человека) даровали пощаду, но 87 старшинам – условную: их отпустили, но присягу брать не стали, велев, «когда дойдет нужное время», собраться в Оренбурге, где судьба каждого и определится.
Год великого перелома
С подавлением мятежа на повестку дня встал вопрос обустройства края применительно к новым условиям. Если Кирилов полагал и настаивал, что «сей озорной народец пользы ради не худо было бы извести вовсе», то Татищев, подобным экстремизмом не страдая, старался найти менее радикальное и более полезное для державы решение. Прежде всего, касаясь необходимости предотвращения бунтов, он проанализировал «метод Тевкелева» и отметил, что, хотя сам не склонен к излишней жестокости, в некоторых случаях, тем не менее, только она способна дать желаемый результат: «Всегда твердо представлял, чтоб, внутрь гор вступя и от Яика, силою к покорности принуждать, а пришедших с повинною не казнить… Как то учинили, то и желаемое приобрели». В рамках окончательного решения Василием Никитичем было признано, во-первых, необходимым проверить списки раскаявшихся старшин, всех, не внушающих доверия, «по причине бывшаго бунту звания отрешить, а несколько достойных пожаловать и новыми привилегии или дипломы наградить», а во-вторых, не рубить сплеча, жалуя раскаявшимся прощение. Здесь, правда, возникли сложности. В отличие от пойманных Кусяпа и Бепени, явившиеся с повинной казни не подлежали, однако щадить всех подряд Татищев считал недопустимым. 9 декабря 1738 года, извещая царицу о намерении летом собрать в Оренбург старшин для объявления «совершенного просчения», он просил дать добро на казнь («противу закона») троих: «первой Алландзиангул, которой верхъяицкой гарнизон взял и, противо многих башкирцов ему пресчения, весь оной побил, другой Уразай, которой, получа немалое жалованье, обнадеживая успокоить, сам к кайсакам для призыву себе хана ездил и привозил, третей Елдяш мулла, которой с Бепенею лживые указы составлял и народ возмусчал». Разрешение на публичную экзекуцию было получено, а в январе 1739 года глава Оренбургской комиссии прибыл в Петербург с подробным докладом.
По его мнению в крае все обстояло благополучно. То есть, конечно, не совсем благополучно, ибо «две опаснейшия – Казанская и Ногайская дороги так разорены, что едва половина осталась, а протчия – Уфимская и Сибирская дороги – хотя не столько людей пропало, однако ж у всех лошади и скот пропали, деревни позжены, и, не имея пропитания, многие з голоду померли», но в смысле политики все уладилось: башкиры «крепости строить по Яику и до Сибири не мешают, и о том от них уже ныне никакого спора нет и не говорят», согласились отдать часть «вотчинных» земель мишарям и чувашам, участвовавшим в подавлении бунта, сдают (кто должен) штрафных лошадей и готовы к проведение общей переписи, и следовательно, «ныне видим совершенно, что им, башкирцам, оное воровство довольно не удалось, и они, вконец разоряся, довольно о том сожалеют». В подтверждение своих слов, Василий Никитич ссылался на то, что «Бепеню сами, поймав, отдали, Кусяпа как я при многих знатных и ближних его казнил, то не токмо никто не просил, но тайно и ради тому были, чтоб те воры за их пагубу сами заплатили; Юсуп, которой был от меня послан уговаривать, не хотел вернуться, но по указу моему немедленно сами родственники его привезли. И как его велел отдать под караул, ни един не просил об отпуске его, токмо просили, чтоб я у В. И. В-ва живот ему испросил».
Помимо доклада, Анне Ивановне был предложен проект переписи, провести которую мечтал еще Кирилов, но куда лучше проработанный, с указанием методик всестороннего учета ресурсов и людей, а также еще более важные документы, которые, будь они приняты к сведению, действительно, могли бы решить «башкирский вопрос» наилучшим для Империи образом. К сожалению, отношения Василия Никитича с Бироном были довольно худы, и когда из-под Оренбурга дошли вести о новой вспышке мятежа, у Татищева начались серьезные неприятности, а бумаги ушли в архив, откуда вынырнули очень не скоро, – о чем мы обязательно поговорим, но позже.
Азия нам поможет
По большому счету, докладывая императрице, что в «договорных» землях все спокойно, Татищев не кривил душой. Судьба Бепени и «новый курс» Тевкелева охладили пылкость старшин и воевать уже мало кому хотелось. Наверное, вообще никому. Но человек предполагает, а Бог располагает. Отсрочка присяги изрядно нервировала тех, кто, натворив дел, имел основания опасаться за свою судьбу. В частности, и того самого Алланзиангула, о разрешении казнить которого «противу закона» просил у царицы Василий Никитич. Ничего конкретного старшина знать, конечно, не мог, но интуиция – великое дело, а ждать, судя по всему, было свыше сил. К тому же под боком, в казахских степях, началась какая-то заварушка, и несколько тамошних султанов прислали послов, прося башкир о поддержке и обещая ответить взаимностью. Так что ситуация перестала казаться вовсе безнадежной, и в самом конце 1739 года, созвав доверенных людей на семейный праздник, Алланзиангул вывел на публику богато одетого человека с окладистой черной бородой, представив его как Султан-Гирея, родного брата крымского хана, пусть и с запозданием, но откликнувшегося на зов покойного Бепени. Откуда взялось сие чудо, в точности неведомо и поныне – большинство уже тогда считало его одним из пастухов Алланзиангула по имени Миндигул Юлаев, но есть и версия о безымянном бродяге, пойманном на конокрадстве и под страхом смерти вынужденном согласиться на роль «царевича», – однако в любом случае спектакль был разыгран красиво. Сообщение о том, что казахи уже собрали несколько туменов, а пресловутые «сто тысяч всадников из Крыма» явятся не позже марта, изрядно возбудило собравшихся, встревоженных к тому же приездом в край переписчиков (Соймонов решил начинать, не дожидаясь возвращения Татищева, а кадры, посланные им «в башкиры», тактом не отличались) и опасающихся введения подушной подати. В общем, разъезжались гости уже в готовности еще раз повоевать.
Правда, былого размаха не вышло. Подавляющее большинство старшин – даже Елдаш-мулла, еще один из «особого списка» Татищева, – получив призыв из ставки «хана», предпочли отмолчаться. Более того, известить власти о том, что к «ворам» они ни ногой, напротив, готовы прислать всадников на подавление. Так что в конечном итоге новый мятеж оказался миниатюрным, охватив лишь несколько волостей Сибирской и Ногайской дорог, граничащих со Степью, откуда, как ожидалось и обещалось, вот-вот подойдут несметные казахские и крымские орды. Не впечатляло и количество «храбрецов, удальцов» – на самом пике, видимо, не более полутора тысяч сабель, при том что только регулярных войск в крае насчитывалось не менее 18 тысяч. И наконец – судьба-злодейка! – ранней весной 1740 года был изловлен Алланзиангул, автор сценария и главный режиссер постановки, возможно, имевший какой-то план действий. После чего единственным лидером мятежа оказался «крымский царевич», ни в политике, ни в военном деле мышей, как выяснилось, не ловивший, зато, оказавшись без узды, крайне себя зауважавший и решивший, наконец, пожить по-людски. Объявив, что поссорился с братом, поэтому решил «пойти под руку священной Бухары», откуда вот-вот явится «войско с пушками», он приказал собрать как можно больше скота и – главное – полона. После чего бунт свелся в основном к налетам на русские, татарские и «непокорные» башкирские села на предмет «девок светлых», которых, сбив в партии по 20–30 голов, гнали за Яик, как бы в дар «батьке нашему пресветлому эмиру». Популярности Карасакалу (Чернобородому), которого, кроме фанатов, никто Султан-Гиреем не величал, все это отнюдь не добавило. Зато отряд подполковника Якова Павлуцкого (кузена знаменитого Дмитрия Павлуцкого, героя Чукотских войн), направленного на подавление, за счет «верных» башкир, татар и прочего местного люда к началу мая вырос в полтора раза (около 2,5 тысяч штыков и сабель с несколькими пушками).
Догнать и перегнать
Самым сложным для сил правопорядка оказалось обнаружить противника: столкновений «хан» упорно и умело избегал, понемногу отступая к Яику, и, увлекайся он сбором «даров эмиру» хоть чуточку меньше, скорее всего, смог бы уйти подобру-поздорову. А так – не вышло. Почти триста невольников, не говоря уж об отарах овец, которые, видимо, эмиру тоже нравились, очень сковывали движение, конные самарцы секунд-майора Языкова прочно сели на хвост, и 22 мая Павлуцкий порвал в клочья ханский арьергард у озера Чебаркуль, а 28 мая, нагнав «скопище», уже начавшее переправу через Яик, «совершенно его рассеял», потеряв при этом всего 2 человек убитыми и сколько-то ранеными. Сам «хан» с нукерами, бросив войско и овец, но даже в таких обстоятельствах сумев прихватить пару десятков «девок светлых», сумел уйти в полном здравии, но подавляющая часть «орды» – даже имевшие возможность вырваться на другой берег – предпочла покориться «белой царице» под обещание подполковника «оказать немалое заступничество». Каковое, видимо, и было оказано, поскольку казней не последовало. Что же касается «великого всех башкир хана», то, как сообщают источники, его впоследствии видели и в Бухаре, «имея во владении его дом изрядный», и у казахов, где «жил как хану положено», аж до 1749 года, после чего известий о нем не случалось. Вероятно, помер.
На том все и завершилось.
Итоги невиданного ранее пятилетнего кровопролития подвести непросто. Не считая материальных потерь, русских, в основном мирного населения, погибло тысяч пять-шесть, «верных» башкир, татар, мишарей и прочих примерно столько же, а бунтовщиков, павших в боях и казненных, по официальным данным, 16642 человека. Западные историки говорят о 28 тысячах, а современные башкирские исследователи доводят цифру до 60 тысяч, оговаривая, правда, что сюда же включены и сосланные. Как бы то ни было, к исходу сентября 1740 года на всех четырех дорогах стало очень-очень тихо. Но, увы, ненадолго…
Глава XII. Волкоголовые (7)
Не то, что давеча
Состояние разоренного войной края и деморализация уцелевших мятежников открыли широкий простор для преобразований, чем власти и занялись. Управленцы, назначенные Елисаветой, – кроме разве Ивана Неплюева, – не были ни фанатиками типа Кирилова, ни ума палатами вроде Татищева, но к делу, подталкиваемые сердитыми окриками из столицы, относились серьезно. Правда, идеальный проект преобразований, составленный Татищевым, ушел под сукно и был забыт, а сам Василий Никитич, хоть и процветал после падения Бирона, утратил интерес к башкирскому вопросу, но за неимением гербовой писали на простой. Был проведен ряд реформ, поставивших крест на старых порядках. Собственно, «неотъемлемость вотчин» уже была обнулена «февральскими» Указами Анны, разрешающими куплю-продажу общинных земель и передавшими часть вотчинного фонда ранее зависимым от башкир сословиям, а теперь основанием для безвозмездного отчуждения угодий стал сам факт обнаружения руды или «юфти». Земли при этом отчуждались, и отчуждались щедро, вместе с озерами и лесами, не только под прииски и заводы, но и под «приписные» русские деревни.
Этого, однако, было мало. Следовало еще и разобраться с правами местной знати, с одной стороны, максимально ограничив ее влияние, а с другой, максимально же – во всяком случае, насколько возможно, – интегрировав ее в имперскую служилую элиту. Исходя из этих соображений, старшинство из наследственного сделали выборным, создав тем самым предпосылки для конкуренции, а следовательно, и для аппаратных игр, а вместе с тем исключив ситуации, характерные для прежних времен, когда воля тархана была обязательна к исполнению, что бы он ни приказал. Параллельно установили ответственность старшин за подчиненное население. Если раньше тархан, остававшийся «верным», не отвечал за действия какого-нибудь батыра или тем паче «карачу», бунтовавшего на свой страх и риск, то теперь начальство головой отвечало за всех, а потому следило за вверенным контингентом во все глаза, при малейшем намеке на что-нибудь принимая меры или сообщая по инстанциям. Наконец, были ограничены права «башкирских мулл», по сути, тех же наследственных старшин, отличавшихся умением читать и сколько-то толковать Коран. Отныне на звание муллы мог претендовать только тот, кто сдал экзамены комиссии из дипломированных казанских законоучителей, в основном евших с руки властей, а потому очень пристрастных. И наконец, умные головы решили: всем будет лучше, если башкиры примут христианство.
Небесная бухгалтерия
Сама по себе идея была не нова, ее воплощали в жизнь еще со времен завоевания Поволжья, но до сих пор активно крестили только язычников, мусульманам же предоставлялось право выбора. Теперь, однако, внедрение Христа в души опасного народа стало государственным проектом. Еще до Великого Бунта, в самом начале правления Анны Ивановны в Свияжске близ Казани учредили Комиссию для инородцев (позже – Новокрещенская контора). Возглавил ее лично казанский епископ Лука Канашевич, фанатик миссионерства, велевший подчиненным «поганых принуждать, а басурман убеждать». В 1736-м, в числе прочих мер, направленных на обуздание бунта, запретили отстраивать разрушенные мечети, а тем более возводить новые. Когда же через 8 лет запрет сняли, дозволялось строить одну мечеть на 200–300 мусульман, и только в тех деревнях, где вообще не было крещеных, причем если в поселке было хотя бы на одного человека больше десятой части христиан, все мусульмане подлежали выселению.
И наконец, на полную мощность включился экономический фактор. Помимо прочих, отнюдь не малых льгот, мусульман, решивших креститься, освобождали от крепостной зависимости (если помещик был не крещен). Больше того, им списывались все уголовные преступления, совершенные до крещения, их освобождали от массы повинностей, им в голодные годы бесплатно раздавали хлеб, а за сам факт крещения полагались призы (правда, и за отпадение от Христа – суровые кары, вплоть до сожжения, что случалось очень редко, но все же бывало). Нетрудно понять, что желающие находились, хотя конкретно среди башкир, считавших свой ислам одной из «старых вольностей», терять которую честь не велела, очень мало, и такая ситуация их злила безумно. А самой последней соломинкой, сломившей спину верблюду, стал Указ Сената от 16 марта 1754 года об отмене ясака и, взамен, введении для мусульман платы за соль. Ясак, по сути, означал дележку с «белым царем» тем, что бесплатно послал башкирам Аллах, – медом, шкурами, лошадьми, – и в этом никто ничего худого не видел. Но соль ведь тоже даровал Аллах, и башкиры до сих пор добывали ее из Илецкого озера, что-то, разумеется, отдавая в счет ясака, но ничего за это не платя. Отныне же приходилось платить, и немало. Если раньше – по подсчетам Чулошникова – ясака сдавали на сумму 4392 рубля в год, то теперь, с покупкой соли, выходило на круг до 15 тысяч рублей. Разница впечатляла. Худо стало всем, кроме элиты, уровнем не ниже волостной, которая, имея по статусу тарханство, налогами не облагалась и соль по-прежнему брала даром. И край напрягся.
Земский учитель
Весной 1754 года несколько мелких старшин Бурзянской волости задумались не столько даже о бунте, сколько о том, чтобы высказать какое-то «гав». А поскольку ни особым авторитетом, ни известностью, ни даже грамотностью никто из них похвастаться не мог, решено было подыскать ученого человека, способного доходчиво объяснить широким массам, что так жить нельзя, – и выбор, после долгих размышлений, пал на муллу Абдуллу Галеева из деревни Кармыш по прозвищу Батырша («Смелый царь»). Кандидатура была идеальна, даже с перебором. Правда, почтенный, хотя еще совсем не старый мулла был мишарином, а не башкиром, но башкирские муллы, как правило, принадлежали к родовой элите и могли не понять, а Батыршу знали и уважали на всех четырех дорогах и даже в Казани как человека весьма ученого, честного и крайне порядочного. Он, даром что родился в небогатой семье, сумел, зарабатывая себе на хлеб самостоятельно, получить максимально возможное по тем временам религиозное образование у самых прославленных мулл края, а ко времени, о котором идет речь, уже 11 лет преподавал в собственном деревенском медресе, попасть куда считали за счастье даже дети тарханов, но мулла отдавал предпочтение сыновьям бедняков.
Удачные решения по самым сложным житейским вопросам, безупречное знание норм шариата и личная добродетель прославили его настолько, что даже власти в 1754-м попытались привлечь популярного законоучителя к сотрудничеству, предложив ему пост ахуна, главного муллы и мирового судьи, всей Сибирской дороги. Однако Батырша засомневался. С одной стороны, конечно, и лестно, и престижно, и выгодно, но с другой, к властям он относился без всяких симпатий. Так что сидел в своем медресе, слегка настраивая (устно и письменно) народ против христианизации, и думал. До тех пор, пока на связь не вышли заговорщики, предложение которых он принял с восторгом, вслепую, не вполне сознавая, с кем, собственно, сговаривается. Более того, дав согласие, на свои средства объехал губернию, побывал в Оренбурге, в других городах, в волостях Сибирской и Осинской дорог, переговорил с влиятельными людьми, при этом, увы, – поскольку, похоже, верил, что плохих людей нет, – проявляя потрясающую, чисто интеллигентскую наивность в смысле недержания языка за зубами. Вернувшись же, в декабре 1754 года засел за написание прокламаций, выполненных в форме толкований сур Корана и хадисов, но политически предельно актуальных, позже, в собранном воедино виде получивших название «Воззвание Батырши», и через своих учеников посылал их во все концы Казанской и Оренбургской губерний.
Точки над «ё»
В максимально сжатом виде «программа» Батырши проста. Он считал необходимым: а) уравнять мусульман с христианами в налогах и повинностях; б) запретить строительство новых заводов и крепостей; в) вернуть башкирам их бывшие земли; г) восстановить выплату ясака, вернув право добывать соль; д) разрешить «экс-мусульманам» безнаказанно возвращаться в ислам; и, главное, е) изъять шариатские суды из ведения старшин, даже «ученых мулл», полностью передав их в ведение профессионалов. То есть духовенства. Которое – и только оно – способно «судить не по обычаю, а по заветам Пророка, то есть по справедливости». По сути, налицо комбинация старых, чисто башкирских требований и новых, доселе не звучавших. Прежде всего, поскольку добиться исполнения всех пунктов, пребывая в рамках status quo, было невозможно, программа объективно призывала к выходу мусульманских земель из состава России – причем это был не шантаж, которым в минувшие годы баловались старшины-муллы, а совершенно конкретная политическая концепция. Ко всему прочему, обоснованная тезисом о праве «низших» выступать против «высших», если те не соблюдают условия, скажем так, общественного договора. «Если мы, – писал Батырша (между прочим, за 30 лет до Декларации Независимости США, за 35 лет до Французской Революции и совершенно ничего не зная о своем современнике мсье Руссо), – находимся под клятвенным обетом одного падишаха, и если этот падишах, хотя бы и неверный, тверд и постоянен в своем обете, то мы, по предписанию нашего шариата и нашей священной книги, обязаны жертвовать своими головами и жизнью. Если же падишах не обеспечивает взятые на себя обязательства по защите подданных от притеснений, если повинности постоянно меняются и пополняются, то мусульмане обязаны примкнуть, помочь единоверцам и порадеть о возвышении веры по способу, предписанному шариатом».
Скажу больше. Вчитываясь в текст, понимаешь, что речь идет и о сломе старых традиций, о переходе от родоплеменного устройства к некоей форме теократии, при которой уже неважно, кто старшина, а кто простец, поскольку перед лицом Аллаха все равны. По большому счету, это было обращением через голову знати непосредственно к массам – и неудивительно, что отклик оно нашло именно в массах, а у большинства старшин (кроме самых мелких) вызвало отторжение. Паче того, Батырша в нескольких словах ломал стереотипы, формировавшиеся веками. Если до сих пор башкиры, воины и вотчинники, считали себя пупами уральской земли, на всех остальных глядя чуть ли не с презрением (татары – торгаши и пройдохи, мишари – пришельцы, которых приютили из милости, казахи – наглые гордецы и так далее), то в его понимании все мусульмане – единый народ, вне зависимости от племени, и единый фронт, противостоящий единому фронту «неверных», будь то русские или калмыки. В сущности, это та идея Пророка, которая, возродившись в конце прошлого тысячелетия, именуется «панисламизмом», и Батырша, безусловно, должен быть признан одним из провозвестников, причем, в отличие от своего современника Ибн Абд аль-Ваххаба, не изобретавшим собственных, на грани ереси трактовок, но оставшимся в рамках классического ислама. Но в то же время, это («Из года в год передаются слухи о приходе войск из стран, где язык сходен с нашим, и всем нам следует ждать их, ибо татары с башкирами, и кайсаками, и османами, и бухарцами, едины не только верой, но и языком») и зачаточная формула идеи, в начале прошлого века получившей наименование «пантюркизм».
Первый из равных
Короче говоря, вера в понимании Батырши – высший приоритет и сама по себе, и как средство, без которого народам, «говорящим на одном языке», не сохранить себя, а единство народов, «говорящих на одном языке», единственный способ с гарантией сохранить веру. Такого Урал еще не знал, и Батырша с какого-то момента начал восприниматься народом, во всяком случае, грамотным и зревшим в корень, как неформальный лидер всех недовольных, затмив обиженных на режим старшин, считавших его всего лишь грамотеем на подхвате. Больше того, уразумев, куда ветер дует, эти старшины в основном предпочли выйти из игры, порвав связи с опасным грамотеем, и затеваемое ими дело стало личным делом муллы из Кармыша, с какого-то момента, похоже, начавшего рассматривать его как личное поручение Аллаха, от лица которого он вещал.
«Вы, верующие, – гласили заключительные строки “Воззвания”, – не страшитесь, что нас, правоверных, мало, а их, россиян, много и что мы против их восстать не можем. Извольте знать и ведать, что я, Абдулла Мязгильдин, всех четырех дорог народа правоверного состояния тайность разведал и познал; с некоторыми учеными, смышлеными и всякими людьми советовал, и условясь, срок положили, чтоб в сем году, после праздника и разговения, июля 3 числа, восстать и, последуя стезям пророка нашего, повинуясь велению божию, устроя себя в военном оружии, их, неверных россиян, разорить во славу Аллаха и возлюбленника его Пророка приступимте, ибо во все стороны письма от нас разосланы, чтоб к тому дню изготовились и выезжали». Извините, но расхожее мнение, что, мол, «Батыршу нельзя считать предводителем восстания, тем более называть это движение его именем», – чушь. Конечно, он не был военным вождем, не умел конспирировать, не разбирался в политике, да и вообще лидером не стал, но был чем-то бóльшим – идеологом. Куда более взрывоопасным, чем Сеит или Бепеня с их наивными, на уровне шукшинского Глеба Капустина, проповедями. По сути, он был человеком того же склада, что и еще не родившийся Махди Суданский или родившиеся, но только учившиеся ходить Ушурма, будущий Шейх Мансур, и Осман Дан Фодио. Его «Воззвание» было пропагандой принципиально нового типа, и не будь его, многое, пожалуй, сложилось бы иначе.
Глава XIII. Волкоголовые (8)
Подпольный обком действует
Весной 1755 года все было продумано и готово. Ячейки подполья, где мощные, где совсем слабенькие, дремали, ожидая сигнала, на трех дорогах из четырех. Но жизнь, как всегда, внесла поправки. За полтора месяца до назначенного Батыршей срока, 15 мая 1755 года, группа башкир – обычных селян, ничего не знающих о заговоре, а просто вконец озверевших от прозы жизни, – истребила экспедицию «рудознатцев» во главе с Брагиным, направленную из столицы в южные волости Ногайской дороги «для отыскания и разработки цветных камней». Затем разорили ямскую станцию и (семь бед, один ответ!) начали шалить на дорогах, грабя проезжающих чиновников и убивая охранявших их драгун, если те оказывали сопротивление. Возмущение было чисто стихийным, без всяких планов на потом, и Брагин, судя по документам, был изрядной скотиной, но расправа с «царским человеком» пройти даром не могла, тем паче в башкирских краях правительство, многократно обжегшись на молоке, дуло уже и на холодную воду. Уже 22 мая в мятежную волость прибыли первые воинская команды во главе с подполковником Исаковым. Затем подкрепление. Затем мишарские части. «Разбойников» (кроме тех, кто успел бежать в казахскую степь) арестовали вместе с семьями, их скот конфисковали, а в волости, объявленной «под подозрением», началось строительство Зилаирской крепости.
Некоторое время спустя, – поскольку на стройку, вопреки обычаю, сгоняли тех же башкир, работать под плеткой не любивших, – последовало продолжение. В ночь на 9 августа местные жители, убив местного старшину, пытавшегося их уговаривать, напали на Вознесенский медный завод, отогнали заводских лошадей, кое-где даже запалили леса, а 18 августа крупный отряд «разбойников» (вернее, уже полноценных «воров»), устроив засаду, истребил команду капитана Шкапского (рота драгун и полусотня казаков), шедшую в Зилаирскую крепость. После чего, от греха подальше, опять-таки ушел в казахские степи – а о бунте на Ногайской дороге, с учетом концентрации войск в волости, пришлось забыть. Правда, на Осинской дороге, где Батырша устроил что-то вроде штаба и контролировал ситуацию, дело шло удачнее, но все равно конспираторы были те еще. Информация просачивалась, как сквозь сито: уже в середине июля волостной старшина Абдул Куджагулов рапортовал властям, что «его волости 20 человек башкирцев, подволошных четырех деревень, готовы учинить бунт». Власти отреагировали, прислав команду для изъятия подозреваемых, однако задержание сорвалось. Представителям власти, двум солдатам во главе с уездным копиистом, они «не дались, и едва от того оные посланные убежали», а сдавать подполье никто из местных не стал.
Райком закрыт, все ушли
После возвращения Батырши из Оренбурга, куда он ездил по каким-то неотложным делам, в деревне Карыш состоялся своеобразный совет, среди участников которого не было ни одного старшины. Решено было собираться, ехать в деревню Гайны, где некий мулла Исхак подготовил отряд из молодежи, и начинать. 25 августа посланцы Батырши прибыли на место, а уже в ночь на 28 августа был захвачен двор того самого Абдула Куджагулова, которого «за великие денежные сборы» забили насмерть. Ногами. По селам поехали агитаторы, собиравшие людей на жыены (народные сборы) и зачитывавшие воззвание Батырши, призывая готовить коней и оружие, а 1 сентября, повязав белые ленты, символ восстания, собираться в условленных местах. Однако планы вновь не поладили с жизнью. Старшина Туктамыш Ижбулатов, очень толковый, волевой и популярный, избранный главой волости после убийства прежнего старшины, отреагировал предельно оперативно, собрав сильный отряд и двинувшись на деревню Кызыл-Яр, назначенную руководством подполья местом сбора.
31 августа не ожидавшие нападения сторонники Батырши были разогнаны, не оказав никакого сопротивления, после чего большинство предпочло разойтись по домам, а самые смелые поскакали в Карыш, надеясь, что уж Батырша-то скажет, что делать дальше. Однако наставника уже не застали. Распорядительный и популярный старшина по имени Яныш Абдуллин нашелся и здесь, в связи с чем единственное, что удалось Батырше, это, заметив приближение незваных гостей, скрыться с небольшой группой учеников в лесу, тем самым избежав захвата. Вполне возможно, запаниковав зря, поскольку далеко не вся группа захвата готова была вязать именно его, а не собственного старшину. Но стало так, как стало, и назавтра разочарованным гайнинцам пришлось, рассеявшись, пробираться в родные места и там прятаться, что удалось далеко не всем: последователи «смельчака-царя», благодаря своей активности, были неплохо известны, и по «заподозренным» волостям вовсю шли аресты. Так что, правительственным войскам, в немалом числе явившимся на Осинскую дорогу 21–22 сентября, делать было уже фактически нечего.
Неназначенные встречи
И тем не менее правительство продолжало дуть уже на лед. Фактически так и не восставшие волости и граничащие с ними регионы продолжали накачивать войсками. «Некоторые воры башкирцы, – указано в Кунгурской летописи Шишкиных, – в Уральских горах и около Казанской крепости чинили на российских людей нападения и смертельные убийства, а также смежно живущие в Кунгурской и Уфимской уездах Гайнинской волости башкирцы тогда же имели возмущение – почему и принята была в Кунгуре и по уезду в острожках от тех воров башкирцев крепкая предосторожность: тогда же были употреблены от бывшего в Оренбурге господина действительного тайного советника и кавалера И. И. Неплюева к усмирению бунтовщиков башкирцев два регулярных конных полка, чрез которых посредство город Кунгур и уезд от воров башкирцев и охранен». Примеру Неплюева следовали все. Ибо были напуганы. Доходило до крайности: скажем, некий майор Назаров, не имея на то никаких оснований, просто на всякий случай, приказал расстрелять нескольких башкир, служивших при нем и ни к чему не причастных. Это, однако, были эксцессы на местах. Петербург же, по опыту зная, что такие дела лучше гасить в зародыше, без лишней крови, действовал иначе. Высшая власть призвала не трогать тех, на ком вины нет, а уже 3 и 4 сентября были объявлены два Указа, отменяющих выселение мусульман из «новокрещеных» деревень и упорядочивающие судопроизводство. Через три недели, 27 и 28 сентября, – еще два Указа, куда более серьезных, гарантирующие «верным» татарам и башкирам налоговые льготы и повышающие жалованье за «милицейскую службу», а затем появилось и письмо Сената о готовности пересмотреть запрет на строительство мечетей.
В сочетании с отсутствием массовых репрессий это произвело должное впечатление. Единственной головной болью для властей теперь оставались только «воры», «разбойники» и вообще все, кто имел основания чего-то опасаться, ушедшие в казахские степи и делавшие оттуда мелкие, но болезненные вылазки. Было их много (что само по себе говорит о разветвленности подполья), и выцарапать их оттуда силой было крайне сложно, но оренбургский губернатор Неплюев нашел изящный выход из непростого положения. Учитывая, что платой за гостеприимство для башкирских беженцев стало участие в междоусобицах казахских султанов, как раз в это время деливших вакантное место наследника (хан Нурали был очень болен), он отправил в Великую Степь посольство, разрешив казахам забирать скот, скарб, жен и детей «воров» в собственность. Естественно, при условии, что мужчины будут выданы «белой царице». К разрешению прилагались «пенсии», а лично Нурали даже постоянное жалованье (50 рублей в месяц).
Туда-сюда-обратно
В итоге Степь, и так немирная, раскололась еще и по «башкирскому» вопросу. Султаны, желавшие отказаться от подданства России (к тому времени китайцы уже обнулили джунгар, так что это было безопасно), вступились за беженцев, сторонники ориентации на Россию, в том числе и хан, напротив, ополчились против них. Началась несусветная резня всех со всеми, в ходе которой «воры», спасая семьи и остаток скота, рванули через Яик обратно в родные места, где их уже поджидали гостеприимные солдаты «белой государыни» и ополчения «верных» старшин, выбившие «возвращенцев» обратно под казахские дубинки. Тем временем, однако, слухи о творящемся прокатились по Ногайской дороге, и на помощь «ворам» двинулись отряды башкир, ни о каких бунтах не помышлявших, но своих в обиду давать не собиравшихся. Резня, и так нехилая, раскрутилась еще больше, превратившись из султанской драчки в побоище под лозунгом «Наших бьют!», где уже не играло роли, кто султан, кто моджахед, а кто вовсе никто, – и в конечном итоге беглецы все-таки вынуждены были вернуться на правый берег Яика, где их уже не убивали, но требовали присягнуть на верность России. Что они скрепя сердце и делали, оставаясь при этом в пожизненном статусе «подозрительных». В целом, по итогам полуторалетней «замятни», жертвы исчислялись тысячами, султаны очень неплохо поднаварились, Нурали подтвердил статус «верного человека», а между башкирами и казахами на много лет вперед воцарилась взаимная вражда.
Попытка к бегству
Что касается Батырши, то он, целый год скрывавшийся в лесах, к тому времени (6 августа 1756 года) уже был выдан властям старшиной Сулейманом Деваевым и после долгих допросов был – почему-то как турецкий шпион – осужден на пожизненное заключение в Шлиссельбурге. По легенде, там он затеял спор с тюремным священником, согласившись креститься, если ему докажут, что крест лучше полумесяца, и выиграл диспут, после чего мудрецу вырвали язык. Однако, зная порядки Империи, где без указа сверху ничего не делалось, и учитывая, что за пару дней до смерти, 21 июля 1762 года, узника в очередной раз допрашивали, в это не особо верится. 24 же июля, найдя где-то топор, храбрый мулла бросился на караульных и кого-то даже зарубил. Скольких – одного, двух или четверых?.. и бежать ли пытался или просто решил умереть в бою?.. и правда ли, что умер стоя, от разрыва сердца, или был заколот штыками? – не знаю. Такие детали, думается, ведомы только уфимским историкам. Зато точно известно, что дело его не пропало даром. Ровно месяц спустя, 23 августа 1756 года, Елисавета Петровна подписала Указ о разрешении строительства мечетей во всех губерниях, где проживают мусульмане. А излишне ретивые христианизаторы, Лука Конашевич и Сильвестр Гловацкий, еще раньше, осенью 1755 года (Батырша вполне мог об этом узнать, будучи тогда на свободе) были перемещены для служения в другие епархии, где не было мусульманского населения.
Подбивая баланс описанным событиям, отметим: при всей обеспокоенности, правительство все же реализовало – пусть и «по нынешним известным обстоятельствам» – старую, привычную схему. То есть курс на признание перегибов, исправление ошибок и достижение взаимоприемлемых компромиссов. Не сочтя возможным применить для усмирения края «практику Тевкелева», хотя все средства для этого в его распоряжении были. Иными словами, террор 1736–1737 годов следует оценивать не как естественный метод действий России при разрешении конфликтов с «инородцами», но, напротив, как выбивающийся из общего ряда, единичный и во многом обусловленный субьективно-личностным фактором сбой. Вероятно, именно поэтому из искры не разгорелось пламя. По крайне мере, в тот момент…
Глава XIV. Волкоголовые (9)
Всех, с нетерпением ожидавших рассказа о Пугачевщине – а таких (я в курсе) немало, – разочарую. О сражениях, осадах, казнях и прочих вкусностях говорить не будем. На эту тему литературы море, на всякий вкус, а пережевывать в очередной раз незачем. Но есть нюансы, куда более интересные и заслуживающие освещения, более того, по сей день вызывающие серьезные споры.
Со страниц пожелтевших
Так вот, очень показательно следствие по делу Пугачева. Никто никого не рубил сплеча. Все понимали, что в тяжелейшей ситуации очень многим (да, в общем, почти всем) старшинам приходилось лавировать, притворяться, целовать злодею ручку и так далее. Поэтому по вопросу об участии нерусских народов в восстании были составлены ведомости, где самым подробным образом освещались действия каждого хоть как-то замешанного в событиях. Разбирались индивидуально, предельно внимательно, стремясь не ошибиться. В итоге «воры» типа муллы Адигута Тимясева, косившего под психа («говорит, что творил все в беспамятстве, от бывшей бутто б в нем тогда болезни»), шли на каторгу, если не хуже. Зато «искренне раскаянных» судили со всей возможной мягкостью. «Генерал» Каранай Муратов (внук знаменитого Алдара, первым из башкир признал самозванца, организатор осады Уфы, объявлен «первейшим злодеем» и «главным вором и возмутителем», за голову которого была объявлена награда больше, чем за голову Салавата) был полностью помилован. «Полковник» Каскын Самаров («прихвостень» с первых дней мятежа, снабжавший «царя» пушками, боеприпасами и деньгами) – тоже. Более того, позже сделали немалые карьеры. Даже тех, у кого рыльце было очень в пушку, вроде Базаргула Юнаева («фельдмаршал», осаждавший Челябинск), с учетом смягчающих обстоятельств всего лишь лишали чинов, но не свободы. А тех, за кем вина хоть и была, но менее значительная, вроде Туктамыша Ижбулатова – речь о котором впереди, – вообще оправдывали и оставляли на госслужбе.
В общем, если вчитываться в протоколы допросов (Миллер и Мавродин рулят!) внимательно, возникает стойкое ощущение, что реально отягчающими, исключающими милость обстоятельством были только особое зверство, нарушение присяги с переходом на сторону самозванца да еще сотрудничество подследственных с Салаватом Юлаевым или Кинзей Арслановым. Тут все ясно. Кинзя, сын прославленного Арслана Аккулова, лоялиста, но ревнителя древних традиций, того самого, который сумел додавить до конца дело Жихарева, Дохова и Сергеева, выступив общественным обвинителем на процессе и добившись для них смертного приговора, во всем подражал отцу. Тоже был лоялистом, но при этом, как сейчас сказали бы, активным «правозащитником», воевал со всем светом, был на сильном подозрении у властей и подтвердил это подозрение, первым придя к самозванцу с большим отрядом, а затем став членом его Военной Коллегии. Фактически – главным (Салават просто гораздо более известен) лидером башкирского мятежа. Иными словами, рассматривался как смутьян старого типа, вроде Бепени, а таких власти не щадили и спуску не давали.
Поскольку же Кинзе удалось в конце войны пропасть без вести, отдуваться за все пришлось Салавату, за которым и зверства числились (его нукеры изрядно резвились на непокорных заводах), и однозначное предательство (не столько переход к самозванцу, сколько многократный отказ сделать, как многие, и вернуться). Собственно, и Юлай получил по высшей категории лишь потому, что послал его в поход вместо себя, то есть как бы изменил сам, а затем и поддался на уговоры сына. А возможно, и Кинзи, с которым дружил много лет и взгляды которого, в целом, разделял. Хотя, скорее всего, были у заслуженного (награды за походы в Польшу, в Пруссию, в земли калмыков) пожилого человека и особые соображения. При Советской власти принято было считать, что Юлай «непримиримо боролся с несправедливым расхищением чиновниками и заводчиками башкирских земель, что оказало влияние и на формирование убеждений сына», однако на самом деле все было куда прозаичнее. Старшина клана Шайтан-Кудей долго судился с промышленниками Твердышовыми, с его согласия поставившими на родовой земле Симский завод, но отказавшимися выплачивать условленные отчисления, однако тяжбу проиграл и в ответ принялся организовывать налеты на Сим, в связи с чем против него было возбуждено уголовное дело. То есть явление «альтернативного царя» оказалось очень кстати, и дядя, не исключено, решил сыграть ва-банк. Впрочем, и Кинзя ведь тоже безуспешно судился…
Homo novus
Всегда полагалось считать: с одной стороны сплошь айвенго, рыцари без страха и упрека, главный из которых, конечно, Салават, а с другой стороны – тоже, конечно, сплошь – мироеды, изверги-палачи и, разумеется, ненавистные народу коллаборационисты. Однако, если присмотреться, все не так просто. Например, уже в самом начале бунта на стороне правительства выступил старшина Исмагил Тасимов, сформировав отряд из 140 башкир (это еще ладно, клан есть клан) и четырех сотен разноплеменных крестьян-добровольцев. Конечно, крепостных. И воевал этот отряд от звонка до звонка за законную власть, ни разу никуда не свернув. А между прочим, человек этот – очень непрост. Безо всякого «правильного» образования, но крупнейший «рудознатец», по тем временам, олигарх уровня Демидовых и Твердышовых. Имел 7 заводов и 234 рудника, где, понятно, работали крепостные, но условия их жизни были куда лучше, чем на демидовских предприятиях. От него к Пугачеву не бежали.
А если уж совсем на то пошло, то был мужик не только бизнесменом, но и зачинателем российской геологии. Еще в 1771-м, прося Берг-коллегию о дозволении поставлять медную руду на Юговские заводы и о передаче ему с «кумпанионами» в аренду казенных рудников, сей «темный азиатец» заглядывал далеко вперед. «Чтоб начальники заводов или надзиратели их трудов и промысла были знающие люди, – указывал он, – ибо они часто спрашиваться должны, и от умного и сведущего охотее слушать наставления, нежели от глупого невежи, то просить, чтоб завести офицерскую школу, как здесь кадетские корпусы и академии…», обязываясь такие учебные заведения содержать за счет «кумпании». Что было Государыней принято «с величайшим удовлетворением». 3 ноября 1773 года Матушка утвердила решение Сената о создании первой высшей технической школы в России – Горного училища, «дабы в оном заведении могли обучаться не только дворянские дети». Этот вуз Тасимов финансировал вплоть до смерти в 1781-м, завещав детям «сим важным делом не пренебрегать». Да-с. По большому счету, основатель российской геологии, инициатор и первых уральский инвестор важных государственных проектов. «Кто бы поверил, – писал позже академик Дмитрий Соколов, – что полудикий башкирец из дымного аула своего положил первый камень в основание Горного корпуса: по своенравию судьбы башкирцы были виновниками нашего просвещения в деле горном».
К слову, одним из «кумпанионов» Тасимова был еще один «олигарх», Туктамыш Ижбулатов (убивший в зародыше бунт Батырши), тоже имевший несколько приисков и заводов, и с 1759 года поставлявший руду на Шермяитские заводы, поставленные на их земле с условием покупать сырье только у них. А когда приказчики Шермяита попытались обмануть и ограбить «дикарей», по всем правилам вчинил иск владельцу, могущественному генерал-кригс-комиссару (министру недр) Александру Глебову, и выиграл долгую тяжбу вчистую: Берг-коллегия послала указ в канцелярию Главного управления сибирских, казанских и оренбургских заводов указание об «учинении верного ращета с рудопромышленниками». В период Пугачевщины, правда, Туктамыш, в отличие от Исмагила, в какой-то момент заколебался, писал неправильные письма, помогал кому не стоило бы, но вовремя спрыгнул с темы и, как уже говорилось, в конце концов был оправдан по всем пунктам. Ну и, до кучи, пара слов о еще одном старшине, Кулые Балтачеве. Этот, правда, к бизнесу (кроме взяток, которые все любили) отношения не имел. Чистый управленец и вояка. Командовал башкирским корпусом в Польской войне, был награжден, в том числе, «саблей, жалованной господином генерал-аншефом и разных орденов кавалером Александром Ильичом Бибиковым, с серебряною оправою и на ножнах бляхами». С самого начала встав на сторону законных властей, защищал Оренбург и Уфу, возглавлял «туземные» отряды, подавлявшие бунт. Шесть раз был ранен, много раз награжден. «Петр III» обещал за его голову 500 рублей, впятеро больше, чем власти за поимку Салавата. Потерял семью. На следствии, после очной ставки с Балтачевым, Салават признался, что «делал он великия селениям раззорении и пожеги, как-то, и его, Болтачева, дом совсем раззорил и выжег, но того Болтачева не спугал». Точно так же не удалось «спугать» большинство влиятельных старшины типа Мендея Тупеева, Шарыпа Киикова, Султан-Мурата Янышева (сына Яныша, «пресекшего» Батыршу) и подавляющее большинство авторитетных башкирских старшин, по итогам событий получивших медали и офицерские звания, то есть, невзирая на вероисповедание, потомственное дворянство.
Чет и нечет
По сути, ничего удивительного. Подавляющее большинство башкирских старшин (а значит, и всех башкир, поскольку традиция согласования действий с кланом и племенем еще была жива) сделало свой выбор задолго до смуты, выступив против сторонников Батырши. Разумеется, из карьерных и меркантильных соображений. Но не только. Судя по документам, таких, которые просто рвачи и взяточники (куда ж без того?), типа некоего Валиши Шарипова, было среди этого поколения не столь уж много. Большинство так или иначе хотело странного. В частности, осознавая себя частью некоего единства, куда более масштабного, чем клан, племя или даже башкирский народ. Когда в декабре 1766 года Екатерина II, еще не укатанная крутыми горками и надеявшаяся одолеть пропасть одним прыжком, издала Манифест о созыве Уложенной Комиссии («…дабы лучше нам узнать было можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа»), в башкирских землях новость выслушали с не меньшим интересом, чем в коренных губерниях, с удовольствием отметив, что, выходит, признаны «культурным» народом. Поскольку, согласно Манифесту, «номады» к выборам не допускались, а вот оседлые «инородцы» имели право избирать и быть избранными, по одному депутату от каждой провинции. И выбирали всерьез, понимая ответственность, сперва – 85 «выборщиков» из почти трех тысяч кандидатов, а затем из этих 85 – полтора десятка депутатов.
Что интересно, Кинзя, при всем огромном к нему на всех дорогах уважении и заслугах, в список не попал: всем было ясно: вовсе уж замшелым ревнителям «жалованных грамот» в столице делать нечего. Зато, в частности, Туктамыша Ижбулатова, свободно владевшего русским языком, выбрали и даже поручили составить наказ. Очень толковый. 47 страниц, 35 пунктов, и ничего не забыто, но все аргументировано документами и фактами. Именно автору наказа доверили коллеги выступать все пять раз, когда слово предоставлялось депутатам от башкир, и он выступал, требуя отмены монополий, юридического оформления прав промышленников, конкретизации отношений башкир с русским дворянством и даже, трудно поверить, облегчения условий труда русских крепостных. То есть того, что считала актуальной башкирская элита и за что она потом билась. К слову сказать, билась, по ходу дела (понятно, что случайно) сжигая «неправильные» заводы как бы не круче пугачевцев, до суглинка, – так, что потом их и восстанавливать-то не стали.
И вот теперь самое время задаться вопросом: а за что, собственно, бился Салават? За народ? Нет. До конца, осознанно за ним пошла только часть народа. А кто-то против. А кто-то бегал туда-сюда. Даже Юлай, судя по материалам следствия, пошел к Пугачеву, «не хотя быть низше сына» плюс поддавшись уговорам Кинзи, имевшего на него огромное влияние. За «угнетенных»? Тоже не получается. Русские села он жег только так, и крепостные работяги защищали от него свои заводы, как от чумы. Своему клану? Опять не-а. Шайтан-Кудей никаких оснований для обид на власти не имел, был ими, в общем, обласкан, а проблемы с Твердышовыми можно было куда надежнее решить, верно послужив Матушке. За веру? Не похоже. Во всех его воззваниях – ни одного призыва к «священной войне», ни одной ссылки на «Воззвание Батырши», которое он, конечно, читал. За самостийность, за титул хана? Ни в коем случае. Этого ему не шили даже на следствии. За «настоящего государя»? Не верю. Даже если допустить, что сам он по молодости жулика распознать не мог, так Юлай-то, бывавший в и в столице, и в Европе, видывал начальство всех рангов и не мог не понимать, что к чему. Может быть, пацана (19 лет все-таки 19 лет, хотя уже и женатый, и с детьми), ласково принятого «государем» и назначенного аж «бригадиром», просто понесло? Не исключено. Тем более что возраст объясняет и неумение (нежелание?) лавировать: ему сам Потемкин предлагал сдать Пугачева в обмен на полное прощение, а он отказался. Но опять-таки опытный папа мог бы одернуть. А не одернул. Непонятно. Но будет понятнее, если вспомнить проигранный суд. Вот Исмагил с Туктамышем, разбираясь в законах и денег на адвокатов не пожалев, своего добились и, даже уступив земли, получили от этого прямую выгоду. А шайтан-кудейцы, живущие по старинке, просто-напросто ударили по рукам, не проверив документы, и пролетели. Обидно, ага. Тут уж неважно, истинный царь или нет, главное, что свой.
Короче говоря, если уж по совести, то в башкирских землях Пугачевщина спровоцировала гражданскую войну. Не классовую, ибо и элита, и низы были по обе стороны баррикад, не племенную, а, скажем так, «мировоззренческую». Отбросив «болото», которое везде колеблется и выжидает, и говоря лишь об активных лидерах, приходится признать: лоб в лоб столкнулись два понимания жизни, державное и ордынское, два осмысления себя в этой жизни. Тасимов, Балтачев и другие – «государственники», умевшие смотреть дальше границы родового стойбища, Кинзя и Юлай (про пацана Салавата говорить вряд ли стоит) – «индейцы», желавшие затормозить ход времени и навсегда остаться в уютном, но безвозвратно уходившем прошлом. Что, мерси Аллаху, не под силу никому…
Глава XV. Волкоголовые (10)
Особенности национального ego
Подводя итоги всему, что мы уже знаем: основная проблема России в отношениях с башкирами заключалась в перпендикулярности мироощущений. Добровольно войдя в подданство «белому царю» на основе жалованных грамот Грозного, башкиры исходили из того, что договоры должны выполняться. Или, если возникает настоятельная необходимость их пересмотреть, пересматриваться совместно, а потом опять-таки исполняться. Они, в общем, не возражали даже против ограничений и ущемлений, но при условии, что ограничивают и ущемляют по закону, а не по желанию левой пятки даже не царя, с которым заключен договор, а мелкого местного самодура. Власть падишаха? Замечательно. Но пусть не позволяет холуям нарушать свои, падишахские клятвы. Заводы? Раз без них нельзя, пускай. Но по-честному, с договором, отчислением части прибыли и без мошенничества. Города? Не очень хорошо, угодий все-таки жалко, но тоже можно уладить. Только не ломая сходу, без предупреждения родовые поселки, не равняя с землей святые места и кладбища, как поступили с родовым гнездом Кильмяк-Абыза в 1735-м, не оставив ему иного выхода, кроме как воевать. И если уж мы, башкиры, честно служим и честно сдаем ясак, Аллаха ради, не воруйте наше жалованье и не отбирайте коней сверх оговоренного, потому что вы ведь тоже защищаете свое, разве нет?
По сути, трагичность ситуации заключалась в том, что Россия, развиваясь, переставала нуждаться в «договорных» народах. Вернее, даже не в этом, а в том, что разрывала договоры явочным порядком, по мере возникновения целесообразности. А в результате «договорные» народы зависали в своего рода невесомости, оказываясь (при наличии скольких угодно жалованных грамот) никем и ничем, докучливыми, мешающими «дикарями», с которым разговор короток. Нечто вроде того, что случилось в США с «пятью культурными племенами» или с казаками (тут чуть иное, но, в данном случае, разница не очень существенна) в Речи Посполитой. С той лишь разницей, что чероки и их друзья по несчастью были культурны уже настолько, что оказать сопротивления не могли. А башкиры, как и казаки, – могли, и даже очень. Тем паче что вовсе обойтись без их службы, в свою очередь, не могла Империя, а охраняемая законом вотчина для башкир была примерно тем же, что и реестр для казака: гарантией социального статуса, соответствующего исполняемой службе, но статуса для всех, а не для избранных.
По тонкому льду
Именно поэтому не удалась административная реформа, проведенная после бунта 1735–1740 годов, на которую так надеялся Петербург. Можно было сколько угодно менять наследственных биев на выборных старшин, вводить какие угодно кадровые регламенты, но элита все равно вынуждена была подчиняться обществу, потому что ополчение – клановое, и основа существования ополчения – общинные земли. А пойти против общины означает либо погибнуть от руки своих же, либо потерять место, поскольку тебя никто не будет слушать, и на фига ты тогда властям? Именно поэтому в эпоху Пугачевщины «верные» башкиры, как уже говорилось, жгли «незаконные» заводы не менее активно, чем «неверные», а основная масса старшин, вне собственного желания, колебалась туда-сюда в зависимости от пожеланий сородичей.
И потому-то от массовых репрессий после разгрома самозванца отказались, в отличие от прежнего времени, ограничившись минимальной искупительной жертвой в лице Салавата и Юлая. Тонкий политик и мудрая женщина, Матушка предпочла «предать все забвению», осознав, что если карать по принципу формальной причастности, то в петлю придется посылать всех, в том числе и тех, кто, по гамбургскому счету, является опорой Империи, что никак не совместимо с государственным интересом. Это понимал Петр и, понимая, предпочел ситуацию заморозить, уступками спустив пар. Этого не сумели понять при Анне, предпочтя рубить наотмашь, тем самым взвинтив давление по максимуму и получив в ответ Батыршу и 1774 год. И вот теперь котел был перегрет так, что оставалось только одно: срочно искать принципиально новое решение.
Кое с чем все было уже вполне ясно. Скажем, с религиозным вопросом. Поскольку курс на христианизацию провалился – а что он провалился, было ясно и ежику, – решили зайти с другого конца. И после длительных обсуждений в 1789-м учредили в Уфе муфтият. Здраво рассудив, что от обычая избирать мулл башкиры не откажутся, стало быть, этих мулл, дабы не дичали и не трактовали Коран кому как заблагорассудится, превращаясь в потенциальных Бепень, нужно держать под контролем, а сделать это лучше, нежели повышая им квалификацию в татарском, ханафитском духе, самом мягком из исламских мазхабов, невозможно. А раз так, то пусть профессионально растут. Еще раньше, в 1784-м, порешали насчет интеграции «туземной» знати в нормальную имперскую элиту. Дабы комплексами не маялись и державе служили, татарским мурзам и башкирским старшинам было даровано уравнение в «вольностях, выгодах и преимуществах, российскому дворянству принадлежащих». В том числе, безусловно, и право владеть крепостными (формально, правда, только мусульманского вероисповедания и язычниками, но на нарушения запрета смотрели сквозь пальцы). В крае появились мусульмане-помещики и даже мусульмане-магнаты. Однако, учитывая сказанное выше, башкиры вновь оказались камнем преткновения. Слегка постаравшись, можно было закрепостить татар. Наверное, и мишарей тоже. Но закрепостить башкир было просто невозможно, да и старшины, против поместий как таковых ничего не имевшие, не могли (слишком сильны еще были связи «верхов» с «низами») о таком помыслить. А тянуть время и дальше было крайне нежелательно.
Рукописи не горят
В общем, Матушка попросила решить проблему лично Григория Александровича, Григорий Александрович сотворил очередное чудо, и из сусеков на свет Божий, кроме бумаг Кирилова, лежавших на столе у Государыни, выполз всеми забытый проект Татищева, представленный Анне Ивановне 22 февраля 1739 года, но невостребованный в связи с опалой автора. По прочтении которого стало ясно: будь этим бумагам дан ход тогда, когда они были написаны, многих неприятностей можно было бы избежать. Ибо Кирилов полагал, что башкиры «народец озорной, вредный», и раз уж их истребить нельзя, то щемить надо по максимуму. Чтобы «вовеки, а не на время безопасными и прямыми, как другая татара, данниками учинить». С moralite в том смысле, что «токмо так, без сумнения, к тому приведены быть могут, что сравняютца с казанскими, и с сибирскими, и протчими татарами». А вот Василий Никитич подходил к вопросу без эмоций, государственно. Башкиры, рассуждал он, народ военный, вооруженный, воюющий за Россию. Но чаще против. А это неправильно. Причем – в этом он, беседуя со старшинами и допрашивая пленных, убедился, – когда против, то только по крутой необходимости, и с куда большим удовольствием делать этого не будут. Но лишь в том случае, если государство прекратит их унижать и грабить. Однако «служилый народ», анахроничная каверна в монолите, которым становится Россия, изжил себя, а значит, следует подумать о новом, органичном для обеих сторон статусе башкир в рамках Империи.
И вот тут-то Татищев являет всю мощь своего немалого интеллекта. В его рассуждениях появляется упоминание о казачьем устройстве. То есть – развивая идею, – о преобразовании «ненужного» племени в нужное сословие. И далее Василий Никитич расписывает по пунктам, что и как следует делать, предлагая переформировать «древнее ополчение» в государственное иррегулярное войско, возглавляемое, как и казачьи, полковниками, назначаемыми правительством, и включающее «подначальных им» хорунжих, писарей, есаулов и сотников. Оставив право избирать всех, кроме полковников, – при «должной аттестации» от местных воевод, – за башкирами. Такой порядок, полагал Татищев, обеспечит возможность «их в большей верности содержать и о числе их всегда обстоятельнее знать, понеже сотники всегда должны будут обстоятельные списки иметь и полковников, хотя погодно, о числе репортовать, полковники же воевод репортовать будут». Конкретные предложения (сколько полков формировать, где локализировать, на кого следует обратить внимание, подбирая кадры) к проекту прилагались.
Я сегодня не такой, как вчера
Обсудив со Светлейшим «татищевские пропозиции», Матушка распорядилась пустить их в работу. Времени, правда, за избытком проблем и относительным покоем в крае, потребовалось немало, но улита ползла, и 10 апреля 1798 года, уже Павлом («по личном ознакомлении»), был издан Указ об учреждении Башкирско-Мещерякского войска. По сути, слегка измененный, дополненный и отредактированный в соответствии с реалиями времени проект Татищева. Отныне башкиры и мишари официально, а не по факту, как ранее, становились военным сословием, равным казачьему, со всеми полагающимися правами, привилегиями и обязанностями, большинство которых, впрочем, они исполняли и ранее, не имея никаких социальных гарантий. Нести службу обязаны были все здоровые мужчины 25–50 лет, но это было привычно, почетно и никаких возражений не вызывало, тем паче что указом учреждалась «очередь» (ротация) из расчета один человек от 4–5 дворов с мая по сентябрь, а порядок в хозяйствах очередников поддерживался общиной. Вместо старых, клановых волостей край был разделен на кантоны – 11 башкирских и 5 мишарских, – границы которых не совпадали со «старыми рубежами», а названия ограничивались нумерами, без поминания племен, что было непривычно, однако и не оскорбительно. Кантоны делись на юрты, каждый из юртов считался «воинской командой», причем глав кантонов назначал военный губернатор Оренбурга из особо достойных местных старшин, а они уже сами, по своему усмотрению, определяли юртовых. Содержание кантонных и юртовых канцелярий возлагалось на общественные фонды, но это никаких возражений не вызывало, как и обязанность приобретать оружие, амуницию и лошадей за свой счет, тем более что речь опять-таки шла не о личных деньгах, а о «подмоге» (общаке). Некоторые льготы начальству и муллам народ тоже принял спокойно: дескать, шефам положено, а досадная и неприятная обязанность участвовать в ремонте дорог и укреплений смягчалась разрешением присылать вместо себя своих припущенников и «бродяжий люд», причем каким образом этот «бродяжий люд» возьмется, никого не интересовало – лишь бы ослушания не было.
Короче говоря, башкиры перестали быть «дикарями», бесправным придатком к Оренбургскому казачьему войску, но обрели статус полноправного российского сословия, наконец-то официально став теми, кем, по сути, были с самого начала. Параллельно, правда, прошло и генеральное межевание земель, закрепившее за помещиками угодья, явочным порядком украденные у казны и башкир, но в огромной бочке меда крохотную каплю дегтя предпочли не заметить. И вот на этом действительно кончилось все. Началась новая история. В которой башкиры законно владели большинством рудников в своих краях (только на Юговских заводах – 234 из 310), «записаться в Башкирь» было заветной, практически неисполнимой мечтой русских крестьян, а башкирские лучники, наконец-то не оглядываясь, все ли дома в порядке, сражались не под Самарой, Уфой и Казанью, но под Тильзитом, Гельсингфорсом, Данцигом, Лейпцигом, Кронштадтом и Адрианополем. Под знаменами своей Империи, «не раз, – по оценке Дениса Давыдова, неоднократно подтвержденной лучшими полководцами России, вплоть до графа Паскевича-Эриванского, – проявляя подлинный героизм и отвагу», коллекционируя ордена, вырастая в званиях. Никогда более не бунтуя и не конфликтуя с иноверными поселенцами, которых, наоборот, зазывали на свои земли, поскольку земледелием умели заниматься далеко не все, а свой хлеб иметь хотелось. Если же в ставшем островком мира и спокойствия крае и случались какие-то – как в 1835-м – мелкие волнения, то скорее на уровне местных хулиганств по недоразумению. О чем говорить нет ни смысла, ни желания, поскольку это, повторюсь, уже совсем другая история…
Глава XVI. Повелители великих долин (1)
Рай второй свежести
Есть в России народ-загадка. Ясно, что самые северные тюрки. Ясно, что самый, по всем фенотипическим признакам, «монголоидный» народ на Земле. Ясно, наконец, что имена его – и свое («саха»), и полученное от соседей («экот»-«якот»-«якут»), – означают «крайний», «пограничный», «чужой». То есть тот, кто пришел откуда-то, а там, где жил раньше, обитал на самой границе кого-то с кем-то. Здесь точное знание кончается и начинаются версии. Которых три. Самая древняя, скажем так, «мифологическая». Более поздняя – «генеалогическая». И позднейшая, возникшая с подачи землепроходцев-казаков, – «ордынская». То есть что народ сей всего лишь осколок Золотой Орды. Это, конечно, чушь, внимания не заслуживающая, о генеалогии чуть позже, а вот из мифов извлечь крупицы истины можно прямо сейчас. Согласно сказаниям, саха – первые люди на земле, ибо небожитель Эр Соготох Эллэй, сойдя с облаков и женившись на дочери землянина Омогоя, дал начало роду человеческому. Причем, чтобы их потомство владело твердью, убил тестя и всю его семью. В связи с чем саха по сей день в торжественных случаях называют себя «айыы аймаа» (полубоги). Но это, понятно, совсем сказки, а если ближе к реальности, то все сказания саха, вне зависимости от того, чьими потомками себя считали те или иные кланы, повествуют о «старой родине». О некоей запредельно счастливой стране, где «никогда не заходило солнце, месяц был без ущерба, кукушки не переставали куковать, трава не желтела, деревья никогда не валились, и никуда не улетали стерхи…». Короче, о рае земном, откуда по разным причинам пришлось уйти в края тоже счастливые, но не настолько, ибо «с валящимся недолговечным лесом, с недолговечными людьми, с поздно рождающимся скотом, со жгучим морозом, с вечной вьюгой и слякотью, с пургой и метелью».
Первым, кому выпала такая доля, стал некто Омогой Бай, никакой не бог, а якобы знатный монгол, бежавший на север, не желая ни поддерживать юного Темучина, ни препятствовать ему. Вот он-то, добравшись до берегов Лены, осел в великой долине Туймаада, где, отбивших от не знавших железа местных, процвел, а много лет спустя выдал дочь Сыппай за очередного пришельца с юга, Эллэй Боотура, информации о котором в легендах гораздо больше. Историки в основном считают, что этот сюжет отражает воспоминания о резне Темучином татар, виновных в смерти его отца, но, если уж следовать мифам, то якобы в некий голодный год велел хан монголов подданным убивать лишние рты, стариков и младенцев, и один лишь Эльдей-батор (Эллей), решив во что бы то ни стало спасти любимого отца, Татар-Тайма, посадил старика в суму и ушел в «горячую пустыню», где мудрый старец (сын не прогадал!) помог ему мудрыми советами, подсказав, как не умереть от жажды и как обмануть погоню. А главное, открыл, что на севере, «в великих долинах на великих реках, есть прекрасные места, изобильные водой и травами, удобные для жизни», где живет «много людей, бежавших туда давным-давно». В том числе богач Омогой, которому Эллей должен приглянуться усердным трудом, а в награду попросить руку дочери-уродицы, которая «никому не нужна». Далее было предсказано, что сам старец «не ступит на счастливую землю», зато «весь скот Омогоя станет скотом Эллея, красавицы-сестры удавятся от зависти к дурнушке, а братья жены, невзлюбившие Эллея, сгинут неведомо куда, превратившись в леших». Так и сталось. Затем родилось шесть сыновей, ставших предками шести улусов саха, и наконец, в итоге, Эллей не умер, а «вознесся на небеса». В последнее не верю, а прочее, видимо, что-то отражает. Не так, видимо, все было мирно (вспомним, что и в мифе небесный Эллей убил тестя). Однако геноцида не было: просто хозяев заставили потесниться, как те ранее потеснили «прежних людей». Вскоре очередной мигрант с юга, некий Хара-Хула, отбил и себе местечко, и на том заселение великих долин завершилось.
Легой и его коммандос
Все эти легенды и мифы сегодня, конечно, разобраны по косточкам, и никто не оспаривает ни того, что родоначальники попали на Лену не сразу, а по очереди, ни того, что там уже жили лесные племена. В том числе хорошо известные тунгусы (юкагиры и эвены), а также сгинувшие, аки обре, «тыал-буолбуттар» («ставшие ветром»), «дыуанээй» («шитые лица») и другие, о которых никто ничего не знает. Все согласны и в том, что сказания отражают миграцию кочевых тюркских племен, пришедших из Забайкалья. А вот как и что конкретно, спорят и спорят. Скорее всего, тысячи две лет назад явились первые «новые люди», бежавшие от хунну и объединившиеся в новый союз племен, курыкан, известный и китайцам как «гулигань». Жили не тужили, имели даже свою письменность, потом утраченную (говорят, что сумка с «тайной знаков» утонула в реке по воле богов), – а затем пришли новые соседи. Видимо, северные кидани. И наконец, началось великое бегство племен от войск Чингисхана, в итоге чего те, кому повезло, собрались в «Счастливой Сайсаре», понемногу приспосабливаясь к новой жизни.
Основой, как и раньше, был скот. Правда, ни овцы, ни верблюды почему-то не прижились, зато коровы освоились в новых, необычайно суровых условиях, а лошади вообще научились «копытить» корм из-под снега, и табуны их паслись практически бесконтрольно, как мустанги в прериях. Так что добывать конину людям саха приходилось загонной охотой, а «чужаки», лошадей отчего-то приручить не сумевшие, звали пришельцев «конными людьми». Правда, – все же не дедовские степи, – настоящего простора не хватало, так что все удобные для выпасов и сенокосов угодья были наперечет, каждый луг-алас принадлежал какому-то роду или семейству и за право расширить жизненное пространство частенько ходили стенка на стенку. Имели по два дома, «кыстык» (зимний, в теплых балаганах, поселками) и «сайлык» (летний, в чумах, выезжая на природу семьями). Северные кланы при этом понемногу освоили занятия «чужаков», став заправскими оленеводами и рыбаками, а вот в глазах южных, «конных» саха рыболовство было унизительно (само слово «балыскит» – рыбоед – означало «нищеброд», «оборванец»), и северных родичей южане называли «эвенками», то есть «почти эвенами», родства с ними стесняясь. Жили саха небольшими кланами (ага ууса), позже в русских документах именуемыми родами («взято государева ясаку с кангаласково князца с Еюка, да с отца ево Ники и с их роду и с улусных людей 100 соболей без хвостов»), численностью от двух-трех десятков до двух-трех сотен душ, объединенных кровным родством (хотя случались и усыновленные, и «принятые», имевшие права «кровных»), имели в своем распоряжении «живущих около» (не родных и неполноправных, но свободных), а также «кулутов» (рабов), в основном из числа пленных «чужаков». Формально ага уусы считались частями улусов, но в реальности были абсолютно незалежны. Уважаемыми людьми были шаманы, а еще больше кузнецы, во главе же ага ууса стоял тойон – глава семьи, ближайшей по родству с «первопредком» (тотемной птицей, лебедем, вороном, журавлем и т. д.). Это мог быть просто мудрый старец, а мог быть и воин, за свой счет содержащий «боотуров» – профессиональных бойцов, вооружая их по мере, позволенной ему состоянием. Дружины были очень невелики – десяток, много два (боотуры были прожорливы, а вооружить их как должно обходилось не в один десяток лошадей), – но отказываться от них, делая ставку на толпу сородичей, выходило себе дороже. Ибо времена стояли лихие, и милостей от природы ждать не приходилось.
Практически вся эпоха от стародавних дней до появления русских в преданиях всех уусов и улусов саха именуется «кыргыс уйэтэ» («время кровавой резни»), когда главным законом было «кто сильнее, тот и жив». Причем резали друг друга и всех, кто подвернется, в основном не хосууны, главы самостийных кланов, дравшихся на меже без особых смертоубийств. Главной, из века в век проблемой «трех великих долин» были т. н. «легои» (по имени реального здоровяка Легоя, редкого, видимо, оторвы, врезавшего себя в память выживших на поколения вперед). Не герои-боотуры, а «обычные драчуны», силачи-отморозки, ездившие или бродившие на своих двоих, кто с малыми ватагами, кто без оных, по лесам, беспредельничая вовсю. «Не признавали они ни родства, ни свойства, ни семейного уклада», плевать хотели на обычаи, искали не столько добычи, сколько крови, и жестокость, с которой жгли целые уусы, не уступала жестокости войн с «чужаками» – что, в конце концов, окружающих достало. Где-то с конца XV века хосууны, ранее не объединявшиеся никогда, начали создавать временные комплоты для отпора «легоевщине». И первым, кому удалось сделать один из таких союзов чем-то более или менее прочным, взяв ближних соседей под какой-то вид гегемонии, стал кангаласец (потомок курыкан) Баджей, внук Хатан-Хангаласа, старшего сына прародителя Эллея, имевший титулы Дойдуса-дархан и Тюсюлгэ-дархан, очень много скота, воинов, слуг, рабов и тяжелый характер.
Эстафета поколений
Это уже не миф. Это личность уже вполне историческая, отмеченная и в документах. Авторы «скасок» его, конечно, не застали, но слышали о нем от стариков, ему служивших. По европейским меркам, что-то вроде первых Пястов, считается основателем чего-то, напоминающего «династию», способную (сложись жизнь иначе) объединить все улусы саха в нечто вроде государства, а главным делом своей жизнь он, судя по всему, считал приведение в чувство «легоев», в чем и преуспел, прогнав отморозков из всех земель, за которые отвечал. Однако, успешно занимаясь этим, недооценил опасности со стороны побежденных тунгусов, которые, будучи оставлены без присмотра, пригласив с севера бежавших туда сородичей, решили взять реванш за былые поражения. В одной из стычек с непокорными данниками Баджей, уже глубокий старец, и погиб, как когда-то погиб его дед, а старший сын его и наследник Мунньян, пытаясь исправить ситуацию, потерпел полное поражение и – примерно в 1570–1575-м – «со всем семейством был тунгусами истреблен». Что, конечно, преувеличение: потомство Эллея было все-таки перебито совсем не поголовно, несколько сыновей, дядей и кузенов тойона уцелело и даже дожило до прихода русских, но само наличие легенды указывает на серьезность ситуации. Как бы то ни было, в итоге «старики», согласно завещанию павшего, объявили правителем ага ууса его младшего сына, четырехлетнего Тыгына, которому боги, по преданию, в шесть лет ниспослали знамение будущего величия в виде сгустка крови, неведомо откуда появившегося на острие отцовского копья, – и смыслом жизни мальчишки стала месть тунгусам.
Вот этот-то Тыгын, персона вполне реальная, и стал для последующих поколений тем самым «первопредком», от которого, согласно «генеалогической» версии, пошел народ саха, затмив мифических патриархов и оказавшись – подобно киргизскому Манасу, калмыцкому Джангару или древнегреческому Гераклу, – героем не меньшего, если не большего количества преданий, легенд и сказок. Тунгусам он не просто отомстил. Достигнув возраста, он просто растер их в порошок, окончательно выгнав уцелевших из мест, где жили саха, на запад и север. Но не только. У Тыгына были старшие братья, и они были крайне раздосадованы тем, что отец отнял у них преимущество в наследовании, отдав все «жеребенку». Так что на рубеже XVI–XVII веков в долину Туймаады вернулась «кыргыс уйэтэ», описанная в сказаниях как эпоха, окутанная маревом пожаров и запахом дымящейся человеческой крови. В такой обстановке и рос мальчик Тыгын, детство и юность которого очень напоминают детство и юность другого осиротевшего мальчика по имени Темучин. Да и не только детство и юность. «Фигура Тыгына, – писал академик Окладников, – мудрого старца, владыки и грозного воина, избранника самого Улуу тойона, каким представляли его сородичи, уже при жизни сливалась на этом фоне с величественными образами эпических богатырей и божеств». На склоне лет его по всей Лене все – даже там, куда он не добрался и даже те, кто от него отбился, – величали не иначе как «саха мунгур ыраахтаагыта», «царем всех саха», и даже в наказе Москвы первому якутскому воеводе Петру Головину от 6 августа 1638 года Тыгын помянут особо, как «лутчий тайша». То есть великий князь, в отличие от многочисленных «князцов», не помянутых даже по имени. Достичь такого величия было, несомненно, совсем не просто, но Тыгын сумел.
Герой должен быть один
Согласно сказаниям, он – супермен, даже конь которого суперконь, – лично, в сопровождении одного лишь «мальца», ездил по лесам, разыскивая вновь объявившихся «легоев» и боотуров, служивших старшим братьям, а найдя, убивал. Или, победив в поединке, предлагал служить ему. На что те в основном соглашались. И позже, прослышав, что где-то подрос сильный и смелый парень, приезжал с таким же предложением. Иными словами, Тыгын был классическим для саха «силачом-одиночкой» – имена многих сохранились в преданиях, – но и не совсем таким, как прочие, неважно, «легои» они были или вполне приличные люди, поскольку целью своей ставил не обогащение и не подвиги. Он хотел, «чтобы все сильные ели мясо его лошадей». Таким образом, формировалось «невиданное войско», достигшее спустя годы 200 всадников (сила, по тем временам и местам, совершенно невиданная), которых тойон «кормил и ублажал» за счет своих богатств, накопленных за счет походов на различные уусы и улусы, а в большие походы под его знаменем, считавшимся гарантией побед и добычи, выходило и гораздо больше народу (даже к его сыновьям, позже пытавшимся воевать с казаками, на зов приходило, считая, что часть удачи отца досталась и детям, до тысячи добровольцев).
Неудивительно, что к концу второго десятилетия XVII века, накануне встречи с русскими, Тыгын, давно уже разгромивший братьев, усмиривший конкурирующих потомков Омогой Бая, почти вырезавший отпрысков Хара-Хула и покончивший с «легоями», стал гегемоном почти всех лесов и лугов по обеим берегам Лены. Был он «так богат, что двух из боевых коней заковал в полные латы, так щедр, что каждый год, когда прорастала мурава, устраивал ысыахи, кормя да поя всех, кто бы ни пришел». Позже, чуть спустя после его смерти, ясак с его ата ууса, согласно отчету казаков Москве, сдало более 500 человек, а следовательно, по подсчетам демографов, поселок «царя» на фоне обычных поселков смотрелся, как Москва на фоне какого-нибудь Абакана, и хотя формально Тыгын оставался первым среди равных, его указания «князцы» – даже некий Бойдон, «почти такой же богатый и славный», – исполняли мгновенно, не переча ни в чем. К таким, «шустрым и послушным», был он, как гласят легенды, «снисходителен и щедр», Бойдона же, не раз подтвердившего свою верность, даже «назвал младшим братом». Однако под старость, которая не радость, характер «царя всех саха» испортился. Он стал дряхл, забывчив, жесток. Что само по себе, в общем, и не так страшно, но он к тому же и перестал побеждать. Вернее, сам в дальние походы уже ходить не мог, а посланные им отряды нет-нет да и возвращались без дани, порой даже побывавшие в плену и ослепленные там, а вместо мести старик заключал мир, дома становясь еще злее. И от него начали бежать, в том числе самые ближние, создавая собственные улусы там, куда грозный старик добраться не мог. Сохранению былого влияния это никак не способствовало. А «люди с длинными носами» уже стояли почти на пороге…
Глава XVII. Повелители великих долин (2)
Жил отважный атаман
Все началось в 1619-м.
Тунгусский князец Илтик, находясь в остроге Енисейск, рассказал казакам о «великой реке Лин», расположенной где-то на востоке, и уже спустя пару лет в ата уусе Тыгына появились два «удивительного вида пришельца» (многие исследователи полагают, что речь идет о людях промышленника Павла Пенды, первым пришедшего на берега Лены). Эта встреча в легендах описана очень подробно. «Царь» якобы принял чужаков очень благосклонно, взял их к себе в работники, был весьма доволен их «мудростью и всяким умением» и «кормил за пятерых, доверяя самое сокровенное». Они же, какое-то время поработав, куда-то исчезли, а затем появились «братья их, в большом числе и с огненным оружием, с которым драться пришлось» (скорее всего, имеется в виду экспедиция Алексея Добрынского, ходившего в 1629–1630 годах с севера «про те новые земли проведать и тех новых землиц людей под государеву высокую руку призывать»). Этих «длинноносых» саха встретили без понимания, не видя необходимости делиться своим непонятно с кем, и в конце концов, спустившись по Вилюю к Лена, казаки наткнулись на «конную якутцкую орду», схватились с нею, крепко ожглись и убежали восвояси, так никого и не объясачив.
Год спустя, уже с юга, с верховьев Лены, в долину Туймаады пришел отряд атамана Ивана Галкина, которому удалось привести в подданство Москве пять местных князцов, а затем, спустившись по Лене, «многих непокорных побити, а жен и детей их в полон взяти». Тем не менее столкновения с очередной «конной якутцкой ордой» люди Галкина не выдержали и, как ранее Добрынский, сочли за благо повернуть обратно. И сказания, и ученые последующих веков согласны в том, что дорогу к трем долинам первым отрядам «длинноносых» заступили боотуры Тыгына и его верного «младшего братца» Бойдона. Скорее всего, так оно и есть, да иначе и быть не могло: долг правителя в том и состоял, чтобы защищать подданных. Однако что хорошо кончилось однажды и дважды, на третий раз, как и положено, не повторилось. В сентябре 1632 года стрелецкий сотник Петр Бекетов, явившись на Лену всего с 30 спутниками (в том числе и с Иваном Галкиным), поставил на берегу маленький острог (будущий Якутск) и послал своих людей собирать с туземцев ясак. Вновь явилась «конная орда», однако стычка окончилась не в пользу боотуров, и вскоре, согласно преданиям кангаласцев, Тыгын приехал на встречу с «железным человеком». О чем они беседовали, неведомо, но больше нападений со стороны местных не случалось, и к марту 1633 года казаки подчинили земли 31 князца «якуцких людей», а сотник составил список 35 «подгородных» родов, то есть реестр князцов, обязавшихся платить ясак за свои ата уусы.
Старик и горе
Были, понятное дело, и несогласные – в основном из тех, кому ранее удалось отбиться от Тыгына или уйти от него, когда «царь» состарился. Эти, считая себя круче туч, перли на рожон. И, натурально, нарывались. Например, князец Ногуй «почал ставить государское величество ни во что и всякие непотребные словеса почал говорить про государское величество», после чего не унасекомить его было просто недопустимо. А князец Оспек «хвалился, что-де государя победит и на аркане поведет», да еще первым атаковал казаков, после чего Бекетов приказал «отвести душу». Один «острожек» казаки взяли штурмом, перебив два десятка боотуров, еще несколько, опасаясь стрел, подожгли, не приближаясь, а поскольку унижение профессионалы считали хуже смерти, 87 воинов саха так и сгорели, позволив, правда, уйти гражданским лицам («3 бабы с мальцом да 5 баб с мальцами выбежали»). После чего еще один «непримиримый», некто Мазей, тоже считавший себя пупом тайги, «раздумал воевать», уплатил ясак и лично извинился за упрямство, объяснив, что «ничего раньше не слышал про русского царя, а нынче все понял». Но такие эксцессы все-таки были исключением: везде, где влияние Тыгына было сильно, на ясак соглашались без спора. Скорее всего, потому, что дело было уже после встречи сотника с «царем», в ходе которой Тыгын, всю жизнь чтивший только силу, как сказано в одной из легенд, «увидел, что сила длинноносых сильнее его», и согласился признать русского царя «старшим в улусе, прежде всех сыновей». Правда, сам атаман этот факт не афишировал, приписав покорение края своей храбрости и деловитости, а затем еще и умер, еще больше запутав ситуацию, но поведение наследников Тыгына после смерти отца позволяет многое понять. Как указывал этнограф А. Ксенофонтов, в XIX веке изъездивший всю Якутию, собирая древние сказания, они «всем рассказывали, что отец их одряхлел сверх меры и отупел, и не знал, что творит, ставя родную кровь ниже чужой».
Это логично. Детям великого тойона, желавшим получить отцовское наследство, было необходимо, ради получения поддержки верных родителю князцов, поставить под сомнение его завещание. Но сам-то Тыгын знал о появлении в устье Лены казаков еще в 1620-м, когда ни о какой дряхлости речи не было, а затем схлестнулся с ними в бою и не мог не сделать должные выводы. Уходить было некуда. Драка с «плюющимися огнем» ничего хорошего не сулила. Да и его люди давно уже были не те, что раньше: серьезные войны былых годов ушли в богатырские сказания. Оставалось ладить миром, ибо чем раньше, тем лучшие условия можно было выговорить. А пример такого авторитетного человека, ставшего мифом при жизни, естественно, не мог не повлиять на мелких тойонов, многие из которых, к тому же, подчинялись ему. И вскоре после того Тыгын исчезает из летописей. Скорее всего, где-то между 1633-м и 1636-м скончавшись от старости в одном из «сайлыков». Так, во всяком случае, полагал С. Боло, и, на мой взгляд, видимо, так и было. Версии же о пленении его или о гибели в стычке с казаками едва ли убедительны. Хотя бы потому, что о таком событии – как никак, «лутчий тайша», известный аж в Белокаменной, – обязательно было бы сообщено по инстанциям, а чего нет, того нет. В любом случае, великий тойон сходит со сцены вовремя, не испытав позора. Начинается эпоха его сыновей и племянников, именуемых в русских «скасках» не иначе как «Тыгиненки».
«Скаски» ленского леса
Ранним русским «скаскам» известны имена более 90 взрослых «больших кангаласских князцов», которые, как писал Галкин в 1634-м, «людны и всею землею владеют, а живут дружно и всегда заодно, и иные многие князцы их боятца». Укреплять свою власть над краем они принялись немедленно и круто. Сперва избавившись от излишне самостоятельных соратников отца (в частности, за дружбу с русскими был убит некий Бэрт-Хара, «первый витязь» – то есть главный воевода – Тыгына), а затем дело дошло и до «длинноносых». В конце 1633 года «Тыгиненки», объединив дружины и созвав ополчение, во главе огромного по тем местам войска (более тысячи всадников) разгромили отряд Галкина и почти два месяца осаждали его в Ленском остроге. Однако казаков, дошедших до поедания мертвечины, «Бог упас»: в лагере саха начались какие-то раздоры, и войско их разошлось по ата уусам. У казаков начался голод, и участь их была решена, но тут в стане якутов начались раздоры, и они упустили победу, вслед за чем «Тыгиненки» взяли тайм-аут. Два с половиной года спустя двое из них – Откурай и Бозеко, – собрав «с четыре сотни конных», атаковали Ленский острог, но безуспешно, и отступили. Затем переформировали войско, «иных сторонних речных князцов собрав, и князца Киринея со всеми улусными людьми, сот с шесть и больше» и вновь осадили острог, но опять неудачно. Казаки Ивана и Никифора Галкиных отбили атаку, перешли в наступление и после кровопролитного штурма овладели опорной базой осаждающих, не сумев, однако, захватить непокорных тойонов.
И вновь на довольно долгое время стало тихо. Аж до начала 1641 года, когда заволновались тунгусы верховьев Лены, позвав на помощь бурят, и Петру Головину (первому воеводе только-только учрежденного Якутского уезда, подчиненного непосредственно Сибирскому приказу) пришлось выслать против них большую часть своих сил (103 служилых). Прознав об уменьшении гарнизона, «Тыгиненки» решили, что время для реванша пришло. Тем паче что ситуация казалась выигрышной: воевода задумал провести перепись скота, чем изрядно напугал многих князцов. К тому же Головин, приняв волевое решение, даже не попытался его, скажем так, «пиарить». Гордыня недавнего ярыжки в невысоком чине «письменного головы» (завканцелярией) Сибирского приказа, внезапно сделавшего сказочную карьеру, была выше Саян, характер тяжелый, свирепости, упрямства, своеволия и корыстолюбия хватало на десятерых, и заявляя всем, как туземцам, так и подчиненным, что «До Бога высоко, до царя далеко, а правда моя в Сибири, что солнце в небесах, сияет!», он, судя по всему, свято в это верил. Служакой, тем не менее, Петр Петрович был ретивым, с инициативой и огоньком, не боявшимся рисковать на пользу державе. Идею переписи он разработал сам, не сносясь с Москвой, и эта идея, по сути, была хороша и для государства, и для саха. Ясак-то в итоге становился фиксированным, а не на глазок, а это уменьшало простор для злоупотреблений на местах.
Что, к слову, нравилось далеко не всем. Еще раньше, чем саха, узнавшие об идее воеводы далеко не сразу, против переписи выступили многие «старожилые», до приезда представителя центра правившие «кругом» и устанавливавшие в крае правила по своему усмотрению. Сперва оппозиционеры попытались убедить еще не знающего местной специфики воеводу, что «у якутов, де, ум худ, и от письма они боятца», а когда тот не внял, сочли отказ «многим оскорблением, злоумием и жесточью», перейдя к открытому саботажу, благо на их стороне оказались и младший воевода Михайло Глебов, и дьяк Петр Филатов. То есть практически весь воеводский аппарат, – и Петру Петровичу, учитывая рост напряжения в ясачных волостях, а затем и открытый бунт саха, пришлось вводить в остроге чрезвычайное положение, взяв под арест собственного заместителя, собственного начальника канцелярии и около сотни самых уважаемых казачьих «стариков».
Позже, уже в ходе следствия по делу «тех якуцких людей воровства», на воеводу посыпались доносы с обвинениями во всех смертных грехах. Дескать, не говоря уж о беспределе с русскими (он подвергал пыткам без пощады, не глядя а чины и заслуги), даже «…якутов, князцей лутчих людей пытал и огнем жег и кнутом бил больше месяца… после того своего сыску тех якутов лутчих людей и аманатов повесил 23 человека… Да в том же изменном деле многие якуты с пыток и с холоду в тюрьмах померли… многую налогу и тесноту делал… а как приехали якуты с ясаком, князцей и лутчих людей на морозе морил…», – и тем самым, мол, «вызвал великое возмущение». Со своей стороны он объяснял, что речь идет о саха, взятых на поле боя или пришедших с повинной. Насчет же оппозиции упирал на выявленные в ходе «розыска» факты «измены в русских… и та измена большая и наученье тем якуцким иноземцам от русских людей на всякое дурно многое», а также заговора с целью его убийства. Поминались и «два сорока соболи, тем Мишке да Петьке атаманами за дружбу дареных». Исходя из того, что по итогам суда в Москве, которая слезам не верит, Петр Петрович был оправдан вчистую, ситуация кажется совершенно прозрачной. Ровно той, какая на век раньше сложилась в испанском Перу эпохи энкомьенды, Гонсало Писарро и мятежей ветеранов конкисты против королевских губернаторов. Воевода был вовсе не ангел, он тоже не меньше «Мишки с Петькою» любил мягкую рухлядь, но принцип «Государево дело прежде прочего и последняя казенная копейка должна учтена быть» был для него непререкаем; установленное им правило «С якутцев боле соболя с двух коров не брати, поминки от князцов в казну под опись сдавати, а жалованье от казны имети» очень не нравилось «старожилым», привыкшим тасовать размеры ясака в свою пользу, информируя центр, что, допустим, «в тое лето соболь с лесу совсем счез, а где неведомо». Иными словами, машина государственного интереса столкнулась с казачьей вольницей, грабившей туземцев почем зря, – и в конце концов победила, поскольку, отозвав Головина (оставлять его на посту не было никакой возможности), его все же оправдали, а сменщикам, Василию Пушкину и Кириле Супоневу, дали строгие наказы «сверх определенного росписью тех якуцких людей ясаком не обременяти».
Лишенные наследства
Все это, однако же, было потом. А пока по краю поползли слухи: дескать, перепись производится ради экспроприации у саха всего скота. Откуда ползло – из ата уусов «Тыгиненков» или из самого острожка – наверняка сказать трудно. Скорее, второе. Но многие поверили. В феврале 1642 года саха уничтожили пять довольно крупных отрядов сборщиков ясака, занимавшихся переписью, – к слову, все они были людьми из ближнего круга воеводы, – заодно побив и попавших под горячую руку промышленников. А потом, в начале марта более 700 всадников, собранных Бэджэкэ, Окурееем и Чаллаем, старшими сыновьями Тыгына, осадили Ленский острог. Однако на сей раз союзников у них было мало. Даже из близких «царскому» дому большинство предпочло занять нейтралитет. Кто-то опасался, что «принцы», победив, «почуют волю, загордятся». Кто-то считал себя обязанным подчиниться посмертной воле «царя», а не прихоти его потомков. Кому-то пришлось по душе торговать с «длинноносыми». Кто-то просто полагал, что платить ясак все равно придется, а решать, кому платить, не его дело, так что пусть разбираются сами. Но, пожалуй, решающую роль сыграла позиция очень авторитетного тойона Мымака, ата уус которого, Нам, находился в долине Туймаада. Он изначально выступал против мятежа, мотивируя это четко и ясно, а когда его не послушались, начал тайно сноситься с Якутском, информируя воеводу о происходящем, а параллельно продолжая агитировать мятежных князцов. Логика его аргументов была совершенно четкой. Во-первых, его род был одним из первых покорен Тыгыном, натерпелся всякого и не хотел больше, считая русских скорее освободителями, нежели врагами. Во-вторых, Нам в случае провала бунта попал бы под раздачу в первую очередь, и кому-кому, но Мымаку следовало подстилать соломки побольше.
А главное, у мудрого человека не было никаких сомнений насчет соотношения сил. «Что толку с того, – говорил он, – что мы убьем сейчас эту жалкую кучку? Убьем и убьем. Потом неизбежно придут другие русские, за дело возьмутся всерьез и всех нас перебьют». Как бы то ни было, осада не задалась: жалкая кучка служилых, мучась к тому же холодом, голодом и цингой, держалась, отражая огнем попытки штурма, – довольно слабые, потому что боотуры были сильны в ближнем бою, но совершенно не умели брать крепости, даже крохотные, а поджечь обледеневшие постройки нелегко. Неудачи провоцировали ссоры, князцы злились, еда кончалась, и в конце концов дружинки тойонов начали уходить из-под Якутска, несмотря на угрозы и просьбы «царевичей». В итоге пришлось уходить в свои ата уусы и им, – а Головин, получив в апреле подмогу (вернулись, наконец, казаки из верховьев Лены), ударил сам. К концу мая один за другим наскоро обустроенные «бунташные острожки» были взяты (благо дерево уже могло гореть). 23 пленника из числа самых знатных (в основном «Тыгиненки», как главные «смуте заводчики») были публично выпороты и повешены, а все остальные, «пришедшие в разум» вовремя, получили прощение. Оставшиеся же в стороне от бунта – даже и поощрение в виде снижения ясака «на некое время» (Мымак и вовсе пожизненно).
Дети разных народов
События, в советской историографии именовавшиеся «якутским восстанием 1642 года», а в сказаниях самих саха называемых «войной детей Тыгына», стали финишем присоединения к России огромного края по берегам Лены от верховьев ее до устья. Бунты ясачных – и саха, и тунгусов, – случались, разумеется, и позже, однако уже только против беспредела сборщиков и промышленников, и по итогам мятежей представители центра наказывали как инородных «смутьянов», так и зарвавшихся русских «татей». О каком-либо протесте против «государевой власти» речи уже не шло. Ни разу. В этом смысле, безусловно, вновь возникают ассоциации с испанской конкистой в Южной Америке. Определенное сходство в смысле покорения огромных территорий мизерными силами, а затем и в обуздании государством своеволия «старожилых», конечно, есть. Но. В Перу – а особенно в Тауантинсуйю – донам пришлось иметь дело с аборигенами полуголыми, деморализованными реализацией легенды о «прибытии белых людей из-за моря», боявшимися лошадей и выходивших с каменными топорами против латников. А боотуры саха сами были латниками в полном смысле слова, лошадей не боялись ничуть, никакими легендами не заморачивались и умирать не боялись совершенно.
Однако до упора не сражались, да и вообще сражаться не очень хотели. В появлении русских для них было немало минусов, но и немало плюсов. У «длинноносых» можно было многому научиться, с ними приятно было торговать и они видели в саха людей, равных себе, легко вступая в браки, причем самые настоящие, – что, кстати, очень поощрялось правительством, – и не только казаки женились на девушках саха, но и мужчина саха, женившийся на русской, редкостью не был. В итоге в течение следующего века численность «якутцев» почти утроилась. Вот и делайте выводы.
А что еще интересно, так это интерпретации. Забавляет возникшая лет двадцать назад тенденция придавать походам Тыгына значение «борьбы за объединение Якутии», а одиссее «Тыгиненок», еще больше, «национально-освободительной борьбы якутского народа». Сам «царь», судя по легендам, собирал коней, коров и боотуров, совершенно не собираясь что-то объединять, его сыновья совершенно явно бились за право собирать ясак для себя, ни с кем не делясь, а мелкие князцы, в отличие от Тыгына, до упора защищавшие свои ата уусы, именно свои ата уусы и защищали, вовсе не видя хоть какого-то «национального единства» с соседями. Да простят меня те, кто решит, прочитав эти строки обидеться, но этносы Сибири, как сие кому-то ни скорбно, по мере движения на восток создавало, не информируя самих аборигенов, как раз царское правительство. В чисто прагматических целях (ради удобства управления) и сугубо административным путем. В архивах даже сохранились документы о принципах «народообразования»: создавать волости на основе понятного всем языка, основного рода деятельности и так далее.
Впрочем, все это в скобках, как необходимое, но все же ответвление от темы. Нет, разумеется, оно и важно, и полезно, да и любопытно, однако, прояснив ситуацию с народом саха, необходимо вернуться лет на 50–60 назад, когда русских на Лене еще в помине не было, а молодой, полный сил и страсти Тыгын решал стратегические вопросы, совершенно не загадывая, что, решая, срывает лавину…
Глава XVIII. Падение пегой орды
История Великого Переселения народов изучена вдоль и поперек. Все в курсе: китайцы нажали на хунну, хунну еще на кого-то, кто-то еще еще на кого-то, дело дошло до готов и алан, готы и аланы рванули кто куда, по головам свевов с бургундами, – ну и. А потом повторялось не раз. Да и ранее не единожды случалось, только известно меньше. Так всегда бывает. Чуя за спиной смерть, пичужка становится ястребом, остановить которого невозможно, и остается только бежать, в свою очередь расклевывая тех, кто встал на пути, не догадавшись вовремя стронуться с места, тесня живущих дальше. Именно так случилось и в местах, где летом солнце не заходит, а зимой не показывается. Задолго, лет за сорок, до появления русских усиление в краю саха Деда Баджея, а затем и страшные походы Тыгына-мстителя, решившего извести тунгусов, едва не погубивших род Эллея, под корень, взлохматили Северо-Восток Евразии. Тунгусы, хотя и парни не промах, столкнувшись с кангаласскими боотурами, сообразили, что мир изменился, после чего побежали на восток, не особо просчитывая, что и кто впереди. Создав своим бегством проблему соседям-охотникам (говорят, палеоазиатского корня, но это неважно), называвших себя «омок», что значит «особенные». Впрочем, впредь, дабы не путаться, будем называть их, как ныне заведено, юкагирами…
Закон жизни
Они действительно были не как все. Это факт. Совсем небольшой – в лучшие времена максимум 5 тысяч человек – народец знал железо, имел «шонгар шорилэ» (что-то вроде письменности), а в сказаниях северных саха, саха-эвенков и тунгусов и поныне поминается с почтительным придыханием, как люди «гордые, веселые и опасные». Много позже, уже в XVIII веке, когда – по словам их потомков – «пришла пора бед, отнявших у нас даже имя», Иоганн Готлиб Георги, бывавший в их кочевьях, указывал, что «это и ныне еще нарочито знатный народ, кочующий в ближайших к северу якутских местах и около самого Ледовитого моря, в восточной стороне Лены, до самой Колымы». Спустя почти век то же самое подтверждал и Владимир Иохельсон, изъездивший всю тундру вдоль и поперек. «Вообще известно, – писал он, – что охотничьи племена воинственны и храбры, но юкагирские “тэнбэйе шоромох” («могучие мужи») славились на всем северо-востоке силой и ловкостью». По сей день в якутских сказаниях некоторые особо запомнившиеся ханичэ (военные вожди омоков), – вроде Юнгкебила и Халанджила, – считаются символом идеальных воинов. Их «бойкие парни», низкорослые, широкоплечие и очень прыгучие, умели уворачиваться от стрел, были очень сильны в рукопашной, легко шли один против троих или втроем на белого мишку, презирали оборону, предпочитая атаковать.
«Они никогда не ждали, – пишет тот же Иохельсон, – но сами искали врага. Сколько бы их ни было, юкагиры искали тунгусов и коряков, шли к их стойбищам, а не найдя, шли искать в другое место, считая позором вернуться домой, не сразившись», и, похоже, просто не умели бояться. Вообще. При первых встречах с русскими, естественно, вылившихся в схватки, потому что одулы и вадулы (ветви юкагиров), выйдя в поход, атаковали все, что движется, «юкагиры затыкали уши, чтобы не слышать выстрелов, и направляли свое оружие главным образом на лошадей, которые были для них совершенно неизвестными, внушающими беспокойство животными». Особенностью этого народа был также весьма своеобразный, не свойственный в тундре более никому кодекс чести. Им нравился сам процесс битвы – хоть с людьми, хоть с белыми медведями, хоть с бурыми, хоть с моржами, – и они (чего не делал никто другой в тех местах) «благодарили духов, если те посылали им большое число врагов, а если посылали малое, отказывали в благодарности; когда же битва выходила большая, и убитых неприятелей случалось 50 или 70, одаривают землю бобровыми, собольими и лисьими шкурками, оставаясь порой без шкур вовсе».
Тропой тысячи солнц
Тем не менее, будучи «лихими забияками», они не отличались кровожадностью. Бились ради победы. В набегах, одолев, убивали «нахалов», а бросивших копья щадили, если же нападали на них, опять-таки одолев, оставляли незадачливым агрессорам нескольких оленей с напутствием «Идите в свою страну, возьмите этих оленей, ешьте мясо в пути и не возвращайтесь; если будем нужны, позовите, придем сами». Во избежание неприятностей, самым крутым вражеским силачам, правда, все же подрезали сухожилия, но возведенное в доблесть презрение к обороне подчас играло с омоками и их потомством злую шутку: убежденные, что отразят любое нападение, они не любили принимать меры предосторожности, частенько сознательно ставя себя – вящей славы ради – в затруднительные положения. Известное предание о шамане-предсказателе повествует, как «молодые храбрецы, узнав о приближении тунгусов, продолжали развлекаться и не готовились к сражению. Тогда шаман отдал духам собаку, распорол ей живот и развесил кишки вокруг своей юрты. Это сделало его дом неуязвимым для ламутов. Все остальные погибли в бою, смеясь и распевая песни».
Были, однако, и другие особенности. Возможно, в силу крайней малочисленности, нерушимым правилами юкагиров были «сам погибай, а товарища выручай» и «один за всех, все за одного». Любое совместное действие, пусть даже случайно, только что познакомившихся вадулов и одулов, предполагало готовность делиться всем, что имеешь, по первой просьбе, а любой отказ (без веской на то причины) считался оскорблением, что не прощалось. Более того, грубым нарушением закона, делавшим «жадного» как бы уже и не юкагиром, подлежащим «изгнанию с тверди». Предельно четко отражает психологию потомков омоков реальный случай, недавно описанный Александром Немировским-Вторым. Если совсем кратко, два юкагира отправились на рыбалку, один имел много табака и все время курил, второй табака совсем не имел, но очень хотел покурить. Раз попросил, два попросил, три попросил, а получив три отказа, перестал просить. Зато на биваке зарезал «жадного», вырезал прокуренные легкие, высушил, нарезал – и курил всласть, на всем пути к русскому исправнику, сдаваться которому отправился тотчас. Потому что, как ни крути, убил спутника, а это плохо. Но по дороге не взял из кисета ни понюшки табаку, ибо не ради воровства убил. Кончилось дело тем, что бывалый и мудрый исправник, вникнув в суть, мужичка отпустил, рассудив, что все правильно, – а нам с вами сей сюжетец, имевший место уже в конце XIX века, дает полное понимание, какими были юкагиры в предшествующие столетия.
Тысяча дюжин
Вот эта-то «Пегая Орда», свистящие воины-охотники в нартах, запряженных пятнистыми оленями, впятеро уступая числом восточным соседям, родственным чукчам и корякам, считавшим себя тогда почти единым народом, была гегемоном тундры на протяжении почти всего XVII века. Чукчи и коряки юкагиров панически боялись, убегая из мест, куда добирались одулы и вадулы, – в результате чего, выйдя к Берингову морю, те рассекли единый регион обитания надвое, отделив Чукотку от Камчатки своеобразным «омокским клином». Война с тунгусами шла, не прекращаясь, с переменным успехом вплоть до появления первых казачьих «партий», после чего расклад сил на океанских берегах изменился. Тунгусы, как известно, имея за спиной жуткого Тыгына, а впереди – юкагирских «тэнбэйе шоромох», сочли за благо подчиниться «государевым людям» почти сразу, подписавшись платить ясак в обмен на защиту от врагов, что же касается омоков, то с ними вышло по-разному. Большинство, здраво рассудив, что теперь тунгусы стали «совсем другие, ласковые», предпочли не брыкаться, согласились платить скромный ясак и, наконец, заключили мир с вековечным врагом, на чем эпоха войн с тунгусами и завершилась. Однако несколько родов, с которыми казаки повели себя нагло, ответили адекватно, и после знаменитой стычки на Убиенном поле (в 1645-м), окончившейся поражением «длинноносых», присягу, данную России сородичами, объявили «большой для себя обидой», решив «немного подраться, чтобы свой нрав новым соседям показать». Вот только «немного» не вышло. На десятилетия вперед затянулась «ночь ссор» – междоусобиц, тем более ожесточенных, что воевали свои со своими. Тут, понятно, благородству места не было, и довольно скоро, как указывает Фердинанд Врангель, записавший рассказы стариков, еще помнивших старые времена, «многочисленный и сильный народ разбрелся кто куда, потеряв единство».
Собственно, именно в это время исчезает и название «омоки»: отныне в документах отмечены только «юкагиры» или (изредка) «одулы», зато, учуяв запах беды, не замедлила явиться и другая. В 1663-м в кочевьях Пегой Орды – тех, которые у Охотского моря и «ясачные», – впервые появляются ранее смирные и осторожные коряки. Сперва очень-очень осторожно, мелкими группами разведчиков, затем крупными, по 40–50 человек, группами, короткими ударами щупая на излом и при первом намеке на опасность быстро отступая с захваченными оленями и женщинами. Как считается (и, видимо, правильно считается), это была и месть за былые обиды, и нечто типа «превентивной войны» (казаков коряки не любили, а юкагиры считались их союзниками), но эту проблему юкагиры какое-то время решали вполне удачно. А потом пришел враг, справиться с которым не под силу никакому «тэнбэйе шоромох», будь он хоть самим Юнгкебилом или даже Халанджилом – «плохая гостья». То есть оспа. Сей подарок цивилизации крепко проредил все северные народы, но юкагиры и до того были малочисленнее всех, так что им пришлось по самому максимуму. К концу XVII века численность одулов и вадулов юкагиров уменьшилась вдвое, до 2,5 тысяч человек, затем, после двух подряд эпидемий, их стало еще меньше, и по подсчетам аккуратнейшего Якоба Линденау, к середине XVIII века одулов и вадулов всех «тундровых» и «береговых» родов оставалось чуть больше полутора тысяч душ. Причем связи между родами были почти утрачены, а около трети выживших – называемые «чуванцами» – попали в зависимость от чукчей, перейдя даже на их язык. А коряков, даже после оспы, которая к ним была милостива, оставалось не менее 11–13 тысяч душ. А чукчей, которых «плохая гостья» тоже почти обошла стороной, – примерно 8–9 тысяч.
Тропой тысячи солнц
И Пегая Орда перестает существовать. Одулы и вадулы по-прежнему ничего не боятся, они, как и встарь, любят и умеют валить белых медведей и бурых медведей, но сила солому ломит. На значительной части бассейна Анадыря и сопредельных районов Чукотки к середине XVIII века юкагиры были истреблены и вытеснены. Не помогла даже «мобилизация» женщин, ставших в это время «мужчинами без члена», геройствующих в битвах, а в некоторых родах даже получивших титул ханичэ. Былых хозяев Белого Безмолвия выбивают с берегов Берингова моря, поставив точку на существовании «клина». Их оленей угоняют едва ли не в открытую, причем уже с двух сторон, вынуждая покориться и стать чем-то вроде ассимилируемых клиентов. Единственной же надеждой немногих не желающих исчезать родов с этого момента становятся русские, «добрыми собаками, верными оленями» которых они с этого момента начинают себя называть. Но. Как ни странно, даже в таких обстоятельствах, когда от помощи «государевых людей» зависит выживание всех-всех, потомки омоков остаются теми, кем были. Они готовы служить верой и правдой, они и служат, но, «собаки» или нет, с ними, как и раньше, лучше вести себя по-человечески, потому что обид они по-прежнему не прощают. Страницы «Описания Земли Камчатки» Степана Крашенинникова, видевшего многое своими глазами, а уж слышавшего так и вовсе из первых уст, полны упоминаниями о юкагирских бунтах, случавшихся лишь оттого, что казачьи командиры вели себя с юкагирами неподобающе сверх допустимого.
С этим столкнулся Атласов, славившийся жестокостью и самодурством: «На Палане изменили ему его союзники юкагиры, 3 человек служивых убили, да 15 человек и его Атласова ранили, однако ж намерения такого, чтоб всех побить, не имели и не исполнили» (то есть не война, а что-то типа предупредительной забастовки). С этим, получив по максимуму, столкнулся и Афанасий Петров, нравом даже более крутой, нежели Атласов: «Декабря 2 дня 1714 года бывшие с Афанасием Петровым юкагиры, не доходя до Акланского острожка, на Таловской вершине убили его Петрова со служивыми, и камчатскую казну разграбили». И так далее. Если уж доставали по-настоящему. Причем, если самих юкагиров для «предупреждения» оказывалось мало, они находили иные средства: «Будучи трое, сами не возмутились, но угрозами склонили тамошних коряков числом десятка с два к измене и убийству камчатских приказчиков» (иными словами, репутация юкагиров никуда не делась и при соотношении три к двадцати коряки делали то, что бывшие гегемоны им приказывали). Русское начальство, кстати, судя по всему, этот нюанс понимало и учитывало: виновником описанных инцидентов, конечно, изловив, наказывали, но не очень круто, стараясь максимально выяснить, почему дошло до крайности. Более того, чуть ли не ежегодно выходили инструкции, предписывавшие «юкагирский тот мирный люд и править миром, без нужды никаких утеснений не чиня». В связи с чем бунты были очень редки.
Белое безмолвие
К слову, затрудняюсь объяснить, почему (возможно, в связи с «похвальной верностью»), отношение русских властей к юкагирам вообще было каким-то особым. Много позже, в 1810-м, когда в тундре как бы воцарился мир, в связи с чем служба одулов с вадулами была уже не особо нужна, случилось событие, именуемое в юкагирском фольклоре «годом совсем без еды». После необычно мощного паводка на Колыме и ее притоках, унесшего все юкагирские сети и запасы пропитания, да ко всему еще и усугубленному мором на оленей, начался голод, быстро поставивший крохотные роды на грань полного вымирания. Соседи же, чукчи, быстро выцыганив у помирающих юкагиров все, что было ценного, делиться припасами «по злой хитрости вовсе перестали». В такой обстановке, откликаясь на мольбу князцов Николая Трифонова и Михаила Никифорова, прилюдно плакавших после воскресной обедни на паперти Среднеколымска о «вспоможении», население городка «Христа ради, от всей русской души» устроило сбор пожертвований. Собранного с лихвой хватило для спасения голодающих. А вскоре, «по примеру граждан добродушных», отреагировало и правительство, учредив сеть «рыбных и всяких иных экономических магазинов» для помощи (безвозмездно или в беспроцентный кредит) «верным инородцам», – что стало, по сути, началом имперской социальной политики. Впрочем, это было потом, и сильно потом. А пока что, на грани XVII–XVIII веков, главной угрозой существованию «истаявших числом мало не до конца» одулов с вадулами был не голод – тундра и реки кормили их неплохо, – а нечто совсем иное.
Если от коряков они еще как-то худо-бедно отбивались, то в это время в наступление на их стойбище перешли чукчи, справиться с которыми своими силами никакой возможности не было. В 1701-м анадырские одулы впервые нарушили кодекс чести, запрещающий юкагиру просить помощи от кого угодно, кроме товарища. Подав челобитную властям Анадырского острога, они молили его усмирить «тех всяких, кто чинит в промыслу оленей смертные убиства и грабеж». По большому счету, просьба была не к месту: «чукочи» считались народом опасным, русских не особенно беспокоили и особого интереса не вызывали. Тем не менее вариантов не было. Как отписал позже не слишком довольному начальству в Якутске сотник Сидор Меркульев, «дельце то нам тут и вовсе не к стати, и не ко времени, да если дружных ясачных человечков смертным боем чужие бьют так русскому от не встать супротив того на заступу почли мы за великий грех…»
Глава XIX. Северная столетняя (1)
Гонимые, гонители…
О могучих, легендарных, непобедимых, всесокрушающих, и так далее, и тому подобное чукчах – как я уже писал, начиная цикл, – нынче стало очень модно рассказывать. Вернее, пересказывать пару удачных книг и десяток сколько-то толковых статей, лишь изредка стремясь избежать прямого плагиата, давая ссылки, в наилучшем же случае добавляя что-то – как правило, жуткие подробности, – от себя. Посему постараюсь быть краток, сколь смогу, самобытен и как можно меньше повторяться….
Итак, будущие «ужасные и непобедимые» (раньше считалось, что палеоазиаты, теперь склоняются к тому, что пришли откуда-то из байкальско-саянского региона) – еще не разделившиеся на чукчей и коряков, а один народ, – осели на Северо-Востоке Евразии очень, очень давно. Долгое время, едва ли не три тысячи лет, жили – не тужили, бродя по лесотундре и промышляя в основном охотой (много позже, правда, приручили оленя). Называли себя ыгъоравэтьэт – настоящие люди, пребывая в святой уверенности, что все остальные (которых встречали очень редко) – не настоящие, а меньшая часть, прижившаяся на берегу, промышляя рыбу и морского зверя, а ездившая на собаках, имела дополнительное самоназвание – акаьыын, то бишь «поморы». Вот этих-то мирных людей в середине XV века крепко потеснили юкагиры, любившие простор, а спустя сто лет, когда боотуры Тыгына столкнули лавину переселений, они, попав под раздачу, были и вовсе отброшены далеко на восток, где, рассеченные надвое, спустя лет пятьдесят разделились на чукчей и коряков. «Люди нерпы были очень смелые, – говорится в юкагирских сказаниях, – и люди лося были очень смелые, но не устояли они, ушли прочь», найдя, в конце концов, новую родину там, где нынче Чукотка, в землях азиатских эскимосов, которые встретили беглецов дружелюбно, предложив жить по соседству.
Может быть, конечно, и не очень предлагали, но было их куда меньше, чем пришельцев, а тем отступать было некуда. Так что подружились. Правда, до того (юкагиры кусали за пятки) попытались уйти еще дальше, за пролив, – но тут не вышло. Другие эскимосы, американские, с азиатской родней враждовавшие, мало того что дали отпор, так еще и в такой форме, что стали лютыми врагами навсегда. Юкагиры же, выйдя к Берингову морю, пару-тройку раз атаковав и поняв, что на этом рубеже изгнанники встанут насмерть, плюнули да и принялись осваивать захваченные угодья.
Жили «настоящие» в полном единении с природой, научившись за время скитаний брать у тундры, моря, леса, друзей и врагов все полезное. Традиция утвердила жесткий рацион, пропорции мяса и рыбы, трав, ягод и даже мхов. В результате, кто не погибал, жил дольше, чем многие даже южные народы. Были крепки телом, как юкагиры, но превосходили их ростом. Умели учиться, а обучившись чему-либо, доводить воспринятые навыки до совершенства. Скажем, ярангу, этакую «очень северную юрту», что-то подсмотрев у юкагиров, а кое-что у эскимосов, максимально приспособили хранить тепло в самые лютые морозы и не падать в самые буйные метели. Установили план стойбища: 2–5 (редко 10) яранг линией с запада на восток, чем западнее, тем почетнее, и при малейшей возможности – на холмике, чтобы видеть, что вокруг. С непременной установкой неподалеку легких рам-укреплений – на случай нападения, ибо враг не дремал никогда. К слову, хотя открытого боя, с назначенным местом и временем встречи, не боялись, но молодечество ради молодечества, как у юкагиров, не одобряли: своих старались беречь. А потому, воюя, нападать – с моря или посуху – старались ночью, или на рассвете, или когда мужчин не было. Налетали, заваливали яранги, искалывали копьями, а затем уносили добычу в байдары или угоняли оленей. Воюя, не брезговали военными хитростями, ямами-ловушками нескольких видов и ядами. Даже азы фортификации освоили, и тут уж крепко думали сами: имея собственное ноу-хау в виде «вагенбургов» из связанных нарт и взяв от эскимосов идею «ледяных крепостей», додумались наваливать даже каменные «бастионы», захватить которые – понятия «осада» не знали, – если мужчин доставало, противнику было довольно трудно. Впрочем, и сами, если видели, что стены высоки, а защитники настороже, могли – конечно, когда шли не мстить, а грабить, – отказаться от нападения и уйти искать удачу в другие места.
Знание – сила
С течением времени те, кому выпало стать «береговыми», или «поморами», присвоили себе более почетный (хотя никаких выгод не приносящий) статус, нежели пастухи-оленеводы. Плавать, правда, так и не научились (вода считалась обителью злых духов), но стали мореходами на зависть даже старожилам побережья. Довели до ума эскимосские лодки, каяки, и байдары, крупные суда-каркасы, обтянутые все теми же кожами, добившись в итоге почти полной устойчивости при любом ветре и всякой волне. Морем и кормились, беря рыбу, нерпу, а то и моржа – имена героев, убивавших «хозяина» с одного удара, входили в легенды. Экипажи (до десятка гребцов) формировались чаще из родичей, но могли пополняться и за счет достойных отпрысков других семейств. Из экипажей формировались «судовые братства», считавшиеся союзами прочнее кровного, и сама байдара считалась равноправным «братом», имевшим право на долю и от охотничьей добычи, и от военной. В общем, если кто-то еще не вспомнил о викингах, самое время вспомнить. И, точно как викинги, флотилиями от десятка до сотни, а то и полутора сотен байдар, ходили в очень дальние походы. Хаживали (это уже об «оленных») и в походы санные, против коряков. А потому мальчишек готовили к этому с раннего детства, обучая нескольким видам борьбы, кулачного боя, фехтования на всем, стрельбе, тренируя в пяти видах бега, а также учили некоторым специфическим приемам вроде «прыжков-полетов», «игры с огнем» и «ловли стрелы на звук». Тут, опять-таки, не стеснялись учиться, многое взяв от юкагиров, многое от эскимосов азиатских, а многое и от лютых врагов, эскимосов восточного берега Берингова пролива. Впрочем, обо всем этом не раз писано.
К слову, обучая парней, не забывали кое-что преподать и девочкам. К аркану, веслу и ножу были они привычны не хуже парней, с детства зная, что, ежели кормильца не станет, ставить на ноги сирот придется в одиночку. Воспитанию соответствовало снаряжение: луки, копья нескольких видов, ножи, булавы из моржовой кости (одни и для охоты, и для битвы). У многих – знаменитые «крылатые» доспехи из клееной кожи, обшитые костяными нашлепками, способные, при должной ловкости, отбивать стрелы. В отличие от мирного времени, когда делами стойбища управлял своеобразный совет мудрых дедушек (глав семей), в походы ходили под руководством «умилыка» (военного вождя), как правило, сильнейшего – то есть и богатейшего – воина стойбища, имевшего обычно старичка-советника, или (если выступало много стойбищ) избранника умилыков. «Главного командира над собою, – писал в 1756-м казак Борис Кузнецкий, вернувшись из “чукоцкого” плена, – они не имеют, а живет всякой лучший мужик со своими родниками, и тех лучших мужиков яко старшин признают и почитают по тому только одному случаю, кто более имеет у себя оленей. Но и их вменяют ни во что, для того, ежели хотя на малое что осердятся, то и убить их до смерти готовы».
Я люблю тебя, жизнь…
В общем, ничем слишком уж этаким «настоящие» от иных народов региона не отличались. Бы. Но. Особенным, неведомо откуда взявшимся элементом их мировоззрения, отличавшим чукчей от иных народов тундры, было отношение к смерти. Не столько чужой (юкагиры и коряки, хоть и знали цену милосердию, и не брезговали им, тоже убивали легко, в рабочем порядке, а то и уважения ради), а к своей собственной. Глава семьи, он же семейный шаман, властвовал над жизнью любого родича и, решив эту жизнь прервать, не был обязан что-то объяснять ни обреченному, ни окружающим. Соседи могли разве что пожать плечами, посудачить, но не более того. Вообще, умирать не боялись совершенно. Естественно, в бою, – «эти мужчины… – отмечал Карл Генрих Мерк, – меньше боятся смерти, чем упрека в трусости», – и, естественно, в плену – «предпочитая смерть, – это уже Адольф Эрик Норденшельд, – потере свободы». Хорошим тоном для побежденного в поединке считалось мягко подтрунивать над победителем, чтобы не медлил с последним ударом. Но были и причины, многие из которых понять трудно. Ясно, почему женщины побежденных – это не было законом, но считалось очень достойным поступком приличной дамы, – закалывали себя и детей специальными ножами или давились. Понятно, почему старики, которым наскучило жить, просили ближайших родственников, жен или сыновей, об удавлении (смерть от родных рук считалась легкой, а самому назначить срок ухода, избавив себя от немощи, а семью от обузы, было хорошим тоном). И отчего предпочитали покончить с собой мужчины, «по воле духов» – случалось такое – «ставшие женщинами» (с соответствующими последствиями), тоже не бином Ньютона.
Можно понять многое. Очень. Однако, чего нам с вами уразуметь невозможно, так это привычку совать голову в петлю, кидаться на копье или прыгать со скалы просто так, от плохого настроения, проигранного спора, мимолетной обиды или в гневе на сварливую жену. При этом, раз уж было решено, никакие уговоры не действовали, да семья, хоть и тужа, не отговаривала: считалось, что просящего позвали духи, а спорить с духами себе дороже. В конце концов, такая смерть гарантировала человеку прямую дорогу в «верхний мир» добрых духов, с последующей достойной реинкарнацией, а вот умереть от болезни или старости означало опуститься в «нижний мир», к духам злым, и тут уж ничего путного ждать не приходилось. К слову сказать, актом предельного гуманизма считалось, победив врага и забрав «полезных людишек» в рабство – для женщин и детей терпимое, а для мужчин страшнее любых мучений, – перебить всех увечных, дряхлых и больных. Ибо, во-первых, «Для чего жалким мучиться?», а во-вторых, опять-таки, убитые оружием уходили в «верхний мир», где всегда тепло и сытно. На умилыков, оставлявших ненужных пленников в живых, косились неодобрительно, как на зверей в образе человеческом, вовсе не имеющих сердца. Зато спокойно, как мы уже знаем, относились к праву вождя избавиться от любого, кто ему не нравился, вызвав его на поединок, исход которого был ясен заранее. С другой стороны, правда, и любой охотник, желая занять место вождя, мог вызвать умилыка на поединок, в случае удачи (убив, покалечив или вынудив сдаться) занимая место побежденного. Вернее, покойного, ибо после такого позора бывший вождь, как правило, накладывал на себя руки.
Народ, короче говоря, был гремучий. Дуэлировали почище мушкетеров короля, по любому пустяку, а то и вовсе без повода. Не сойдясь во мнении, скажем, о погоде. И тут уж самое важное было обставить все по скрупулезно разработанным правилам, объяснив стойбищу даже не причины поединка (это считалось личным делом двоих, лезть в которое непозволительно никому), а его цели.
Убить, значит, убить. Ранить, значит, ранить. Опрокинуть, значит, опрокинуть. А вот спонтанный мордобой, закончившийся нечаянным смертоубийством, не поощрялся, ибо, если тотчас не взносился соответствующий выкуп, – причем в размере, определенном родственниками убитого, – мог стать поводом для кровной мести, порой до последнего мужчины в семье.
Что такое хорошо
Считать чукчей «агрессорами и экспансионистами» оснований нет. Единой власти не имели, пищи имели вволю, территорий тоже в изобилии, так на фига захваты? Понятие политики отсутствовало. Modus же vivendi был прост: вот – мы, «настоящие», а вот – все остальные, «недолюди». В понятие «мы» включались только свои: «морские» и «оленные» плюс практически ассимилированные азиатские эскимосы, как младшие, но родные. Легчайшее исключение (о чем позже) делалось для некоторых коряков. Все прочие, второсортные, считались или «послушными» (как поздние, сломавшиеся юкагиры), или врагами. Кто есть кто, определялось по четкому критерию: поскольку «настоящие» по определению ничего плохого сделать не могли, значит, все, что они делают, – хорошо. Поэтому, чтобы попасть в «послушные», следовало выдержать экзамен – приехать и долго терпеть пинки, плевки и другие издевательства, не очень болезненные, но максимально обидные. Но и «вражество» имело критерии: кто-то был просто чужаком, которого грабили и убивали, но без ненависти, даже не терзая перед смертью, а кто-то – «таннитом». То есть «врагом истинным», без имени и без лица, воплощением Абсолютного Зла, в борьбе с которым никакие правила не действуют. При этом статус «таннита» не был постоянен, однозначно «истинным врагом» считался только кровник, а соседей возвышали в этот ранг и понижали по обстоятельствам. Долгое время «таннитами» считались юкагиры, однако после развоплощения народа к ним начали относиться с некоторым снисхождением, слегка жалея поверженных властителей тундры, а «приставших», то есть «послушных», живших рядом с чукчами на положении клиентов, не очень даже обижая. Зато после обретения общей границы с коряками в «танниты» произвели их. Между прочим, с их же подачи (прогнав юкагиров с побережья, коряки, сами о том не думая, обрели общий фронтир с «настоящими»).
И, опять же, имела место дифференциация: память о былом родстве сохранялась, и коряков рассматривали как «почти настоящих», отчего оседлых не трогали, а вот кочевым приходилось туго. Поскольку у тех было много оленей, гораздо больше, чем у чукчей, а чукчам хотелось, чтобы было наоборот, чему «танниты»-владельцы, нагло не соглашаясь, что дурно «настоящие» поступать не могут по определению, всеми силами мешали. Без особого, правда, успеха: хотя и жили они примерно по тем же правилам, что и чукчи, были воинственны не меньше и даже частенько нападали первыми, но как-то так вышло, что «настоящим» уступали по всем параметрам. «Оные чукочи, – указывал в XVIII веке Иоганн Георги, – жесточае всех сибирских народов… Двадцать чукчей прогонят верно пятьдесят человек коряков, полусотня разгонит, пожалуй, сотен пять».
Как бы то ни было, «оленные войны», то есть угон оленей с обнулением всего, что препятствует, будоражили тундру с начала XVIII века до конца третьей его четверти. А вот потом, когда чукчи, отняв у дальней родни почти все стада (говорят, тысяч триста голов), сделались истинными «чаучавыт», – «богатыми на оленей» (откуда, собственно, и пошло «чукча»), – «настоящие» сменили гнев на милость. Бывшие кочевые коряки, став жалкими нищими, перестали быть и «таннитами». Их, конечно, продолжали слегка грабить, но уже почти не убивали, глядя свысока, с легким снисхождением, почти как на юкагиров. О былой лютой вражде вспоминали лишь у костра, слушая сказки стариков о храбрых силах прошлого – Кунлелю, Чымкыле, Айнаыргыне, Эленнуте, Чочое, Лявтылывалыне и прочих, дававших злым таннитам выпить и закусить.
Алмазный панцирь не спасет тебя, о враг!
Самыми же злыми, почти без перерывов «таннитами» считались американские эскимосы. Именно в их края из года в год двигались флотилии байдар, о которых шла речь выше. Причем зипунили за морем не только «морские настоящие», но также их союзники-эскимосы, и даже «оленные настоящие». Байдар у них, правда, не было, но в этом смысле существовала своеобразная кооперация. Зимой кочевые приезжали к береговым, набирали добровольцев, усаживали в нарты и шли шарпать коряков, зато летом, наоборот, добровольцев в вик набирали береговые. Ясен пень, по возвращении щедро оплачивая услуги. Вот эти войны, основанные на взаимной ненависти, порожденной памятью о многих обидах, были свирепы. В плен попадать не рекомендовалось: тех, кому не повезло пасть или выпросить быструю смерть у победителя (такое право у воина было), ждали чудовищные мучения (просверлить череп костяным сверлом и вытащить мозг заживо считалось относительной милостью). Или рабство, условия которого напоминали растянутую во времени казнь, ускорить которую рабы предпочитали самоубийством.
Порой безобразие принимало столь масштабные формы, что происходящее на далекой периферии начинало волновать столицы. В 1793-м Сенату пришлось даже рассматривать жалобу американских эскимосов, поддержанных несколькими английскими капитанами и просивших принять меры против «злых чукоч, ежегодно на байдарах приходящих, истребляя их убийством, имение грабя, а жен и детей воруя». Впрочем, если война становилась затяжной и бесперспективной для обеих сторон, заключалось «торговое перемирие» с целью попробовать замириться. Торговали довольно специфично. Стороны, на всякий случай, являлись во всеоружии, а обмен товаром обычно был «немым»: товары клались на землю, а покупатели подходили и клали «цену» рядом, в свою очередь, отходя. Все происходило долго, громоздко, и часто недоразумения на торгу провоцировали очередную войну. Все равно, поддельные люди ни на что другое, кроме как убивать их, не годны.
И только одного врага чукчи считали равным себе. Не таннитом. И не, скажем так, настоящим «настоящим» – это было бы уже чересчур. Но, безусловно, и не «не настоящим». Даже не «почти настоящим», как коряки. А «таньги». То есть «параллельно созданным»…
Глава ХХ. Северная столетняя (2)
Знакомясь с чукотским фольклором, в какой-то момент начинаешь недоумевать. Как определить новое явление, умилыки и их контингент явно не понимали. Русские, с одной стороны, были слишком чужие, непохожие, неясно, откуда и зачем взявшиеся, однако были как минимум равны чукчам силой, а значит, и всем прочим. Кроме того, при всей крутости по отношению к непокорным, они очевидно не стремились уничтожить всех «настоящих», а следовательно, не годились и на роль «таннитов». В итоге, укладывая новацию в мифологическую картину мира, пришли к тому, что таньги, скорее всего, созданы – то ли из моржей, то ли из собак, то ли еще из чего-то полезного (варианты разнились), – теми же добрыми духами, что и сами ыгъоравэтьэт. Чтобы жить с ними в ладу и производить то, чего сами «настоящие» делать не умеют (табак, сахар, соль, железо и так далее) и привозить это чукчам, взамен получая моржовую кость, шкуры и прочие хорошие вещи, которые чукчи делают лучше. Но вот беда, по каким-то непонятным причинам – тут мнения опять же расходились – начали действовать вопреки воле создателей…
Любо, братцы, жить?
Такая космогония, впрочем, возникла не сразу. Впервые же столкнувшись с «таньги» (в 1641-м), «настоящие», еще не зная, с кем имеют дело, попытались отнять у хлопцев Семена Дежнева ясак, собранный с юкагиров. Но не обломилось. Казаков было полтора десятка, претендентов на приз примерно втрое больше, но все-таки русские отбились и без потерь вернулись в Якутский острог. Позже, когда Дежнев с Зыряниным основали Нижнеколымский острог, чукчей там уже не водилось (юкагиры, еще бывшие в силе, разъяснили им, что чужие здесь не ходят). 20 июня 1648 года, наконец, случилось серьезное: кочи Дежнева, Попова и Герасима Анкудинова, растрепанные бурей, причалили близ стойбища чукотского вождя Эрмэчьина. Сперва все было мирно, познакомились и разошлись, но Анкудинов вернулся, разграбил и пожег стойбище Эрмэчьина, а затем погиб в море, а отдуваться пришлось ни в чем не повинным Дежневу и Попову. Взбешенный умилык атаковал их бивак, Попов был ранен, казаки сброшены в море и с трудом, под градом стрел, ушли, хотя начиналась буря, которая и разметала кочи в разные стороны. Экипаж Попова угодил на Камчатку и полностью погиб от цинги и корякских копий, а Дежнева выбросило на берег за устьем Анадыря, где в ходе зимовки погибло 12 человек из 25, но Семену все же повезло выжить и, добравшись до юкагиров, заложить будущий Анадырский острог.
Меж тем с 1649 по 1650 год нижнеколымские казаки, откликаясь на просьбы юкагиров, готовых и ясак платить, и на все, что угодно, лишь бы им помогли против звереющих день ото дня «настоящих», четырежды учиняли походы в тундру, стремясь разыскать чукчей и усмирить их. Все четыре экспедиции завершились неудачно: дважды так никого и не нашли, а дважды нашли, сколько-то убили, но и сами отступили с потерями. Так началась длинная и бестолковая война, вернее, бесконечная серия стычек: чукчи атаковали промышленные партии, грабили купцов, обижали юкагиров, находившихся под «государевой опекой», атаманы не оставались в долгу, присылая в помощь юкагирам небольшие отряды служилых, игравшие роль руководящей и направляющей силы. Собственных больших походов пока что не организовывали (казаков было слишком мало – в походе 1659 года участвовали полторы сотни юкагиров и всего 19 «длинноносых», – а у чукчей уже была определенная репутация, и рисковать подчиненными русское начальство опасалось).
Время от времени, правда, удавалось как бы «замириться и договориться» с главами каких-то семей, это тотчас весьма торжественно оформляли письменно, титулуя визави «князцами» и даже «лутчими тойонами», давали бляхи, удостоверяющие право сбора ясака «по всем городцам» от имени самого государя, – и вскоре убеждались, что вышел пшик. Даже если умилык всерьез собрался не передумывать (что бывало, но редко), его слово для соседей и коллег ровным счетом ничего не значило, воевать запретить он мог разве что собственным воинам, да и то не всегда, а уж обязать платить ясак никого не мог и подавно. Да и сам не слишком усердствовал. Однако даже таких условно «верных» было совсем немного. Подавляющее большинство семей – «настоящие», не будем забывать, шли к пику могущества, – полагало, что таньги надо гнать, а юкагиров грабить, и точка.
Не курорт
Короче говоря, всю вторую половину XVII века в тундре шли бои разной степени накала, то мелкие, то вполне солидные. И далеко не всегда в пользу «государевых людей». Дважды, в 1653-м и 1662-м, многосотенные ополчения «настоящих» даже подступали к Нижнеколымску. Острог, правда, оба раза устоял, но, как бы то ни было, к 1676-му чукчи хозяйничали по всей округе как хотели, насилуя и убивая юкагиров, разбивая амбары и угоняя оленей. Гарнизон же (всего 10 сабель) тупо на это смотрел с башенок, не имея сил не то что защитить ясачных, но хотя бы выйти на рыбную ловлю или заготовку дров. Не хуже, но и не лучше обстояло дело в Анадырском остроге. Пара попыток атаковать его тоже не увенчались успехом, но в 1688-м чукчи, внезапно атаковав в ночи, уничтожили немаленький отряд стрелецкого полусотника Василия Кузнецова. Хоть какой-то реванш русским удалось взять лишь без малого пять лет спустя, в 1692-м, когда коменданту острога, «сыну боярскому» Степану Чернышевскому пофартило, сходив к устью Анадыря, «побить» несколько стойбищ («шесть да десять чукоцких юрт»), вернувшись восвояси без потерь. С какого-то момента выходить в тундру уже не очень и хотели. Но юкагиры, уже прореженные «плохой гостьей», умоляли о помощи, отказывать в которой, зная, что скажут Якутск и Москва, было еще страшнее.
А потому в апреле 1702 года, после тщательной подготовки, состоялся поход Алексея Чудинова, судя по количеству и качеству войска – 24 казака, 17 стрельцов, 110 юкагиров и коряков, – задуманный как последний и решительный. Первое серьезное столкновение вселило надежду: из примерно трех сотен «береговых», преградивших анадырцам дорогу, около двух сотен погибло, остальные бежали, а потерь убитыми по итогам не случилось. Однако уже назавтра откуда ни возьмись возникло ополчение «настоящих», пеших и «оленных», – и русские, выдержав пятидневную осаду в «гуляй-городе» из саней, в конце концов пошли «на побег в Анадырской», причем вовсе без ран удалось уйти едва ли трети. Вслед за тем, вновь, год за годом, плач и мольбы юкагиров, короткие вылазки, мелкие стычки, небольшие, но чувствительные потери, а в 1708-м – опять тяжелые бои с потерями и невнятным результатом. Все шло по кругу, изменить ситуацию не было сил, а на просьбы о подкреплениях Якутск и Петербург отзывались в том смысле, что-де «с бодростью и Господней помочью управитесь». Вопрос не считался приоритетным. И лишь к исходу второй декады века ситуация начала понемногу меняться.
Инициативник
Если раньше чукчи как таковые были в основном проблемой юкагиров, да еще казаков, хоть и без особой радости, но вынужденных бедолаг защищать, то примерно около 1718–1719 годов стало ясно, что их продвижение с полуострова к низовьям Колымы, обоим Анюям и Анадырю – не случайность. Шли новые претенденты на роль регионального гегемона, то есть конкуренты России, и этих конкурентов как бы покорные народцы боялись до визга. Белое Безмолвие почтительно только к силе, и при малейшей слабине, проявленной русскими, их влияние неизбежно обрушилось бы. В 1722-м якутский воевода Михайло Измайлов озабоченно докладывал шефу, сибирскому губернатору Александру Черкасскому, что якутские казаки «находят на восточных и северных морях и около Камчатской земли многие острова, иные пустые, а другие многолюдные», а в землях, прилегающих к российским, близ Анадырска, есть еще «непокоренные под российскую державу иноземцы».
Информация, еще лет за пять до того вполне вполне способная уйти под сукно, немедленно ушла в Сенат, и Сенат «принял оный рапорт со всем вниманием». Ибо уже вплотную решалась задача продвижения России на восток ради поиска путей в Америку и Японию, установления с ними контактов, торговли, а там, даст Бог, и чего-то еще, более вкусного. Эту задачу решали многочисленные экспедиции первой половины XVIII века, и вполне понятно, что оставлять у себя в тылу непокоренные земли, населенные боевым, агрессивным народом, невозможно. Тем паче что и Чукотка, и Камчатка были идеальными плацдармами для проникновения в любом интересующем Петербург направлении. А потому, видимо, не приходится удивляться, что поступившее в 1725-м в Кабинет министров «доношение» якутского казачьего головы Афанасия Шестакова, представившего центру план экспедиции для «конечного покорения инородцев и новых земель присвоения», привлекло внимание, и на следующий год Афанасий Федотович прибыл в столицу.
Судя по всему, вызвали его по инициативе сенатского обер-секретаря Ивана Кирилова, того самого, хорошо известного нам по делам башкирским, типичного птенца гнезда Петрова, из числа тех, кому за державу обидно (он и сгорел-то, если помните, на работе), и судя по всему же, казак чиновнику понравился. Хотя и был человеком сложным. Не интеллигентным и, скажем прямо, не совестливым. С легкой руки сибирского хрониста Семена Сбитнева считается даже, что «неграмотным и всем грамотным лютый враг». Что, безусловно, чушь. Якутскую бухгалтерию (документы сохранились) он вел самостоятельно и вполне успешно, читать-писать умел. И не только. В столицу казачий голова привез несколько добротно вычерченных чертежей, подписанных «Ciю картъ сочинилъ въ Санктъ Петербурхе iакутской жител Афанасей Феодотовичъ Шестаковъ», которые Кирилов, географ по профессии, счел «весьма отменными». Возможно, карты – в соответствии со знаниями того времени – были и несовершенны. Но тем не менее там уже значились и контуры Аляски, и Камчатка как полуостров, и Курильская гряда, и даже Япония, так что позже, разбирая бумаги Шестакова, сам Ломоносов отметит, что «сей казак поступил, как самые лутчие географы, когда ставят на картах подлинно найденные, но не описанные земли». По его мнению, даже «прекословные известия сличив одного против другого, ясно видеть можно, что положительные много сильнее отрицательных». В общем, хорошие были карты. Не зря, как указывает Сергей Марков, именно их в первую очередь украл позже французский разведчик Жозеф-Николя Делиль, появившийся в Петербурге как «верный друг России, ее успехам сочувствующий». А значит, не так и прост был Афанасий Шестаков, «грубый казачина» с Дикого Востока, – да и будь он прост, едва ли принял бы в нем такое участие проницательный обер-секретарь Сената, прощавший (вспомним Тевкелева) людям все, кроме тупости, лености и «державных пренебрежений».
Глава XXI. Северная столетняя (3)
Дмитрий Грозные Очи
Как мы уже знаем, Дмитрий Иванович Павлуцкий был человеком крупным, сильным, ловким и до каких-то пор удачливым. Но все-таки человеком. В чукотском же фольклоре образ его почти все людское утратил…
Это нечто инфернальное, вне рациональных толкований. «Усища торчат, как у сотни моржей, копье длиною по локтю так широко, что затмевает солнце; глаза железные, круглые, вся одежда железная, зубов впятеро больше, чем человеку положено». Кто-то говорит даже: «главный эпический злодей». Однако и это неверно. В сказании о поединке «седого таньгина» с храбрым Элленутом явно прослеживается уважение и даже некоторая симпатия к старому богатырю, который (естественно, потерпев поражение – его в чукотских легендах постоянно побеждают) сохраняет и мужество, и достоинство, учтиво поздравляет отца героя и просит, как подобает мужчине, о смерти, чтобы избежать позора. А все-таки получив помилование, благородно отдает все имущество, вместе с женами, победителю и «уходит пешком о посохе». Есть, конечно, и о зверствах. Причем таких, что кровь стынет. Что и понятно, у чукчей воображение на сей счет было богатое. Что едва ли совсем неправда, но и на правду не похоже: на руках капитана кровь множества «немирных чукоч», и едва ли все они были вооружены, однако же известны и имена едва ли не десятка «инородческих» сирот, взятых им по итогам походов в приемыши и хорошо устроенных. Относительно же зверств, так мифический Павлуцкий, в общем, не совсем Павлуцкий. Легенды чукчей называют его и другими именами, чаще всего «Якуниным» или «Якуней», реже «Павлухом» и «Пахой», иногда «Моржом-Казаком», «Большим Ванькой» и так далее. Скорее всего, драгунский капитан из Тобольска стал чем-то нарицательным, «отвлеченным предметом», которому приписывалось все, так или иначе не укладывавшееся в рамки повседневного понимания, а потому и особо запомнившееся. По крайней мере, Шкловский в 1892-м, когда все уже, казалось бы, быльем поросло, с удивлением отмечал: «Этот капитан – самый популярный герой на крайнем северо-востоке Сибири. Он местный Роланд», – а Роланд, пусть даже из эпоса, а не из поэмы Ариосто, – согласитесь, фигура, хотя и сложная, но никак не отрицательная.
Диалектика не по Гегелю…
А теперь назовем кошку кошкой. Речь идет не об ангелах. Дети Севера действительно были «детьми природы», но Жан-Жаку Руссо стало бы плохо, узри он воочию предмет своих высоких грез. Они убивали много и спокойно, но не по злобе, а по подсказке той же природы, твердо зная, что раз еда в дефиците, значит, едоков в тундре должно быть меньше, и лучше, если меньше за счет чужих. Не стоит их в этом обвинять, но идеализировать тоже глупо. И точно так же нет смысла возводить на пьедестал русских первопроходцев. Разные они были, но даже с самым умеренным и благонравным из них никто из нас, людей века нынешнего, не пожелал бы выпить на брудершафт, сутки ехать в одном купе и пересечься в темном переулке. Такое уж время было и такие нравы. Поэтому, думается, не так уж прав известный сибирский историк Петр Словцов, проводя резкую грань между «старым поколением» (Шестаков, Поярков, Атласов, Хабаров), «темным, жестоким», и «поколением просвещенным» (типа Павлуцкого). Да, Дмитрий Иванович был мягче, часто не чуждался милосердия, однако, ежели была на то необходимость, способен был заткнуть за пояс любого землепроходца, кроме разве самых вымороженных, типа Пояркова. Иное дело, что не злоупотреблял. А вот Афанасий Федотович, чего уж там, вполне мог и злоупотребить. Но, как бы там ни было, за державный интерес он радел истово и дело свое знал крепко. Что подтверждается хотя бы и составом его отряда, набранного в Якутске, а затем пополнявшегося по пути. На два десятка казаков, которым верил, шли с ним более сотни «инородцев». Но подобранных толково, со знанием вопроса. Саха: смелые, верные, твердые в православии, очень хорошие воины. Тунгусы: не очень надежны, зато лучшие охотники и что в лесу, что в тундре, пусть и незнакомых, любую тропинку найдут. Коряки: умеют обращаться с оленями, основной пищей отряда. К тому же тунгусы исстари ненавидят саха, да и коряков не любят, а саха и коряки отвечают тунгусам полной взаимностью, а между собой не то что враждуют, но уж очень чужие. В такой ситуации, согласитесь, уже неважно, что тунгусы и коряки, со своей стороны, недоброжелательны к русским. Они их, по крайней мере, боятся, причем, зная, что русские без причины резать не будут, боятся меньше, чем саха, – так что само присутствие казаков сдерживает рознь и дает гарантии.
В итоге люди Шестакова спокойно и спали, и шли к цели. А целью был некий Иллик, сильный корякский князец из «староясачных». Много лет он считался «верным» и всего за год до событий жил он близ Охотска. Но сплоховал. По какой-то причине, то ли по пьяни, то ли наевшись мухоморов, убил заночевавшего в его стойбище ясачного сборщика Василия Калаганова. За это полагалась смерть, и князец ударился во все тяжкие. Присвоил «цареву» казну и сбежал в глухомань, за что полагалось уже две смерти, а потом, «сложив присягу», заставил всех коряков платить ясак ему, заработав третью смерть. Так что, отряд Шестакова «изменные коряки» встречали с поклоном, платили, что должно, и ждали, что будет дальше. Типа, кто кого. А вот Иллик, узнав о приходе русских, бежать не стал (куда?), а, собрав ополчение, выстроил что-то вроде форта и оказал жестокий отпор. Атаковать под дождем отравленных стрел было вовсе несподручно, и Шестаков (целесообразность, ничего больше) приказал «бросать огонь». Промасленные насквозь покровы чумов занялись мгновенно, несколько десятков бунтовщиков сгорело, а две сотни корякских семей, убедившись, что вернулся лесник, возобновили присягу. Теперь – с триумфом и подкреплением (в первых числах января 1730 года к атаману пришел отряд есаула Остафьева) – можно было идти и в Анадырск. Но…
Есть такая профессия…
Почему пришли чукчи, в точности неясно. Говорят всякое. Кто-то думает, что просто так. Иные (корякские) сказания утверждают, что хотели мстить за Иллика. Но это вряд ли. Никто им был этот «не совсем настоящий» князец, и смерть его не была поводом для вендетты. Ряд исследователей полагает, что «бунташный ворик» успел незадолго до гибели позвать «настоящих» на помощь, назвавшись «послушным», и вот это больше похоже на правду, потому что с севера шла не случайная «партия» искателей добычи в несколько десятков человек. Шло большое для тех мест ополчение – не «столько, сколько рыбы в море, а на берегу гальки», конечно, как голосили напуганные коряки, но очень большое, много сотен, – и шло, видимо, зная уже о гибели князца, очень жестоко, угоняя оленей и убивая (успели обнулить не менее сотни) вновь объясаченных коряков. В принципе, был смысл боя не принимать, тем паче не давать: опытный сибиряк знал и с кем имеет дело, и что никаких гарантий успех нет. Однако местные коряки умоляли защитить, а они уже вновь платили России ясак, и значит, Россия не имела права отказать. Россию же представлял Шестаков, и сколько у него было людей, в таком раскладе никакого значения не имело.
Так что рано утром 14 марта 1730 года отряд (20 казаков, 113 «инородцев») двинулся навстречу чукчам и около полудня столкнулся с ними на реке Егаче. О ходе сражения, к сожалению, известно очень мало, наверняка знаем мы только, что коряки и тунгусы разбежались, лишь завидев противника, а «настоящие», выдержав первый залп, сумели навязать отряду (вернее, оставшимся в строю русским и саха) рукопашную, в ходе которой Афанасий Федотович был тяжело ранен стрелой в горло, захвачен и убит. Тело его сумел, ценой собственной жизни, отбить у врага дворянин Борис Жертин, а еще на поле боя осталось 10 казаков, шесть саха (все, что были в отряде) и один крещеный коряк. Еще 21 «инородец», тунгусы и коряки, изловленные чукчами, были уведены в рабство вместе с оленями, остальные же, во главе с есаулом Остафьевым, отступили в относительном порядке, вынеся тело командира, но потеряв весь обоз. «Настоящих» тоже легло немало, не менее сотни, но дело того стоило: трофеи были сказочные – дюжина фузей, дюжина ручных гранат, столько же панцирей, три «новых ружья» (что бы это ни значило) и огромный табун «казенных» оленей. Плюс знамя, спасти которое не удалось. А спустя три недели, в начале апреля, неживой Афанасий Шестаков добрался, наконец, до Анадырского острога, куда он так стремился, на счастье свое, так и не узнав, что всю власть над краем взял в свои руки ненавистный «дурак-капитанина». Впрочем, учитывая реакцию края на случившееся у Егаче, завидовать Павлуцкому не приходилось. Однако смутить Дмитрия Ивановича трудностями, видимо, было невозможно…
Битва титанов
3 сентября 1729 года капитан с командой прибыл в Анадырский острог, имея на руках точные инструкции Петербурга: «уговаривать в подданство добровольно и ласкою, применяя оружие в самой крайности» и Тобольска: «о призыве в подданство немирных иноземцов чинить по данной инструкции, а войною на них не ходить». Вполне в духе Века Просвещения. Однако в местах, где ему предстояло наводить порядок, работали совсем иные правила, и люди, с которыми он имел дело, ничего не слышали о Монтескье. Разгром Шестакова уронил авторитет «длинноносых» если и не до плинтуса, то близко к тому. «Верные» коряки утрачивали верность, «неверные» предлагали «послушание» чукчам, ставшим на какое-то время общепризнанной «сильнейшей силой», и в конце концов в сентябре огромная толпа, в которой трудно было понять, кто ясачный, а кто нет, осадила – правда, неудачно, – Ямской острог. Даже камчатские ительмены, верования которых проповедовали непротивление, решились на что-то вроде мятежа.
В такой ситуации ни о каких ответных действиях думать не приходилось, слава Богу еще, что «настоящие», огорченные потерями, ушли в себя, никаких активных действий не предпринимая, и на «чукотском фронте», как позже на Шипке, все стало спокойно. Можно было хоть сколько-то перевести дух. И капитан не теряет времени зря. Узнав о случившемся с Шестаковым, он, еще пребывая в Нижнеколымске, рассылает по краю депеши, извещая все гарнизоны, что принимает командование на себя. Несколько капралов, требующих подтверждений из Якутска, на пару дней садятся под арест, а в Якутск, Охотск и прочие населенные пункты уходят приказ: всем войскам сосредоточиться в Анадырске, а прибыв в острог сам, капитан лично готовит служилых к предстоящему походу на «немирных чукоч». Старт которому и был дан в марте следующего, 1731 года, и силы в поле вышли немалые: 215 солдат и казаков, 160 коряков, 1 саха и 60 юкагиров – всего 436 штыков. Чукчи, впрочем, получая информацию от «подсыльщиков», тоже готовились неслабо, собрав, в конце концов, совершенно невиданное, даже сказителей удивлявшее войско – более трех тысяч воинов. Причем, судя по телам «зубатых» людей – «на губе дыры, в них вставлены зубы, из моржовых зубов вырезанные» (то есть азиатских эскимосов, которых умилыки брали только в самые большие походы), можно предполагать, что русским дала бой вся тундра.
Тем не менее Павлуцкий двинулся навстречу, по пути довольно жестко зачищая местность, тем самым провоцируя врага атаковать. «И 9 маия, – скрупулезно отмечал он в дневнике, – дошед до первой сидячих около того моря чюкоч юрты, в коей бывших чюкоч побили… Усмотрели от того места в недальнем разстоянии… сидячих одна юрта и бывших в ней чюкоч побили… И дошед до их чюкоцкого острожку… и в том остроге было юрт до осьми, кои разорили и сожгли». Далее, в трех – одно за другим, с небольшими перерывами, – сражениях атаковавшие-таки чукчи были разгромлены. По сообщениям свидетелей и сказителей – в данном случае, вполне совпадающим, – «тела храбрых скрыли собой землю, тела сильных скрыли собой тела храбрых, и мало кто ушел домой, проверить своих оленей». После третьей битвы остатки ополчения рассыпались. Потери Павлуцкого по итогам кампании оказались минимальны: 3 русских, 5 коряков, 1 юкагир и 1 саха, точное же число павших чукчей неведомо (не меньше 802 и не больше 1452 воинов, не считая 162 пленных). Освободили из рабства более сорока коряков, пару русских, вернули более 40000 «казенных» оленей и, сверх того, все ружья и доспехи, захваченные «настоящими» на Егаче, в том числе личные вещи Шестакова. Афанасий Федотович теперь мог спать спокойно, а Дмитрий Иванович получил возможность передохнуть.
Большая перемена
Реакцию края на случившееся трудно переоценить. Такого разгрома и таких жертв в стойбищах «настоящих» не помнили ни самые старые старики, ни самые придумчивые сказители. Коряки толпами сбегали в Анадырск присягать, осмелевшие юкагиры «близ чукоцких пределов оленей гонять начали», и только мудрый командующий, реалист и прагматик, не обольщаясь, писал в начале февраля, извещая Тобольскую канцелярию о положении дел, что «привести чукоч в подданство невозможно». Он знал противника. Он аттестовал его по высшему рангу: «Народ сильный, рослый, смелый, плечистый, крепкого сложения, рассудительный, справедливый, воинственный, любящий свободу и не терпящий обмана, мстительный, а во время войны, будучи в опасном положении, себя убивают. Стреляют из луков и бросают камни, но не очень искусно». И он все понимал. Однако долгая ночь с 1731 на 1732 год прошла без эксцессов, «настоящие» затаились в снегах, и весной, как только начало рассветать, Павлуцкий окончательно подытожил сделанное, «приведя в доброе разумение» последние корякские роды, пытавшиеся уклониться от выплаты дани. Однако, хотя и приложил все усилия, так и не сумел отыскать ни одного чукотского стойбища: «настоящие» зализывали раны, и это дало капитану возможность заняться одновременно (его хватало) – и очень успешно – множеством иных дел. Важных и нужных: от реставрации укреплений Анадырска до похода «Святого Гавриила», экипаж которого, как известно, открыл Аляску (увы, большинство его чертежей, как и бумаги Шестакова, были украдены Делинем).
Отдадим должное и властям. Как всегда, дождь поощрений обрушился на непричастных, в основном, в Якутске. Но – пусть и не без протекции Ивана Кирилова, не утратившего интереса к делам Северо-Востока, – награда нашла и героя: в 1733-м капитан Павлуцкий был произведен в майоры и получил лестное, сулящее карьерный рывок назначение на Камчатку, куда и отбыл, оставив Анадырск на попечение своего выдвиженца, сотника Шипицына, которому вполне доверял. К этому времени, правда, чукчи, слегка прийдя в себя, вновь показали характер, угнав из-под самого Анадырска большое стадо «казенных» оленей, но ни к чему серьезному они готовы не были, от воинских команд, даже самых небольших и слабосильных, прятались. В связи с чем новоиспеченный майор имел все основания полагать, что, как писал он, «Василия знаю, надежен, сметлив и дело в руках удержит…»
Глава XXII. Северная столетняя (4)
На краю Ойкумены
Не знаю, обрадовало ли победителя новое назначение, но полагаю, что да. Направление на Камчатку именным Указом императрицы от 21 мая 1733 года с предоставлением почти диктаторских полномочий было лестным и перспективным. Хотя и очень сложным…
Даже на фоне других сибирских окраин Империи еще только на треть освоенный полуостров выделялся беспределом местной администрации, и Дмитрию Ивановичу первым делом предстояло разобраться в причинах т. н. «Харчинского бунта» (крещеный корякский князец Харуча, он же Федя Харчин, незадолго до того взял и сжег дотла сильный Нижнекамчатский острог). Как правило, в таких случаях власти не особо разбирались: мятежников давили без пощады и сообщали по инстанциям о полном порядке. Однако на сей раз случай был особый. Москва, слезам «ни в чем не винного» камчатского руководства не поверив, послала на ревизию майора Василия Мерлина, однако тот, хотя и прекрасный следователь, сладить с круговой порукой не сумел. Павлуцкий, однако, справился. Вернее, справился Мерлин. Воспрянувший при новом шефе духом, Василий Нилыч, проведя серию допросов на местах и проигнорировав несколько выгодных предложений от уважаемых людей, «по всей совести» выявил: виной всему не «измена», а самое элементарное скотство «острожных» казаков, грабивших, а с перепою и бивших князца со свитой. Не обошлось и без незаконных поборов, коим всяко потворствовал сплоченный кружок местных начальничков, главным образом уроженцев Якутска, за многие годы подмявших край под себя, а всех несогласных, хотя бы и присланных Петербургом, выжимавших прочь.
Обо всем этом в Петербург не раз доносили незаинтересованные свидетели, в частности участники Второй Камчатской, и власти пытались принимать меры, но две ревизии, якутская и иркутская, окончились пшиком. Круговая порука, скрепленная родством, свойством и кумовством, делала свое дело, а красивые шкурки в немалом числе подводили черту. С новым «оком государевым», однако, шутить не приходилось. «Подносов» он не то что не брал, но мог за такое и выпороть, не глядя на дворянский чин (что пару раз и случилось), а Мерлин, ко всему, был еще и не из «якуцких», и в итоге – нечастый случай для тогдашней Сибири – «инородные» бунтовщики были оправданы или наказаны относительно мягко, обидчики получили на всю полагавшуюся катушку, а майор Мерлин, проверенный в деле, стал для Дмитрия Ивановича ближним человеком и шесть лет помогал ему организовывать на Камчатке нормальную жизнь. Вполне, между прочим, успешно, несмотря на необходимость как-то присматривать и за Анадырском. Общими силами, пригласив с берегов Лены переселенцев, оплатив им переезд и оказав помощь в обустройстве, заложили на полуострове основы земледелия, бесплатно («для восхищения») выделяя семена «инородцам». А заодно подтолкнули прогресс и в смысле скотоводства: видя, что ительмены (камчадалы) с интересом присматриваются к коровам, Дмитрий Иванович за свой счет приобрел пару буренок с бычком и подарил их вверенному его заботам населению.
Новое назначение
Все это возымело должный эффект. Во всяком случае, именно к Павлуцкому однажды обратился сильный ительменский князец, некий Шкенюга, с просьбой растолковать Священное Писание. Дескать, никому, кроме тебя, не верю. И майор, не пожалев времени, растолковывал, став затем крестным отцом «тойона» и его братьев, добившись тем самым того, чего никак не могли добиться миссионеры. Но, правда, рассорившись с «батьками», которые на Камчатке были буйны, злобны, «в Писании не тверды» и крепко пили. Успехи его были замечены (в этом Дмитрию Ивановичу, надо сказать, всегда везло) сибирским губернатором Алексеем Плещеевым, по представлению которого (в Петербурге майором тоже были довольны) Сенат утвердил Павлуцкого на пост якутского воеводы – и в августе 1739 года тот, оставив дела на сменщика, а еще больше на Василия Мерлина, покидает Камчатку. Для провинциала, да еще перевалившего на вторую половину пятого десятка (солидный по тогдашним меркам возраст), это повышение – практически венец карьеры, выше уже идет номенклатура столицы, а до царя далеко. Но сил еще много, и Дмитрий Иванович, прибыв на место, плотно включился в работу, совершенно не обращая внимания на странную суету, отголоски которой нет-нет да и доносились до него.
И зря. У него, человека крутого и успешного, было немало завистников, да и обиженных после камчатского следствия хватало, так что в Иркутск и столицу пошли доносы. А компромата хватало. Не в том смысле, что воровал – как раз этого за ним не значилось, что специальной ревизией было подтверждено, – а по причине невоздержанности на язык. Еще на Камчатке майор выдал племянницу замуж за географа Степана Крашенинникова, и в свадебном застолье, пребывая подшофе, очень конкретно высказался в адрес местного клира, а заодно и Святейшего Синода, такую пьянь и рвань «ко служению Христову подпустившего». Скандал был громкий, доброжелатели, ничуть не медля, настучали в Северную Пальмиру, и оскорбленные обладатели панагий начали копать. В ту же масть лег и донос о, дескать, «поносных словах» в адрес Ее Величества и немцев, ее окружающих, однако, на счастье воеводы, Анна Ивановна скончалась раньше, чем делу, пахнущему плахой, был дан ход, в связи с чем тема заглохла. В отличие от дела о «кощунствовании», заглохнуть которому злопамятные иереи не давали, раздувая по мере возможностей. А возможности имелись.
Спрут
На Камчатке же с отбытием Павлуцкого все довольно быстро стало «как при бабушке». На всю катушку. После нежданной гибели майора Мерлина («…уйдя, безвесно пропал, иные говорят утоп, иные медведь задрал, а то Бог весть») вся власть вновь оказалась у «якуцких», возглавляемых «всей камчатской команды командиром» капитаном Матвеем Лебедевым, сидевшим в Большерецке, и его братом, капралом Алексеем, комендантом Нижнекамчатска. «В прежнее время, – докладывал Сенату в 1757-м сибирский губернатор Василий Мятлев, – командирами туда определяемы были якутские дворяна, не точию люди непорядочныя, но и великия лихоимцы и презельныя пьяницы, ни о каком добре, ни о приращении зборов, ни о содержании в добром порядке камчадалов радения не имели, кроме того, что всегда пьянствовали и нажитое лихоимством пропивали». Оставшись одна на хозяйстве, эта мафия, насколько можно понять, вышла за всякие рамки, доведя «инородцев» – коряков с ительменами, – да и русских, которые не из Якутска, до белого каления.
Безобразия периферийных лузеров усугублялись и церковниками, теми самыми, за попытку «усовестить» которых Синод рассердился на майора. Правда, питерские иереи, узрев в речах «кощунника» некий резон, попытались слегка почистить аппарат на местах, укрепив кадры, но лекарство, как часто бывает, оказалось хуже хвори. Архимандрит Иоасаф Хотунцевский, «служитель смиренный, добронравный, к Господу рьяный и в книжном знании искушенный», ставший в 1745-м главой духовной миссии, в самом деле оказался лишен обычных пороков. Не пил, благ земных не копил и службу знал досконально, так что «гулящим батькам» при нем сделалось туго, вплоть до расстрижения, да и властям доставалось, однако смирением там и не пахло. Напротив, будучи фанатиком крещения «иноверцев» любой ценой, отец Иоасаф дал подчиненным указание во имя благой цели не стеснять себя средствами.
«Обязанный по своему званию и назначению быть примером христианского человеколюбия, – писал камчатский историк А. С. Сгибнев, – он был до того жесток и безчеловечен с туземцами и русскими служилыми, что получил от последних название антихриста». В увлечении своим «подвигом» архимандрит, «как палач, наказывал всех плетьми, перед церковью, за малейшее несоблюдение церковных правил и непременно сам присутствовал при экзекуции», не собираясь считаться с местными нравами. В итоге, «когда проповедники явились к туземцам, считающим телесное наказание ужаснее смертной казни, – тотчас на всех концах полуострова обнаружились новые возмущения, принявшие затем огромные размеры». Разбалованные Павлуцким, «инородцы» пытались жаловаться покинувшему их «Митяю», веря что тот, ставший «большим головой», сумеет помочь, но без толку: не умея писать и не зная, как следует жаловаться, корякские авторитеты наивно просили всех «корабельных людей» передать их беды в Якутск и даже платили за это вперед мехами, но с понятным результатом.
Подвиг разведчика
Рано или поздно тэрпэць урывается даже у ежика. В начале 1745 года анадырский «оленный князец» Эвонты Косинкой, указанный в документах Мерлина как «среди надежных надежный», начал охоту на русские артели, уничтожив несколько «малых отрядцев». Его поддержали другие «оленные», а в ноябре взбунтовались и оседлые коряки нескольких острожков. Разгромив пошедший на усмирение отряд сержанта Мамрукова (естественно, «якуцкого»), они даже несколько дней держали в осаде городок Аклан. Затем, когда реакции властей не последовало, зимой 1745 – весной 1746 годов перекрыли пути вдоль северного побережья Охотского моря и, уничтожив несколько казачьих отрядов, блокировали Аклан уже всерьез. А в середине марта на «тропу войны» вышел самый крупный клан оседлых коряков, каратинцы: в Ентанском острожке, ставке «верного» князца Умьявушки, были захвачены врасплох и убиты сборщики ясака– 5 казаков и 6 крещеных «инородцев», известие о чем не сразу, но вскоре дошло до властей.
Надо отметить, каким бы пьяницей и скандалистом ни был капрал Алексей Лебедев, комендант Нижнекамчатска, с разведкой у него все было в порядке. По его заданию некий Петр Орликов, крещеный камчадал, пробрался в самый центр событий, где, рискуя жизнью, «все вызнать сумел» (за что был по-царски награжден пятаком и штофом водки). Как выяснилось, речь шла о деле серьезном, пожалуй, даже чересчур серьезном. По словам Орликова, «изменники», заявляя «нас-де людей много, руским людем не поддадимся», планировали одновременный ударить по всем русским острогам, а затем «з женами и з детьми» поселиться в Нижнекамчатске. Имелся у бунтовщиков и стройный план взятия острога. «А хотели-де оне (…) взять острог с северной страны з задняго бастиона на утренней зоре, уповая, что-де руские люди все оное время весьма разоспятся», для чего «склонить на бунт» всех коряков и «страхом принудить» ительменов. Сверх того, бунтовщики связались с «оленными» Эвонты Косинкоя, которому уже было нечего терять, приманив их обещанием подарить «близ здешняго острога моховое оленное кормовище, дабы вольно туда переселяся, жительство имели», и, еще более, связались с чукчами («доколе-де нам между собою иметь брань, и от руских терпеть, мы-де их, чтоб они на нашей земле не были, всех до единаго искореним»), так что, когда надо будет, «чюкчи Колымскую дорогу запрут, коли уже не заперли». На приход «настоящих» вообще очень надеялись, даже в случае неудачи: «и хотя-де етих наших руския люди и прибьют, то-де на лето будут чюкчи, которых-де руские люди убить никак не возмогут».
История меня оправдает!
Информация Орликова озадачивала. Обычные «смущения» типа «украл – выпил – в тюрьму», даже со смертоубийствами, ясачные учиняли частенько, но заговор такого масштаба и такого уровня планирования совершенно не соответствовал уровню их понимания жизни. Все объяснялось, однако, сообщением о «главном заводчике», который «и Умьявушку смутил, и протчих наущает». Им оказался очень известный и популярный на Камчатке персонаж, Алексей Лазуков (Камчюга). Служилый из местных, он, в статусе «чукоцкого и коряцкого языков толмача», ходил с Витусом Берингом на пакетботе «Св. Петр», пережил трагическую зимовку, унесшую жизнь командора, и был одним из немногих, кто до самого конца оставался более или менее дееспособным.
О нем, кстати, поминают и С. Ваксель и Г. Стеллер, причем первый как о чукче, а второй – как о коряке, и оба отмечают свободное владение русским языком и сметливость парня. Именно его «наши-де забрав самый острог, хотели иметь в командирах». Это означало, что у бунтовщиков появился настоящий лидер, а вскоре поступили и подтверждения: 26 апреля «в полночное время», собрав уже более 100 человек, «изменники» атаковали Столбовской острожек «верных» ительменов, убив 19 мужчин и женщин и взяв в плен 20 человек.
Тем не менее ни Алексей Лебедев и нижнекамчатский приказчик Осип Расторгуев, ни коменданты других острогов, ни сам capo dei tutti capi Матвей Лебедев никаких мер не приняли. Сил было слишком мало – согласно данным Степана Крашенинникова, на всю Камчатку примерно 200 казаков плюс душ 30–40 посадских, – и распылять их, имея в виду опасность нападения на остроги, боялись. В общем, около месяца царило затишье. А 18 мая в Нижнекамчатск явился с повинной сам Алексей Лазуков с братом Иваном. Их тут же арестовали и допросили, причем «первый возмутитель», ничего не скрывая и не пытаясь оправдываться, отвечал на все вопросы самым подробнейшим образом. В частности, насчет убийства сборщиков показав, что «А кололи-де мы и сам я их без всякого резона и обиды на дворе по приезде их во Ентантин острог, когда стали собак выпрягать», – то есть без согласия князца и единственно ради того, чтобы повязать клан Умьявушки кровью.
Подтвердил Алексей и прочее. Да, он намеревался захватить Нижнекамчатск, а сам «имянно зделаться командиром и жить в новопостроенных покоях отца архимандрита… Прочие дома мыслили распределить меж собой». Далее предполагалось «дождаться судов и взять их обманом», то есть перебить экипажи кораблей, которые должны были прибыть из Большерецка или Охотска, – за то, что не доставляли жалобы «Митяю». Также Алексей, единственный из всех, кого допрашивали по делу о бунте, признался в намерении «отца архимандрита, и ревизии мужеска полу душ господина капитана Дементия Завьялова и капрала Алексея Лебедева, прикащика Осипа Расторгуева и протчих убить и христианскую веру истребить», в живых же оставить «только баб красивых да детишек в приемыши». Каяться при этом он даже не думал. Иван Лазуков подтвердил все. На вопрос же, что предполагалось делать дальше, если бы планы увенчались успехом, Алексей Лазуков дал ответ воистину удивительный. «Похватав суда те да побив корабельных, – сообщил он, – брату Ивану велел бы на тех судах идти в Якуцк свитеться с Митяем (о том, что Павлуцкий давно в Анадырске, бунтовщик не знал), штобы государыню нашу Елисавет совместно упросили прислать-де на Камчатку новых русских, как сам Митяй или тот Васька Мерлин. А то пусть хуже, но всеж лутче прежних. Равно и батьки штобы с ними приплыли истинно христианские, от нынешних отличные, а тогда-де и мы с ними снова молиться начали бы». Насчет же внезапной отмены столь обширных планов не стал скрывать, что «и брат Иван просил тово не делать, и брата не слушался. Да потом во сне-де видел волею Христовой дух Василья тово Мерлина маиора в образе сорочьем, и сказал ему, Алексею, тот дух, что Митяй не велит воровать, а велит ради Христа и светой Троицы идти в арест, а сам перед набольшей сорокою заступиться посулил». При всей причудливости, такая версия следствие устроила. А вот четыре листа с изложением причин смуты, из дела «О бунте коряк, чукчей и других сибирских народов и усмирении их» (в архиве Секретной экспедиции Сената), как в те времена говорилось, «выдраны». Причем в Петербург, судя по описи, бумаги поступили именно в таком виде.
Следствие закончено, забудьте
Не знаю, кому как, но мне единственно логичным видится, что именно там, в изъятых листа, перечислялись факты, которые братьям Лебедевым с присными хотелось бы замять. В «аудите» следствия главным злоумышленником сделали Алексея. А заодно и Ивана. Хотя тот и сам вину отрицал, и в показаниях брата выглядит противником мятежа с самого начала, это, похоже, никого не волновало. Благо доказательств «измены» было более чем достаточно: убийство ясачных, резня «верных» ительменов, «умысел на резню» русских, связи с «мятежником» Эвонты. И так далее. Все это давало основания властям решить вопрос на местном уровне, повесив кого следует и тем самым спрятав концы в воду. Тем более сама жизнь подтверждала их версию: с уходом Лазукова из лагеря «изменников» те, потеряв харизматического лидера, притихли, и ничего подобного хотя бы налету на Столбовской острожек более не случалось. На том и поставили точку, а далее, не особо спеша, разобрались с бывшими бунтовщиками, разошедшимися по домам. За полтора года сколько-то острожков «в острастку» спалили, сколько-то народу «привели в повиновение», сколько-то сопротивлявшихся «смертно побили». Точных цифр нет. Известно лишь, что в Охотск в итоге «для расправы» выслали 30 «изменников и согласников», рекомендовав свирепые приговоры. Правда, изменников второстепенных: из арестованных вождей не выжил никто, все еще на Камчатке либо «в холодной своим чином вольно померли», либо (как, по некоторым данным, братья Лазуковы), «порвав рубахи на полосы, сами себя удавили». Если кто-то решит, что им помогли, возражать не стану.
Возможно, Алексею Лазукову было бы легче умирать, знай он, что дух «Василья тово Мерлина» не обманул. Не знаю, какими путями, – приказом Матвея Лебедева велено было «грамотцы окроме казенной надобности ни морем, ни посуху без честного прочету на пущать», – но слухи о творящемся на Камчатке дошли до «Митяя», а когда дошли, майор Павлуцкий – хоть и предельно загруженный разборками с «чукочами» – нашел время их услышать. Его письма, требующие разобраться и принять меры, посланные в Иркутск, дошли до адресатов, а рекомендации Лаврентия Ланга, бывшего вице-губернатора Сибири, пребывавшего по делам службы в Анадырске, добавили майорским депешам веса. В конце концов, Сенат, разобравшись по существу, прислал-таки, как мечталось корякам, «новых русских». Возможно, не идеальных (как по мне, так «иркуцкие» «якуцких» ничем не лучше), но, по крайней мере, с «лебедевской мафией» было покончено. Возомнивших себя царьками и божками уродов порвали на ветошь. Капралов с сержантами разослали по глухим гарнизонам Большой Земли. Особо бойких приказчиков, выявив факты коррупции, поставили на правеж, иных даже «до нитки разорив»; сам Матвей Лебедев, получив «абшид без нужного пенсиону», угодил под суд «о растрате казенных денег, недостаче вина, сладкой травы, продаже в холопство молодых коряков», спился и в 1760-м «у крыльца замерз», – а Камчатка, до того сложная, на долгое время стала в этом смысле едва ли не образцовой укрáиной Империи…
Глава XXIII. Северная столетняя (5)
Не было гвоздя, подкова упала
Сколько ни спорь, хоть башку размозжи, а роль личности в истории неоспорима. Хоть на всемирном уровне, хоть на дворовом. Дмитрий Иванович разбирался с мафией на Камчатке, воеводствовал в Якутске, воевал с интриганами, а на Чукотке тем временем дела шли худо…
В тундре подрастали новые воины, появлялись новые умилыки, память о событиях лета 1731 года постепенно сглаживалась, зато желание отомстить росло. Уже в 1733-м, прослышав об отъезде Павлуцкого, «настоящие» возобновили нападения, порой появляясь под стенами Анадырска и Нижнекамчатска. Штурмовать, правда, не решались, но угоняли «казенных» оленей, подкараулив, убивали служилых, а уж о ясачном люде и говорить нечего: на нем отрывались по полной, уводя в полон женщин и детей. Русские огрызались, разыскивали стойбища, жгли, причем уже не сильно смотря, кто прав, кто виноват, поскольку поймать виноватых было почти невозможно, а чукчи все равно на одно лицо. В 1736-м, вопреки всем правилам, – позже Шипицын объяснял, что по рекомендации Павлуцкого, но так ли это, проверить невозможно, – найдя стойбище, «чукоч, не призывая в подданство, побил до смерти».
Что, кстати, на некое время возымело действие: в 1738-м тундра слегка притихла. Но уже год спустя начали поступать данные, что «те чукочи, в скопища собравшись, бродят». Такое пугало. Что такое «скопище» чукчей, обычно по много не ходивших, понимали все. И летом 1740 года случился нехороший эксцесс. Василий Шипицын, лично выйдя собирать ясак с «речных настоящих», считавшихся «мирными», столкнулся с одной из таких толп. Видимо, довольно большой, потому что, хотя было при нем аж 80 казаков и о внезапности речи не было, решил перестраховаться. Скорее всего, зря, поскольку на его приглашение – он поклялся Христом, что враждебных намерений не таит, а когда чукчи захотели более твердых гарантий, поклялся Солнечным Кругом, – прийти и поговорить, откликнулись все «тойоны», числом в дюжину. То есть враждебных намерений у них не было (на тропе войны умилыки к врагу в гости не ходили). И тем не менее, как только гости приблизились, сотник приказал взять их в штыки, вслед за чем скомандовал в атаку. Естественно, ошеломленные чукчи разбежались, не приняв боя, но сюжет запомнился, желание мстить усугубилось, и «малая война» началась с новой силой.
По большому счету, Шипицын, конечно, заслуживал наказания, ибо правительственные инструкции такие фокусы прямо запрещали, но, похоже, у него сработало чутье. Бесконечная война с «дикарями» уже достала правительство, и в начале июня («мнением» Сената), а затем и в начале июля (указом Кабинета министров), аккурат в дни резни на Чукотке, было решено приступить к окончательному решению вопроса. В Анадырскую партию ушло предписание «итти на немирных чюкч военною рукою и всеми силами стараться не только верноподданных Е. И. В. коряк обидимое возвратить и отомстить, но и их чукоч самих в конец разорить и в подданство Е. И. В. привесть». Шипицын указ получил. Но не исполнил, отговариваясь недостатком сил, а чукчи между тем в 1741-м решились на большой налет, убив 12 «верных» коряков, разогнав более сотни и угнав 400 оленей. Узнав о чем, Сенат, с подачи иркутского вице-губернатора Лаврентия Ланга, 18 февраля 1742 года издал еще один, еще более жесткий Указ. «На оных немирных чюкч, – сказано в документе, – военною оружейною рукою наступить, искоренить вовсе, а которыя из них пойдут в подданство, оных, также жен их и детей, взять в плен и из их жилищ вывесть и впредь для безопасности распределить в Якуцком ведомстве по разным острогам и местам между живущих верноподданных». Иными словами, перехватать и выселить. Всех. Вразброс. Чтобы и следа не осталось.
Это приговор.
И, по сути, конечно, чиновничья глупость высшей меры, потому что сенаторы требуют невозможного. Они просто не представляют, кто такие «настоящие». Да это их и не волнует, они – судьи, а чтобы исполнять, есть исполнители. Поскольку же всем ясно, что Шипицыну задача не по плечу, исполнение с назначением на пост возлагается на все того же майора Павлуцкого, способного, по общему мнению, решить любую задачу. К тому же перевод из культурного Якутска в периферийный, неустроенный Анадырь – еще и обидное понижение – опала не опала, но что-то типа того, – то есть заодно ублаготворятся и назойливые синодские «батьки». А майор что ж, майор потерпит. Это политика, это политика, господа. Да-с, господа, политика.
До самыя смерти, Марковна…
Когда человеку за полтинник и жизнь, почитай, сделана, понижение в обиду, а мотаться по тундре, как в тридцать пять, в труд. Тем не менее приказы не обсуждают. Дождавшись прихода 400 солдат и казаков, присланных из Иркутска и Селенгинска для укрепления сил Анадырской партии, Дмитрий Иванович сдал дела, оказавшиеся в полной норме, и, помолясь, отправился на старое-новое место службы, где 7 ноября 1743 года был с восторгом встречен Шипицыным, безмерно утомленным оказавшейся ему чересчур тяжкой шапкой Мономаха Чукотки. Первым делом были приняты меры, чтобы о смене руководства не узнала тундра, а уже в январе следующего года, через несколько дней после Рождества, добавив к приведенным служилым 250 анадырцев, включая ясачных юкагиров, чуванцев, коряков и тунгусов, майор двинулся в поход. Теперь, когда скрывать было нечего и слух о возвращении «Якуня» разлетелся по округе, чукчи, при Шипицыне изрядно осмелевшие, поспешно отходили в глубь Белого Безмолвия. Но повезло не всем. Догнав замешкавшихся у берегов Анадыря, майор разгромил их, отбил множество оленей, резко развернулся, охватывающим маневром ушел на восток, перехватил еще одно «скопище», отбил оленей, освободил несколько пленных коряков, вновь развернулся, близ урочища Каменное Сердце атаковал стойбище в десять «больших яранг», перебил 88 чукчей, сам потеряв одного тунгуса, и вернулся в острог. «Настоящие», однако, не остались в долгу. Быстро сжившись с мыслью, что легендарный «Казак-Морж» вернулся, они решили показать, что тоже не олени. И показали.
Очень скоро выяснилось: чукчи, как никто умевшие учиться и на чужих ошибках, и на своих, уже не совсем таковы, каковы были раньше. Прежние умилыки или водили малые ватажки, атакуя на рассвете, или, если уж все шло по-крупному, собирали тысячные толпы добрых молодцев и бросали их на штурм. А ежели дело было в чистой тундре, так строили во весь рост, чтобы те, геройски выдержав первый залп, кинулись в рукопашную, где только Солнце и Белый Медведь знают, кто с чем уйдет. Теперь же шла малая война, умелая, изощренная и очень жестокая, по принципу «Кусай и беги». Под стенами русских острожков «настоящие» не показывались, но тундра принадлежала им. Они были всюду, действуя мелкими и мельчайшими группами, и гарнизоны, по сути, были заперты в укреплениях, оставшись даже без связи: гарантию безопасности давало разве что сопровождение полусотни, а лучше больше, служилых. А сил на большие походы не хватало: на сей раз, не то что раньше, средства, выделенные Анадырской партии, куда-то делись, найти их было невозможно, выделять сверх выделенного Иркутск не мог, а Сенат не спешил, и лучше не становилось. Наоборот. Через два года после вторичного прибытия в Анадырь Павлуцкий, никогда никого ни о чем не просивший, был по этому поводу близко к отчаянию. «Ныне вовсе пришли в пропитании в великую нужду и голод, – рапортовал он иркутскому губернатору, – отчего уже иных солдат и видеть жалостно». В ответ, видимо, сообразив, что уж кто-кто, но Дмитрий Иванович по пустякам тужить не станет, Иркутск выделил какие-то ресурсы, но мало, страшно и обидно мало.
Сколько раз ты встретишь его…
И тем не менее, даже в такой нужде, майор остается самим собой. Очень быстро он меняет тактику, приспособив ее к тактике противника и даже более того. Целый год крупные соединения из Анадыря в Безмолвие не выходят, зато по тундре раскидывается сеть небольших, очень подвижных отрядов, работающих в тесном взаимодействии. Павлуцкий раскидывает сеть, в которую раз за разом попадает рыбка, пусть небольшая, зато стабильно. Насколько могу судить, именно в этот период происходит подавляющее большинство тех взаимных зверств, память о которых хранят чукотские легенды и русские документы. Сам майор по-прежнему суров, но справедлив. Однако держать под контролем действия мобильных коммандос, действующих автономно, да еще и во главе с ненавидящими «лютых» анадырцами, он не в силах. Да, собственно, как военный, и не вправе. У него четкий, дважды подтвержденный приказ – «отомстить и искоренить вовсе», – а это уже другая война, не та, к которой он привык.
Но приказы, повторюсь, не обсуждают. А потому начинается страшное. «Когда воевали таньги с чукчами, люди бежали из внутренней страны к морю, но таньги следовали сзади и истребляли не успевающих. Когда ловили, худо убивали – мужчин разрубали топором между ног, вниз головой; женщин раскалывали, как рыбу для сушения». Или: «Держа за ноги, разрубал топором сверху вниз промеж ног, внутренности выпадали. Привязывали мужчинам член к шее и били по спине. Человек вскакивал и отрывал член и ядра». Прошу прощения, такое не выдумаешь. Такое, даже если случилось один-два раза, запоминается на поколения. Да и взяты эти страшилки из сказаний разных кланов, а сказители «настоящих» перепевами не занимались, баяли о том, что сами видели или от видевших слышали. И пусть даже – уверен – солдаты в этом не отличались (за казаков и юкагиров не поручусь), ответственность, как ни крути, на Павлуцком. Правда, справедливости ради, скажу, что описания расправ с пленными чукчей, изобильно, в мелких подробностях хранящиеся в архивах, цитировать не стану, щадя свои и читателей нервы.
Как бы то ни было, малую войну чукчи к концу долгой зимы с 1745 на 1746-й тоже проиграли. Умилыки перестали нападать даже на совсем маленькие группы русских, предпочитая при их появлении уходить в глубины тундры или бежать на близлежащие острова. Примерно в это время, воспользовавшись умиротворением окрестности, картограф Якоб Линденау (автор интереснейших мемуаров) и геодезист Перевалов доводят до ума описание Чукотки и обитающих там народов. Тогда же вице-губернатор Сибири, русский швед и «земельный инженер» Лаврентий Ланг, состоявший с Павлуцким в приятельстве и по мере возможности помогавший, прислал в Сенат «рапорт маиора и при том рапорте чертеж, к пользе российской всю чюкоцкую землю открывающий», прося для вояки очередного звания «подполковник». Дмитрий же Иванович, завершая проделанную работу, летом 1746 года снаряжает второй большой поход. Не столько для подавления противника (подавлять уже, в общем, некого), сколько для закрепления темы. Успехи скромны (найдено и разгромлено пять небольших стойбищ, убиты восемь умилыков и десятка два воинов, сколько-то женщин и детей взято в плен). Оленей, правда, на сей раз отбили относительно немного, всего 650 голов, но и то хлеб. И – вновь на многие-многие месяцы – тишина. Где бы ни прятались «настоящие», их не видно и не слышно, и отыскать следы не в силах даже ищущие из всех сил юкагиры…
Идущие на смерть
15 января 1747 года Сенат издал очередной Указ, вновь, и уже с крайней настойчивостью, требуя усмирить чукчей «военною оружейною рукою». На сей раз про «ласково, без насилия» не было даже оговорок. Не знаю, успел ли Дмитрий Иванович ознакомиться с документом – скорее нет, чем да, путь до брегов Невы до Охотского моря был неблизок, – но особых вариантов у него не было. В долгую ночь до Анадырска дошли слухи, что в тундре объявился новый шаман-умилык по имени Тавыль – «Кивающий Головой», – и что этот молодой да ранний подговаривает «настоящих» совершить большой набег на селения юкагиров, а то и на острог. Садиться в осаду означало потерять инициативу и уронить только-только воссозданный авторитет русской власти. Плюс к тому, получить харизматического лидера «чукоч», а с ним и новую войну на годы, чего никак не хотелось. И Павлуцкий, несмотря на то, что продовольствия не хватало, готовил на конец апреля упредительный поход в тундру, чтобы расставить всех слоников по полочкам. Однако не пришлось. 12 марта в Анадырск примчались расхристанные коряки с вестью о том, что люди Тавыля, числом до сотни, пару часов тому угнали у них семь оленьих табунов, в том числе четыре казенных, убили троих и увели с собой восемь человек. Притом помянув, что «Казак-Морж стал стар, рыбу не ловит, быть ему на аркане у Кивающего».
Это был вызов. Оленей, безусловно, надлежало вернуть, но после таких слов посылать кого-то в погоню, сам оставшись в Анадырске, Павлуцкий не мог: завтра же вся тундра стала бы судачить о том, что он и в самом деле «рыбу не ловит». А следовало спешить, и потому, приказав сотнику Алексею Катковскому, поставив на лыжи всех, кто может идти (таковых набралось 202 штыка), идти следом, сам с отрядом в 97 бойцов – сколько уместилось в упряжки, для которых доставало оленей, – начал погоню. Спустя двое суток, утром 14 марта, близ устья реки Орловой, Дмитрий Иванович нагнал уходящие табуны – но чукчей было впятеро больше, чем сообщали коряки. Они стояли на невысокой сопке, позже названной Майорской. И Тавыль тоже был там.
Молодой умилык оказался куда умнее, чем можно было предполагать. В сказаниях чукчей сказано, что воины его шли к месту сбора «тихо, как нерпа плывет, по горсти, по горсти, а потом в снег зарывались молча, молча… Ждали». Можно (или даже нужно) было остановиться. Или даже слегка отойти – людям Катковского, по всем расчетам, вот-вот следовало появиться. Некоторые это и предлагали. Однако сотник Лев Кривошеин рассуждал иначе: по его мнению, атаковать «настоящих» следовало немедленно, с ходу, пока они «стоят полным скопищем» и не рассыпались по округе. С ним согласился и Павлуцкий. Связать противника боем, удержав его до подхода лыжников означало, с появлением подмоги, погасить восходящую звезду Тавыля, а это оправдывало риск. Думаю, майор помнил о судьбе Шестакова, но там был совсем иной случай: Афанасий Федотович на Енгаче не имел никаких шансов на успех, здесь же достаточно было продержаться час, максимум два. А в своих людей Дмитрий Иванович верил. Но в своих людей верил и Тавыль. Тем более – такого тундра еще не видывала – в его ополчении был и женский отряд, возглавляемый его женой, звавшейся Девушка-Топор, и прекрасные дамы подбадривали воинов вовсю, «обещая убить больше врагов, чем робкие, и тем опозорить робких».
Короче, вышло примерно так, как спустя 132 года с небольшим при Изандлване: «настоящие», выдержав первый залп, не позволили «таньги» перезарядить ружья. К тому же сверху вниз атаковать легче, чем снизу вверх, а чукчи стояли на холме. Согласно отчету тех, кому довелось выжить, «пошли неприятели чюкчи на копьях, также и они насупротив их, неприятелей чюкоч, пошли на копьях же и бились с ними не малое время… Друг у друга копья отнимали, а протчие служилые, у которых отбиты были ружья, оборонялись и ножами». Потери сразу оказались немалы, но смять русских воинам «Кивающего» все же не удалось: изрядно поредевшие анадырцы укрылись в «крепостице» из нарт и заняли глухую оборону. Теперь, в свою очередь, отступать, не теряя лица, не мог позволить себе Тавыль. А о дальнейшем рассказывают по-разному.
Генерал-отец ему отпуск дал…
В чукотских сказаниях сладострастно смакуются самые изысканные версии. В одном варианте «седого таньги, попав стрелой в глаз, схватили. Развели огонь, жарят его у огня, хорошо изжаренное мясо срезывали ломтиками и жарят снова. Умер». В другом, еще более утонченном, «раздели начальника нагим, надели на голову ему ремень, достали чикиль, привязали, заставили бегать по снегу кругом, дергают за чикиль, бегает. Дерг, дерг – пенис только болтается справа налево. Бегает, бегает. Положили его на землю. Стали пороть его колотушками из оленьего рога. Пробили всю задницу. Подняли, опять бегает на чикиле, глаза выкатываются, язык вывесился изо рта, достал до сосцов, хлопает взад и вперед по груди; сопит – хи, хи, хи – при каждом шаге плюет кровью. Загоняли до смерти на чикиле». Очень, наверное, им хотелось, чтобы так и было. Фантазировали. Со слов же пленного чукчи, видевшего все случившееся своими глазами, получается, что «прыгал; прыгнул раз через санки, двух парней убил, прыгнул обратно. Прыгнул другой раз, пять парней убил, обратно прыгнул. Стрел, копий не боялся совсем, твердую рубаху имел. На третий прыгнул, двух парней опять убил, а назад прыгнуть не успел; арканами взяли, повалили, стали душить; тут он сам открыл железный нагрудник и от копья кончилось дело». Это, думаю, похоже на правду, а скорее всего, правда и есть. «Тогда закричал Кивающий Головой, обрадовался, вперед велел бежать», и от полного уничтожения остатки отряда – пало уже 40 казаков и 11 коряков, а 13 казаков и 15 коряков от ран не могли держать оружие, – спасло лишь появление лыжников Катковского. Завидев на горизонте черные точки, чукчи, не вступая в бой, «ушли на побег», оставив на поле боя много более сотни своих, в том числе порубленного в куски Тавыля, но – победителями. Угоняя оленей и унося с собой несколько десятков ружей, пушку, знамя и, главное, голову ненавистного «Якуни». Гнаться за ними Катковский, несмотря на просьбы служилых, просто не смог: не хватало гужевых оленей.
Много позже, в далеком 1870-м, некий чукотский старичок, шаман Амрврыйоргын, в знак особой дружбы подарит колымскому исправнику барону Гергарду Майделю самое ценное, чем гордился его род, – кольчугу «Казака-Моржа», доставшуюся ему то ли от деда, то ли от прадеда, бившегося у Ореховой. А истерзанное ударами копий тело Дмитрия Ивановича, доставленное в Анадырь, залитое воском и до ноябрьских морозов пролежавшее в леднике под оружейным амбаром, спустя ровно год, в марте 1748 года, упокоилось в крипте церкви Якутского Спасского монастыря, где пребывает и поныне.
Все как у Стивенсона.
Домой вернулся моряк, домой вернулся он с моря, и охотник вернулся с холмов…
Глава XXIV. Северная столетняя (6)
Вставай, страна огромная!
Итогом побоища на Ореховой стало многое и для многих.
Очень туго пришлось юкагирам. «Последствия смерти Павлуцкого были гибельны для чуванцев, селившихся в то время преимущественно около старого Анадырского острога, – отметил тот самый Гергард Майдель, колымский исправник и владелец майорской кольчуги, в записке на имя якутского губернатора, – набеги чукоч повторялись ежегодно, чуванцы не успели соединиться и защищаться общими силами; в течение немногих лет почти весь народ был истреблен, незначительные же остатки его убежали в хребты к корякам и, живя между ними, приняли их обычаи и наречие».
В марте 1754 года, на реке Налуче близ острога, 500 чукчей почти окончательно решили «юкагирский вопрос», уничтожив двадцать пять «больших семей» – на тот момент более половины вадулов, – от полного отчаяния решивших защищаться без русских, которые не успевали, в том числе и Тыначина Перебякина, последнего верховного вождя. Больше не избирали. Спустя два года, в 1756-м, решив доделать недоделанное, 200 чукчей, не особо скрываясь, смахнули с лица земли одулов, бежавших поближе к Анадырску, а две сотни служилых, посланные отбить хотя бы пленников, вернулись ни с чем, после чего десяток чудом уцелевших юкагирских женщин переселились в острог. Подобное повторялось еще раза два, размахом поменьше. Всех, конечно, не убили, но уведенные в плен вскоре слились с «настоящими», а немногие, сумевшие убежать, – если не с коряками, как указывает Гергард Людвигович, то с русскими. Одулов, а особенно вадулов как таковых осталась жалкая кучка, сама не верившая, что выживет.
Но юкагиры юкагирами, а в Петербурге тоже огорчились не по-детски. Во-первых, обидно, а во-вторых, чего и следовало ожидать, сразу после Ореховой передумали насчет подданства коряки. Так что первой реакцией было однозначное: «всех безо всякого милосердия побить и вовсе искоренить». Если Павлуцкому приходилось клянчить деньги по копейке, то теперь сразу нашлось все.
К Анадырю форсированным маршем шли войска, по тем местам очень солидные, прекрасно снабженные и обмундированные, под общим руководством поручика Якутского полка Семена Кекерова, определенного временно исполнять обязанности главы Анадырской партии, – как вскоре выяснилось, вполне орлом. Около двух лет он месяцами пропадал в тундре, оставляя Анадырск на попечение зама, прапорщика Петра Ковалева, тоже парня дельного и смелого, стремясь привести в норму не чукчей (о том даже не думали), но хотя бы коряков.
Кое-что получалось. В начале 1749 года «главное корякское скопище», напав на русские войска, обожглось так, что в панике бежало, «прирезав жен и детей своих, человек до 30», однако довести дело до конца Кекеров, тяжело раненый из ружья, не сумел. Точку поставил в ноябре сержант Белобородов, после чего уважаемые старики от коряков, явившись в Анадырск, сообщили, что отныне «опять государыне верны, а виновны в измене не мы, а чюкчи, что русских побили. Они побили, а мы решили, что русские слабы стали и их бить можно. Да только, беда, русские и нынче сильны». Вслед за тем, как водится, присягнули, и одной проблемой стало меньше.
У попа была собака
«Настоящие», впрочем, шалили вовсю. Всею тундрою больше не вставали – Тавыль погиб очень к месту, второго такого не было, и в этом смысле Павлуцкий отдал жизнь недаром. Но в «скопищах» и не было надобности: тундра за стенами острожков и так принадлежала им, а промысловые партии они вообще считали законной добычей. Если же Кекеров (а потом капитан Шатилов, тоже классический слуга царю, отец солдатам) сердился всерьез, «настоящие» отступали – чтобы через месяц-другой появиться вновь, – на полуостров, куда русские продвигаться опасались. В 1755-м в столице решили, что пряник все-таки лучше кнута, и, в соответствии с идеалами Века Просвещения, издали очередной указ про «действовать лаской». Заодно – чего уж там – и выписав «всем чукоцким людям» именное Ее Императорского Величества «прощение за все минувших лет противу России прегрешения», а очередному начальнику партии, секунд-майору Ивану Шмалеву, повелев «непременно и скоро добром договориться». Сие слегка удалось. Первые переговоры, правда, умилыки сорвали, заподозрив подвох, но в 1756-м один из солидных «настоящих», Менигытьев, рискнул приехать в Анадырск и, польщенный приемом, согласился присягнуть императрице вместе со всем стойбищем.
Такое событие, как указывают документы, отмечали восемь дней без передыху. Очень кстати пришлась и помощь коряков, после походов Кекерова, видимо, окончательно определивших, кому же все-таки быть «верными»: в том же году некий Ивака Лехтелев, «главного коряцкого князя Эйтели брат и сам великий князь», предложил чукчам «мир навсегда» и удобные земли для поселения. А когда чукчи, согласившись, перешли реку и заняли предложенные пастбища, убил на пиру «старших» и отправил их головы Шмалеву, в связи с чем «настоящие» вновь на какое-то время ушли в себя и притихли. Естественно, ненадолго: в 1759-м, на исходе апреля, во владение Ивака явились кровники, отбили у коряков видимо-невидимо оленей и собак, убили 9 мужчин (по числу убитых на пиру) и, захватив много женщин плюс 15 казаков «подмоги», растворились в пространствах полуострова. А чуть погодя, огромным скопищем (в последний раз) осадили Анадырск, в тот момент измотанный какой-то хворью и голодом. Но обошлось. Вновь назначенный главой партии Семен Кекеров, с тремя сотнями относительно живых добровольцев с боями прорвавшись на рыбные промыслы, добыл юколы и сумел прорваться назад, отбив по пути еще и сколько-то оленей. По сути дела, началась уже сказка про белого бычка или, если кто-то против бычков, мочало на столбе, – скорее из принципа, чем по необходимости. Рано или поздно кто-то должен был сказать «стоп», и хотя никто не желал проявлять инициативу, в конце концов такой человек нашелся.
Что немцу здорово
Очередной сибирский губернатор Федор Соймонов был персоной «самобытной», на все имел свое мнение и мало тревожился насчет совпадения его с мнением вышестоящих, в связи с чем, как известно, при Анне Ивановне даже крепко пострадал, побывав на каторге, где заработал погоняло «Федя Рваные Ноздри». Вот он-то, проверив по назначении бухгалтерию, 7 ноября 1760 года обратился к Сенату, доказывая, «что надлежит отныне с теми чукоцкими и протчих разных и многих родов иноверцами бунтовщиками при склонении оных в российское подданство к платежам ясаков не столько военною и оружейною рукою поступать, сколько ласою, благодеянием и добрым с ними обхождением». Ничего, собственно, нового не сказав, но озвучив то, что понимали многие: силами, которые можно в Анадырск перебросить, ничего путного не добьешься, а силы, способные чего-то добиться, перебросить в Анадырск нельзя.
Следующим актом стала инициатива подполковника Фридриха Плениснера, назначенного командиром в Анадырск в 1760-м, но (почему, не знаю) прибывшего на место только в 1763-м, и почти сразу по ознакомлении с местными реалиями предложившего вообще ликвидировать Анадырскую партию и снести Анадырский острог. Рассуждал при этом Фридрих Христианович чисто по-немецки, трезво, здраво и без всяких ненужных эмоций о доблести, о подвигах, о славе. В чем, писал он, смысл существования данной организации? Во-первых, в удобстве диспозиции, позволяющем когда-либо перейти в Америку. Это не есть актуально. Уже освоена Камчатка, уже есть другие базы, значит, пункт зачеркиваем. Во-вторых, в пополнении госбюджета. Это тоже не есть актуально. Если подсчитать скрупулезно, за все годы существования партии, доход от ясака и прочих сборов составил 29 152 рубля и 19 с четвертью копеек, тогда как расходы на содержание за тот же период времени – 1 381 007 рублей и 5 копеек. Ergo, чистый убыток казне составил 1 351 854 рубля и 85 копеек с полушкой. Что не есть хорошо, oh ja. Наконец, в-третьих, в необходимости государству защищать своих добрых подданных от лиц, нарушающий покой и порядок. Увы, и это актуально не есть. Добрые подданные, сиречь юкагирен, ныне в защите не нуждаются в связи с тем, что почти перестали существовать, а все прочие добрыми подданными считаться не вправе, но, налогов не платя, затрат требуют. А раз так, то следует делать то, что велят жизненный опыт и здравый смысл.
Докладную с восторгом, но куда более эмоционально – в стиле «да нафуй тех чукоч, забодали нахрен», – поддержал владыка Сибири, и Сенат, обсудив вопрос, признал: да, Анадырская партия в самом деле «государству бесполезна и народу тягостна». Представив вслед за тем доклад, где пояснялось, что «в разсуждении лехкомысленного и зверского сих туземцев состояния, також и крайней неспособности положения мест, где они жительство имеют, никакой России надобности и пользы нет, и в подданство их приводить нужды не было». Екатерина же Алексеевна, над сим докладом поразмыслить изволив, сочла мнение подполковника рациональным, позицию губернатора исконно русской, а мнение Сената обоснованным, – и уже 4 мая 1764 года (Ее Величество волокиты не терпела) появился Указ о закрытии Анадырской партии и ликвидации Анадырского острога, откуда в 1765-м начался вывод солдат (303 штыка), казаков (285 сабель) и гражданского населения (а сколько, Бог весть, но совсем немного) в Гижигинскую и Нижнеколымскую крепости, завершенный только в 1771-м.
Когда флаг был спущен, пушки зарыты, укрепления и постройки сожжены, церковь разобрана и бревнами спущена на воду, а в официальном разъяснении на сей счет указано «Немедленно внушить всему русскому населению Нижне-Колымской части, чтобы они отнюдь ничем не раздражали чукоч, под страхом, в противном случае, ответственности по суду военному». Излишне говорить, что это решение, позволяющее сократить лишние расходы, сэкономив средства, могущие быть с куда большей пользою употреблены на многие иные дела государственной важности, было мудрым, смелым, взвешенным и еще каким угодно. Но тем не менее – хоть на уши встань – факт есть факт: Империя отступила, и «настоящие» тотчас заняли отныне «ничьи» территории, прогнав беззащитных коряков на Гижигу, а кучку чудом уцелевших юкагиров – на Колыму, тем самым компенсируя себе потери более чем вековой войны. И, вполне возможно, полагая, что победили. Ага. Они просто не знали, с кем имеют дело. А дело они имели с дамой, которая била даже джокеров, и при любом раскладе.
Любезные мои конфиденты
Что пчел не передавивши, меду не есть, Роман Мстиславич, конечно, был прав. Но кончил плохо. Поскольку пчелы пчелам рознь, а без гарантии, что передавишь, улей лучше не трогать. В отличие от галицкого князя, Матушка была умна. Даже с избытком. Рожденная немкой, она принимала как данность, что маленький пфенниг большую марку бережет. Ставшая русской, знала, как оно бывает, когда коса, пусть сколь угодно острая, находит на камень. Но и про свято место, которое пусто не бывает, тоже помнила. И, читая донесения о появлении близ Камчатки судов под флагами с «Юнион Джеком», а то и с лилиями, исходила из того, что волостями на Руси только враги народа разбрасываются. А потому, обнулив Анадырск, – вот и пфенниг сбережен, и коса в сохранности, – от идеи все-таки уложить ванек-встанек на обе лопатки не отказывалась. Просто взяла тайм-аут. По истечении которого, в 1776-м, повелела сибирским властям приложить все усилия для «введения тех чукоч в подданство наше».
Но не мытьем, по старинке, а катаньем.
Чтобы сами попросились.
А уж как сего достичь, это, судари мои, сами думайте, я одна и всего лишь слабая женщина, а вы сильные мужчины и вас много….
Задачка была та еще. Желанием «поддаваться» чукчи не горели. Правда, и русских особо не задирали, но к корякам за зипунами ходили ежегодно и не по разу за год. Говорить же не то чтобы отказывались, но для этого их еще ж нужно было поймать и уболтать. К тому же не абы кого, но такого умилыка, к которому тундра прислушается. И вот, в 1775-м, крупный (130 копий) отряд таких добытчиков, гоня домой захваченных оленей, столкнулся в тундре с парнем по имени Николай Дауркин, воспитанником Павлуцкого (Дмитрий Иванович нередко подбирал после боя сирот, крестя их и устраивая, но к Тангытану (Николке) привязался и оставил при себе). По смерти майора Николай служил в казаках, дезертировал было, затем передумал и шел с повинной.
Встреча вышла изрядно драматическая, но с хорошим финалом. «Догнали, – вспоминал один из очевидцев, – схватили за правую руку, тот дергает, дергает, вырвать не может. “Если я стал для тебя дичью, убей!” – “Нет, не для смерти, для жизни тебя схватил, не для темноты, для смотрения. Сердце твое не хочу достать”. – “Э-э!” – “Почему лицо твое как у настоящего человека? Кто ты?” – “Я – Взращенный таньгами”. “А-а! Будь нашим товарищем, совсем нашим, указателем пути!” – “Согласен”…». В общем, так или этак, но чукчи развернули нарты и вместе с Николаем двинулись в Гижигу, говорить с таньги о мире. Сперва вышло неладно: стороны друг другу не доверяли, а ночью чукчи, не утерпев, еще и угнали у местных коряков десяток оленей. Последовал рейд (иные называют его «последней битвой войны»), были жертвы, – 54 чукчи и 2 казака, – были пленные, 40 женщин с детьми, но все же вовремя остановились.
А в марте 1778 года Дауркин, по поручению коменданта Гижиги капитана Тимофея Шмалева, свел-таки шефа с умилыками Омулятом Хергынтовым, якобы «главным тойоном» тундры, и Эоэткыном Чымкыэчыном, именовавшим себя «главным тойоном моря». На сей раз вышло не комом. Оба вождя присягнули России. Безусловно, только от своего и своих стойбищ имени, не более, но все же были они, видимо, реально авторитетны, потому что уже к 1782-му при их посредничестве на тех же условиях – обязавшись оставить коряков в покое – «стали подданными» России все роды анадырских «настоящих». Взамен, указом императрицы, на десять лет получив освобождение от всякого ясака (о золоте тогда еще не слыхали, а так ничего путного у них все равно не имелось, если же имелось, то легче было выменять…) и сохраняли полную автономию. По сути, все, чего хотели от них «таньгины», это не обижать «не настоящих», не ломать гербовые столбы, подтверждающие суверенитет России в регионе, и сообщать властям, если, паче чаяния, приплывут вовсе уж «чужие». Но до реально подчинения было очень далеко. Хотя…
Конец истории
Как писано у мудрого Кирилла Еськова, «зачем убивать, если можно купить?». Взять с «настоящих», по большому счету, было нечего. Разве что оленей, но теперь, когда они их перестали угонять, доход за счет неугона превышал возможный ясак. Зато чукчам русские товары очень – к прогрессу привыкаешь быстро – нравились. Табак, например, чай, сахар, соль. Скобяные изделия тоже хорошо шли. И платили щедро, не очень торгуясь. И своим – взятым от кита, да тюленя, да оленя, да моржа, да белого мишки, – и заморским. На тот же табак, у американских эскимосов тоже популярный, задешево выменивали самые дорогие меха, от бобров и куниц до седых соболей, черных лис и голубых песцов.
Очень скоро и надолго вперед меновая ярмарка на Анюе, близ Ангарской крепостцы, закрутила обороты на многие сотни тысяч целковых. Тороватые люди, умеючи, за два-три торга делали состояния, выходя в «миллионщики». Конечно, правительство старалось свой интерес блюсти («Никто не имеет права торговать пониженной ценой, напротив того, каждый обязан тщиться дабы поднять цену елико возможно, так чтобы больше выгоды было на нашей стороне», – требовали Правила чукоцкой торговли, принятые в 1811-м и обязательные к исполнению под страхом «волчьего билета»), но чукчи были не в обиде. Им хватало. Тем паче что те же правила предусматривали такой же «волчий билет» за «обмер чукотцов, обвес и протчие обманы». В общем, таньги, наконец образумившись, начали делать то, для чего духи их создали. А это, однако, хорошо. И обижать перестали. А это, однако, еще лучше. Раз так, то и драться незачем.
Вот и жили «настоящие», согласно Указу «Об управлении инородцев» от 1822 года причисленные к народам, «не вполне покоренным», по своим законам, судясь своим судом, платя ясак, «какой сами пожелают», а к русским исправникам обращаясь только по своей необходимости. «В сущности же, – писал капитан Александр Ресин, побывавший на Чукотке с губернской инспекцией аж в 1885-м, – весь крайний северо-восток не знает над собой никакой власти и управляется сам собой. Каждый родоначальник есть полноправный властелин над своим родом». Соседи им завидовали. И не только коряки с юкагирами, «обмер и обвес» которых закон специально не воспрещал, но и таньгины. Владимир Тан-Богораз, в самом уже конце XIX века, видел несколько русских, «ушедших в чукчи» и очень этим довольных. Да, если уж совсем на то пошло, и все были довольны. Власть не грабила, обеспечивала подвоз товаров и старалась держаться закона, чукчи в ответ не буянили и приносили державе доход, а в крае царили мир и порядок. В чем, по сути, и есть и смысл, и цель жизни настоящих, уважающих себя Империй…
Часть II
Глава XXV. Тусклая, тусклая сага (1)
А теперь, покончив с кровопролитием, очень нехарактерным для истории движения России на восток, давайте сделаем паузу. Хотя бы для того, чтобы лучше понять, как все-таки жилось небольшим народам Сибири и Севера под российской крышей. Особо рассуждать нужды нет, сами все увидите, а просто перенесемся ненадолго хоть и на тот же Север, но намного западнее Чукотки, – на великий Ямал, населенный мирными ненцами, отродясь ни на кого походами не ходившими. Перенесемся, да и посмотрим, как оно бывает, когда царь таки добрый, а бояре злые, но при этом царь в курсе происходящего.
Что в имени тебе моем…
Народов, на которых Природа отдохнула, – я в этом глубоко убежден, – нет. Но бывают народы, на которых отдохнула История. В том смысле, что с самого появления своего жизнь их текла одним, изначально заведенным чередом, и ничего, совсем ничего не случалось. То сытно, то голодно, то сами по себе, то под кем-то, – однако без всяких изменений. Сегодня как вчера, завтра как сегодня, и такое топтание на месте – век за веком, тысячелетие за тысячелетием. Есть, однако, тут и нюанс. Когда что-то все-таки случается, на сереньком фоне это самое «что-то», сколь бы смешным и тусклым оно ни было на привередливый взгляд, поражает особой яркостью, позволяя разглядеть некоторые важные оттенки и детали смыслов, куда более серьезных для понимания истинной сути той самой прикорнувшей здесь Истории. К ненцам морозного Ямала, бывшим «самоедам» (не оттого, что себя ели, а потому что «самоди», а русские уже переиначили по-своему), это относится в первую очередь. Но прежде чем завести речь о них, придется – никуда не денешься – начать слегка сызбоку.
Если крохотная, никак и никогда себя не проявлявшая «самоядь» аж до начала позапрошлого века волновала окружающих только в смысле поставки мехов, то про их ближайших соседей, куда более многочисленных и обитавших по обе стороны Северного Урала, такого не скажешь. Народ, известный нам как ханты (или хантэ), – видимо, прямое потомство известной нам по летописям «югры», – некогда звался остяками. Однако название это, взятое русскими у сибирских татар, которым в старину хантэ подчинялись (те именовали их «уштяками», то есть «грубыми, дикими»), позже сочли оскорбительным и отменили. Хотя, к слову название, признанное политически корректным, тоже не совсем того. Происходя от «хон» (царь) и «дихо» (люди), оно означает «зависимые от царя». Или «покорные». Или «лишенные воли». Что тут оскорбительнее – вопрос. Древнее же, исконное имя – «арьяхи». То бишь «многолюдье» – от «ар» («много») и «хо» («человек»). Но ханты его забыли.
Вернее, не забыли, просто не употребляют. Отвыкли. Да и не соответствует оно реалиям. Вот когда-то – да, когда-то народ сей был очень многочислен и горд, имел несколько «княжеств», хотя и очень раннефеодальных, судя по преданиям, но богатых (одна Золотая Баба чего стоит!), много и охотно, хотя и не слишком кровопролитно воевавших между собой по всякому поводу. Дрались из-за мелких обид, ради добычи, частенько из-за красивых женщин, которых очень ценили, а ожесточеннее всего, и тут уже без пощады, с новгородскими данщиками, приходившими в Югру за мехами.
Потом, однако, пришли татары и сломали бывшим арьяхам хребет конкретно, раз и навсегда. Вовсе уж грязью земной народ не стал, добрые его качества: гостеприимство, мягкость, предельную, почти на уровне религии честность и неумение не платить долги – много веков подряд отмечали все, кто интересовался. И все же, все же… Признав себя хантами – будем уж так, раз им нравится, – служили они, и «набольшие князья», сидевшие в Обдорске (нынче, сами понимаете, Салехард) и Конде, и десяток князьков поменьше, обретенным хозяевам верно, меха сибирским тайбугидам поставляя исправно и стараясь во всем, от одежды до обычаев, подражать. А вот тундровых да лесных ненцев Ямала считали своими ясачными. Тундровые, правда, о том и не догадывались. Позже, когда пришли русские, ханты признали власть новых хозяев и начали откликаться на «остяков», а самоеды наконец-то начали платить ясак, но не хантам, которым и ранее ничего не платили, а прямо царевым данщикам, жили же, подчиняясь выборным старейшинам. В основном тихо и мирно, хотя случались и лихие парни, любившие пошалить на большой дороге.
Потомки богов
Впрочем, остяцкие князья, покряхтев, стерпели, и были с того времени верны России. Не все, правда, – мятежи случались, – и не всем повезло остаться «князцами» (мелочь со временем выродилась в обычных «инородческих» старшин), но уж Обдорские стояли на правильной стороне всегда и нерушимо. В результате чего со временем вознеслись неимоверно. Манда, при Федоре Иоанновиче съездив в Москву и вернувшись Василием, построил первую в тех краях церковь, сын его Мамрук отличился верностью в годы смуты, убив князьков, предполагавших восстать, – а дальше, один за другим, пошли Ермак, Молюк, Гында, Тучабалда, Алексей (Тайша). Начиная с Василия II и Константина (Анды) Тайшина, Тайшины и Мурзины, князья Обдорские, формально считались автономными правителями наследственных земель – этакая параллельная власть, вроде «традиционных королей» нынешней Африки, – но неуклонно шли в гору. В принципе, речь сейчас идет не об истории хантов, хотя она сама по себе интересна и когда-нибудь, дай Бог сил и времени, мы об этом всенепременно поговорим. Нынче же ограничусь тем, что в январе 1768 года именным указом императрицы, на основании «данных предкам… жалованных грамот», князь Матвей Тайшин, «оставшийся наследником» в Обдорских городках и волостях, был «утвержден в княжьем достоинстве». Став, таким образом, одним из немногих в Империи «жалованных князей», то есть уже не туземным вождем с привилегиями, а по всей форме титулованным российским дворянином.
Его детей, а затем и внуков, старались приохотить к цивилизации, однако те упирались (им все нравилось). Их приглашали ко двору – хотя, конечно, как некую диковинку, – напоказ вельможам и заморским послам. Им дарили кафтаны, самовары, кортики, вручали медали, а потом, утомившись отпускали экзотов восвояси. И они весьма гордились признанием. Иван Тайшин (речь о нем впереди), возглавивший хантов в первой половине XIX века, еще в молодые годы «показывался всюду не иначе как в жалованном бархатном халате, при кортике, с медалью на шее и в сопровождении служителя, несущего грамоту, удостоверяющую княжеское достоинство». Вот так. Никак иначе. Под старость же, по свидетельству ехидного А. Миддендорфа, и вовсе «дошел до того, что стал чувствовать свое достоинство. Он обзавелся телохранителем, и когда его разбирала охота выказать свой сан, то он время от времени бросал на землю свою шапку, которую телохранитель должен был поднимать».
Заплати налоги и спи спокойно…
Меж тем, пока его светлость процветал, обретая человеческое достоинство, подданным было не до таких пустяков. Жилось все хреновее. Москва, а вслед за нею и Петербург, правда, видели, что с нищих взять нечего, и устанавливали для северян нормы ясака вполне терпимые, но если ненцам, все решавшим кругом и старейшин кругом же выбиравшим, жить было относительно сносно, то ханты, более цивилизованные, выли воем. С них рвали все, кто мог. И царевы слуги, и свои князья (без всякой нормы), и, конечно, заезжие купцы, – страшная вещь монополия, – продавать что похуже, но чем подороже. Варианта отказаться от покупок у хантов не было. Если ненцы хотя бы вели дела с купцами напрямую, делая заказы, торгуясь и проверяя качество поставок, то у хантов в качестве главного закупщика выступал князь, вполне находивший с представителями бизнеса общий язык, а с князем, отбивающим свои деньги, не поспоришь. Не стану предъявлять скучные цифры, но, поверьте, нам с вами бы жить такой жизнью не понравилось бы.
К тому же сборщики ясака – естественно, тоже княжьи люди – оценивали меха по одному тарифу, а сдавали в казну совсем по другом, пиля маржу с местными чиновниками. Если же кто-то не мог рассчитаться, брать в долг приходилось под дикие проценты, причем идти за ссудой к русским купцам (очень не ангелы, они все же драли не семь шкур, максимум пять) строго запрещалось. А все жалобы, даже и тех же купцов, с которых князья требовали дикие откаты, умирали в обдорских канцеляриях, где все, от копииста до высшей власти, самого «заседателя Соколова», непросыхающего алкоголика, ели с руки Тайшиных. Сходило князинькам с рук и такое серьезное нарушение закона Империи, как продажа подданным «зелена вина», причем тут уж без особых накруток, поскольку пьяненький хант уходил в себя, успокаивался и не качал права. В конце концов, пошло вообще по полному беспределу. В 1818-м правительство, изучив экономические показатели края, определило четкий размер ясака – песцовая шкурка (или 3 рубля 62 копейки) – со взрослого мужчины в год, указав, что рубль из собранного идет князю. Однако Иван Матвеевич повелел платить 7 рублей, из которых в бюджет отчисляли положенные 2 рубля 62 копейки, а пятерку с лишним оставлял себе, сколько-то, разумеется, отчисляя на выпить и закусить главе администрации.
Иоанн Великий
На фоне этого, как писал современник, «остяки на самоядь волками стали смотреть, считая счастливой». Их можно понять: ненцы, конечно, не были счастливы, они были беднее хантов (угодья хуже, оленей меньше), но, по крайней мере, с них брали только положенное. Правда, «многооленные» (были такие, хоть и мало), напротив, с завистью посматривали на Обдорск, тамошние порядки им были по душе. Однако верховный ненецкий старшина, Пайгол Нырымин, казавшийся вечным (ему в 1820-м было около 90 лет), потачки таким настроениям не давал, стараясь придерживаться старых добрых правил, и с чиновниками – поскольку был «знатным лекарем», умевшим лечить детей, а в хороших педиатрах нуждаются все и всегда, – тоже умел ладить. А потом он умер, и все сразу стало как-то не так. По обычаю, с уходом «первого старейшины» ненцам надлежало, «собравшись кругом», избрать преемника из действующих старейшин – вроде как кардиналы Папу, – вслед за тем, получив рекомендации Обдорска, утверждение Березова и (уже чистая формальность) подтверждение Петербурга, избранник официально заступал на пост. Однако такого давно не случалось (Пайгол стоял у руля лет шестьдесят), и как-то вышло, что на круг прибыли в основном «многооленные». Купив за табак, сахар или даже олешка у бедных родственников право говорить от их имени, они съехались, имея кто 10, кто 35, а кое-кто и под сотню голосов, и (причины неведомы, а своих версий навязывать никому не хочу) единогласно выдвинули на утверждение кандидатуру Ивана Тайшина. Что и было державной властью одобрено.
Сообщение о таком деле рядовых ненцев удивило (Тайшиных издавна не любили, а уж видя, что творится у соседей, так и подавно), но голоса-то продавали честно, по справедливой цене, так что и сетовать было не на что. Разве лишь поворчали. Господа же выборщики получили от весьма довольного (как же, вековая мечта рода исполнена, самоеды подчинены, и оленей будет больше, а сам он теперь равен великому Давиду Восстановителю, о котором, впрочем, Иван Матвеевич ничего не знал) князя тарханные (льготные) грамоты, уравнявшись со старшинами хантов. Полное равенство в правах и обязанностях с хантами, но рядовыми, рухнуло и на всех прочих ненцев. Принимая же во внимание, что годы (климатологи в этом единодушны) были неурожайны, летом щедры на лесные пожары, а зимой на оттепели, губившие ягель, и звероловные угодья оскудели до крайности, новые порядки довольно скоро довели непривычных к поборам, от которых никто никого не освобождал, ненцев до лютого голода. А учитывая, что народ привык жить скудно, но пристойно, от таких пертурбаций успев отвыкнуть, чего-то вроде явления первого национального героя следовало ждать.
Zorro
О Ваули Пиеттомине, фартовом парне из рода Ненянг, что кочует в Тазе, на границе тундры и леса, впервые заговорили весной 1825 года: он с тремя «есаулами» сделал налет на старшинские табуны и отогнал часть оленей, где пару-тройку, где полдюжины, а где и десяток, раздав их бедноте в голодающих районах Таза. Это удивляло. «Воровская самоядь», то есть мелкие уголовники, была давней докукой властей, но так, как Ваули, из пацанов раньшего времени не поступал никто. Ненцы просто не знали, что такое бывает, и Ваули поначалу даже пришлось объясняться. Не без труда, но сумел, заработав славу великого шамана, вещающего волю добрых духов. Затем, с растущей на глазах группой поддержки, «числом в десять, а другие говорят, что десятка полтора», перекочевал на Приуральскую равнину и проделал «экспроприацию» еще несколько раз.
Все это длилось несколько лет. Поймать лихого парня никак не могли. То есть, возьмись они за дело всерьез, прислав казаков, конечно, поймали бы, но по закону мелкие внутренние дела «инородцев» были в полном ведении князя, и даже купленный с потрохами Соколов заявлял Ивану Матвеевичу, что «стражников у него только два, и те во все дни хмельны, сердиты и мест не знают, да и недосуг ему, заседателю, на глупости». Типа, пусть наглеца изловят и приведут, и вот тогда-то власть ему покажет кузькину мать. Такая неуловимость постепенно сделала Ваули живой легендой, и когда в конце 1838 года Пиеттомина, наконец, «угостив водкою до упаду», сумели задержать, тундра объяснила это исключительно «злым колдовством», выразив мнение, что сын Ненянгов обязательно развеет чары. Так оно и случилось. Правда, не сразу. Сперва Березовский суд – вот тут Соколов отработал честно – назначил задержанным, Ваули и его «есаулу» Магари Вайтину, наказание очень суровое: год каторжных работ в местах «не столь отдаленных» и поселение там же. Но главное – 101 удар кнутом. Иными словами, смерть.
Правда, результат оказался неожиданным. Князя можно понять, он хотел отомстить за ночные страхи и с гарантией устранить нахала навсегда, но масштаб «кнутобойства» (завуалированная вышка), согласно законам Империи, предполагал конфирмацию судом высшей инстанции. А Тобольский губернский суд, до которого Тайшину дотянуться руки были коротки, по требованию губернатора Талызина изучив дело, факт «разбоя», конечно, подтвердил. Но признал и то, что «сей Ваули никого не убивал и увечий не причинял, а отбирал у граждан лишь часть достатков, и себе не многое оставлял, только чтобы жизни не лишиться, но почти все отдавал иным, чтобы бедным самоедам не лишиться жизни». Кроме того, было принято во внимание, что «преступники чистосердечно во всем сознались», что «их роду свойственно незнание законов», что «по дальности их места жительства никак невозможно было без оленей добраться в Обдорск и взять в долг муки» и, наконец, что «общество желает не карать, но токмо удалять их от себя».
В итоге, в свете вновь открывшихся обстоятельств, березовский вердикт конфирмован не был: каторгу обоим отменили вовсе, а страшный кнут заменили двумя десятками совсем не страшных плетей и ссылкой на поселение «в места не столь отдаленные». В этой редакции приговор и утвердили. Преступников, выпоров, отправили в Сургут, где определили в работники к одному из купцов, чтобы «пропитание трудом добывали и могли деньги посылать для поддержания семейств». Однако в ссылке было скучно, душа просилась в полет, и на работе ни тот, ни другой не задержались.
Приехал жрец
Уже 19 сентября 1839 года Березовский земский суд получил донесение о том, что «Пиеттомин и Вайтин 28 августа бежали с места своего причисления, украв лодку, два пуда муки, топор, ножик, да очки, да чучелко сорочье». Сыскать, послав по реке казака, не получилось, а вскоре на Ямале, сперва в районе Таза, а затем и везде, вновь начались шалости. Несколько месяцев Ваули неведомо откуда возникал то здесь, то там, разбираясь с причастными к его аресту («приехал на подворье к тому Савосю, укорял его и бил, пока кровь с носу не потекла»), да и вообще наводя порядок. Внезапность его появлений, а еще более – информированность, удивляла народ. Да и вел он себя теперь куда более жестко, чем до ареста: тогда просто налетал и угонял сколько-то оленей, а ныне приезжал в стойбища и «учинял правеж». Если же старшины пытались его увещевать, «пальцем указывая вверх и вниз», ответствовал в том духе, что, дескать, вернулся не просто так, а «большим начальством назначен главным старшиною над всеми инородцами Обдорского отделения». В подтверждение чего, «если кто не соглашался, бил в нос, ногами топая, кричал громко» и даже некоего Лабе Оленина «грозился за отказ вовсе убить».
По понятиям ненцев, народа очень мирного – именно их нравы авторы фильма «Начальник Чукотки» приписали чукчам, – вести себя таким образом можно было только с позволения духов или русского начальства. И тут очень худую службу княжеским людям сослужил пущенный ими же слух, что, мол, в далекой ссылке Ваули «кровавым поносом захворал и помер». По Ямалу поползли слухи: дескать, богатырь из Ненянгов, «в нижнем мире побывав, всех духов побил и на волю ушел», научившись рвать толстые веревки, как паутинки, нырять в ковшик с водой, уходя от погони, становиться невидимым, и вообще «постиг птичий язык». Поверить в такое трезвым, здравомыслящим оленеводам было, конечно, трудно, но, с другой стороны, очки и сорочье чучелко, показываемые желающим часто и охотно, говорили сами за себя, так что самые недоверчивые понемногу признавали: да, нет дыма без огня.
Правда, сам Пиеттомин, если его на сей счет спрашивали, ничего не подтверждая, но и не отрицая, многозначительно отмалчивался, опять таки «пальцем указывая сперва на небо, а потом на землю, и поднося чучелко к уху, словно бы выслушивая». Из чего широкая тундровая общественность, разумеется, делала соответствующие выводы, – и, короче говоря, всего за три-четыре месяца человек стал легендой. Его белых оленей – хотя олени его были вполне обычными, но белые круче (потому позже он все же подыскал белых, и сказка стала былью), – с серебряными рогами (свидетели божились, что их сияние подобно Луне) видели одновременно в трех, четырех, пяти местах. А число оленей, открыто конфискованных у «княжат», молва исчисляла уже минимум в «семьдесят семь раз по сто», причем съеденные им самим олени по ночам оживали. Это – поскольку очевидцами выступали не какие-то трепачи, а солидные люди, – усугубляло. Или, как сформулировано в «Краткой выписке» из его дела – основном источнике, – «увеличило народное к нему доверие». А это, в свою очередь, налагало, вдохновляло и обязывало…
Глава XXVI. Тусклая, тусклая сага (2)
Дух и буква
Должно отметить: в отличие от прошлых лет, когда Ваули действовал по принципу «грабь награбленное», имелось у него и нечто вроде политической программы. Может, в ссылке каких мыслителей наслушался, может, и сам придумал, но вкратце сводилось к тому, что лучше, конечно, уйти из-под постылой власти «тагов» (хантов) и жить, как раньше, прямо платя ясак русским, которые порядок любят. Но если – будем реалистами – это вовсе нельзя, то, по крайней мере, с налоговыми фокусами пора кончать. А главное, чтобы снова, опять-таки, как раньше, брать припасы у русских купцов, без княжьих накруток и с проверкой качества…
Такой полет мысли вдохновлял. Очень скоро вокруг «великого Ненянга» собралось более 400 душ. Причем не только ненцев (хотя в основном шли они), но и хантов, которым князь, хоть и свой, кровный, тоже не нравился. Для практически не населенного края, можно сказать, огромное войско. Правда, шли не все. Кто побогаче, осторожничал, так что в основном сама себя рекрутировала голь, «не имеющая дневного пропитания» (некий Менчеда Санин, один из самых доверенных «есаулов» Ваули, «ясаку от роду не платил по случаю бедноты»). Да и вооружение хлипкое было: главным образом копья, ножи и луки, а ружей мало. Тем не менее против городка, где и гарнизона-то, почитай, не было, сила смотрелась грозно, и Ваули понемногу стал реальной властью в тундре. Он явочным порядком назначил сам себя «самым главным старшиной» Обдорского края, под страхом угона оленей запретив стойбищам слушаться приказов Ивана Матвеевича, а затем сместил двух старшин. Правда, не без причины: один был очень дряхл, а второй, некто Садоми Ненянгин, настолько зарвался, что зарезал грудного ребенка, мать которого в свое время не пошла за него замуж, а кроме того, избил другую даму, не пожелавшую ему дать, да так сильно, что случился выкидыш. За такое в России полагалась каторга, хоть сто раз будь старшиной, но Тайшин своего человечка прикрыл, так что Ваули, по сути, был прав. И тем не менее это было уже посягательство на прерогативы государства, то есть попахивало политикой. Не меньше, чем публичные заявления о том, что «во всем Обдоре главней его, Ваули, никого не будет», а Ивану Матвеевичу лучше, пока цел, с вещами на выход, и чем дальше, тем лучше.
Между тем вплотную приблизился декабрь. Вот-вот должна была стартовать ежегодная – аж на месяц – ярмарка, и около Обдорска, как всегда, выросло немалое поселение из чумов. И вот к этим-то толпам заявились в первых числах месяца посланцы Ваули, передавшие строгий запрет: «чтобы до его туда прибытия инородцы не смели вносить ясака, а купцы торговать, и отъезжать чтобы тоже никто не смел», а затем и весть о том, что «войско Ненянга» вот-вот двинется на «княжий град». Приказу подчинились, никто не посмел ни начать торг, ни уехать, все ждали развязки, но о реакции собравшихся сказать ничего не могу. Думаю, впрочем, что, как всегда, кто-то радовался, а кто-то боялся. И еще думаю, что таких, кто боялся, было больше. Нищие ведь на ярмарку не ездили, съехавшимся, как и горожанам, кроме вовсе уж голодранцев, было что терять. А парням Ваули терять было решительно нечего.
Впрочем, терять нечего было уже и князю. За всем творящимся, собрать и отправить куда следует ясак, естественно, возможности не было, минули все сроки, и о причинах неуплаты налогов спрашивали уже из самого Тобольска. Деваться было уже некуда, и напуганный Иван Матвеевич с помощью заседателя Соколова сочинил ответ, раздув происходящее до крайности. Согласно его версии, в Обдорской волости затевалась форменная война, грозившая «великим разрушением Обдорску, и Березову, и Тобольску, и даже самыя Петербургу». А также почему-то Курску (вероятно, в связи с тем, что Соколов был родом оттуда, а письмо писал, как всегда, в состоянии ни лыка).
Не знаю, смеялись ли в Тобольске, получив сию депешу. Скорее нет. Крупный мятеж «инородцев» был фактом, а с такими фактами Империя не шутила. Сибирский генерал-губернатор велел создать комиссию и немедленно разобраться, сообщив все курьером военному министру. Военный министр, доложив государю, приказал бунт давить в зародыше, но притом указал, что Николаем Павловичем «строго велено выяснить, не подали ли повода к беспорядкам какие-либо притеснения, злоупотребления или наущения», и взял дело под контроль. Колесо закрутилось совсем всерьез. 1 января в Обдорск прибыл с командой в пять казаков березовский исправник Степан Скорняков, мужик, думается, очень дельный, поскольку оленя за рога он взял мгновенно.
Слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос!
Ситуация была ясна. Прежде всего, необходимо было укрепить беззащитный город, и Степан Трофимович, убедившись, что ненцы, даже «верные», и даже сам князь, драться не будут, потому что панически боятся «шаманства Ваули», запросил Березов о подмоге «хотя бы 25 казачков», и сам, не ожидая милостей от природа, быстро сформировал ополчение из «охочих граждан», всего 20 человек, вооруженных чем попало. Это, вместе с пятью казаками и двумя стражниками Соколова, представляло, по крайней мере, уже больше, чем ничего. Также не подлежало сомнению, что Ваули необходимо заманить в город: гоняться за бунтовщиками по тундре было бессмысленно, тем паче что против четырех сотен с какими-никакими, но все-таки ружьями четверть сотни, где большинство мещане, никак не вояки. В связи с чем князю поставили задачу: найти и уговорить. Такое же задание получил и купец Николай Нечаевский, знавший «самоядску молвь изрядно» и слывший в тундре честным торговцем.
Медлить не стали. Ваули же, выслушав обоих гостей, и купца, и Япту Мурзина, племянника князя, сперва заявил, что в Обдорске делать ему нечего, пока Иван Матвеевич княжит, «а, мол, приедет, когда князем станет тот Япта» (видимо, тот чем-то ему приглянулся), однако потом, выслушав Нечаевского наедине (Япта уехал сразу), задумался. Тот уговаривал приехать изо всех сил, обещал угостить «царской едой» и напоить «царской водкой» (!), а главное, напирал на то, что «казаков в городе мало, и те стары, а прочие народ мирный и его, Ваули, ждут не дождутся, а Тайшин все, как он, Ваули, скажет, так и сделает». Все это выглядело логично, и в своих силах Ваули был уверен, и «царской водки» хотелось, и Нечаевский никогда ненцев не обманывал, отвешивая сахар, так что врать вроде не должен был. И главное, Пиеттомин если не понимал, то, судя по всему, чувствовал: поход на столицу края необходим. Крутиться по тундре, ничего не предпринимая, становилось невозможно по причине все тех же вооруженных ртов, на которые, затянись волынка еще, никаких оленей бы не хватило.
Короче говоря, в конце концов, «взяв совет у сорочьего чучелка» и подумав, «самый главный старшина» решился. Растянувшись по тундре, вереница упряжек, набитых вооруженными бунтовщиками, двинулась к Обдорску. По дороге опять встретив того же Япту, сказавшего, что подумал и согласен стать князем «в обход дяди». Но только если старшины на совете утвердят.
Ночью с 13 на 14 января «скопище» остановилось в десятке верст от Обдорска. Послали гонца к князю, требуя встречи. Спустя несколько часов появился дрожащий Иван Матвеевич со старшинами. Кланялся в пояс, просил прощения «за все обиды», чуть не пострадал (Ваули долго бранил его за свою ссылку и даже «хотел бить оленьим рогом»), но обошлось. Князь, встав на колени, поцеловал «самому главному старшине» руку, признавал, что тот «могущественнее самого царя», клялся отдать сколько угодно муки, оленей, сахара, одеял и даже уступить племяннику Япте «дедовское место», но просил сделать все, как положено. То есть на совете старшин. И таки уговорил.
Около полудня «Пиеттомин въехал в Обдорск с 40 человеками самых отборных, с 20 человеками вооруженными ножами вошел в юрту князя Тайшина; других 20 оставил при нартах, на которых под оленьими шкурами было оружие: луки со стрелами, шесты с копьями и несколько ружей, велев, если что, принести оружие. В юрте князя Тайшина требовал себе от него и прочих дани в сотни оленей и пуды муки, и объявил князю смену». Старшины слушали и кивали. Они были согласно на все. Они ждали. Время от времени в юрту заходили люди и просили Ваули выйти – дескать, сам исправник зовет в гости, – но «самый главный старшина» отмахивался. Типа, идите, не до вас. Отмахнулся даже от самого Соколова, как всегда, пьяного в стельку.
Наконец, появился сам Степан Трофимович, а далее пошло вкусное. «Исправник, войдя с урядником, взяв Ваули за руку, сказал: “Здорово, Ваули, пойдем ко мне в гости!”, и повел, притом Пиеттомин, при виде его внезапно оробев, вышел из юрты без сопротивления». Вообще-то «оробевшего» сына Ненянгов, с его-то биографией, представляю плохо, но как менты умеют «брать за руку» и «звать в гости», видеть доводилось, потому – верю. Сразу и безоговорочно. Правда, уже за дверью Ваули как-то вывернулся и бросился к нартам, но было поздно – вокруг уже дрались. Человек тридцать казаков и горожан-добровольцев, в точном соответствии с указаниями Скорнякова, резали упряжь, ломали копья, опрокидывали сани, выбрасывая на снег оружие; смертоубийств, однако, не было. «Только один бросился было со спины с ножом, но урядник Шахов, в ту минуту подбежав к нему, нож отнял и тем избавил исправника от явной опасности лишиться жизни». Ваули с двумя бывшими при нем людьми взяли на руки и понесли на квартиру к исправнику, «на чем и кончилось казаков и граждан Обдорска с оными самоедами сражение». Относительно же гражданских властей, «притом в соответствии с долгом присутствовавших», то Иван Матвеевич, «испугавшись того сражения, и чтоб ему чего не последовало от тех самоедцев, с некоторыми остятскими старшинами убежал и и в трахтире под лавку спрятался, заседатель же Соколов, будучи пьян, хоть и вел себя браво, но толку не творил, но ползая под ногами, кричал непонятные речи».
Будет сидеть!
Как бы то ни было, «разбойник» был изловлен, и местные власти не преминули подать это в соответствующем виде, а власти не поскупились на поощрения. Исправник Скорняков стал кавалером хоть и невысокого, но все же ордена Владимира IV степени. Предприниматель Нечаевский обрел золотую медаль «За усердие». А сам Иван Матвеевич позже был вызван в Северную Пальмиру, где получил высочайшую аудиенцию и подарки от государева имени, от чего «в восторге плакал во все время пребывания в столице». Но позже. Сильно позже. Когда простили. За что, тоже позже. А пока – для начала – отмечу вот что. Мнение советских историков и нынешних краеведов Ямала, согласно которому «восстание так встревожило власти, что по приказу царя из Петербурга в Обдорск прибыла специальная следственная комиссия, а генерал-губернатор Березовского края прислал для расследования своего адъютанта графа Толстого и отдал приказ – усиленно охранять Ваули», истине соответствует примерно в той же степени, что и вопли Тайшина о «великой угрозе Петербургу и Курску».
То есть, да, и чиновник по поручению из града Петрова приезжал, и губернатор адъютанта присылал, и приказ насчет дотошного расследования исходил от персоны высочайшей. Однако. Ровно ничего из этого не следует. Вернее, следует, но. Генерал-губернатор, имея в виду, что ранее в крае ничего подобного не случалось, просто не мог оставить ЧП без внимания. Графский титул сам по себе ни о чем не говорит, и адъютант – должность не слишком великая, можно сказать, секретарь, а прислан был лишь для того, чтобы доклад не полз по инстанциям, но лег бы на стол сразу же, тотчас по возвращении инспектора. Что же касается столичного гостя, то в его докладе (рукописи не горят!) вопросу о «возмущении самоедов» уделено три с половиной строки. Остальные 23 без малого страницы обстоятельно, в деталях излагают причины бунта обдорских «инородцев», то есть именно то, что хотел знать и поручил выяснить государь. А в этом смысле и сам Ваули, и все его экзерсисы далеко не первостепенны.
Тем не менее «самого главного старшину», конечно, судили. Сперва в Березове, потом в Тобольске. Судили военным судом, поскольку в действиях имелись признаки бунта. По ходу следствия, разумеется, били. Не сильно. Строго в рамках тогдашних европейских норм. Сам подследственный ушел в глухую несознанку. В очевидном – «580 оленей, две старинные кольчуги, три пуда муки, семь сажен моржевого ремня, три упряжи ременные, табаку два и пороху два же фунта, всего в 50 рублей», – каялся. Но «приспешников», кроме взятых вместе с ним, не называл, твердя, что «имен не припомнит». Даже кочевья, где агитировал, «в точности назвать затруднился». Правильно, в общем, вел себя. Изо всех сил рвался под уголовную статью. Имея в активе как минимум побег и рецидив, вешать на себя еще и политику резона, согласитесь, не было. И не вешал. Не дурак был. Но, зная цену «чистосердечному признанию», запирался умно. Охотно подтверждал, что, да, хотел для оленных ненцев «цены на казенную муку и русские товары понизить». Это совпадало с показаниями свидетелей Нечаевского, подтвердившего, что сговаривался с Ваули о «прямой» поставке провизии, муки и сахара, и Мурзина, признавшего, что «сулил хлопотать о скидке», – но тут вообще криминала не было. И что хотел, чтобы «инородцы, как ранее, платили подати вместо двух песцов одного», тоже не отрицал. Но тут речь шла о тех самых 7 рублях, что взимались князем вместо положенных 3 рублей 62 копеек, и выходило, что в этом он как раз стоит на стороне закона. А на вопрос, почему жалобу не написал, справедливо пояснял: «писать было некому».
Но чуть что, упирался рогом. Нет, царем не назывался – и по ходу таки выяснилось, что сообщает такое только Иван Матвеевич, после чего тему прикрыли. Да, старшин менял, но один сам просил, а второй баб губил, причем его, Ваули, родственниц, – стало быть, только из мести. Вот чего отрицать не мог, это «самого главного старшинства». Ну и не отрицал. Виноват, готов отвечать. В итоге «защитнику ненецкой бедноты и троим его соратникам», с учетом всех обстоятельств, отслюнили каторгу «до вразумления», а не «без срока», как просил Березов. А затем Ваули, как поется в ненецких сказах, «сгинул, как пущенная стрела». Кроме того, что позже, отмотав с дюжину годов, герой был выпущен на «химию» где-то на Ангаре, никаких упоминаний о его судьбе в архивах не сохранилось.
При одном условии
Простая, в общем, история. На фоне Устима Якимовича с его «карманами», Фра-Дьяволо или, допустим, Юрая Яносика – даже тусклая. Вроде как с Манчаары. Без любовных интриг и таинственных смертей. Но, какая бы ни была, для ненцев – своя, а значит, ближе и дороже всяческих Робин Гудов, сколь бы кинематографичны, в отличие от «самого главного старшины», они ни были. Потому и назван мыс на реке Полуй, где он, по преданию, делал привал, Ненянг-Саля, а гора на Полярном Урале, куда уходил от погони, – Вавле-хой. Ничего нового. Все как обычно. Даже нежелание народа верить в исчезновение главного героя. Спустя 15 лет, когда несколько молодых «самоедов» украли у старшин десяток оленей, тотчас пошел слух, что главарь, некто Иани Ходин – вовсе не Иани, а вернувшийся с каторги Ваули, и паника из Обдорска докатилась аж до Невы. И еще 27 лет спустя, когда вдруг вновь заговорили о возвращении сына Ненянгов, который, дескать, идет на Обдорск, десятки купцов и старшин, побросав скарб в нарты, кинулись наутек, хотя досужая болтовня ни в какой мере не соответствовала истине.
А потом, как водится, пошли варианты с нюансами. В трудах «до 1917 года» Пиеттомин, ясно, уголовник, шарлатан и «подстрекатель». Каковым, глядя сквозь определенную призму, безусловно, был. После того, опять ясно, народный герой и лидер одного из ярких эпизодов классовой борьбы угнетенных с угнетателями. Что тоже, конечно, верно, что бы он сам на сей счет ни думал. С недавних пор появились новые версии: то ли вождь ненцев в борьбе с угнетателями-хантами, то ли вообще сознательный борец с «российским колониальным игом». А есть и такое мнение, довольно обоснованное, что имели место купеческие терки вокруг Обдорской ярмарки на предмет передела сфер влияния и так далее, самоедского же каторжанина просто использовали вслепую. За – по Остапу Ибрагимовичу – болвана в старом польском преферансе. В общем, что нужно в данный момент, то и предлагают. На любой вкус. Помнится, какой-то прыткий деятель даже накатал на сию тему авантюрный роман с отчетливым русофобским духом.
Но интерпретации интерпретациями, а факты вперед. События в далеком, нищем, диковатом крае всерьез заинтересовали Николая Павловича, велевшего разобраться досконально, и, при всей занятости, за следствием следившего. Так что разобрались по совести. Двадцати двум бунтовщикам, ждавшим кнута, приговор смягчили до минимума, по факту, подарив жизнь, а по отбытии наказания – и свободу. Раскручивать аресты не стали, «поелику те самоеды основным числом в скопище шли, надеясь семья пропитание добыть», а оленей, отданных «самым главным старшиной» бедноте, велено было «не разыскивать и хозяевам не возвращать, а убыток им списать на ясак». Из казны, значит. А старшина Садоми Ненянгин – помните такого? – за убийство младенца и «бабы инородки» пошел на вечную каторгу как миленький, хотя и был ближе близкого Тайшиным. Да и самому Ивану Матвеевичу, дворянину и князю российскому, не слишком поздоровилось. Все, собранное сверх нормы, пришлось вернуть подданным, князиньке же (за попытку скрыть убийство и коррупцию) вынесли строгое взыскание с указанием на неполное служебное соответствие «под опасением за повторение неизбежного строго по законам наказания». И, наконец, получил на всю катушку – за пьянство, за халатность, за «обиды инородцам», за «интерес к Тайшиным», – пресловутый заседатель Соколов. Вылетел со службы с «волчьим билетом», и кердык.
В общем, называя вещи своими именами, в конечном итоге все наиболее причастные так или иначе, но получили по заслугам. Не в отвлеченном смысле, а в самом что ни на есть земном. Восторжествовал закон. Думается, сделать больше не под силу было и государю. Но, если честно, большего и не надо…
Глава XXVII. Братаны (1)
Вернемся, однако, с Ямала в Сибирь. Только не на северное направление, которое мы, вслед за казаками и солдатиками майора Павлуцкого, прошли уже до самого пролива, откуда в ясный день и Америка видна, а на юг. Начнем же, видимо, с Потрясателя Вселенной. С кого ж еще…
Все краски заката
Как известно, нищий сиротка из рода Борджигийн, всю жизнь прилежно трудясь и не пьянствуя, в итоге более чем преуспел, оставив детям немалое семейное предприятие и подробнейшие инструкции, как обустраивать унаследованное, дабы не остаться на бобах. Однако, если дети еще более или менее понимали, что к чему, то уже внуки пустились во все тяжкие, а потом все пошло лавиной, фирма лопнула и спасать что-то было поздно. В середине XIV века династию Юань попросили даже из Китая, и владения монголов вновь ограничились родными местами. Настали времена, похожие на те, когда юный Темучин только начинал карьеру. Две Монголии, восточная и западная, и каждая разделена на уделы: на Западе (Джунгария) – четыре, на Востоке (Халха) – семь, и это еще только самые крупные. А стоило появиться претенденту на роль объединителя, на него кидались всей сворой. Естественно, при активной помощи внимательно отслеживающих тенденции ханьцев. Правда, однажды прилетел орел. Князь Бату-Мункэ сумел обыграть всех, объединил все земли, принадлежавшие великому пращуру до его первого похода на Поднебесную и, приняв титул Даянхан (хан Великой Юань), целых 64 года внушал страх соседям. Впрочем, атаковать не рискнул, а после его смерти страна вновь раскололась, теперь уже окончательно, и не на две, а на три части, причем на отныне отдельном Юге независимых княжеств насчитывалось без одного полсотни.
И более о странном не мечтал никто. Алтанхан, князь Тумэта, самый сильный и знаменитый из внуков Даянхана, создал прочное, богатое, сильное владение, но идти дальше не рискнул, сознавая, что китайцы так или иначе погубят. Прочие добились меньших успехов, но рассуждали так же. А потом главной проблемой стали маньчжуры, справедливо рассудившие, что им с монголами в одной берлоге не выжить, и начавшие обкусывать соседей. Первым рухнул Юг. Храбрый и мудрый Лигданхан с сыном Эчже, проиграв коалиции прикормленных маньчжурами родственников, погибли, родственнички избрали ханом маньчжурского владыку, и южная Монголия навсегда стала частью Империи Цин.
С прочими пришлось повозиться. На сей раз попытку объединения предпринял запад. Ойратский Батур-хунтайджи («хан всех князей») попытался убедить владык Халхи в том, что поодиночке не устоять, и почти сумел: 44 владения дали согласие поднять его на белой кошме. Но ненадолго. Какая бы династия ни сидела в Чжуннанхай, политика Китая неизменима, и в степи вновь брат пошел на брата, а когда сильная (ибо единая) Джунгария, как именовалось ханство ойратов в 1688-м, при великом Галдане-Бошокту, попыталась поставить точку силой, западные князья предпочли лечь под Цинов, которые были далеко и казались милостивыми.
Впрочем, далекую северную периферию, граничившую как с Джунгарией, так и с Халхой, весь этот эпос волновал мало. Разве что эхо докатывалось. Жившие там племена, именовавшиеся сперва «хойин иргэн» и «кэхэрин», а потом, обобщенно, «бураа’д», то есть «лесные», были мало связаны с владыками степи, а после смерти Даянхана вообще отдалились. Хотя и пребывали в зависимости от князей Халхи, будучи их «кыштымами». Это была очень интересная система зависимости, немного похожая на европейскую классику с феодальной лестницей, обязанностью вассала служить и платить, а сеньора – защищать и помогать, и принципом «вассал моего вассала – не мой вассал».
Но не совсем, потому что в отношениях «высший – низший» пребывали не люди, а целые кланы и племена. При этом племена, имевшие кыштымов (тунгусы и тыва-сойоты), сами могли быть кыштымами сильных соседей, а у тыва и тунгусов, в свою очередь, были свои кыштымы (конечно, не монголы). По традиции, кто свои обязанности исполнял исправно, мог рассчитывать на спокойную жизнь (много позже, уже состоя в подданстве России, некоторые бурятские кланы просили начальство позволить давать ясак не только «белому царю», но и соседнему кутухте, «дабы от мунгальских людей разоренья им не было»).
Вот в такой-то край пришли и в такую-то ситуацию окунулись в первой четверти русские, медленно продвигавшиеся к Байкалу по двум направлениям, с севера и с юга, но, в основном, конечно, с севера. К «Братской землице» шли без спешки, но и без остановок. По слухам, у «моря» жили племена, богатые не только «мягкой рухлядью», но и серебром, а это значило, что ясак эти племена должны платить Москве, а не тем, кому платят, кто бы это ни был. Кроме того, у всех «экспедиций» были четкие инструкции искать дорогу в Китай, и уже не было секретом, что от Байкала до Китая если и не рукой подать, то близко к тому. А поскольку по пути в подданство России приводились тунгусы, кыштымы бурятских кланов, – против чего тунгусы, кстати, не возражали, поскольку «царева дань» была много ниже той, что они платили бурятам, – в связи с чем возникал конфликт интересов, столкновение было неизбежно.
Что-то теряешь, что-то находишь…
Имелись, однако, и нюансы. С одной стороны, русские, будучи наслышаны о бурятах от тунгусов, знали, что идут в края, где живет народ, вооруженный не хуже, а то и лучше, чем боотуры саха, но гораздо более многочисленный, и были настроены вести себя осторожно. Их, в конце концов, было пугающе мало (даже к концу века на всю Северо-Восточную Азию, Прибайкалье и Приамурье – не более 25 000 человек, а в первый период вообще намного меньше). С другой стороны, бурятские тайши, хотя вовсе не горели желанием терять своих кыштымов, а тем паче сами чьими-то кыштымами становиться, были (тоже от тунгусов) наслышаны о «непобедимости» казаков и их «огненных стрелах». К тому же они и так кыштымствовали под князьями Халхи, а постоянные войны в Монголии («бой у тех мунгальцев живет мало не по вся годы с китайскими людьми») вынуждали традиционных сюзеренов постоянно повышать размер дани. А потому уйти под не слишком обременительную русскую опеку казалось заманчивым. Так что первые встречи завершились на удивление мирно. Информация тунгусских старшин, еще в 1626-м сообщивших атаману Максиму Перфильеву, что «ждут братские люди к себе государевых служилых людей, а хотят великому государю братские люди поклонитися и ясак платить и с служилыми людьми торговатися», подтвердилась. Не считая незначительных, вполне случайных эпизодов, к обоюдному на первых порах удовольствию. А на вторых все усложнилось. Дело в том, что, ничего не имея против статуса кыштымов и умеренного ясака, тайши были немало шокированы, увидев, что русские, по мере продвижения, строят на их землях острожки. Такое ранее в заводе не было, и на такое они не рассчитывали.
Поэтому первый восторг сменился сперва недоумением, а затем и отторжением, даже когда русские изо всех сил демонстрировали максимум миролюбия. Например, в 1630-м воевода князь Шаховской вернул бурятам их семьи, «без закону» захваченные красноярскими казаками (славившимися своим беспределом на всю Сибирь), а буряты в ответ привезли много мехов. После чего воевода решил, что дело в шляпе, но очень ошибся. «Братские люди» решили, что людей им отдали за выкуп, объяснений, что это не так, не приняли (возможно, такое просто в их понимание не вмещалось), а когда князь намекнул насчет присяги, заявили: «пока городки стоят, шерть не дадим, а де их, служивых людей зовем к себе битца». Вот не нравились им острожки, да и все тут.
Брыкались. Правда, не сказать, что последовательно. Например, знаменитый Ойлан-тайша, иными исследователями представляемый ныне как «патриот, защитник национальной независимости и борец с колонизаторами», в ходе всей своей илиады только и делал, что бегал туда-сюда. То «складывал присягу» и героически, хотя и неудачно, нападал на острожки, то «прибегал» в те же острожки, прося «отдать вины и помочь супротив мугальцев, от которых спасу нет». Впрочем, эти редкие конфликты, хотя случалось всякое (первая попытка построить Братск в 1634-м завершилась провалом и потерями), нечасто принимали слишком уж острые формы. Куда прискорбнее было другое. При всем понимании Москвой специфики обстановки и при всей взвешенности ее инструкций, предписывавших «ласку и меру», возможности центра хоть как-то контролировать исполнение его указаний на местах в тот момент равнялись почти нулю, а местные кадры были, скажем так, мало дисциплинированны.
Не мы такие, жизнь такая…
Уже говорил, когда речь шла о Чукотке, но не грех повторить: первопроходцы были разными. Вся палитра характеров в полном объеме, с оттенками. Фигуры сплошь яркие, самобытные, и все до одного отнюдь не гуманисты. Конечно, садисты по духу, типа Пояркова, случались редко. Холодные, прагматичные, по принципу «Не мы такие, жизнь такая», вроде Ерофея Хабарова, при необходимости выжигавшие дотла и резавшие начисто, ибо раз так, то не доставайся же ты никому, – чаще. Однако и самые нормальные, даже остепенившись и вступив на государеву службу приказчиками или еще кем, жили по особым правилам, не видя разницы, кто есть кто. Вот, скажем, челобитная «бедных и беспомощных и до конца разоренных сирот», пашенных крестьян Нижнебратского и Балагановского острогов на имя Тишайшего, поданная в 1658-м в съезжую избу Енисейска на того самого Ивана Похабова. Люди (в том числе и старосты, и целовальники) давно уже отмучились, а читать, если хоть чуть-чуть вникаешь, по сей день больно и страшно. По сути, это не «злоупотребления», как изящно оформлено публикаторами, а полный набор статей УК. Кроме разве убийства, но это, видимо, случайно. И притом страшные кары – вплоть до батогов и отсечения пальцев – за попытки в полном соответствии с законом подать жалобу. А ведь речь не о ком-то, а об одном из лучших, тех, кому за державу обидно. О человеке, мало что основавшем Иркутск и наукой лаурированном – река Похабовка течет и нынче, – так и вообще, по словам Алексея Мартоса, «хотя нрава был беспокойного, характера сердитого, но по всем своим действиям заслуживает быть внесенным в небольшой и почетный список настоящих государственных людей».
Под стать руководству был и личный состав. В каких-то острожках стояли гарнизоны из стрельцов и «государевых» казаков, переведенных из уже освоенных мест, и в этом случае имелся какой-то порядок. Но не так уж редко срочность задания вынуждала лидеров новых экспедиций объявлять «прибор охочих людей», не глядя на предыдущий послужной список и вообще не задавая ненужных вопросов, и вот эти-то «новоприборные», в общем, мало отличались от татей с большой дороги, каковыми, в сущности, и были. Со всеми из сего факта проистекающими последствиями: скажем, в июне 1627 года казаки будущего гарнизона будущего Красноярска «не таясь» разграбили обоз отставного енисейского воеводы Ошанина, возвращавшегося «на Русь», сказав при этом, что «воевода-де жив и цел, и на том пусть себе рад будет». Управляться с такими подчиненными было сложно. Могли и забить до смерти, как весной 1629 года забили атамана Ивана Кольцова, сына знаменитого Ивана Кольцо, «мужа нравного, на руку и расправу тяжелого, в сабельном бою искусного».
Да и вообще комплексами не страдали, все было очень похоже на практику испанских конкистадоров первого призыва. Пожалуй, и круче. Правда, против царевой власти не поднимались и попыток стать полными суверенами, как Гонсало Писарро или Лопе де Агирре, не делали, зато на царских воевод, мужиков тоже отнюдь не сахарных, при малейшей попытке навести хоть какой-то порядок, «поднимались всем кругом». И тут уж, как говорится, чья возьмет (в советской историографии это назвалось, ясен пень, «борьбой населения Сибири против феодального гнета»). А кроме того, вовсю делили сферы влияния, учиняя форменные – острог на острог – войны на предмет, кому с кого собирать ясак, и тут сама Москва мало что могла поделать, потому что и те, и другие как бы радели о пользе казны, а хоть сколько-то фиксированных границ территорий, тому или иному острогу подведомственных, не было и в помине. Все мерили на глазок, с припуском в свою пользу. Так что разбирались на месте и жестко. Порой с сабельной рубкой и копейным боем, а то и с огненным. Изредка случались даже «подступы» под стены конкурента.
Особо прогремела в те времена многолетняя война Красноярска с Енисейском, в начале которой красноярцы попытались захватить базу конкурентов и вырезать их к такой-то матери. А когда дельце не выгорело, бежали на Ангару и там сперва грабили всех подряд, а затем начали собирать ясак с тунгусов, уже плативших ясак Енисейску, да и с мелких бурятских кланов. В результате конфликт пошел на новый виток: енисейцы начали ломать под себя «инородцев», объясаченных красноярцами. В архивах на сей счет множество жалоб. Дескать, «тех государевых ясачных людей енисейские воры побили 20 человек до смерти, и многих улусных людей повоевали, и жон и детей в полон поимали, и до основания разорили». Потом, когда Москва власть употребила, слегка затихло. Но через двадцать лет бабахнуло снова. Со стычками, перестрелками, взаимными грабежами, пытками пленных, осадами («Приступали накрепко, а бою де с ними было на целый день») и попытками «окыштымить» друг друга, причем в события, каждый на стороне своих, вписались уже и новые острожки, построенные енисейцами и красноярцами, при этом, понятное дело, враждуя и между собой. А поскольку при этом ясачить местных не забывали ни те, ни другие, ситуация приобрела оттенок тяжко запущенной шизофрении. В полном смысле слова. Если совсем уж конкретно, то, как писал воевода Дмитрий Фирсов в Москву, «люди стали вне ума». Вовсе не понимая, как это может быть, «что-де от одного государя приходят к нам двои люди», буряты пытались хоть как-то сориентироваться. Кто-то на «красноярских», кто-то на «енисейских», еще кто-то на «братских» или «удинских», а в итоге настало время, когда, по словам Иоганна Эбергарда Фишера, «буряты сами себе более не верили, и один улус выходил в бой против другого».
Если подумать…
Эти войны, никем не сдерживаемые, пускали крови куда больше, чем разборки между острогами, тем более что в драку вписались и тунгусы, рвущиеся за казацкими спинами «взимать за минулое» с бывших хозяев, – и в результате некоторые кланы вообще, на все плюнув, стали уходить в тайгу, а то и в Халху. По логике, конечно, никто не мешал тайшам, объединившись, смести остроги с лица земли, и пару раз так оно и случалось. С осени 1645 по лето 1646 года довольно крупные – не менее 2000 всадников – ополчения, запросив подмогу из Халхи, трижды ходили походами на Верхоленск. Ситуация усложнилась настолько, что красноярским монтеккам с енисейскими капулеттями пришлось на какое-то время замириться, чтобы справиться с «братскими людьми», причем удалось сделать это лишь после десятка сражений, когда «бились с утра до вечера и во тьме до самой полуночи». Примерно то же повторилось в 1651-м и затянулось аж на два года; навести порядок удалось только в 1651-м Петру Бекетову, опять-таки собравшему силы из всех враждовавших острожков. После чего авторитет Хойленго по прозвищу Черный Шаман сказал, что хватит, ибо против воли духов не попрешь. Но все же, в 1658-м, не в силах терпеть художества Ивана Похабова, приказчика Братска и Балаганска (если помните, и своих-то людей за людей не считавшего), просто снялись с мест, собрали пожитки и, бросив скот, «ушли в мунгальцы».
После чего Москва наконец встрепенулась. Массовое бегство ясачных считалось серьезным ЧП, поскольку подрывало бюджет, и Похабова велено было «строго на строго наказати». Правда, Иван Иванович скрылся от енисейского розыска в Илимск, откуда в Енисейск выдачи не было, а позже, сделав много полезного для державы, выхлопотал от столицы прощение, но слух о том, что «белый царь» вступился за «братских людей», опалившись на самого «Багаба-хана», считавшегося кем-то вроде бога грозы, произвел впечатление. Доверие к московскому гур-хан-тайджи укрепилось, и стороны начали осторожное сближение. Тем паче казус оказался не единичен: назначенные Москвой воеводы все прочнее брали власть в свои руки и, соответственно, «гулящая вольница» понемногу сходила на нет. Официальные лица были круты, надменны, а порой и корыстолюбивы, но, давши слово, они держались.
В итоге, как вскоре выяснилось, кроме геморроя, от острожков была и очевидная польза. Тайши, опираясь на гарнизоны, получали возможность бить конкурентов, да и щучить подданных; подданные, опираясь на гарнизоны же, получали защиту от бродячих отрядов, в ходе «острожьей смуты» расплодившихся безмерно; русские купцы, хоть и жулье, но везли полезные товары, и это было хорошо. Бежавшие от обид Похабова через пару лет даже начали возвращаться в родные степи. Что интересно, у монголов все было прилично: нояны их агитировали бежать, дали скот, хорошие пастбища, – в общем, были заинтересованы в новых подданных, а значит, не щемили. И тем не менее народ, прикинув «за» и «против», возвращался. Быть «мунгальским» аратом оказалось хуже, чем ясачным человеком «белого царя».
Ибо – факт есть факт – позже откочевок не было. Иногда пугали, но никогда не уходили. Никто. «Степное эхо» делало свое дело. А когда халхасские нояны решили заняться северными кыштымами, почему-то забывшими, кто хозяин, всерьез, стало ясно: без русских, какие они ни есть, будет хуже, чем с ними. Потому что монголы шутить не умели. Они приходили и брали свое. С лихвой за годы. В 1651-м Мергэн-ноян, племянник Алтан-хана, как бы помогая «побить русских», помочь не помог, но уплату за помощь переполовинил. В 1653-м – то же самое. Затем явился ойратский кутухта Гэгэн. Драться с ними было невозможно, казаки не поспевали помочь, и бурятские кланы начинают бить челом государю: ставьте, ставьте остроги!.. побыстрее!.. и чем больше, тем лучше!.. и чтобы «пожаловал государь на мунгальских и на калмыцких сакмах устроить служилых людей с огненным боем, чтоб было кем их от приходов воинских людей оборонить». И государь жаловал: после походов Сэйгун-тайджи (в 1668-м) и Гэгэн-Боно-кутухты (в 1674-м), разбившихся о новенькие стены, юг перестал быть источником угрозы – и этот факт был оценен по достоинству. Короче, притирка шла не без огрехов, но куда быстрее, чем где бы то ни было, кроме, возможно, земли саха…
Глава XXVIII. Братаны (2)
Tempora mutantur
Если на западном берегу «Великой Воды» не обошлось без сложностей, то на берегу восточном, куда казаки добрались по Ангаре, через Селенгу, все было гораздо тише. Не так, чтобы вовсе в воздусях благорастворение, но, во всяком случае, терпимо, а главное, без крови…
Сперва, столкнувшись с монгольскими всадниками, гости и будущие владельцы сочли за благо не гнать волну, уважительно пообщались с местными, без помех добрались до ставки главного смотрящего – нояна Турухай-Табуна, совсем чуть-чуть, зятя самого Цэцэн-хана, одного из «принцепсов» Халхи, пообщались с ним, произвели приятное впечатление и вернулись домой с подарками. По возвращении сообщив коллегам, что, мол, есть за Байкалом «золотая и серебреная руда». Что далее, ясно: раз руда, значит, не страшно, что монголы. Первым пошел в поиск Иван Галкин, в итоге основавший Баргузинск, вторым – хорошо нам известный Иван Похабов, сразу по высадке столкнувшийся с аборигенами и взявший в плен 70 «инородцев», естественно, подданных Турухай-Табуна. Однако, прикинув, что к чему, на рожон не попер – «наше моче столько не стало, потому что люди многие и конны, а живут в скопе и от рек откочевали», – а поехал прямо к нояну, торжественно извинился и вернул пленных, став почти своим человеком. Ему даже помогли добраться до самого Цэцэнхана, которому он очень понравился, одарив потомка Потрясателя Вселенной «великими государевыми поминками» от имени Тишайшего, но (чисто по Достоевскому: широк человек) за свой счет. Планировал даже махнуть в Китай, но тут уж монгольский суверен пропустить почему-то не захотел, так что Иван Иванович вернулся в Енисейск, так и не повидав Великую Стену.
Начали сосуществовать. Потихоньку ясачили бурятов, на что тайджи с ноянами закрывали глаза, не препятствуя, но и своими правами не поступаясь. «Приезжают-де, – доносили в Москву, – от мунгальских тайшей в братцкие землицы мунгальские люди и забирают ясак сильно, а оборонять-де, государь, ясачных людей служилым людям некем, потому приезжают мунгальских людей человек по двести и по триста, а служилых, государь, людей в острогах за малолюдством бывает мало». В общем, не уступали, но и претензий не предъявляли. Им хватало проблем с Цинами (тогда еще они под них не легли) и Джунгарией (уже вовсю интересовавшейся Халхой), и конфронтация еще и с бородачами, имевшими «огненный бой», была ни к чему. Да и не так плотно «окыштымлены» были бурятские кланы, чтобы скандалить. Русские же атаманы, хотя и закидывали удочки насчет подданства «белому царю», быстро смекнули, с кем имеют дело, и не особо настаивали. Куда нужнее им была дорога в Чжунго, а следовательно, и спокойствие «в мунгальцах».
Но время шло. Мир менялся. Великая Смута в Поднебесной завершалась. Вслед Нурхаци-завоевателю пришел Абахай-победитель. Маньчжуры сломали Ли Цзычена, оттеснили У Саньгуя, выдавили последних Минов далеко на юг, съели юг Монголии, подмяли Халху и проявили интерес к северу. Им не нравилось появление русских на берегах Амура, у своих коренных земель, и они требовали, чтобы тайджи доказали лояльность Пекину. Уже в 1672-м впервые «мунгальские-де люди угрожают же войною» Нерчинску. Чуть позже о том же заявляет могущественный Тушету-хан, и вскоре под ближними к фронтиру острожками появляются отряды «мунгальских воровских людей», разоряющие русские поселки и бурятские кочевья. На требования унять подчиненных Тушету-хан отвечает либо «ничего не могу поделать, их много, а я один», либо загадочным молчанием.
Вновь, и очень активно, начинается агитация среди бурят за откочевку на «голубой Керулен, золотой Онон». Но, хотя эмиссары рвут глотки, успеха не добиваются. Ответ мелкого тайши Инкея, пожилого и мудрого, к чьему мнению многие прислушивались, на поступившее в 1666-м приглашение отъехать в Халху и занять высокий пост при дворе Алтанханов – «не иду-де я в мунгалы и умру-де я в своей земле», – повторяли практически везде. Буряты сделали выводы из опыта «большого побега», а кроме того, не простили налетов, вынудивших многие кланы, бросив «породные» пастбища, уйти под защиту острогов, – и совершенно мимо властей, как-то сами по себе начали создаваться объединенные русско-бурятские ополчения, удачно справлявшиеся с «мунгальцами», если тех было не слишком много. А то и контратаковали. Скажем, 1682-й: «селенгинские и нерчинские острогов служилые и промышленные и гулящие люди и ясачные иноземцы, собрався четыреста человек, нерчинских семьдесят человек да иноземцев ясачных людей семьдесят человек, ходили за мунгальскими воровскими людьми и за своим отгонным табуном». И 1685-й: «просят брацкие люди, чтоб великие государи пожаловали их, велели им брацким людям и тунгусам дать русских людей казаков в помочь, чтоб-де брацким людям и тунгусам итти на тех мунгальских людей и на соетов в поход». А то и вообще атаковали первыми.
К Первому морю
В конечном итоге, получилось совсем не так, как виделось Тушету-хану. Чем чаще шалили его люди, тем чаще буряты, имея в виду восстановить справедливость, набегали на север Монголии, экспроприируя табуны и стада, в итоге чего все оставались при своих, а Халха страдала как бы не больше севера. В конце концов, Тушету-хан оказался в интересном положении: бывшие кыштымники его нагло не боялись, что очень вредило авторитету власти, более того, обижали его подданных, что вредило авторитету еще больше, а маньчжуры выражали сомнение в его соответствии занимаемой должности, одновременно гарантируя все виды поддержки. Вариантов, собственно, не было, и в 1687-м «принцепс» Халхи, подняв Орду, начал официальные военные действия против «похитителей дедовского кыштыма». Это было серьезно. Удинск и Селенгинск, оказавшись в глухой осаде, держали оборону из последних сил, сотник Федор Головин с огромным даже не для тех мест отрядом в полторы тысячи стрельцов ушел в лес и сгинул. Все, что было о нем известно, это что ему вроде удалось дойти до Удинска, а сформировать по острожкам новое войско реально было лишь на следующий год. Потребность в людях обострилась крайне – и в этих условиях случилось то, чего не ждал никто. На осторожный вопрос тайшам, не могут ли они выделить сколько-то мужчин хотя бы для укрепления гарнизонов, буряты двинулись записываться едва ли не всенародно, часто даже (не холопы ведь!) не дожидаясь решения «старших и лучших». Одна из «скасок», присланных ими в Иркутск, сообщает, что «служить-де они великим государям против мунгальских людей рады и у которых-де нарочитые кони сыщутся и они-де брацкие люди будут збиратца к морю и дожидатца из Иркуцка и из Балаганска братцких же людей и с теми-де людьми готовы итти хоть сами, хоть в тот-де полк государев».
Правда, судьба распорядилась иначе: ойратский Галдан-Бошокту в 1688-м году ворвался в Халху, и Тушету-хану пришлось спешно отзывать всадников на защиту своей ставки, но главный итог событий был очевиден: буряты окончательно сделали выбор. Более того, в 1689-м – силу чтут! – в российское подданство попросились несколько монгольских ноянов, участвовавших в неудачном походе, а когда пару лет спустя они передумали и откочевали назад, почти половина их юрт отказалась следовать за природными господами. Прибайкалье поменяло владельца. Монголы еще много лет ходили в набеги, угоняли стада, а при случае и пленных, но это уже было не войной, а разбоем, и казацко-бурятские отряды, догнав, карали налетчиков быстро и страшно, а не догнав, учиняли репрессии на той стороне фронтира. В то же время принципиально меняется ситуация с побегами. Далеко на западе Галдан-Бошокту, слишком поздний и неудачливый кандидат в новые Чингисханы, еще не зная, что обречен, пошел ва-банк, и князьям Халхи стали позарез нужны воины, как можно больше воинов. Теперь они звали бурят открыто, гарантируя «тайшам ноянство, черной кости блаженство», и те, кто откликнулся на зов, подтверждали: все так, принимают великолепно, устраивают шикарно, а перспективы карьеры беспредельны.
И тем не менее откликнувшихся кричаще мало. В основном это тайши, имеющие знатную родню за кордоном, и им приходится туго. Некоего Дайбуна, решившего уходить, вяжут и сдают его же нухуры, никуда уходить не желающие, а еще раньше, даже до нашествия Тушету-хана, точно так же сдают собственные подданные, настаивая притом на строжайшем наказании, и даже родная жена пригрозила Менею «своею же черною косой удавитися, коли муж повезет ее в мунгальцы». Зато, когда некий оригинал, имя которого история не сохранила, предложил приятелям бежать «по Анкаре до Енисейска в русские города и там с русскими жить», желающих нашлось немало. А немного позже, во время великих войн Цэван-Рабдана с казахами, воины потребовались уже ойратам – и все повторилось. До буквы.
Государство и революция
По сути, явочным порядком, само по себе – а по приказу такого и не бывает – началось то, что уже век продолжалось в Поволжье, кроме разве мусульманских районов: люди пришлые и люди, жившие в этих краях всегда, тянулись друг к другу. Власть, как всегда, заботилась только о максимальном приручении знати, и преуспела, причем щедрая плата – не жалкое «царское жалованье», а интеграция на равных, – очень быстро сделала процесс необратимым. «Старшие люди» получали льготы, освобождение от ясака, на равных включались в «купецкие кумпании», кого-то возвышали из шелянгов в зайсаны, а кого-то из зайсанов в тайши. Их верстали в казаки, а то и в дети боярские, тем самым приравнивая к российским дворянам, и они иной судьбы не желали, ибо ничего подобного в Монголии получить не могли.
Но и «черная кость» имела основания не считать себя в накладе. Когда на рубеже XVII–XVIII веков возникли какие-то земельные сложности между бурятами и гарнизонными казаками острогов, в ответ на челобитную, привезенную бурятскими ходоками в Москву, Петр I практически сразу повелел «свесть служилых и всяких людей по другую сторону Селенги, чтоб оным всех чинов иноземцам от таких их обид вконец не разоритца». Не знаю, кому как, но, как по мне, учитывая реалии эпохи, дорогого стоило это самое «всех чинов» в царском Указе от 22 мая 1703 года. После этого уже не удивляет характеристика, данная бурятам в целом, не как народу, но как поданным Империи, Саввой Рагузинским, подписавшим в 1728-м Кяхтинский трактат с Цинами: «Служат верою России, не уступая природным россиянам: своим оружием и кочеванием границу распространяли, мунгальской землицы великою частью завладели, на границы с великим чаянием и верностью были доброоружены и доброконны, держали оную почти по всему расстоянию в многолюдстве; прикрытием границ и разъезда служили без жалованья с добрым сердцем и учтивостью, на которых я имел большую надежду, видя их храбрость и усердие».
И вот еще что интересно. По ходу работы обратил я внимание на некоторые выдержки из документов. Такие, что не выписать их было просто нельзя. Судите сами. 1691-й: за троих бурят, взятых под стражу по подозрению в подготовке побега, «казаки удинские Фролко Петров да Кузьма Калуга без спроса пожитками и головами ручаютца, что то-де люди добрые, государству верные». 1692-й: иркутские буряты бьют челом об оставлении в должности ясачного сборщика и толмача казака Кузьмы Зверева, от которого «ни обид ни иных налог к ним иноземцам во все дни не бывало». 1695-й: братские буряты просят вернуть на службу бывшего приказчика Фирса Потапова, который прежде «расправу чинил вправду по совести». И так далее. Числом не менее десятка, и это только то, что попалось мне. Красноречиво. Нет, я все понимаю, и я допускаю: вполне возможно, какая-то местная мелочь уровня шуленга, найдя общий язык со служилой мелкотой, старается удержать на службе своего человечка. Но дело-то в том, что в бумагах, отражающих не политику, но обычные, повседневные реалии иных краев, что Ямала, что Якутии, что Чукотки, таких прошений не попадается вообще. Тем более, вороша старые грамоты, обнаруживаешь и кое-что еще. Скажем, в октябре 1692 года докладывает Степан Казанец, приказчик Кабанского острога. Дескать, «творили мне словесно брацкие ясачные люди, что ныне-де они пошли ясаку искать, а остались-де жены их и дети с табунами на кочевьях, и чтоб-де великие государи их пожаловали, велели бы казакам служилым на дома не уходить, а беречь их жен и детей от приходу воинских воровских мунгальских людей». Сообщая, что «велел задержать служилых людей, чтобы беречь те кочевья, покамест мужики их не выйдут из леса, и то указание служилые с великой охотой выполнили, хотя и та служба сверх времени».
Выходит, покидая кочевье, «брацкие люди» не только спокойны за семьи, оставшиеся наедине с казаками, но просят, как о «пожаловании», чтобы те остались. Доверяют, значит. А казаки, что еще интереснее, на указание приказчика остаться «сверх службы» реагируют без раздражения, а «с великой охотой», хотя дома, понятно, и семьи заждались, и дел полно, да и в баню охота. На таком фоне уже не удивляет коллективное письмо служилых из Селенгинска насчет семьи некоего «человека брацкого Бадмейки пастуха», который на пожаре «двух Степановых десятниковых деток с огня снес и бабу его с вотчимом да сам до смерти угорел», в связи с чем просят казаки «тово Бадмейки брацкого жону из детями скоко есть поставить на казачий корм». Нет-с, не удивляет. Напротив.
Хотя, конечно, бывало всякое.
Есть в документах и о самодурстве, и о лихоимстве, и всякого рода иных «родимых пятнах».
И тем не менее. Когда в 1696–1698 годах по забайкальским острогам прокатилась волна мятежей – не старого, «конкистадорского» типа, а вполне нормальных, на чисто классовой основе городских восстаний, – толпы бунтующих «собраяся на круг многолюдством з брацкими мужиками совместно». А в Братске, где власть на какое-то время взяли низы, в съезжую избу (местный муниципалитет) и вовсе «кругом обраны для управы дел Артамошка Лузин гончаров сын, и Додожко ясачный брацкий человек, и Жамбыл брацкий пастух тож, и Кузьма Оглобля, Василий пономарь, и иные прочие служилые, и посацкие, тако же иноземцы брацкие за правду их и к всякого чина люду удовольствие»
Пожалуй, на этом и все. Тема исчерпана, добавить нечего. Да и нужно ли, право, не знаю.
Глава XIX. Амурские волны (1)
А теперь – после Бурятии это совершенно логично – давайте рванем на самый-самый восточный Восток, в места, ныне понемногу оспариваемые Китаем. Самое время прояснить вопрос, отняла что-то у Китая Россия или нет, а если да или нет, то почему. Тем паче есть стойкое ощущение, что российские китаисты, пусть и не поголовно, но в немалом числе сами в этой проблеме путаются, а то и подыгрывают непонятно кому.
На высоких берегах Амура
Путь русских первопроходцев на Дальний Восток лежал через Сибирь. Тихо-тихо, мало-помалу, задерживаясь на годы, через Томск (основан в 1604), Енисейск (в 1619-м), Красный Яр (в 1628-м), Якутск (в 1632-м) «вольные люди» в 1639 году добрели до Тихого океана – и развернулись на юг, к Амуру и многих интересовавшему, загадочному и уже недалекому Китаю. Каковой, отметим, как раз тогда пребывал в одной из глубочайших задниц своей истории. Системный кризис ударил по всем сферам жизни, подрубив под корень могущество династии Мин, некогда изгнавшей монголов. Крестьянские восстания переросли в полный беспредел, «народные герои» опустошали страну, воюя с правительством и между собой, а местные генералы не нашли ничего лучшего, как впустить в дом (как они думали, «на время») северных варваров – маньчжуров. Которые, на беду впустившим, как раз в тот момент переживали пассионарный взрыв: вождь Нурхаци, уподобившись Чингисхану, память которого он чтил и в очень отдаленном родстве с которым состоял, объединил восемь чжурчженьских племен и создал царство Чоусянь, а его сын Абахай замахнулся и на Китай, как уже говорилось, не без помощи не слишком дальновидных вельмож Поднебесной. Правда, все получилось далеко не сразу. В отличие от Чингисхана, потомки Нурхаци придавали серьезное значение национальному вопросу, настоящими людьми, по их мнению, являлись только маньчжуры, а китайцы считались еле-еле быдлом, поэтому ненависть людей хань к варварам была лютой, а сопротивление яростным, на что маньчжуры отвечали террором и поголовным истреблением населения целых уездов. Варваров было тысяч триста, китайцев – почти в тысячу раз больше, но надлом есть надлом: маньчжуры побеждали. В 1644 году пал Пекин, где было объявлено о воцарении династии Цин, в 1662-м завершилось покорение южного Китая и уничтожение последних «национальных» претендентов, а еще позже, в 1683-м, завоеватели, уже ставшие единственной и, следовательно, законной властью, покорили последний оплот Резистанса – пиратско-патриотический Тайвань.
Такая ситуация, легко понять, облегчала первопроходцам процесс освоения новых земель. Тем паче что земли ни к тогдашнему Китаю, ни даже к Маньчжурии-Чоусянь никакого отношения не имели. Северной границей Поднебесной считалась Великая стена, а северной границей маньчжурских земель – ее адаптированный аналог, так называемый «Ивовый Палисад», система укреплений, растянутых на 700 км южнее Амура. Все пространство между этими укрепления и Якутском было и фактически, и формально «ничьим», местные племена жили сами по себе, откупаясь от маньчжурских набегов достаточно скромной данью. Все было стабильно, пока не явились казаки. Парни Ерофея Хабарова, Василия Пояркова, Онуфрия Кузнеца начали активно осваивать берега Амура, и левый, и правый, ставя по ходу дела укрепленные городки, крупнейшими из которых стали Нерчинск (на Шилке) и Албазин (на левом берегу Амура) и, натурально, облагая местных дауров и дючеров данью. При всей симпатии к героическим первопроходцам, отметим, что развитие событий было чисто конкретным. Никакие ссылки местных на то, что, дескать, «крыша» у них уже есть, за отмазку не канали, а попытки качать права карались быстро и сурово. В итоге самые слабонервные из туземцев начали присягать «белому царю», кто из страха, кто – рассудив, что ежели залетные братки столь в себе уверены, стало быть, «белый царь» посильнее богдо-хана будет, а прочие кинулись искать защиты у традиционных смотрящих. Маньчжуров земли у Амура не интересовали, от их родовых земель эти края были далеко, от Китая еще дальше, но дело было в принципе, ибо когда явившаяся не пойми откуда залетная бригада начинает обдирать и сманивать под себя чужих лохов, это совсем не по понятиям. Так что, хотя китайские фронты постоянно требовали пополнений, кое-какие меры были приняты сразу же. В конце марта 1652 года маньчжурский отряд, руководимый аж генералом, начальником гарнизона Нингуты, крупнейшего местного города, усиленный ополчением обрадованных дючеров, атаковал Ачанский городок, где пересиживала зиму бригада Хабарова. Однако, хотя соотношение сил, казалось, не оставляло беспредельщикам никаких шансов (около 2000 местных против 206 казаков при вполне сравнимом вооружении), итог стрелки оказался для аборигенов удручающим: победа досталась русским, потерявшим 10 человек, маньчжуры отступили, оставив на поле боя свыше 700 трупов.
На какое-то время вопрос о долинах Сунгари, Уссури, левом береге Амура и значительной части его же правого берега был снят. Русскую сторону такое положение дел вполне устраивало. Но Восток – дело тонкое, и чем дальше, тем тоньше. Маньчжуры, на тот момент отмороженные пассионарии, восприняли ситуацию как проверку на вшивость. Проблема вчера еще на фиг никому не нужных, а ныне ставших незаконно отторгнутыми заамурских территорий вышла если и не на первый (на первом все-таки оставался Китай), то и не на второй план. В итоге миссия Федора Байкова, направленного Москвой в Пекин на предмет решения вопроса, в 1658-м закончилась ничем, тем паче что русский посол напрочь отказался соблюдать требования пекинского протокола, начиная с непременного и обязательного kowtow, церемониального коленопреклонения. По большому счету, понять дипломата можно: памятуя традиции эпохи ордынского ига, Москва рассматривала сие как признание вассальной зависимости, что для Третьего Рима было категорически неприемлемо. Однако по понятиям Срединной Империи, считавшей себя пупом Вселенной, а всех неподданных Сына Неба – варварами, обязанными жалко заискивать и платить дань, никаких исключений в этом пункте быть не могло. К тому же маньчжурский император, сам недавно считавшийся «северным варваром», никак не мог допустить, чтобы к его особе выказывалось хоть на йоту меньшее почтение, чем к «настоящим хуанди». Да и с какой стати? Чем, в самом деле, бородатые варвары неведомо откуда лучше варваров, приплывающих из-за моря, и аккуратно ползающих так и столько, как и сколько положено? Короче, общего языка не нашли. Сын Неба обиделся. Посольство отбыло восвояси. Цины же, параллельно с препирательствами о kowtow подтягивавшие на север войска и успевшие отстроить близ устья Сунгари крепость-порт Гирин, в 1658 году при поддержке корейских вассалов взяли реванш за ачанскую конфузию. Молодой, но подающий надежды капитан Шархода во главе эскадры из 40 вымпелов разгромил в речном сражении отряд Онуфрия Кузнеца, уничтожив 5 и захватив 4 из 11 казачьих судов. Немалые потери (13 кораблей) понес, правда, и маньчжурский флот, однако точка на продвижении русских в среднем течении Амура была поставлена. Русским пришлось покинуть Кумранский острог, главный опорный пункт в регионе. И Пекин это высоко оценил: триумфатор был вызван в столицу и торжественно произведен в «малые адмиралы». К слову, впоследствии Шархода стал лучшим флотоводцем Империи; именно ему суждено было покончить с пиратами-лоялистами и создать условия для захвата Тайваня.
Москва – Пекин, Москва – Пекин
На какое-то время ситуация зависла в зыбком равновесии. Русские опасались излишне дразнить гусей, которые, как выяснилось, умели кусаться, а маньчжурам стало не совсем до того, поскольку на юге Китая восстал генерал У Саньгуй, некогда открывший северным варварам дорогу в Китай, а теперь решивший, что мавр, сделавший свое дело, может уходить, поскольку пришло самое время установить в Поднебесной национальную династию во главе, разумеется, с ним самим. Однако попытка Москвы использовать момент для закрытия темы была в Пекине встречена без понимания. Очередной посол, опытнейший дипломат Николай Милеску Спафарий, сумел, правда, в 1675-м решить «протокольную» проблему ко взаимному удовлетворению, но далее не продвинулся ни на шаг: в ответ на все аргументы Цины требовали (в качестве предварительных условий) не просто срыть до основания Албазин и Нерчинск, но и полностью очистить Приамурье, к тому же выдав на расправу туземных князьков, принявших русское подданство, а пока суд да дело, понемногу наращивали военное присутствие, завершив к 1682 году строительство Айгунь (ныне Хэйхэ), первой полноценной крепости на Амуре.
Такой подход требовал адекватного ответа. После долгих сомнений в 1682 году «Дума приговорила, а Государь указал» официально принять «даурской землицу» в состав России, учредив Албазинское воеводство, включавшее оба берега Амура, а гарнизоны усилив стрельцами и специально для такого случая прощенными ссыльными малороссийскими казаками во главе с Нечипором Черниговским, усиленно просившими Москву дать им возможность «отслужить Государеву милость». Дело, короче говоря, шло к очередной «горячей» фазе, причем маньчжуры по мере накопления сил вели себя все более напористо. В частности, выяснив, что стрельцы в Нерчинск прибыли из неведомых им Енисейска и Якутска, они на очередных переговорах потребовали провести границу близ этих городов, что (об этом переговорщики, правда, не догадывались) увеличило бы территорию Китая раза в три. Допускаю, что русская сторона, отвечая на предложение, сумела остаться в рамках приличия, но переговоры, естественно, прервались, тем паче что к этому моменту Цинам удалось покончить и с наследниками У Саньгуя, и с тайваньской занозой, став, наконец, единственной, а значит, и легитимной властью в Поднебесной. В начале 1685 года из Пекина в Айгунь пришел приказ императора Канси: Сын Неба требовал, чтобы русские, «не медля, вернулись в Якутск, который и должен служить границей, или умерли все до единого».
Приказы, как известно, не обсуждаются. В середине июня то ли 5, то ли 7 тысяч солдат при 45 орудиях (в том числе 9 осадных), подойдя к Албазину, с ходу начали штурм. Учитывая, что под началом воеводы Алексея Толбузина состояло всего 450 бойцов (350 стрельцов и казаков, около сотни крестьян-переселенцев) без единой пушки, тот факт, что штурм провалился, следует рассматривать как чудо. Однако долгую осаду выдержать было невозможно, и Толбузин договорился о почетной сдаче городка и свободной эвакуации. Судя по всему, цинское командование, хотя в себе и не сомневалось, но и искушать судьбу, провоцируя отморозков на сопротивление до последней капли крови, не желало. Всем желающим покинуть город были обещаны продовольствие, транспорт и охрана, а всем, кто решит перейти в цинское подданство, – солидные подъемные и чины в военном ведомстве. На том и поладили. Около 600 человек, получив довольствие и телеги, ушли в Нерчинск, а городок был стерт с лица земли, после чего цинские войска ушли обратно в Айгунь, уводя с собой примерно 40 албазинцев, «избравших свободу». Однако разборка на том отнюдь не закончилась. Сойдясь на том, что «негоже Государеву имени в ущерб побежную славу из Албазина на Руси учинить», Толбузин и его нерчинский коллега Иван Власов немедленно приняли меры по восстановлению status quo. Уже в начале сентября беженцы не только вернулись на пепелище, но и в рекордные сроки собрали урожай и отстроили острог, укрепив его в расчете на неизбежные осложнения. Каковые и не замедлили.
Ранней весной следующего, 1686 года Канси отдал приказ уничтожить уже не только Албазин, но и Нерчинск, а «мятежных варваров» сурово наказать. В июле 5000 цинских солдат с 40 орудиями опять подошли к Албазину, гарнизон которого, с учетом пополнений из Нерчинска и опять же крестьян, составлял чуть более 800 бойцов. Практически в первые же часы обстрела погиб Алексей Толбузин, однако «служилый иноземец» Афанасий Бейтон, принявший командование по старшинству, оказался на высоте. Штурм провалился. Провалился и второй. Серьезные проблемы доставляли осаждающим регулярные вылазки «охотников», ликвидировавших порой до двух десятков врагов. Но силы были слишком неравны: маньчжуры постоянно получали подкрепления из Айгуня, нарастив к октябрю численность до 10 тысяч, а русских к началу зимы оставалось чуть более 150 (боевые потери были совсем невелики, человек 70–80, но более 500 умерли от цинги, поскольку китайские зажигательные ракеты еще в августе уничтожили склад с соленьями и лечебными травами). Тем не менее гарнизон не сдавался, и после провала третьего штурма маньчжурский командующий, потерявший под стенами почти треть личного состава, осторожно, в самых обтекаемых выражениях запросил у Пекина разрешения на переговоры, однако, к своему удивлению и, надо полагать, облегчению, получил больше, чем предполагал: распоряжение снять осаду – в связи с предстоящим прибытием нового посольства из Москвы.
Возможно, албазинцам, в мае 1687 года свистевшим вслед уходящим супостатам с полуразрушенных стен, и казалось, что они – победители, более того, в какой-то степени так оно и было, но все же судьбы мира, как известно, решаются не на периферии. К 1687 году карта легла так, что и Москве, и Пекину пришлось всерьез задуматься о достижении взаимопонимания. Россия аккурат в это время заключила Вечный Мир с поляками и готовилась попробовать на излом (совсем чуть-чуть!) Османов, справедливо рассматривая этот проект с куда большим интересом, нежели непонятно что на востоке. В свою очередь, у Цинов под боком возникла проблема куда более серьезная: ойратский (западно-монгольский) хан Галдан-Бошокту вовсю объединял степь, не скрывая намерения истребить вырожденцев-Чингизидов, основать новую династию и стать новым «освободителем Китая». Маньчжурам, только-только прошедшим той же дорожкой, было более чем понятно: такой нарыв необходимо выжигать до кости, и в самом зародыше, причем не откладывая, пока еще мелкие ханы Халхи, Северной Монголии, живы и зовут на помощь, а Галдан-Бошокту контролирует только половину степи. При таком раскладе ни тем, ни другим не было резона качать права свыше необходимого. От мелкого ехидства цинский двор, конечно, не отказался, потребовав проводить переговоры не в Пекине, как полагалось бы, а в Богом забытом Нерчинске. Однако о важности для маньчжуров данного мероприятия говорит тот факт, что их делегацию, выехавшую на север в мае 1688 года, возглавлял не просто полномочный посол, как полагалось бы, а знаменный князь Сонготу, один из ближайших советников деда и отца правящего Сына Неба. Фактически исполняющий обязанности премьер-министра, он тем не менее решился более чем на год покинуть столицу, невзирая на опасность интриг со стороны завистников, а это, согласитесь, серьезный показатель.
Впрочем, при всем том переговоры, начавшиеся 12 августа 1689 года, шли довольно туго. Крайне жесткие условия навязывали русским непосредственные переговорщики, миссионеры-иезуиты падре Перейра и Жан-Франсуа Жербильон, состоявшие на службе у цинских властей (к слову, изданные много позже мемуары Жербильона позволяют предполагать, что в далеком Китае этот святой отец служил не только Церкви, а тем более маньчжурам, но проходил, так сказать, по иному ведомству). Учитывая, что князь Сонготу свободно владел только родным, маньчжурским языком, а уже по-китайски изъяснялся на уровне «твоя моя понимай нету», общие позиции нащупывались с немалым трудом. К тому же цинское посольство прибыло в Нерчинск в сопровождении «почетной стражи» – около 5 тысяч имперских гвардейцев, с артиллерией и речной флотилией под командованием специально прибывшего из столицы адмирала Шархода, победителя Онуфрия Кузнеца и покорителя Тайваня. В связи с чем отцы-иезуиты не упускали ни малейшей возможности намекнуть на то, что контраргумент Федора Головина не превышает полутора тысяч «штыков и сабель». Правда, Головин стоял на своем жестко, в ответ на все эскапады Жербильона отзываясь в том духе, что русские войны не хотят, но, поскольку речь идет все-таки о землях ничейных, то следует исходить из того, что надо делиться. А ежели Цины все-таки настаивают не то что на границе «близ Якутска», но хотя бы на получении всего Албазинского воеводства и отказа Москвы от Забайкалья, то хрен с ними, можно и повоевать. «Можно», – подтверждали присутствующие здесь же воевода Власов и «служилый иноземец» Бейтон.
Не исключено, и даже скорее всего, Головин с военными и блефовали, но блефовали талантливо, а князь Сонготу чем дальше, тем больше рвался в столицу. В конечном итоге, согласно статьям Нерчинского договора, Россия согласилась «Албазин разорить до основания» (этот пункт был для Цинов делом престижа) и отказалась от претензий на две трети Албазинского воеводства (правый берег Аргуни и оба берега Амура). Однако и Цины пошли на не менее серьезные уступки, дав «клятвенное обязательство» не заселять «землю албазинскую». Иными словами, правый берег Амура однозначно уходил «под Китай», и князь Сонготу имел все основания докладывать Сыну Неба о крупном успехе («Земли, лежащие на северо-востоке на пространстве нескольких тысяч ли и никогда раньше не принадлежавшие Китаю, вошли в состав Ваших владений»). Зато левобережье вновь становилось «ничейной землей» без суверена. В связи с чем, кстати, вплоть до начала XIX века в Поднебесной были строго запрещены какие бы то ни было переселения в «буферную» зону, причем нарушение этого запрета маньчжурами каралось каторгой, а этническими китайцами – смертной казнью. Много позже, правда, китайские историки озвучат иное мнение. «Царская Россия, воспользовавшись Нерчинским договором, уступленный китайской стороной район к востоку от Байкала до Нерчинска включила в состав своей территории. Факты свидетельствуют, что царская Россия – агрессор, Китай – жертва агрессии. Китай в тех исторических условиях не мог не пойти на серьезные уступки, а царская Россия извлекла для себя серьезные выгоды», – возмущаются авторы «Военной истории Китая», официального издания Академии военных наук КНР (1992). Однако, если вспомнить о «почетной страже» князя Сонготу под Нерчинском, не говоря уж о предшествующих событиях, вопросы о том, кто на кого давил, кто «извлек для себя серьезные выгоды» и кто «в тех исторических условиях не мог не пойти на серьезные уступки», звучат несколько двусмысленно.
Конец – это только начало
Впрочем, Нерчинский договор, важный и актуальный для обеих сторон, был крайне далек от совершенства. Во всех смыслах. Мало того, что три официальных варианта документа, русский, маньчжурский и латинский, содержали разное количество статей, во многих случаях не совпадавших по содержанию, но и географические ориентиры в них оговаривались навскидку, именовались условно, а хоть сколько-нибудь точную демаркацию границы никто не проводил, ограничившись общими, на глазок, прикидками типа «от этого ручья до вон той горы, а потом по хребту и аж до моря». Это вполне соответствовало традиционной китайской практике не утруждать себя конкретикой в договорах с «варварами», дабы впоследствии иметь возможность настаивать на «необходимости уточнений» в пользу Поднебесной. Однако этот же нюанс (о чем, скорее всего, не думал Головин) в перспективе давал основания и российской стороне поднять вопрос о пересмотре границы в Приамурье и разграничении территории Приморья, тем паче что «нерчинская» линия была навязана под прямым давлением. Именно так и случилось каких-нибудь 169 лет спустя. Но это уже совсем другая история…
Глава XXX. Амурские волны (2)
Китайские предупреждения
Status quo, определенный в Нерчинске, худо-бедно держался 35 лет. Срок не то чтобы большой, но и не малый. Многое за это время изменилось. Долгое царствование императора Канси оказалось благотворным для Поднебесной. Оживилась и окрепла экономика, стабилизировались общественные отношения, понемногу (при активном содействии властей) сглаживались отношения между вояками-маньчжурами и людьми хань, элиту которых уже не резали за малейший взгляд искоса, но, напротив, всеми средствами прикармливали, вовлекая в управление государством. Неудивительно, что XVIII век стал эпохой величия; на месте разрушенной, почти несуществующей страны возникла богатая, мощная, невероятно агрессивная держава, развивавшая военную активность по всем направлениям, от Джунгарии до Тибета, и на всех фронтах решающая задачи, не считаясь со средствами. Средства коммуникации в те дни оставляли желать много лучшего, однако о многом из сказанного в Петербурге знали и, учитывая неизбежность усиления «натиска на восток», беспокоились. Поэтому в 1724 году, когда император Юнжчэн, сменивший казавшегося вечным Канси, неожиданно известил российское правительство о желании наладить контакты, решить все проблемы и подписать окончательный, «вечный» мир, решение было принято незамедлительно. Уже в октябре 1725 года полночный посол Савва Рагузинский прибыл в Пекин, где был принят с подчеркнутым уважением. Однако на первой же «конференции», как только была оглашена повестка переговоров, подготовленная хозяевами, стало ясно: легко не будет. Красиво рассказав, сколь важна для мира во всем мире дружба навек двух великих держав и вскользь, как легко решаемое, перечислив возможные торговые и гуманитарные преференции, принимающая сторона без особых экивоков сообщила, что основной темой встречи видит более чем назревший вопрос об уточнении границ. Конкретно речь шла о нескольких небольших районах, якобы ошибочно переданных России и ныне заселенных российскими подданными, однако в подтексте, как позже напишет в отчете Рагузинский, наличествовал (не цитата) прозрачный намек на желание Пекина уточнить «уровень суверенитета» Китая над левым берегом Амура. Иными словами, снять «запрет на колонизацию» – безусловно, формально, всего лишь формально, Поднебесная готова дать любые гарантии того, что никаких переселенцев на Амур не направит.
Что интересно, китайская сторона, скорее всего, не лукавила. С точки зрения миграционной политики северные территории Пекину были абсолютно не интересны. Совсем иное дело – принципы. Считая себя безусловными правопреемниками предыдущих, «полноценно китайских» династий, Цины придерживались (лучше, наверное, сказать – исповедовали) точки зрения, согласно которой Поднебесная не может терять принадлежащие ей территории, даже если право на обладание ими крайне сомнительно и даже если такое право существует только в воображении политиков. Глубинный смысл китайских требований заключался в том, что, дай Рагузинский хотя бы малейшую слабину, следствием, возможно и даже наверняка не сразу, а лет через 10–20, но непременно стали бы претензии на «ничейное» Приморье и требования пересмотра рубежей «русских» территорий. Между прочим, учитывая отсутствие демаркации, не лишенное оснований, и ежели не «аж до Якутска», как при Канси, то что-то типа того. Разобравшись в сюжете, Рагузинский выстроил блестящую контратаку. С кем, собственно, – уточнил он, – заключался договор в Нерчинске? Явно не с Китаем, поскольку Поднебесной северные края никогда не принадлежали, а с Домом Цин, как представителем на тот момент еще не совсем интегрированной с Китаем маньчжурской Чоусянь. Да, на сегодня ситуация в корне изменилась, и ревизия договора предлагается правительством Китая. Но, в таком случае, не логично ли будет вернуться к «нулевому варианту», позволив российским войскам занять ставшие вдруг спорными территории «буферной зоны» (бывшего Албазинского воеводства), и уже с позиции «силового равновесия» продолжать это, бесспорно, интересное и важное обсуждение? Конечно, такой вариант поставит под сомнение легитимность Дома Цин относительно Поднебесной по состоянию на 1689 год, но чем не пожертвуешь ради справедливой демаркации границ?
Короче, Савва разливался соловьем, прекрасно сознавая и то, что занимается галимой софистикой, и то, что опытные китайские дипломаты это тоже прекрасно сознают. Однако ловушка была безупречна. Принять предложение российского посла означало для усиленно «китаизирующихся» Цинов гласно заявить о том, о чем они и кнутом, и, начиная с эпохи Канси, многими-многими пряниками пытались заставить забыть китайскую элиту, – о себе как о захватчиках, оккупантах и варварах, не столь уж давно заливших Поднебесную кровью. Никаких встречных предложений придумать не смог даже консилиум лучших юристов-международников, собранный по приказу Сына Неба. Единственной альтернативой могла бы стать угроза силой, и угроза эта была бы вполне реальной, поскольку в то время и в тех местах противопоставить войскам Поднебесной русским было фактически нечего, однако обострять до такой степени в планы Цинов не входило совершенно. Во-первых, об успехах России при Петре они были, хоть и в искаженном виде, но информированы, во-вторых же, и в-главных, переступать «красную линию» во имя голого принципа, имея в активе тяжелейшую войну с ойрато-тибетской коалицией, а в планах – экспедиции в юго-восточную Азию, они вовсе не собирались. В итоге, выдержав более трех десятков «конференций» и две аудиенции у Сына Неба, одна из которых прошла даже (невиданное дело!) «без галстуков», Савва не отступил ни на шаг, буквально выдавив из китайцев признание «принципа Тория» («Пусть каждый владеет тем, что ему принадлежало»). И, соответственно, заявление об отсутствии претензий к статусу «буферной зоны». На таких условиях 21 октября и был подписан договор, названый Кяхтинским (по месту, где в 1728 году состоялся обмен ратифицированными текстами) и переводящий отношения стран из «условно-мирных» в «конструктивные» (регулярная торговля, льготный таможенный режим). А то и в «дружеские». По крайней мере, трудно оценить иначе согласие Цинов, ревностно оберегавших официозное конфуцианство, на открытие в Пекине русской духовной миссии, имеющей право проповедовать среди китайцев православие…
При полном непротивлении сторон
Ни много ни мало 130 лет Кяхтинский договор определял отношения двух империй и всех вполне устраивал. Китай менялся. Цины уничтожили Джунгарию, покорили Тибет, припугнули Вьетнам и Бирму, однако понемногу скатывались в застой, а в поисках выхода (что поделать, элиты портятся быстро) принимая худшие из возможных мер, вроде новой волны «второсортизации» китайцев и закрытия страны от «вредных влияний» извне. Вновь, как сто с лишним лет назад, страну захлестнула волна крестьянских восстаний, подготовленных тайными обществами, из поколения в поколение мечтавшими изгнать «варваров» и восстановить в Поднебесной «золотой век» династии Мин, о которой уже никто ничего конкретного не помнил, в связи с чем популярность ее выросла неимоверно. Пиком, но отнюдь не завершением серии бунтов стала гигантская война Белого Лотоса, разорившая и обескровившая самые богатые провинции. В 1840–1842 годах прогремела т. н. «Первая Опиумная», показавшая, что правительство, даже желая чего-то хорошего, мало на что способно, зато «заморские черти» могут при желании поставить Поднебесную на колени. Менялась и Россия. Пережив век золотой Екатерины, и дней Александровых прекрасное начало, и суровые времена Николая Палыча, она вошла в эпоху крутого подъема, и проблема освоения Дальнего Востока, а значит, в первую очередь, судоходства по Амуру, наконец-то сделалась достаточно актуальной.
По столь уважительным причинам в 1858 году повторилась ситуация 1724-го, только на сей раз инициатором ревизии стал не Пекин, а Петербург. Суть дела была прагматична до боли: Китай считал «буферную зону» пусть и условно, но своей, но был в этом смысле «собакой на сене», а Россия в этих территориях нуждалась и намеревалась их взять под себя, поскольку Китай не мог воспрепятствовать. Естественный цинизм Госпожи Политики, однако, смягчался тем фактом, что у России имелись куда большие основания предъявлять Цинам претензии, нежели у Юнчженя век с лишним назад: в начале XIX столетия, стремясь сбить волну восстаний, китайские власти отменили несколько сот второстепенных запретов, раздражавших крестьянство, в том числе и указ о смертной казни за самовольное переселение на левый берег Амура. В силу удаленности и непростого климата данная поблажка никаких особых последствий не имела – за полвека в «буферной зоне» обосновалось едва ли тысячи три китайскоподданных, но с точки зрения буквы нарушение было безусловным, грубым и давало России право требовать компенсации. Еще одним аргументом на переговорах, состоявшихся в Айгуне, стало напоминание русской делегацией китайским vis-a-vis насчет обстоятельств, при которых был установлен имеющийся status quo. Китайцам напомнили и о «почетной страже» князя Сонготу, и о флотилии адмирала Шархода, и о вероломном, без объявления войны нападении на Албазин, стоявший, кстати, на земле, никогда Китаю не принадлежавшей, а впервые освоенной русскими казаками.
Возможно, при Канси или Юнчжэне китайская сторона нашла бы чем ответить, но в конкретной исторической обстановке И Шан, амбань (губернатор) Приамурья, представляющий на переговорах Цинов, был вынужден признать, что дорогой коллега, представляющий Россию, таки прав, а почтенные предки, наоборот, неправы. Что, кстати, как с юридической, так и с моральной точки зрения вполне соответствовало истине. На том и поладили. Амбань предварительно согласился с тем, что территория бывшего Албазинского воеводства от Аргуни до устья Амура отныне является территорией России, что же до Уссурийского края, статус которого ранее вообще не был определен, то он был объявлен совместным владением, подлежащим полюбовному разделу. При этом Амур, Уссури и Сунгари объявлялись «общими», ходить по ним разрешалось только русским и китайским судам. Успех был неоспорим, по итогам переговоров дорогой коллега, представлявший Россию, стал графом Амурским. На более высоком уровне «айгунские статьи» были в июне того же года подтверждены в Тяньцзине, где посол России Е. Путятин и цинский министр Хуа Шань согласились, что «По назначении границ сделаны будут подробное описание и карты смежных пространств, которые и послужат обоим правительствам на будущее время бесспорными документами о границе». На предмет окончательного решения амурского вопроса в Китай направилась миссия графа Н. Игнатьева, и летом 1860 года «…для вящего скрепления взаимной дружбы между двумя империями, для развития торговых сношений и предупреждения недоразумений» был подписан Пекинский договор. Спустя еще год, после проведения соответствующих консультаций, были утверждены и протоколы с картами, фиксировавшие точные границы. Уместно отметить, что на демарш англичан и французов, по итогам «Второй Опиумной» рвавших Китай, как собаки заячью тушку, извещающий, что «правительства Ее Величества Королевы и Его Величества Императора с пониманием отнесутся к удовлетворению Россией ее интересов в долине Уссури», граф Игнатьев откликнулся холодно и едва ли не презрительно: «Империя Российская не полагает возможным нарушить взаимное с Китаем согласие, и удовлетворения своих интересов ждет не иначе, как после определения их отдельной комиссией».
Последняя граница
Справедливости ради. Limes, определенный в Айгуне, согласованный в Тяньцзине, утвержденный в Пекине и по сей день фигурирующий на политических картах имеет один, но достаточно серьезный недостаток. По причинам, которые сегодня сложно понять, «красная линия» на картах 1861 года была проведена по правым, китайским берегам Амура и Уссури, что полностью отдавало эти реки России. Не очень разбираясь в этом вопросе и не желая повторять доводы всеведущей «WIKI», куда каждый из вас, дорогие читатели, может заглянуть сам, скажу лишь, что такой метод демаркации противоречил не только международной традиции, издавна и поныне предполагающей проведение рубежа по фарватеру рек, но и элементарному здравому смыслу, поскольку ставил под сомнение согласованное в том же Айгуне китайское речное судоходство. Ссылки на «непредсказуемость и склонность к изменению русла, вообще характерные для дальневосточных рек», конечно, что-то объясняют, однако в этом мало утешения для пострадавших. Так что проблема фарватера и «плавучих островов», что бы ни означал этот термин, и в самом деле существовала. Вплоть до 1969 года, когда власти КНР попытались решить ее явочным порядком, а власти СССР, жестко воспрепятствовав «самовольству», затем закрыли глаза на фактическое присвоение Пекином спорных островов, с недавних пор признанных китайскими и официально. Ибо справедливость прежде всего. На вопросы же о том, насколько «навязаны силой» существующие сегодня границы и кто «по справедливости» должен владеть левобережьем Амура, Забайкальем и Приморьем, предоставляю каждому прочитавшему ответить самому. Ибо свое мнение хотя и имею, но навязывать не хочу.
Глава XXXI. На сопках маньчжурии
В скобках. Есть в мире некоторое количество людей, в понимании которых Россия – полное, вечное и безоговорочное Зло, а если вдруг в чем-то и нет, то, значит, в чем-то другом Зло вдвойне и втройне. Речь, как вы понимаете, не о дураках, каковых среди вышеназванных большинство, с дураков спроса нет и беседы с ними вести себе дороже. Но когда на ту же дорожку вступают люди умные и достойные, отмолчаться невозможно. Скажем, прочитав в рукописи «Амурские волны», некий знакомец, человек умный и приличный, но враг, как бы невинно спросил: «Ну что, а теперь далее о КВЖД и о ползучей аннексии Северной Маньчжурии, русском Харбине и заамурских казачьих станицах, о Корее и безобразовской концессии?», и подтекст был более чем очевиден. Ну что ж, кто хочет «далее» – да получит по вере своей. Про «Корею и безобразовскую концессию», правда, говорить не буду, поскольку проблема распилов, откатов и прочей радости не одной лишь России свойственна, а вот насчет «о КВЖД и о ползучей аннексии Северной Маньчжурии, русском Харбине и заамурских казачьих станицах» – извольте…
Железный Дракон и святые люди
Для чего была нужна России железная дорога, которая связала бы Центр с Дальним Востоком, говорить едва ли нужно. Начавшееся в 1891 году и осуществлявшееся рекордными по тем временам темпами сооружение Транссиба, связав Владивосток с Хабаровском, а Центр с Забайкальем, поставило перед правительством вопрос, каким путем идти дальше – вдоль берега Амура и российско-китайской границы до Хабаровска или через Маньчжурию к Пасифику. Сторонники варианта номер раз упирали на то, что «амурская линия», помимо прочего, открывает широкие возможности для всестороннего развития территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сторонники варианта номер два доказывали, что «маньчжурская линия» укрепит Россию в практически неизбежном столкновении с Японией и даст ей возможность выхода на новые, крайне перспективные рынки сбыта. Борьба идей есть борьба идей, были и «за», и «против», и взятки, и «откаты», и сшибки амбиций, но в конечном итоге победила идея, которую лоббировал лихой и убедительный говорун Витте. Позже поражение в войне с Японией показало, что нельзя класть все яйца в одну корзину, и был принят «амурский» вариант, но, увы, прикупа наперед не знает никто. Что касается Китая, то там, при крайне непростом раскладе в верхах (двор раскололся на «стародумов» во главе с императрицей Цыси и «реформаторов», которым покровительствовал царствовавший, но не правивший Сын Неба Гуансюй), к российскому предложению отнеслись с интересом. Тем паче что и России доверяли больше, чем иным державам. Сознавали, конечно, что хищник есть хищник, но и, памятуя отказ России от экспроприации в свою пользу всего Приморья, учитывали, что на фоне всех прочих, рвущих мясо до кости, Россия проявляет умеренность и деликатность. Это было очевидно в Айгуне. Это подтвердилось в 1881-м, когда российские войска, стоявшие в Кашгаре, ушли восвояси, вернув этот стратегически важный регион под юрисдикцию Пекина, чего в Пекине уже мало кто ждал. Это стало окончательно ясно после китайско-японской войны 1895 года, когда Россия оказалась единственной из великих держав, имевшей возможность, но не пожелавшей попользоваться плодами японской победы.
Короче говоря, когда в мае 1896 года по инициативе китайской стороны в Петербурге был подписан российско-китайский договор о военном союзе против Японии (а неявно и против США с Великобританией, опекавших самураев), одна из статей его давала России право на постройку магистрали через Маньчжурию. После чего достаточно быстро возникло российско-китайское «Общество КВЖД», возглавленное китайским дипломатом Сэй Цзэнчэном, завертелись большие деньги, а крохотный безымянный поселок на маньчжурской реке Сунгари, определенный как пункт управления строительством, превратился в рабочий городок Харбин. Зона строительства по условиям договора была почти экстерриториальна, со своей, никому не подчинявшейся администрацией, своей инфраструктурой и даже своим корпусом Охранной стражи, насчитывавшим 5 тысяч сабель. В марте 1898 года подписали конвенцию об аренде полуострова Ляодун, конечного пункта магистрали, – и работа закипела. Но…
История, как известно, ломает человека, как хочет, но иногда человек умеет и огрызнуться. Резкий рывок в развитии северных провинций – Чжили, Шаньдун и Маньчжурии – крайне болезненно отозвался на населении, жившем по старинке. Строительство, железные дороги, почта, телеграф, пароходы и недорогой импортный ширпотреб – это, конечно, очень хорошо, но не для арендаторов, чьи участки отчуждались под дорогу Железного Дракона. Не для лодочников, извозчиков, погонщиков, посыльных, носильщиков, ремесленников-кустарей. Короче говоря, не для всякого мелкого люда, поколениями кормившегося наследственными ремеслами. Мир рушился, и в такой ситуации привычные засухи и эпидемии, веками никого особо не пугавшие, начинали казаться карой Небес, а виновниками всех бед, естественно, оказывались «заморские черти» и мироволящее им правительство. Ничего удивительного, что в пораженных метастазами резкого прогресса провинциях активизировались тайные общества, настроенные бороться за восстановление справедливости в том или ином ее понимании. Назывались они по-всякому, но в историю вошли (по названию крупнейшей подпольной организации) под общим наименованием «ихэтуань» – «кулаки, сжатые во имя справедливости», а если говорить об идеологии, то основными отличительными ее признаками были предельная мистичность, усугубленная суевериями, ненависть к «иноверцам», которые в их понимании подлежали безусловному истреблению, и к иностранцам вообще. Ну и, натурально, к любым отклонениям от «старого доброго уклада». Короче говоря, Мулла Омар и его парни. Только еще хуже, ибо владеющие у-шу…
Пришел лесник
К 1898 года ситуация на севере окончательно рухнула. Сотни отрядов, порой по несколько тысяч душ, наводили там свои порядки, «идейные» мало отличались от бандитов-хунхузов, а те, в свою очередь, обожали «идейные» лозунги. Навести хоть какой-то порядок не могли ни правительственные войска, ни малочисленные отряды европейцев, охраняющие «иноземные городки». И, наконец, 2 ноября 1899 года лидеры мятежных формирований, к тому времени уже объединившихся, озвучили свою программу-максимум: изгнание из страны «заморских чертей» и свержение династии Цин. Правда, пункт номер два довольно быстро был снят с повестки дня: дремучая реакционность ихэтуаней вполне устраивала правившую в это время ультраконсервативную клику императрицы Цыси, не любившей иностранцев из-за их симпатий к свергнутому ею пасынку-реформатору. Так что местные власти получили указ о «мудрой сдержанности по отношению к патриотам», а ихэтуани, признав, что «Цины исправились», взяли курс на борьбу с «демонами» и «вероотступниками». С властями было заключено перемирие, а чуть позже, когда после захвата мятежниками Пекина и начала массового уничтожения европейцев иностранные контингенты вступили в столкновение с «патриотами», императрица, судя по всему, уже пребывавшая в возрастном маразме, поддержала бунтовщиков официально, объявив войну всем великим державам сразу. Начался фильм ужасов. Вернее, сериал в том же жанре. Повсеместное сожжение православных храмов вместе с паствой. Убийства дипломатов. 55-дневная осада «Посольского квартала» в Пекине. «Пекинская Варфоломеевская ночь» (поголовная резня христиан в столице). «Великая казнь демонов в Тайюане» (публичное, с одобрения местного губернатора четвертование 45 миссионеров вместе с женами и детьми). Короче говоря, кому как, но я (при всем уважении к героям «национально-освободительного движения») не рискнул бы излишне осуждать карательные акции, начавшиеся после прибытия в Китай войск года Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и Японии.
Впрочем, довольно о грустном. Оставим в стороне перипетии бодания престарелого бегемота со стаей акул и, вернувшись к интересующей нас теме, отметим: в отличие от прочих стран, Россия, принимая участие во всех операциях, предполагаемых союзным долгом и гуманитарными соображениями, оказалась еще и втянута в самую настоящую пограничную войну. Ситуация в Приамурье сложилась аховая. По всей Маньчжурии, от Лояна до Гирина, прокатилась волна погромов, всех «русских», невзирая на национальность, будь то славяне, немцы, грузины, поляки или евреи, убивали на месте. Как, впрочем, и «ненадежных» китайцев. Провинция, что называется, пылала синим огнем, казаки не могли оказаться сразу и везде, а регулярных войск катастрофически не хватало, так что для защиты осажденного скопищами ихэтуаней Харбина и других городов пришлось организовывать добровольческие дружины из населения. Это помогало, но не всегда. При попытке вывести из Мукдена женщин и детей был уничтожен отряд ополченцев-строителей, собранный поручиком Яном Валевским, жандармом Георгием Геловани и инженером Верховским. Сам Борис Верховский, взятый в плен тяжело раненным, был торжественно обезглавлен в Ляояне по приказу губернатора. Начиная с 23 июня, регулярные части Цин атаковали КВЖД, разрушая все, выглядевшее нетрадиционно. начали разрушение железнодорожного полотна и станционных построек, а затем начались и попытки перенести войну на российскую территорию. 2, 14 и 28 июля китайская артиллерия подвергала массированному обстрелу Благовещенск, а в ночь с 4 на 5 июля 5000 солдат при 18 орудиях форсировали Амур близ устья Зеи, но после упорного боя были разбиты и в панике отступили.
Развивая успех, российские войска, к середине августа получившие небольшое подкрепление, перешли границу, подавили огневые точки противника, взяли крепость Хуньчунь, а затем выбили китайцев с ключевого перевала Малый Хинган. К середине октября был полностью очищен от ихэтуаней правый берег Амура, к концу месяца – вся Маньчжурия. 30 октября пал Мукден. С цинским губернатором был подписан договор о восстановлении гражданского правления и выводе из провинции всех войск. Начались работы на разрушенных участках КВЖД. При этом, к огромному неудовольствию коллег по коалиции, Россия в декабре, после капитуляции Цыси, подтвердила свое заявление, сделанное еще 25 августа, об отсутствии каких-либо претензий к Китаю, кроме права на контрибуцию, и о твердом намерении покинуть Маньчжурию, как только там будет наведен порядок. До чего, однако, было еще очень неблизко. 1 января 1901 года вожди уцелевших отрядов ихэтуаней заявили о формировании «Армии честности и справедливости», чья борьба будет направлена против «продажной династии». Несмотря на красивую вывеску, это была уже армия отчаявшихся отморозков, готовых уничтожать все до основания, но отморозков опытных и дисциплинированных, бороться с которым разложившаяся регулярная армия не могла, да и не хотела. Вся тяжесть войны легла на российские подразделения, к декабрю эту задачу в основном решившие. Но лишь в 1902-м, после уничтожения последних банд, китайское правительство, хотя и не очень охотно, но наконец согласилось на уход российских войск из Маньчжурии. Согласно договору о выводе, России, помимо прочего, было дано право на размещение в районе КВЖД нескольких казачьих станиц для обороны строительства от хунхузов (по просьбе китайской стороны эти станицы остались в крае и после русско-японской войны), а также «в знак благодарности за бесценную помощь» уступлен («в безоговорочное, на вечные времена владение») Ляодунский полуостров. Учитывая, от какой напасти Цины благодаря солдатушкам – бравым ребятушкам сдыхались, так еще и не очень щедро…
Чужаки в чужой стране
14 июня (по новому стилю) 1903 года КВЖД была наконец открыта и сдана в эксплуатацию, после чего в течение двух-трех лет Маньчжурия, традиционно – одна из самых «неперспективных» провинций Поднебесной, превратилась в едва ли не самую экономически развитую и благополучную часть Китая, желанную цель для всех искателей счастья. К 1910-му население ее за счет внутренней миграции выросло вдвое, с 8 до 16 миллионов человек. Такие темпы роста населения изрядно превышали соответствующие показатели областей российского Дальнего Востока, вынуждая власти Амурского наместничества поощрять трудовую миграцию из-за Амура, по причинам, бывшим тогда куда понятнее, нежели нынче, ограничивая, однако, право «сезонных кули» на натурализацию. Особые изменения претерпел Харбин, в считанные годы из полустанка выросший в европейский благоустроенный город с населением около 70 тысяч человек, в основном русских (примерно 25 %) и китайцев, среди которых, кстати, осесть в Харбине считалось великой удачей. Что вполне понятно. Русское население, являясь в основном интеллигенцией («белые подкладки» и «синие воротнички»), обустраивало жизни в соответствии со своими убеждениями. «Я научился читать, писать по-русски, затем, у хозяйских дочерей, немного и по-французски, – вспоминал позже известный революционер Ли Лимэй. – Нам, харбинцам, сверстники из других мест завидовали – ведь только в Харбине бедный мальчуган мог бесплатно обучиться грамоте, а если кто-то из семьи заболеет, попасть к настоящему доктору, конечно, русскому, который поможет и не потребует денег, понимая, что у рабочего-китайца лишних копеек нет».
Вот, собственно, и все.
Глава XXXIII. В той степи глухой (1)
А между тем не стоит забывать, что граница России понемногу сдвигалась и в направлении территорий, ныне именуемых Казахстаном…
Круговорот в природе
С самых азов начать, увы, не получится. Слишком глубоко придется копать. Посему будем отсчитывать предысторию интересующей нас темы примерно с середины XV века, когда в Великой Степи творился полный бардак (слово, говорят, тюркское, так что в данном случае вдвойне уместно). Несчитанные скопища отдаленных потомков Чингисхана и менее отдаленных – Тимура грызлись между собой, пытаясь сколотить хоть что-то похожее на устойчивое государство. Сколотить иногда получалось. Устойчивое – нет. Головы летели, как кегли, а платила за все изыски, как водится, кара-чу, «черная кость». Поскольку же никакой отдачи раз за разом не получалось, в какой-то момент несколько степных родов разного происхождения, плюнув на все, откочевали от «природного повелителя» куда глаза глядят, сообщив на прощанье, что отныне будут жить своим умом и строить свое ханство, ханство «казахов» – свободных людей. Чуть позже, окрепнув, они потеснили менее вольнолюбивых собратьев из степей на юг, за Сырдарью, где те, смешавшись с оседлыми аборигенами, начали жить-поживать, понемногу превращаясь в «узбеков», и приняли строить очередную Орду. Как ни печально, подробно излагать история величия и упадка Казахского ханства здесь не место, однако важнее всего для нас то, что после массы проблем оно на рубеже XVI–XVII веков добилось успехов, максимально возможных для государства, остающегося кочевым. Вплоть до создания «конституции», по букве и духу почти копирующей тогдашнюю конституцию Речи Посполитой. И надорвалось.
В конце XVII столетия, при Тауке, последнем из великих ханов Великой Степи, в полной мере дали знать о себе, казалось бы, забытые, но никуда не девшиеся распри и предубеждения сотен родов и кланов, объединенных некогда отцами-основателями. К тому же ослабели и без того довольно зыбкие экономические связи между отдаленными регионами. Так что после смерти Тауке-хана единое ханство распалось на три «жуза» (крыла) – объединения, так сказать, по интересам. Кочевья Старшего лежали на юге нынешнего Казахстана, ближе к Киргизии и Узбекистану, кочевья Младшего – на западе, до берегов Яика, и северо-западе, а кочевья Среднего – аккурат там, где много позже понаехавшие мигранты поднимали целину. У каждого жуза имелся свой хан, формально подчинявшийся хану верховному, которым считался старший в роду, но по факту ничего, кроме почестей, этот титул, за который когда-то проливали реки крови, владельцу не давал. В итоге на Орду, недавно еще прочно державшую в узде степь и даже контролировавшую крупные города типа Ташкента, а ныне обернувшуюся рыхлым не пойми чем, начали с интересом посматривать соседи. «Первое десятилетие XVIII века было ужасным временем в жизни казахского народа, – писал позже великий русский востоковед и разведчик Чокан Валиханов, потомок Чингисхана по прямой линии. – Джунгары, волжские калмыки, яицкие казаки и башкиры с разных сторон громили их улусы, отгоняли скот и уводили в плен целыми семействами». Не говоря уж о понемногу встававших на крыло Хиве, Бухаре, а главное – Коканде. И все это, однако, было лишь полбеды. Настоящую беду «свободным людям» только предстояло перебедовать…
Неизвестная война
Если кому-то не совсем понятно, кто такие джунгары, помянутые Чоканом, поясню: таково общее наименование нескольких родственных племен, населявших крайний запад исторической Монголии. Ничем особым себя эти племена не зарекомендовали аж до начала XVII века, когда, кстати, одновременно с маньчжурами, заявили о себе в полный голос. Уже в 1635-м княжеский дом Чорос объединил племена, обитавшие между хребтами Тянь-Шаня и Алтая в мощное Джунгарское ханство, вырезав всех диссидентов, которым не удалось вовремя убежать (именно от чоросов бежал куда глаза глядят князь Аюка, осевший на Волге). Политический проект, сформулированный и завещанный наследникам Эрдени-батуром, первым ханом Джунгарии, был предельно прост. Программа-максимум: покорить Китай, по праву принадлежащий монголам и непонятно с какой радости захваченный маньчжурскими выскочками. Для чего предварительно объединить всю Монголию, обязательно истребив под корень вконец выродившийся и бездарно просравший наследие Потрясателя Вселенной род Борджигин. А чтобы вся эта сказка стала былью, начать с казахов, которые явно недостойны иметь такие хорошие и, что важно, удаленные от Китая пастбища. К тому же казахи еще и загораживают дорогу к богатым городам, словно не понимают, каких деньжищ потребует война с Китаем, а их джигиты не горят желанием сражаться под знаменами Джунгарии, и плюс ко всем среди них тоже слишком много Чингизидов. Короче, ура!
Поначалу казахам удавалось держать ситуацию если не под контролем, то, по крайней мере, в равновесии, однако ежегодные атаки изматывали их, тем паче что убедить соседей помочь было не всегда просто. А вторжения становились все масштабнее, и удача все чаще улыбалась джунгарам. Даже когда хан Галдан-Бошокту решил, что пришло время помериться силами с Цинами, и проиграл, легче не стало. Осторожные маньчжуры, отбив атаку, доведя наглеца до самоубийства и по ходу дела покорив Халху (Восточную Монголию), рисковать, продолжая войну со слишком сильной Джунгарией, не стали. Они просто предельно укрепили границу, подтянули огромное количество войск – и у ойратов осталось только одно направление для экспансии. Да. Вы правильно поняли – Великая Степь, где и без того все было совсем не слава Аллаху. После смерти Тауке-хана его сыновей не слушал никто. Жузы жили своей жизнью, то торгуя, то понемногу воюя, и хотя против схватки с джунгарами не возражал никто, главными быть хотели все, в результате чего войска вообще не собирались. Дошло до того, что оборону начали налаживать «снизу» безродные степные авторитеты, находившиеся до того во всеордынском розыске. Какое-то время это помогало. Но в 1723-м джунгары пришли ставить точку. Началась «Актабан шубырынды» – «Година стертых пяток», вошедшая в память казахов как одно из величайших бедствий в их истории. В сущности, сумей они собраться в кулак, особой проблемы не было бы. Как докладывал императрице Анне знающий наблюдатель, начальник оренбургской экспедиции Иван Кирилов: «Ежели бы обе киргизские орды согласились, а у них один хан с войной войдет, а другой оставляет, и так свое владение у калмык теряют». К тому же у джунгар имелись русские пленные, знающие секрет пороха, а также дважды пленный швед Юхан Густав Ренат, умеющий лить пушки почти европейского образца. По всему по этому не стоит удивляться, что казахов буквально стерли с лица земли. Уцелевшие бежали в Ташкент и Туркестан, но джунгары пришли и туда, и лишь самые удачливые спаслись повторным бегством – в Самарканд и Бухару, однако преследователи нацелились и туда.
Возможно, даже более чем возможно, что в результате Казахстана и не было бы на нынешней политической карте мира, если бы неожиданную прыть не проявил Абулхаир, хан Младшего Жуза. Ему удалось сперва придержать и потрепать джунгар в урочище Улултау, а затем, собрав всех, кто еще не стер пятки, разгромить передовые силы врага у горы Анракай. После чего ойраты, решив, что доделать начатое всегда успеют, отошли на отдых в родные степи, а казахские старшины собрались решать, что делать. И первым делом отказались избрать Абулхаира великим ханом, справедливо рассудив, что боец он, конечно, классный, но чересчур активный, да и популярный, так что сажать его себе на шею едва ли стоит. На что обиженный (а кто бы на его месте не обиделся?) Абулхаир заявил, что хрен с ними со всеми, отныне его дело сторона, благо джунгары гуляют по территории Старшего и Среднего Жузов, а пастбища Младшего от всего этого безобразия, тьфу-тьфу-тьфу, достаточно далеко. В ответ же на ехидный вопрос, много ли времени понадобится ойратской коннице проскакать это «далеко», ежели Старший и Средний падут, уже убывая, ответил в том смысле, что на идиотские подначки реагировать не намерен, а за Младший Жуз, хвала Аллаху, есть кому заступиться…
Братушки
К отдаленным пастбищам родов, позже составивших Младший Жуз, Россия вплотную приблизилась задолго до того, еще при Иване Грозном. Поскольку сибирский Кучум был ставленником Бухары, а следовательно, врагом тогда еще единой Казахской Орды, знакомство началось мирно, и так оно пошло и дальше. Особо не общались, но и не враждовали, понемногу торговали, при нечастых конфликтах типа «кто у кого овец угнал» умели находить общий язык. Племянник казахского хана Ураз-Мухаммед, при неясных обстоятельствах оказавшийся в Москве, стал даже крупным вельможей, боярином, князем, а потом и ханом Касимовским, активно участвовавшим в событиях периода Смуты. Чем дальше продвигались первопроходцы на восток, чем ближе к Великой Степи вырастали их города – Гурьев на Яике, Тюмень, Тобольск, Томск в Сибири, – тем более нарастали объемы торговли, плотнее становились контакты, прочнее хорошие отношения – вовсе не потому, что русские и казахи были ангелами во плоти, но в связи с тем, что первые нуждались в безопасности караванных путей в Среднюю Азию, а вторые могли эту безопасность обеспечить. В 1717-м, незадолго до смерти, Тауке-хан даже обратился к Петру I с предложением принять российское подданство, но без выплаты ясака, без исполнения повинностей и при сохранении власти хана, то есть сугубо формально, мотивируя это тем, что времена трудные и без помощи за порядком на дорогах трудно уследить. Вмешаться всерьез Петр, еще далеко не завершивший Северную войну, конечно, не мог, но и цену вопроса он понимал отлично. А потому, высказав в письме князю Гагарину, генерал-губернатору Сибири, свое мнение («Всем азиатским странам и землям оная орда ключ и врата, и той ради причины оная орда потребна под Российской протекцией быть»), оставил решение на усмотрение князя. Гагарин же, имея в виду, что помощь казахам означает вражду с джунгарами, то есть срыв освоения богатых золотом и серебром берегов Иртыша, «без прямого государева указа калмыцкого владельца воевать не велел». Что на тот момент было разумно, а значит, правильно.
Однако ситуация менялась, и быстро. В 1715–1720-м, к неудовольствию джунгарских хунтайджи, Россия начала строительство Иртышской укрепленной линии, за которую «нойонам удачи» хода не было. Возникла цепь крепостей: Омская, Семипалатинская, Усть-Каменогорская, охраняемая новоучрежденным Сибирским казачьим войском. В новых условиях джунгары становились недругами, а их враги, напротив, друзьями. Поэтому, когда в 1730-м в Оренбурге получили письмо с предложением о союзе от Абулхаира, правительство Анны Ивановны ответило согласием. Разумеется, не на «военный союз», а на «покровительство», правда, на условиях предельно мягких и мало к чему, кроме лояльности, обязывающих. В сентябре 1731 года российский посол Тевкелев зачитал грамоту хану и его биям, а затем пояснил некоторые детали субординации в международных отношениях. С неделю поразмыслив, аксакалы, активно уговариваемые ханом, согласились, и 10 октября казахами была принесена первая в истории присяга на верность России. Младший Жуз получил гарантии помощи в случае, если джунгары атакуют его кочевья, а выигрышем лично Абулхаира стало признание Россией его пожизненного ханского статуса с передачей оного по наследству, что опрокидывало все степные понятия, ставя точку на принципах «лествицы» и выборности.
Можно ли назвать это «добровольным вхождением в состав»? Нет, конечно. По крайней мере, пока. Обе стороны ни о чем таком не думали, и в виду имели совсем другое, и на вечные времена не закладывались. Но у истории свои законы, и рыбка задом не плывет, да и какие варианты имелись у казахов? А никаких. Джунгары никуда не исчезли и исчезать не собирались, напротив, теперь они воевали, чтобы выжить, потому что Цины, вошедшие в зенит могущества, медленно вытесняли их из родных мест, вынуждая искать новые земли для поселения. И потому почин Абулхаира очень скоро подхватили и лидеры Среднего Жуза, гораздо более далекого от России, почти с ней не связанного и пока что интересующего ее куда меньше. Причем хан Абулмамбет, вернее, его кузен, еще не хан, но «сильная рука» орды султан Аблай, комбинировал вовсю. Уже успевший признать суверенитет Империи Цин, он в 1740 году, не уведомляя Пекин, присягнул и Петербургу, определив это как «политику между львом и драконом». И не прогадал. Всего лишь год спустя выгоды сделки стали очевидны. В очередном отчаянном вторжении джунгары опустошили Средний Жуз, одолев и даже пленив Аблая, затем ворвались в пределы Младшего… но когда их конница подошла к пограничной линии, русские власти сперва немного постреляли, проредив лаву, а затем, угрожая союзом с маньчжурами, заставили хунтайджи Галдан-Цэрэна не просто отступить, но вообще уйти из казахских степей. Сам Аблай, пробыв в плену около года, был отпущен благодаря дипломатическим усилиям оренбургского губернатора И. Неплюева и жесткости Карла Миллера, специального посланника Сената Российской Империи.
В 1745-м Галдан-Цэрэн, последний великий потомок Эрдэни-батура, умер, и ханство поползло по швам. Сказалась усталость от столетия беспрерывных походов, сыграло свою роль и серебро, щедро рассыпаемое агентами Цин родичам правителя, имевшим хоть малейшее право на престол. Первая в истории ханства усобица становится и последней: воспользовавшись склокой, Цины начинают последнюю атаку, не на завоевание, а на уничтожение. Никогда, ни раньше, ни позже, такого не бывало. Но маньчжуры знают, чего хотят, в их действиях нет бездумного зверства, только холодное ratio: именно ойраты и только ойраты, пусть сейчас и ослабленные, остаются потенциальным конкурентом в борьбе за Китай. Причем, в отличие от тех же казахов, даже ежели казахи вдруг усилятся, конкурентом, имеющим опыт создания суверенного государства, да еще тесно связанного с Россией. В 1756 году при императоре Хунли трагедия завершается. «Година стертых пяток», подобно бумерангу, ударила того, кто ее запустил. «В Джунгарии, – подвел итоги историк Вэй Юань, – насчитывалось семьсот тысяч семей, четыре десятых умерли тогда от оспы, две десятых бежали в соседние страны, три десятых было уничтожено великой армией». А землю без населения Цины включили в состав Поднебесной, образовав новую провинцию Синьцзян (Новая Граница), напрямую смыкающуюся с кочевьями Среднего Жуза. Аблаю приходится признать себя уже не вассалом, а подданным маньчжуров; в 1757-м он вынужден был съездить в Пекин, где получил титул «вана».
Однако «почти хан» продолжал лавировать «между львом и драконом». Сразу же по возвращении в степи он отправляет в Петербург посольство, клятвенно подтвердившее, что все по-прежнему и Средний Жуз остается под «покровительством» России, а когда посольство вернулось, опять расшаркался перед Пекином, сославшись на то, что в случае отказа Россия угрожает войной, но если Китай поможет, он готов воевать. А поскольку война с русскими маньчжурам была совершенно не нужна, хитрый казах безнаказанно сохранил «двойное гражданство». В 1771-м он, наконец, стал ханом Среднего Жуза, а в 1778-м был избран великим ханом Казахской Орды. В Петербурге, однако, этого титула не признали, и обиженный старик отказался ехать в Петропавловск для принесения присяги России. Но вся эта мишура не имела уже никакой реальной цены, тем более что уже в 1781 году хан умер, и в степи все пошло по накатанной колее. Средний, Аблаев, Жуз фактически распался в процессе выяснения его детьми и внуками отношений на тему, кто теперь Аблай, по ходу чего южные роды как-то незаметно оказались под контролем Коканда, уже прижавшего к ногтю Старший Жуз и отменившего тамошних ханов, а кланы, кочевавшие на севере, видя кокандские нравы и методы, все больше жались к кочевьям Младшего Жуза, с каждым годом все прочнее «прилипающего» к России.
Правозащитники
Россия – не Коканд. По состоянию на конец XVIII века Петербургу от казахов не нужно было, в сущности, ничего, кроме лояльности и спокойствия в степи. В обмен Екатерина II шла навстречу степным вассалам во всех их чаяниях, которые не противоречили здравому смыслу. Когда несколько родов Младшего Жуза пожаловались на то, что набеги из Хивы делают жизнь совершенно невозможной, их лидеру, Букею, было позволено перевести своих людей через Урал и кочевать в Заволжье, образовав новую, Внутреннюю, Орду в статусе полноценного ханства. На сторону кочевников, как правило, становился Петербург и в их спорах, подчас довольно кровавых, с уральскими казаками, которые, будем честны, далеко не всегда бывали политически корректны. Как, впрочем, и их оппоненты. Была предпринята и попытка решить по-человечески непростые проблемы, назревшие в недрах Младшего Жуза, ханы которого стремились собрать в своих руках побольше власти, а «черная кость», напротив, пыталась сохранить остатки древних прав. И те, и те апеллировали к «покровителю», причем первые, сами не сознавая того, взывали к чувству классовой солидарности, а вторые, опять же, на инстинкте, к гуманизму и соблюдению прав человека. Что, как ни странно, с подачи оренбургского генерал-губернатора барона Игельстрома, увлекавшегося степными традициями, показалось Матушке более убедительным. Далекая от республиканских заблуждений, она, однако, повелела собрать наиболее уважаемых старшин на «маслахаты» – не собиравшееся уже лет 200 народное собрание, чтобы, как просили правозащитники, избрать лидера Орды по-честному, а не в кулуарах. В итоге случилось то, что не могло не случиться, – главой «маслахаты», а в сущности и всего Жуза, был избран не хан Нуралы и не кто-то из «белой кости», а авторитетный человек по имени Сырым Датулы, очень быстро избавившийся от всех, кто хоть сколько-то возражал против новых, демократических порядков, но в упор не понимавший, почему свободный кочевник не имеет права брать небольшую дань с караванов, если эти караваны ходят почти рядом с его юртой.
Барон Игельстром, сперва пытавшийся как-то решить вопрос, быстро понял, что ловить нечего: «маслахаты» оказалось неким подобием козлодрания, все говорили много и охотно, слушать не хотел никто, причем половина состава, как правило, отсутствовала, охотясь на караваны, а вторая половина при малейшем намеке на неприятные вопросы либо не знала русского языка даже в переводе, либо выразительно хваталась за сабли. От унылых жалоб барона в Петербурге долго отмахивались, однако, выяснив, что доходы от торговли с ханствами Средней Азии за период эксперимента упали почти втрое, решили, что игры в степной либерализм все-таки есть смысл прекращать. Ибо себе дороже. В ответ на указ о восстановлении ханской власти Сырым Датулы, убив ни в чем не повинного кандидата в ханы, объявил Младший Жуз в состоянии войны с Россией. В течение следующих десяти с лишим лет отряды демократического сопротивления нападают уже не только на караваны, но и, правда, с куда меньшим успехом, на крепости пограничной линии. Пока в 1797-м силы правопорядка при поддержке наемников Общества Караванной торговли и казаков, которым весь этот большой хурал надоел хуже горькой редьки, не выгнали народного лидера вместе с группой поддержки на юг, в пределы Хивинского ханства. Там нравы были куда суровее, чем в окрестностях Оренбурга, и главу «маслахаты» в изгнании быстро отравили. Излишне говорить о том, что в литературе советского периода все это именуется не иначе как «восстанием Батыра Срыма», а в публикациях историков современного Казахстана – «борьбой за независимость».
Я, конечно, слегка ерничаю. Идиллий, особенно на стыке миров и эпох, не бывает. Тем не менее факт остается фактом. Чем бы ни была на самом деле эпопея Сырыма Датулы, на геополитический вектор казахских родов она влияния не оказала. Напротив, в 1818-м о желании вступить под покровительство России и даже, если надо, покинуть ради этого традиционные кочевья объявили несколько родов далекого Старшего Жуза, которым Петербург совершенно не интересовался и контроль над которым у Коканда вовсе не собирался оспаривать. Никаких волнений не возникло и после подписания императором в 1822-м «Устава о сибирских киргизах», разработанного, между прочим, главным либералом тогдашней России М. Сперанским, и отменившего в казахских Жузах институт ханской власти. Параллельно, однако, и уравняв султанов в правах с российским дворянством и превратив их в мундирных госслужащих. Впрочем, несмотря на это, Россия еще долгое время управляла Великой Степью не напрямую, а через Коллегию иностранных дел, а представители Жузов, прибывавшие в Россию, именовались посланниками (если их дела решались в Оренбурге) или, если вопрос требовал прибытия в столицу, «полномочными послами» – со статусом, формально равным статусу послов европейских держав. Мелочь, а приятно, а?
Глава XXXIII. В той степи глухой (2)
Думаю, мало найдется несогласных с мыслью, что критерием недовольства туземцев вновь появившимися, да еще и претендующими на главенство, пусть в разных формах, пришельцами, везде и всегда является сопротивление. Индейцы прерий из года в год разрушали форты и резали переселенцев, алжирские и кавказские шейхи поднимали знамя джихада, индийские набобы объявляли войну, а индийские же сипаи начинали резать офицеров вместе с семьями. По ходу продвижения на восток и юг в такие ситуации попадала и Россия – на Северном Кавказе, о чем мы уже говорили, на Урале, о чем мы еще поговорим, и на Крайнем Севере, о чем мы поговорим непременно. Но не в казахских степях. То есть на местном уровне всякое случалось: и открытые стычки, и (куда чаще) нападения исподтишка, и откочевки в знак протеста против чего угодно. Однако события, прямо подходящие под понятие «восстание», имели место лишь дважды. Да и то, в первый раз не в «жузовых» землях, а на российской территории, во Внутренней, она же Букеевская, Орде, той самой, которая (помните?) была учреждена не кем иным, как Петербургом, милостиво соизволившим создать на российских землях дом для кочевников, истребляемых и ловимых в рабство хивинцами. Точно так же, между прочим, как когда-то было разрешено малороссийским казакам спасаться от панского террора на российской земле, впоследствии ставшей украинской Слобожанщиной. Но это так, к слову.
За скотину ответишь
Земли в междуречье Урала и Волги было немного, а численность населения, ввиду отсутствия хивинцев, росла быстро, так что пастбищ категорически не хватало, уральские казаки свои хутора не отдавали, а лучше угодья, естественно, прихомячил хан Джангир и его ближний круг. Таким образом, шаруа (чернь) нищала, голодала, а голод не тетка, и ханские табуны вкупе с отарами начали терпеть ущерб. Скот угоняли сперва осторожно, под покровом ночи, затем в открытую, разгоняя ханских стражников, а старшины голодающих родов покрывали скотокрадов, понимая, что иначе получат по мозгам. С февраля 1836-го власти в Орде по факту не было, а поскольку тонкостей земельного кодекса шаруа не понимали, начались налеты и на выгоны, принадлежащие Уральскому казачьему войску, что вылилось в ожесточенные стычки. Впрочем, лидеры движения, старшина Исатай Тайманов и народный сказитель Махамбет Утемисов, были люди приличные, по степным меркам цивилизованные и, если говорить об акыне, в известной степени западнически настроенные, и попытались унять страсти, обратившись к российскому арбитражу. «Просьбы и жалобы наши, – писал Исатай в личном письме генерал-губернатору Василию Перовскому, – никем не принимаются, имущество у нас отнимают, и мы, точно иностранцы, страшимся всего, несмотря на то что принимали присягу на верноподданство государю императору. Но так как Ваше Превосходительство представляет здесь лицо главного начальника, то я почел довести до Вашего сведения и просить об откомандировании к нам правдивых чиновников, которые вникли бы в наше бедственное положение и произвели по жалобам нашим всенародное исследование. Особенно мы желаем, чтобы жалобы наши были исследованы господином подполковником Далем». В скобках: упомянутый «господин подполковник Даль» – тот самый Даль-Луганский, автор бессмертного Словаря; он слыл среди кочевников справедливым человеком, дружил с Махамбетом и, имея некоторое влияние на генерал-губернатора, пытался помочь голодающим, добившись в итоге изгнания со службы пары взяточников и приказа о создании «передельной комиссии» для решения вопроса.
Увы, как известно, жалует царь, да не жалует псарь. Пока в Оренбурге утрясались документы, хан Джангир, приватно договорившись с руководством уральского казачества и (как выяснилось при следствии, впрочем, ничем не закончившемся) сунув кому надо бакшиш, не стал дожидаться приезда комиссии, а бросил на подавление отряды наемников, усиленные сотней казаков. В ноябре 1837-го разбитые повстанцы отступили с российской территории на левый, «вассальный», берег Урала, перегруппировались и, уже ничего хорошего от жизни не ожидая, вступили на тропу войны. «Скопище, – доносил в Петербург Перовский, – постепенно возрастая, начало довольно положительно приближаться к линии и, наконец, по последним известиям, находилось уже не далее двух переходов. От двух-трех тысяч человек при внезапном нападении может прорваться на всякой точке линии и наделать большие беспорядки». Попытки поладить окончились, не начавшись: хотя хан Джангир, получивший от Оренбурга по ушам за перегибы на местах, готов был кое-чем поступиться, беглецы к этому времени успели присягнуть самозваному степному хану Кенесары Касымову, речь о котором впереди, и, соответственно, считали себя не бунтовщиками, а воюющей стороной. Так что за Урал двинулись регулярные войска при поддержке оренбургских и, естественно, уральских казаков, в сражении 12 июля окончательно решившие вопрос; Исатай погиб в бою. Махамбет с немногими уцелевшими бежал на юг, где занялся сочинением сатир антиханской направленности, за что и был зарезан подосланными убийцами, а Букеевская Орда вскоре была расформирована, как не оправдавшая себя. Уместно заметить, что сей акт насильственного упразднения «последнего очага национальной государственности» массы шаруа, судя по народным песням, встретили не то что без возмущения, а с нескрываемым злорадством.
Как стать экспонатом
Еще одно, второе и последнее, событие – восстание Кенесары Касымова, трактуемое ныне как «яркое проявление национально-освободительной борьбы против российского империализма», я, честно говоря, не знаю, как назвать. Дело в том, что оно, в сущности, к России никакого отношения не имеет. Султан Кенесары, сын Касыма, внук известного нам Аблая и, как водится, в энном колене прямой потомок Чингисхана, происходя из Среднего Жуза, да еще и из южных его регионов, был подданным то ли Коканда, то ли Бухары, то ли и Коканда, и Бухары одновременно. Однако сам себя считал достойным куда более высокой доли. Как минимум титула хана родного Жуза, но еще лучше, если всей Великой Степи. Отчего и тусовался по ничейным, еще не демаркированным просторам, избегая встреч с разъездами бухарцев (уже успевших отсечь головы двум его старшим братьям) и кокандцев (столь же вызывающе поступивших с его батюшкой), поскольку и сам был объявлен в розыск, и собирая под свой бунчук всех, хоть сколько-то и хоть чем-нибудь недовольных. Которых было немало. Претензии в основном были к Коканду, относившемуся к «своим» казахам примерно как поляки к малороссам до Хмельниччины, а также (и в связи с тем же) к Бухаре, но и российских пограничников, запрещавших «неприсяжным» туземцам кочевать по территории Империи, тоже не любили. Да и многие пылкие батыры, бии и тюре были огорчены новыми реалиями. Так что, в конце концов, орда под бунчуком «законного хана» собралась солидная.
Начал Кенесары довольно бойко. Исходя из того, что русских, с одной стороны, в местах его обитания совсем мало, а с другой они, в принципе, куда сильнее Коканда, и, значит, PR от нападения на них будет круче, он весной 1838-го осадил, взял штурмом и разрушил до основания Акмолинский форпост. Произведя на потенциальных подданных именно то впечатление, которое и предполагалось. После чего, крайне быстро уйдя от греха подальше, занялся государственным строительством на территории Кокандского ханства. Что, конечно, было и мудро, и правильно. Бить кокандцев у него получалось весьма удачно, сторонников становилось все больше, а поскольку среди них были люди из самых разных родов, ранее входивших во все три Жуза, избрание «нашего Кене» великим ханом всей степи, состоявшееся в сентябре 1841 года, стало простой формальностью. На правомочность и кворум, естественно, никто внимания не обращал, а любые упоминания о недостаточной легитимности хан, обладая от природы тяжелым характером, карал по законам военного времени эпохи своего великого предка. Впрочем, отдадим должное: по личным данным сын султана Касыма, судя по всему, в самом деле этого самого великого предка напоминал, а возможно, и повторял. Он умел побеждать, умел подбирать кадры, умел даже наводить порядок в степи. После сотни сломанных за ослушание спин грабежи караванов и несанкционированные угоны скота прекратились, клановая вражда сменилась полным взаимопониманием, а владыки Коканда, далекой Хивы и даже Благородной Бухары – по местным меркам, региональной сверхдержавы – заговорили с самозванцем не то что на равных, а даже несколько заискивающе. В какой-то момент о создании некоей «степной автономии» задумался даже Василий Перовский.
В общем, родись Кенесары лет на 700 раньше, копыта казахских коней, вполне вероятно, окунулись бы в Последнее Море, лет на 200 – не менее вероятно, растоптали бы Китай или, по крайней мере, Джунгарию. В суровой же реальности сюжет лишь подтвердил еще раз ту простую истину, что всякому овощу свое время. На запрос из Оренбурга по поводу переговоров Николай Павлович наложил резолюцию простую и ясную: «Двум монархам в одном царстве не бывать!». Да и сам Кенесары рассуждал схоже. Ни о какой автономии он и слышать не хотел, выдвигая встречные условия: все три Жуза по состоянию на эпоху Тауке-хана, плюс (раз уж так случилось) Букеевская Орда, плюс (хотелось бы, но необязательно) помощь в борьбе с Кокандом. При такой сшибке амбиций судьба хана Кене была решена. Несмотря на то, что «новый Чингисхан», беспощадно разоряя кокандские поселения, от российских рубежей старался держаться подальше, а за акмолинскую наглость даже предлагал заплатить компенсацию, войска Империи, поддержанные ополчением султанов, двинулись в степи, вытеснив войска хана сперва в земли Старшего Жуза, а затем и вообще на коренную территорию Кокандского ханства. Воевать на два фронта, как известно, не под силу никому, тем более что воины возрожденной Орды предпочитали не покидать родные места. С трудом вырвавшись из мешка, Кенесары перешел на земли вольных киргизов в предгорьях Алатау, где попытался создать новую базу, став по ходу дела героем страшилок, которыми киргизские матери по сей день пугают непослушных детишек, и в конце концов погиб в битве с киргизским ополчением у озера Иссык-Куль. После чего киргизы, по древнему обычаю отделив голову «великого хана» от тела, тщательно ее обработали и преподнесли в дар «хану наивеличайшему», который, пожав плечами, велел передать диковинку в Эрмитаж, где она хранится и поныне наряду с шедеврами Веласкеса, Рафаэля, Тернера и прочих «старых голландцев».
Малая Шахматная доска
Фигура в чем-то шекспировски-трагическая, а в чем-то карикатурная, Кенесары, отдадим ему должное, сам того не предполагая, сделал великое дело. В процессе низведения самопровозглашенного ханства Россия не по какому-то плану (планов не строили), но, как говорил уже не раз мною цитированный Александр Сергеевич, «силою вещей» добралась, наконец, до Семиречья, то есть до юга нынешнего Казахстана, имевшего (это для понимания ситуации необходимо иметь в виду) совершенно уникальный статус. Местные кочевники считали эту землю своей, но платили дань ханам Коканда, полагавшим себя владельцами по факту контроля. Цины, понемногу обустраивавшие Синьцзян, в свою очередь, не сомневались, что эти земли принадлежат именно им и никому другому, потому что если бы не они, территория по-прежнему была бы под джунгарами, а кому же быть правопреемником побежденного, как не победителю? Имелись аргументы и у России. С тех пор, как кокандцы обнулили в Старшем Жузе ханский престол, тамошние племена жили сами по себе, под верховенством собственных султанов. Тех самых, чьи прошения о принятии под покровительство в Коллегии иностранных дел считали уже сундуками. На сундуках, конечно, лежали толстые слои пыли, но сейчас, когда границы России раздвинулись до кочевий Старшего Жуза, архивы недолго было и перетряхнуть. Когда же перетряхнули, оказалось, что, как ни странно, Китай спорить не настроен. Прирастить к Поднебесной очередную порцию землицы Цины, следуя примеру предшественников, не возражали никогда, но рвать жилы за совершенно ненужную степь, оспаривая ее у очень серьезного оппонента, не считали нужным, да и силы у них были уже не те.
Поэтому досужие разговоры о демаркации плавно перешли в практическую плоскость, и даже с учетом восточной неторопливости продвигались вполне успешно, хотя окончательно все документы, зафиксировавшие признание Пекином российского суверенитета над Великой Степью, были подписаны немного позже. Совсем иначе обстояло дело с Кокандом. В отличие от консервативных, но мудрых чиновников Чжуннаньхая, тамошние мирзы и шейхи (как, впрочем, и их бухарско-хивинские близнецы) пребывали в абсолютной уверенности, что их сарбазы непобедимы, а ежели вдруг и победимы, то Аллах поможет при любом раскладе. К тому же, в отличие от Китая, где и максимального-то годового прибытка с кочевников хватило бы еле-еле на год скудного содержания не самой любимой жены Сына Неба, кокандский бюджет едва ли не наполовину формировался за счет казахов. В силу чего любые проявления диссидентства в Старшем Жузе, тем паче хоть краешком связанные с русскими, пресекались на корню с недоступной даже маньчжурскому разумению жестокостью. И, коль скоро в ответ степняки ерепенились еще сильнее, карательные акции осуществлялись все чаще. В первую очередь, разумеется, против родов, просивших Россию о помощи.
В конце концов, начиная с 1839 года кокандцев, до тех пор защищенных приказом огня не открывать, начинают бить. Сперва при встречах в степи, затем на их земле, разрушая опорные пункты. В 1853-м Коканд теряет важнейшую крепость Ак-Мечеть, ключевой пункт контроля над степями. В ходе боев выясняется, что (а) кокандцы драки не боятся, но (b) русские умеют бить их в соотношении 1 к 10 и даже 1 к 20. Так что граница медленно ползет к южной кромки Великой Степи. В 1854-м на реке Алматы выросло укрепление Верное, после чего в состав России вошел весь Заилийский край, а вдоль нижнего течения Сырдарьи возникла Сырдарьинская укрепленная линия. Всего через несколько лет Александр II подписанием «Положения об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областями» и «Положения об управлении Тургайской, Уральской, Акмолинской и Семипалатинской областями» расставит все точки над «ё», официально включив Великую Степь в состав Империи и учредив на базе Сибирского казачьего войска новое войско, Семиреченское. Впрочем, этим «всего нескольким» предстояло изменить очень многое. В те дни по пальцам (две-три персоны в городе на Неве да пять-шесть в городе на Темзе) можно было посчитать тех, кто понимал, что ситуация меняется качественно. Что Россия, выйдя на северную линию коренных земель Коканда, достигла, наконец, своих естественных южных рубежей, и теперь уже не слегка, как случалось и раньше, а всерьез, с головой вступает в Большую Игру. Впрочем, это уже совсем иной разговор.
Глава XXXIV. Геополитическая комедия (1)
Вопросы теории
Подробно описывать движение России в Среднюю Азию не хочется. О всякого рода баталиях, так или иначе относящихся к той эпохе, написано очень много, очень подробно и очень интересно. Но есть нюансы, на мой взгляд, не вполне ясные. Например: а на фига, собственно, все это затевалось? По крайней мере, именно в такой форме? Вот на том, пожалуй, и сосредоточимся. А уж там как пойдет…
Будем объективны. Очень много где Россия расширялась мирно, на благо и себе, и новым подданным, если и не сразу, то быстро свой интерес понимавшим. Но в Средней Азии все не так. Там завоевание (вернее, все-таки «включение в сферу влияния», ибо завоевано было далеко не все) не подлежит сомнению. И туда никто не звал. Люди жили своей жизнью, и людям было хорошо. Не всем, но кому-то наверняка, а остальным, по крайней мере, привычно и уютно. А русские пришли и всех поработили. Ну как поработили… Так, по крайней мере, принято считать нынче в некоторых молодых государствах. Во всяком случае, на официальном уровне, где все предельно от идеологии и запредельно на эмоциях. Особенно если речь идет об учебниках, цель которых – выдрессировать подрастающее поколение в соответствующем духе, дать им правильную версию национальной истории, вне зависимости от того, история это или принятый и утвержденный в качестве истории миф. Что ж, тем интереснее попытаться вникнуть в суть. Поскольку, хотя теория поверяется практикой, но для такой поверки нужно сперва сформулировать теорию.
Отметая западную, рукопожатную и «суверенную» версии о «зверином оскале», в первую очередь – по крайней мере, в советской и серьезной западной историографии, – называются экономические причины. Дескать, во-первых, караванная торговля, а во-вторых, во второй половине XIX века, после Реформы, резкий рывок промышленности и неизбежная потребность развивающего капитала в вывозе товаров. А соответственно, поиск новых рынков сбыта, еще не освоенных вездесущими бриттами и прочими, успевшими раньше.
С первым пунктом спорить не приходится. Действительно, торговля с Востоком и Югом была одним из приоритетом России во все эпохи ее существования. Действительно, этим приоритетом обуславливались многие действия во внешней политике. И действительно, наконец, необходимость обеспечить безопасность на этих путях вынуждала Россию двигаться все дальше и дальше, в итоге дойдя до южной границы бывшего Дешт-и-Кипчак. Но вот пункт номер два вызывает определенное сомнение. Чисто в том смысле, что стремление свести все к соотношению производительных сил и производственных отношений сыграло с советскими историками злую шутку. Прошения заводчиков и фабрикантов на предмет помочь вывозу товаров в Среднюю Азию, пока там не укрепились англичане, безусловно, имели место. И знаменитый «меморандум Гагемейстера» («выгодно для России, что сбыт туда наших мануфактурных изделий усиливается, тогда как мы оттуда запасаемся разными сырыми произведениями» плюс «необходимо прекращение в Хивинском ханстве торговли невольниками и усмирение чрез это туркменских племен, кочующих на восточной стороне Каспийского моря») тоже. И «Проект устава товарищества для развития торговли в Средней Азии» С. А. Хрулева тоже факт истории.
Однако на сегодняшний день – благодаря работам учеников (и уже учеников учеников) Н. А. Халфина и С. М. Медведева – ясно: акценты несколько смещены. Все это были именно проекты. Не более. Реальная возможность выбрасывать товары на среднеазиатский рынок появилась у русских промышленников несколько позже, примерно к 1875-му году, а движение России в направлении южнее Великой Степи началось все-таки раньше. Намного раньше. И никаких завоевательных планов у России не имелось. Все очень зыбко. Очень много догадок, очень мало подтверждений. Но если внимательно присмотреться к документам – а их, по счастью, очень много, всех видов, от официальных бумаг до мемуаров и личной переписки, – ситуация начинает проясняться.
Если нельзя, но очень хочется
Прежде всего. Нет никакого спора: пользуясь смутой в Кокандском ханстве, Россия слегка обкусала его границы, заняв пару-тройку городов, служивших базами для кочевников. Но Коканд на тот момент грызли все соседи, и началом большой войны сие не считалось. Большая война, как ни странно, стала следствием невинного, на первый взгляд, решения Александра II, ни о чем таком не думавшего, а всего лишь 20 декабря 1863 года разрешившего Оренбургу «сомкнуть» Сырдарьинский участок Оренбургской пограничной линии с Сибирской. То есть окончательно покончить с миграциями «немирных кочевников», лишив их свободы маневра и тыловых баз, что стало возможным как раз после захвата тех самых двух-трех городов. «Самый способ исполнения предприятия, – гласил пункт третий Указа, – представить ближайшему усмотрению обоих корпусных командиров, по их взаимному согласию».
Это, собственно, не являлось чем-то особенным. В ту эпоху власти Оренбурга, отвечавшего за беспокойную степную границу, всегда имели особые полномочия. И Перовский, и Обручев были фактически вице-императорами, а уж первый генерал-губернатор Туркестанского края К. П. фон Кауфман (это, правда, позже, но в той же струе) в 1867-м году получил от царя вообще «право объявлять войны и заключать мирные договора». Но на сей раз ситуация была принципиально иная, нежели до того. Раньше России приходилось иметь дело с кочевниками, имевшими родоплеменное устройство и такую же мотивацию, и стремилась она, повторюсь, всего лишь избавить караванную торговлю от налетов. Ради этого заключались договоры с казахскими ханами, ради этого вводилась система выборных султанов, а когда стало окончательно ясно, что ни метод опосредованного контроля над кочевыми кланами, ни летучие отряды себя не оправдывают, военное ведомство Империи пошло иным путем. В степь вынесли сеть форпостов и крепостей, учрежденных на соответствующих «дистанциях» и соединенных в «линии». Это позволило, во-первых, ограничить миграции «немирных номадов» за кордон, превратив во «внутреннее население», а во-вторых, лишить их связей с враждебными России силами – хивинцами, кокандцами, английскими лазутчиками, – контролировать которые она не имела возможности.
Такой подход долго оправдывал себя на все сто. Самые успешные генерал-губернаторы Оренбуржья – Перовский и Обручев – свято верили в его эффективность, подтвержденную жизнью, и укрепления продолжали возводить. Причем не где-нибудь, а на берегах рек, в местах, богатых травами, и близ караванных трасс. Ибо мимо этих мест ни мирные, ни «воровские» номады пройти не могли. Естественным этапом этого проекта был и захват Ак-Мечети, хотя и кокандской, но в понятие «завоевание Средней Азии» как бы не включающийся. Потому что ни то, ни се. Уже Коканд, но все еще Степь. Уже Коканд, но все-таки опорная и транзитная база «разбойных» племен и работорговли. Да и операцию провели только после многократных увещеваний, а затем и ультиматумов, на которые хан Коканда не счел нужным (или не смог) отреагировать. А кроме того, для кокандцев ее потеря была весьма чувствительна в смысле экономики и геополитики, но не более: по сути, это был всего лишь вынесенный в степь форпост, но никак не часть «коренных священных земель». Зато курс на «смычку» двух линий менял ситуацию коренным образом, потому что обязательными звеньями плана были изгнание кокандцев из Яны-Кургана и Пишпека (что уже было сделано), а естественным завершением – взятие Чимкента. Кокандского, ну и что? Пишпек с Яны-Курганом тоже были кокандские.
«Причины необходимости занятия этого города, – указывает Нафтали Халфин, – уже известны и понятны: узел дорог, плацдарм для неприятеля, в исходящем углу границы и прочее. Он в самом деле был необходим», – и на том сходились решительно все, как военные, так и политики. Разумеется, кто-то, как «ястреб» Черняев, являл радикализм, кто-то, как «голубь» Милютин, требовал учесть все нюансы и отмерить семижды семь раз. Но, в любом случае, никто не оспаривал, что, как подытожил Дюгамель, «овладение этой крепостью, по моему мнению, составляет необходимое дополнение к уже сделанному. Окрестности Чимкента, по плодородию своему и развитию хлебопашества, имеют также значение для правого фланга передовой линии, как Алатауский округ для левой ее оконечности. Это две житницы, одинаково необходимые для продовольствия гарнизонов приобретенного края, и, пока Чимкент не будет в наших руках, нельзя рассчитывать на безопасность сообщений между Аулиэата и Туркестаном». Учитывалось, разумеется, что идущая уже почти 20 лет война Коканда с сильнейшим ханством региона, Бухарой, облегчит дело, а если они вдруг замирятся, сложности вырастут на порядок.
И им не сойтись никогда
При этом, однако, можно уверенно говорить (документов более чем), что вопроса о завоевании ханств российское правительство не ставило. Напротив. 31 октября 1864 года вице-канцлер Александр Горчаков, тщательно изучив ситуацию с учетом позиции членов «европейского концерта», предложил императору специальный доклад, выводы коего сводились к тому, что единственным приемлемым завершением соединения «линий» может считаться только «окончательное определение нашего положения в Средней Азии и непременная неподвижность в будущем наших там границ». Доводы князя были убедительны, а окончательное решение, принятое 20 ноября, однозначно. «В настоящее время, – указывалось там, – дальнейшее распространение наших владений в Средней Азии не будет согласно ни с видами правительства, ни с интересами государства. Новое завоевание, увеличивая протяжение наших границ, требует значительного усиления военных средств и расходов, между тем как подобное расширение владений не только не усиливает, а ослабляет Россию, доставляя взамен явного вреда лишь гадательную пользу. Нам выгоднее остановиться на границах оседлого населения Средней Азии, нежели включать это население в число подданных Империи, принимая на себя заботы об устройстве их быта и их безопасности».
И все.
А значит.
Во-первых, «прочное утверждение русской власти на занятом уже пространстве, устройство быта, введение цивилизации между подвластными ордынцами». Во-вторых, «ограждение этих племен от нападений среднеазиатских народов, поставив их в невозможность вредить нам или, по крайней мере, убедив, что никакое неприязненное действие с их стороны не останется без возмездия». В-третьих, «приобретение нравственного влияния на Средне-Азиатские ханства, не вмешиваясь в их внутренние дела и политические отношения, но стараясь путем мирных и торговых сношений рассеять их недоверие к нашей политике и установить прочные отношения, чтобы иметь возможность ограждать в самих ханствах интересы и безопасность наших подданных». В-четвертых, «удешевить содержание наших войск, довольствуя их местными способами, а не подвозом из России, и покрывая хотя бы часть расходов на их содержание доходами с занимаемого края».
И, наконец, вывод: «…не вмешиваясь в распри и внутренние дела ханства, стараясь поощрять торговые и дружественные сношения, если не с Кокандом, то по крайней мере с Ташкентом, дав понять жителям, что их собственный интерес заставляет быть в мире с русскими; но вместе с тем, посредством консулов или дипломатических агентов, которые при благоприятных обстоятельствах могут быть туда командируемы или даже водворены, зорко следить за положением дел в ханствах, чтобы быть в состоянии своевременно принимать необходимые меры для подавления в самом начале всяких замыслов, противных нашим интересам; в случае же грабежей или нападений, не оставлять ни одно неприязненное действие без должного наказания и возмездия».
Именно. Тот самый, давно известный вариант прикрытия юго-восточной границы с помощью формально независимых, но подконтрольных Империи государств. То есть протекторат. В принципе, с кочевниками этот метод не слишком себя оправдал, но сейчас речь шла об оседлых земледельцах, известных своей покорностью, и притом дальше Чимкента никто не заглядывал. Однако власти России (в тот момент) не понимали одного нюанса. Они умели работать с кочевниками и «разбойными племенами». Они прекрасно находили общий язык с Турцией и Ираном. Но земледельческие оазисы Мавераннахра в этом смысле очень отличались от всего, с чем России до сих пор доводилось сталкиваться. По ту сторону Степи лежали очень древние, очень прочные феодальные государства, полностью интегрированные в мусульманский мир, причем не как далекая варварская окраина, а как уважаемые центры культуры. Очень и очень непростые. Психологически – и знать, и дехкане, и «базар», не говоря уж о духовенстве, – отстававшие от Европы лет на пятьсот и мыслившие категориями эпохи Тимуридов. Отнюдь не пацифисты, напротив, те еще агрессоры: ежегодно ходили войной во все стороны, и хорошо еще, что бодливой корове Аллах рогов не дал. Вовсе не гуманисты: Насрулла-хан, величайший эмир Бухары, чуть-чуть не доживший до прихода русских, гордился прозвищем «Мясник», а казнь в Коканде некоего Мусулманкула по изысканности исполнения вогнала бы в дрожь и английских палачей с их «повесить, но не до смерти, выпотрошить, но чтобы жил, и четвертовать». Ну и процентами с работорговли не гнушались, отчего и не горели желанием ее прикрывать. Впрочем, это были их внутренние дела. Куда важнее, что потеря Яны-Кургана и Пишпека, во-первых, гасила бюджет (без работорговли он никак не наполнялся), а во-вторых, нервировала кочевые племена, которые в нервном состоянии становились опасны. Но – самое главное – эти ханства, имея (под разными наименованиями) двухтысячелетнюю традицию государственности – не в меньшей степени, нежели знакомые русским Турция или Иран, – обладали четким, исторически и политически оформленным осознанием своего «хоумленда», ни пядью которого поступиться нельзя, потому что нельзя. Тем более в пользу «неверных».
А если решил – за дело!
Иными словами, Петербург сам устроил себе сложности. Если ранее он сам определял, где и когда остановиться, не особо ущемляя побежденного, то теперь такой возможности у него не было. Ни Коканд, сколь бы он ни был в то время ослаблен, ни тем более Бухара никогда не отказались бы от «коренных земель» и «священных городов», не потерпев полного, окончательного, позорного поражения, вероятность которого они (во всяком случае, бухарцы) исключали напрочь. А при этом Чимкент – это, в отличие от Ак-Мечети, уже часть того самого «хоумленда». Реальная. Не сравнимая ни с Пишпеком, ни с Яны-Курганом, которые сегодня есть, а завтра нет. Поэтому «корпусные командиры», те самые, «на ближайшее усмотрение» которых правительство оставило определять «способ исполнения предприятия», даже желая (в рамках своего усмотрения) прекратить военные действия, были обречены. Если не отступать – что исключалось по определению, – то отвечать ударом на удары, которые были неизбежны. При этом, естественно, занимая стратегически важные точки – просто ради того, чтобы их не занял враг, который обязательно нападет. Иначе говоря, «азиатская» война ради общего контроля за неким пространством обернулась войной «европейской» – до полного разгрома войск противника, официальной капитуляции его политического руководства с неизбежными репарациями, контрибуциями и аннексиями.
Глава XXXV. Геополитическая комедия (2)
Имею Мнение, Хрен Оспоришь
Геополитика с геостратегией – девушки смешливые. Предполагалось сделать самую малость. Сомкнуть пограничные линии, для чего взяли Яны-Курган, Пишпек, а затем, куда ж деваться, и Чимкент. Всего-то. Хорошо. Взяли и сомкнули. Но тотчас встал вопрос о Ташкенте…
Что тамошний бек мириться со случившимся, дорожа постом, а то и головой, не станет, было ясно, как и то, что хан, при всех своих сложностях, тоже не станет. Просто свои же кочевники, на которых опирается, не дадут. Значит, необходимо было идти на Ташкент. Это, правда, ни в каких первоначальных планах не значилось, но деваться некуда: слишком важный пункт, аккурат рядом с границей, пока он не под контролем, не в безопасности и только что взятые под контроль территории. Тем паче что до сих пор были только цветочки, а ягодки еле-еле намечаются. «Не представляйте кокандцев, – писал Черняев, – такими, какими они были в Пишпеке и других селениях; у них руководители не хуже наших, артиллерия гораздо лучше, доказательством чему служат нарезные орудия, пехота вооружена штыками, а средств гораздо больше, чем у нас. Если же мы их теперь не доконаем, то через несколько лет будет второй Кавказ».
Возможно, он, по характеру, и преувеличивал, но, как бы там ни было, первый, бестолково организованный рейд на Ташкент сорвался, были потери, и дело стало вопросом престижа, который в Азии – все. Россия перешла Рубикон, став фактором политики Средней Азии, и уйти от этого факта было уже некуда. К тому же неудачи Коканда вообще и Черняева под Ташкентом вызвали пристальный интерес Бухары, очень неравнодушной к «ферганскому» транзиту. А репутация Бухары была очень конкретна. О ней с придыханием говорили решительно все информаторы. Что многолюдна, хорошо вооружена, богата, авторитетна, наконец, в отличие от несчастного Коканда, не истерзана усобицами. Дать болезненно честолюбивому эмиру Музаффар-хану стать, подобно отцу, региональным гегемоном, означало собственными руками создать себе проблему. А следовательно, вопрос о Ташкенте, который он уже видел своим, силою вещей выходил на первый план. Тем паче в городе уже возник заговор знати, готовой при первом удобном случае открыть ворота. Правда, мулла Алимкул, регент при кокандском хане, очень волевой и влиятельный, заговор пресек, сколько-то глоток вскрыл и официально заявил, что не отдаст «город-цветок» ни России, ни Бухаре, но, если уж вовсе приткнет, то «в крайнем случае предпочтет передаться русским».
Что делать в такой ситуации, военному ведомству России было понятно, но вот как оформить, неясно совершенно, тем паче что Ташкент ни в каких инструкциях не значился. В связи с этим военные послали запрос в МИД, от себя добавив, что надо бы действовать решительно, но это уж на усмотрение государя. Ответ последовал воистину дипломатический. «Мы решили, – сообщали мастера утонченных формулировок, – не включать этот город в пределы Империи, признав несравненно для нас выгоднейшим ограничиться косвенным на него влиянием, весьма действительным по близости наших военных сил. Но весьма может быть, что для нас было бы гораздо выгоднее, если Ташкент успел бы отмежиться от Кокандского ханства и образовать по-прежнему независимое владение. В некоторой зависимости от Коканда, именно несколько зависимый от нас Ташкент будет служить нам лучшим залогом в исполнении ханом условий доброго соседства. С восстановлением же прежней независимости, город этот, в независимом положении, но несколько зависимый от нас, послужит удобным оружием, в случае необходимости действовать на Коканд и отчасти на Бухару, и вместе с тем становится для нас оградою против всяких внезапных покушений Коканда и Бухары… Оставаясь верным к общему началу, что нам следует избегать вмешательства во внутренние дела ханства, необходимо было бы и окончательное устройство судьбы Ташкента, его независимости или сохранения в зависимости, предоставить ходу событий».
Если кто понял с первого раза, завидую. Я сумел понять с третьего. Если не ошибаюсь, мягко подтверждая, что протекторат как конечный финал желательнее всего, МИД России насчет Ташкента не сказал ничего конкретного, по сути, устраняясь и оставив решение практических вопросов за армией, дав ей понять: мол, в случае чего мы подтвердим, что в курсе. Получив такое послание, Черняев взрыл землю копытом, требуя тотчас брать Ташкент, делать независимое ханство и брать его под прямое покровительство России. Он был оскорблен провалом рейда и жаждал реванша. Правительство разрешения не давало, но многозначительно подбрасывало вспененному генералу войска – естественно, сугубо для защиты, – в конце концов, назначив его губернатором вновь созданной Туркестанской области, да еще и с «особыми» полномочиями.
«Да» и «нет» не говорите…
В итоге единственным точным и недвусмысленным указанием оказался тот самый третий пункт известного Указа: «а действия отдать на усмотрение корпусных командиров». Это, собственно, ничего не означало, поскольку подразумевалось совсем иное, но пояснений к пункту не было, а следовательно, генерала ничто не связывало. Кроме «усмотрения», согласно которому Михаил Григорьевич и решил выйти по всей линии границы на реку Сырдарью как «естественный рубеж с Бухарским ханством», указав в донесении, что не может гарантировать лояльность Бухары. Во всяком случае, пока «самым явственным образом не покажет эмиру, какими могут быть последствия». Разумеется, – Черняев на это, безусловно, рассчитывал, – его точку зрения мгновенно поддержали и в Оренбурге, прямо сообщив в столицу, что «течение Сыра должно быть твердыми мерами обеспечено для нашего судоходства». Сказано – сделано. Ни в коем случае не аннексии ради – на это никто полномочий не давал! – но только обеспечения судоходства для в конце апреля русские войска заняли крепость Нияз-Бек, тем самым взяв под контроль снабжение Ташкента питьевой водой. Как бы намекая, что ежели что, так извините, сами понимаете, но пока все в порядке, так нет проблем, пейте на здоровье.
А вскоре в одной из стычек около Ташкента погиб мулла Алимкул, и это поменяло расклад капитально. Эмир Музаффар, побаивавшийся киргизского аталыка, умевшего подчинять проблемные киргизские и казахские кланы, тотчас расправил крылья и нацелился на Коканд, куда его звал в очередной раз изгнанный хан Худояр. Параллельно повелев стягивать войска под Ходжент, важный и сам по себе, но еще более – как плацдарм для атаки на Ташкент. Тут же в «городе-цветке» резко пошли вверх акции не добитой покойным Алимкулом «бухарской партии», и Черняев мгновенно отреагировал: 15 июня 1865 года русские части подошли к городу, а на следующий день без особого труда его взяли. Однако взять – полдела. Что делать с Ташкентом, по-прежнему было неясно, даже еще более неясно, чем до покорения. Ценность его во всех смыслах, разумеется, понимали все, но дальше начиналась сплошная печаль. Вернуть Коканду? Это значит, вернуть врагу, – собственно, той же Бухаре, – и ради чего тогда старались? Можно, конечно, помочь обрести суверенитет и взять под крыло, но и это как-то не совсем.
Военное ведомство осторожно предлагало все-таки вернуть, но вернуть, скажем так, условно. Ибо «хан, поставленный нашим правительством, в глазах народа будет таким же русским чиновником, которым управляются они и теперь, но с тою разницей, что власть нашего чиновника они признают, потому что видят в ней силу, и выйдет, что мы только лишимся средств, которые будут выделены на содержание хана». Вообще, вопросов возникло более чем. Оренбургский генерал-губернатор разъяснял столице, что «правительства сих ханств должны быть к нам в вассальных отношениях и представлять ручательства для нашей торговли и спокойствия границы, но как этого добиться от такого народа, как азиатцы, не занимая постоянно вблизи Ташкента угрожающей позиции и самостоятельных постов по реке?». И так далее.
Короче говоря, по мнению военных, возвращать ситуацию к бывшей ранее не следовало ни в каком варианте, а позволять ей зависать они сами не собирались, поскольку выжидать означало вдохновлять эмира. МИД, со своей стороны, интерес к Ташкенту как таковому утратил вовсе, зато с восторгом превратил его в предмет дискуссии. Поскольку перетасовка региона, естественно, вызвала сложности в «европейском концерте», но поделать Европа не могла ничего, Лондон, весьма взволновавшись по поводу Индии, стал нежданно пушист и вовсю выражал готовность «учесть российские интересы в Европе». Это уже окупало все затраты, и теперь мнение министра иностранных дел звучало уже не совсем воркующее: в его докладе государю прямо указывалось, что «Ташкент есть узел нашего влияния в Азии».
В целом, МИД рекомендовал: (а) оставить в крепостях гарнизоны, но непременно позаботившись о том, чтобы это выглядело как согласие на просьбу жителей Ташкента, и (б) жестко припугнуть эмира, однако, не угрожая взятием Бухары, потому что сил брать Бухару нет, а значит, блеф легко вскроется, и уважение уменьшится. Вот кабы можно было взять, тогда да, а так лучше быть помягче, но притом и пожестче. Опять, то бишь, волна сплошной дипломатии. Оренбург, со своей стороны, четко требовал город разоружить, стены снести, а затем создать автономное княжество – если нужно, в составе Кокандского ханства, но обязательно под протекторатом России.
Иными словами, вояки, полтора века отвечавшие за покой в Степи, считали, что важнее держать в руках Азию, нежели ублажать Европу, а дипломаты колебались, указывая, что «если мы будем расширять наши пределы только потому, что будем желать присоединять к себе каждое воинственное кочевое племя, могущее делать набеги, то вряд ли удастся нам когда-либо остановить свое движение на юг». Не возражали, то есть, но и советовали не зарываться, ибо «тем самым можно вовлечь себя в неизбежные затруднения». В том смысле, что, как писал министр иностранных дел своему коллеге в погонах, – «сколько подобное предписание поднимает крику и как оно подорвет последнее к нам доверие в Европе, нельзя и предсказать. Право, игра не стоит свечей».
Hello, I’m your aunt!
Некий резон в сих словесных пируэтах имелся. Даже немалый. Военные это признавали, соглашаясь, что «течение Сырдарьи вне наших пределов представляет собою торговую артерию, а не базис военных действий», однако делая упор на то, что «дипломатия азиатцев иная, нежели у нас, отчего военные плаванья по Сыру необходимы. Но не ради покорения бухарцев, а ради ослабления угрожающего нам преобладания Бухары». И тут были абсолютно правы. Азиатская дипломатия в самом деле резко отличалась от европейской. Пока Петербург рассуждал и философствовал, а Оренбург рубил правду-матку, Музаффар не терял времени даром, стремясь отщипнуть от владений ослабленного до предела Коканда чем больше, тем лучше. В первую очередь, конечно, Ташкент. В «городе-цветке», не глядя на наличие русских войск, объявились бухарские сборщики налогов и сотрудники эмирской «мухабарат» (или как она там называлась), запрещавшие населению поставлять «неверным» провизию и фураж. Их боялись, их слушались. И не продавали. А поскольку реквизиции в мирном городе проводить царского позволения не было, а законы войны такое запрещают, но солдатикам тем не менее надо кушать, Черняеву, к его, как он писал, «немалому огорчению», просто-таки пришлось 13 и 14 сентября занять городки Той-Тюбе, Пскент и Келеучи. Что, как рапортовал он, «передавая в наши руки всю хлебопашную часть Зачирчикской страны вплоть до гор, имело самые благоприятные последствия на окончательное водворение спокойствия в Ташкенте. Слухи о возможности внезапного движения Бухарского эмира прекратились. Подвоз продовольственных припасов возобновился, и цены на все продукты значительно понизились, заготовка провианта и фуража для наших войск идет довольно успешно… Для сохранения же в этой стране порядка и спокойствия я полагаю достаточным, не двигаясь далее бескрайней необходимости, занимать только крепость Келеучи».
Согласитесь, никаких агрессивных замыслов. Суровая жизнь диктует суровые решения, и все. Можно даже Пскент и Той-Тюбе вернуть, чтобы не обвиняли непонятно в чем. Ведь не в них дело, а в том, что, как бы то ни было, в рамках решения продовольственной программы 6 сентября русские войска вышли на подступы к Ходженту. То есть уже к самому порогу Ферганской долины. А тем самым на пусть и очень дальние, но все-таки подступы к Британской Индии, что давало России дополнительные и очень реальные козыри для очередных арий в «европейском концерте». И Черняев, хотя сто раз солдафон, это отлично сознавал. А сознавая, вовсю использовал, играя на самых чувствительных струнах петербургских скрипок.
«В нынешнем году, – писал Михаил Григорьевич, – я буду твердить, что, порешив с Кокандом, нам нужно во что бы то ни стало предупредить англичан на Амударье или, лучше сказать, не допустить их влияния по сю сторону Гиндукуша. Иначе мы поменяемся ролями: вместо того, чтобы угрожать положению англичан в Индии, мы сами будем опасаться за свое в Средней Азии. Весьма быть может, что для этого предупреждения не потребуется вовсе непосредственного занятия, что в настоящее время и сделать нельзя, но зевать невозможно». Что самое интересное, бил в точку. В архивах российского МИД хранятся документы, однозначно свидетельствующие о планах Лондона организовать судоходство по Амударье, обеспечив своим судам (и войскам) при надобности выход в Арал, то есть в тыл русских войск. России пришлось срочно усиливать занятие и укрепление дельты Амударьи, в результате чего англичане, хоть и возмущенные агрессивными действиями Петербурга, свой план отменили: как бы они ни торопились, Аральская флотилия была уже слишком сильна. Тем не менее летом 1865 года в Бухаре побывала с визитом «военно-географическая» британская миссия, пытавшаяся убедить Музаффара согласиться на создание союза Бухары, Хивы и Коканда, обещая помочь в реализации.
Однако эмир, уже въявь видя себя «ханом ханов» и «повелителем повелителей», предложением пренебрег, и миссия отъехала восвояси еще до «появления снега на Гиндукуше». Несмотря на это, сам факт явления «военных географов» рассердил Петербург, государь, видимо, изволил нахмуриться, и МИД сделал все, что мог, чтобы британской разведке стало известно – но без всяких подробностей – о приезде в Ташкент посланцев кашмирского оппозиционера, магараджи Рамбир Сингха, интересовавшегося, не собирается ли Россия идти в Индию. И если да, то не может ли он быть чем-то полезен. А также – опять без деталей – об их встрече с компетентными лицами.
Мужик сердитый
На том первый акт и завершился. Этюд, начатый единственно с целью укрепить границу, слегка – самую чуточку – потеснив кокандцев, закончился тем, что в сфере прямого российского влияния оказалась территория, прямо присваивать которую никто еще год назад даже не думал. Но не простая. Ее геостратегическую важность – имея в виду водные ресурсы Сырдарьи и важнейшие оазисы региона с перспективой выхода в Ферганскую долину и на юг Междуречья – трудно было переоценить. Плюс ко всему Коканд, где в связи со всеми ханскими успехами началась очередная смута, завершившаяся оккупацией города бухарцами, окончательно выпал из колоды. Зато против русских, кося кровавым глазом, стояла Бухара, казавшаяся на тот момент чем-то очень серьезным и крайне опасным. Поэтому осенью 1865 года русское командование решило все же не очень обострять, а попробовать сесть за стол переговоров и поговорить с эмиром о возможных компенсациях за доставленные беспокойства. В Бухару отправилась миссия подполковника подполковника Глуховского, наделенного весьма широкими полномочиями. Чимкент, конечно, никто бы эмиру не предложил, это уже было российское, а значит, святое. Ташкент тоже. Это было еще не российское, но чересчур. Тем не менее некоторые интересные наметки имелись. Однако в этом уже не было никакого смысла: Музаффар не собирался ни с кем и ни о чем говорить. Люто завидовавший жуткому, но великому отцу, ни в грош его не ставившему и чуть не отстранившему от престола, жестоко обиженный на собственных беков, которых никак не удавалось заставить себя уважать, эмир, превратив, наконец, Коканд в марионетку, познал вкус славы, и его понесло вразнос. Он собирался брать Ташкент, потом Чимкент, а потом как получится.
Безусловно, Музаффар-хан не слишком хорошо понимал реалии. Лучше всего свидетельствует об этом его известное письмо каратегинскому беку: «Если неверные вынудят меня обнажить меч, я, с помощью Аллаха, предложу им милость и подарю мир только на развалинах Оренбурга» (позже, за пару часов до «Ирджарской битвы» он повторит то же самое, только на сей раз помянув Петербург). Но это уже не его вина. Его так учили. В любом случае, под всяческими благовидными предлогами посольство задержали (фактически это был арест, хотя и домашний, и очень почетный). Подполковник и его люди ждали аудиенции, ели халву, жарили шашлык и слушали павлинов, а Владыка Правоверных тем временем общался с духовенством. Затем, получив должные фетвы, с помощью самых авторитетных мулл убедил беков и племена, вплоть до самых непокорных, подчиниться – и в конце 1865 года, как известно, объявил «неверным» джихад. Первым итогом которого, как опять же известно, стал переход под прямой контроль русских войск запада Ферганской долины, включая крайне важный во всех смыслах Ходжент.
Но об этом, то есть о войне, – особо.
Глава XXXVI. Геополитическая комедия (3)
Сплошная симфония
Вернемся к геостратегии…
Понять сюжет, именуемый «Присоединение Средней Азии к России», невозможно, не осознав, что представляли собою пресловутые «осколки державы Тимура» – Бухара, Хорезм (вернее, Хива, предпочитавшая по старинке именовать себя Хорезмом, но напоминавшая великую державу Средневековья не более, чем кошка – мотоцикл) и Коканд. О Хиве, впрочем, сейчас не будем, о Бухаре тоже чуть позже, что же касается Коканда, то было это чем-то типа кооперации правильных пацанов с честными лохами. Не совсем, конечно, однако очень похоже. Сформировано оно было из двух очень разных регионов. Во-первых, Ферганская долина, очень плодородная, населенная земледельческим, очень религиозным людом. Во-вторых, «зона племен»: в основном киргизских, но и слегка казахских (правда, тогда их не различали). Ну и, до кучи, пара-тройка крупных торговых городов вне долины, включая сам Коканд.
Modus vivendi сего государства состоял в следующем: «сарты»-земледельцы обеспечивали кочевников хлебом, гашишем (одна из важнейших статей дохода) и прочими радостями, города – различными товарами, а мимоезжие караванщики отстегивали им же – а также хану, который всю эту симфонию модерировал, – долю малую за… э-э-э… не грабеж. Или – будем политически корректны – за охрану. Караванщиков же, освоивших другие пути, кокандские кочевники нещадно грабили, опять-таки отстегивая хану, территорию которого использовали как базу, и по дешевке сбывая хабар в городах. Городскими склоками степная вольница интересовалась мало, но если надо было, свой хутор защищала от всех, кто претендовал, в первую очередь от Бухары, чем горожане и дехкане были очень довольны, поскольку налоговый гнет у куда более оседлых и развитых соседей, естественно, был куда более тяжек. Схема, конечно, предельно груба, терки случались всякие, но, в целом, так оно продолжалось три с половиной века. И держалось. И всех так или иначе устраивало.
Ускорение
А потом пришла беда откуда не ждали. «Неверные» с далекого севера начали наводить порядок на торговых трассах, оттесняя батыров удачи все дальше на юг и лишая их свободы воли, самовыражения и передвижений. Батыры, конечно, брыкались. Но безуспешно. Когда же к середине XIX века стало совсем туго, заинтересовались, наконец, внутренней политикой. Чего и следовало ждать: доходы от грабежа стали минимальны, а красиво жить хотелось не меньше, чем раньше, – и в Коканде наступила эпоха великих смут. Степняки начали бунтовать, сажая на престол «своих» ханов и требуя увеличения поступлений из бюджета, а затем и вообще постов в правительстве, вплоть до высших. Оседлые, включая горожан, столкнувшись с необходимостью содержать степняков, пользы от которых было теперь нуль. Сперва пытались драться (без особого успеха). Потом – отделяться целыми регионами (тоже неудачно). И наконец обратили взоры на Бухару, где жилось, конечно, много труднее, зато, по крайней мере, существовала отлаженная бюрократическая система, при которой порядка было больше. Опять же, запредельно влиятельное духовенство «святых городов» – Андижана, Намангана и Маргелана – привыкло играть первую скрипку в ханстве, а диковатые кочевники претензии «ученых людей» не понимали.
В Бухаре же, тоже считавшейся «святым городом», понимали, и очень хорошо. В итоге эмир Насрулла, отец Музаффара, – как мы помним, гордившийся прозвищем «Мясник», – оказался активнейшим участником и, более того, режиссером кокандской смуты. Однажды он даже занял ханство, присоединив его к собственному, против чего оседлое население ничуть не возражало, но степняки встали на дыбы. Он был слишком чужим, слишком жестким, и тем паче Мангыт, а не Чингизид, на что дехканам было плевать, а вот кочевникам – очень даже нет. Так что все же ушел, впредь предпочтя обгрызать хворого соседа по кусочкам.
Кстати, коль скоро уж речь зашла о Бухаре, следует учитывать еще кое-что. В отличие от Коканда (да и очень похожей на него Хивы, где роль кайсаков играли туркмены), Бухоро-и-Шериф была государством земледельческим. Там был построен более чем развитой феодализм. Хотя и предельно, в отличие от Турции или даже Ирана, застойный, со всеми прелестями гниения, но все-таки. С купеческими «гильдиями», с ремесленными «цехами», с правильно организованным (хотя и прогнившим донельзя) аппаратом и регулярной (хотя и очень скверно организованной и отстало вооруженной) армией.
Имелись даже интеллектуалы, понимавшие, что так жить нельзя, и в меру сил пытавшиеся осмысливать действительность, втихую критиковать власть и предлагать рецепты. Хоть справа, как мирза Абделькасим Сами, в стол считавший, что «во исправление порчи нравов» следует отказаться от всего, чего не было во времена Амира Тимура, хоть слева, как домло Ахмед Дониш, сидевший, скажем так, в духовной оппозиции и писавший, тоже в стол, прямую крамолу. Типа, дескать, кабы эмир, вместо возни с мальчиками, строил бы телеграф и железные дороги, закупал бы современные пушки и обучал армию – глядишь, и результат противостояния был бы иным. Короче, политическая мысль цвела в интервале от Муллы Омара до Усамы бен Ладена, и следует признать, что по тем временам, а тем паче в тех местах, и то, и другое было столь прогрессивно, что, рискнув высказаться публично, вольнодумцы могли нарваться на неприятности. Впрочем, для нас важно не это, а то, что традиционная конструкция необратимо рушилось, и в этом обвале Бухара, в отличие от Коканда, имела некую перспективу развития. Пусть не интенсивного, но уж экстенсивного, вширь, – вполне. И за счет того латать дыры. При удаче, дотянув до более вегетарианских времен. У Афганистана ведь получилось, а Бухара была всяко круче Афганистана. Естественным же кормом для эмиров был Коканд, который они благополучно и съели бы, не появись на горизонте русские штыки. Россия же в данном раскладе, сама не подозревая, оказалась еще одним, пусть и самым сильным, но отнюдь не первым претендентом на раздел «кокандского наследства». И на том, покончив с высокой теорией, вернемся в низины жизни.
Бой покажет
К исходу 1865 года всем, и на берегах Ори, и на брегах Невы стало окончательно ясно: Россия влезла в ситуацию по самые уши. В настоящую войну, где «авось» не катит. А следовательно, диспозицию следовало менять, причем на ходу. Старые механизмы воздействия отказывали. Очередной черняевский рейд, на сей раз на сильно укрепленный Джизак, провалился, и Михаил Григорьевич стал козлом отпущения, не столько за личные промахи, сколько, вероятно, за создание неприятной ситуации. В марте 1866 года его отправили в отставку, передав командование Дмитрию Романовскому, помимо прочего, журналисту и редактору газеты «Русский инвалид», одному из самых жестких критиков методов Черняева. Это было особенно оскорбительно (в кулуарах Михаил Григорьевич называл Романовского «заурядным редактором плохой газетки», хотя, конечно, был неправ). Как бы то ни было, мелкие стычки продолжались, а эмир думал. Он и хотел войны, и боялся, но волна уже не спрашивала. К тому же именно эта волна внесла его в Коканд – и хан решился.
О дальнейшем консерватор мирза Сами пишет предельно скупо, скорее всего, ему просто стыдно. Зато вольтерьянец домло Дониш куда откровеннее. «В Бухаре в среде духовенства, – пишет он, – поднялось волнение насчет обязательности объявления священной войны. Святые люди говорили, что все должны двинуться на неверных. Эмир волей-неволей был вынужден собираться… и с очень большим войском в смущении вышел из города. После ухода войска поднялся всеобщий клич в городе, чтобы всем выступить на священную войну. Стучались в двери каждого дома: мол, скорее, выходите. Трубили о священной войне, как о богоугодной обязанности. Горожане, которые никогда звука пушки и ружья не слышали, подумали, что священная война подобна площадке, где происходит состязание в единоборстве, каждый вооружился дубиной. И не знали они, почему она была обязательной. Не знали, каковы вызвавшие ее причины. И не спрашивали, каков враг в этой войне».
Далее бухарский вольнодумец с истинно интеллигентской уверенностью в том, что знает решительно все, объясняет, как бы поступал сам, чтобы победить. Но, как бы то ни было, «гази» собралось очень много. Пусть не двести тысяч, по Донишу, а сорок, по данным русских историков, но всего равно, согласитесь, «огромное войско, которому не было ни числа, ни счета… Его величество эмир, когда увидел это сборище, решил, что в этом походе он одержит победу и овладеет Петербургом – столицей императора», и воспарил. Шли пышно, ярко, с шиком и развлечениями, по ходу дела теряя тех, кто передумал, но восполняясь за счет тех, кто приставал. Русские, зная общую картину, но не зная подробностей, пару раз предложили переговоры, тем самым лишь убедив Музаффара, что он неодолим: эмир отдал приказ «победив, сохранить русскую казну, и не убивать слишком уж много русских, а брать живыми, чтобы они выполняли бы военную службу». Русские, которых было раз, минимум, в двадцать меньше, видели ситуацию иначе, и когда 8 мая близ урочища Ирджар противники сошлись, «гази», не продержавшись и получаса, «предпочли бегство стойкости», причем первым предпочел главный идеолог джихада, некий Ахья Ходжа Туркмен, «который имел звание ахунда и отличался глупостью». Если менее цветисто, бегство было повальным. «Раздумав идти прямо в рай», бросали все, вплоть до халатов, а свои же кочевники, убегая, это «все», в том числе имущество эмира, хозяйственно забирали.
По итогам сражения в русском отряде погиб один солдат, раненых насчитали до двух десятков, воинов же джихада на поле боя осталось более тысячи, и еще тысячи погибли, убегая. «Кого-то увели в рабство храбрые кочевники, – печально отмечает Дониш, – многие утонули в реке или погибли в горах, а некоторые во время бегства попали к русским. Русские давали им воду и отправляли их к своим». Сам Музаффар-хан «бежал, замочив штаны», (возможно, тут автор просто злобствует, и эмир всего лишь оправлялся, не сходя с коня, что в кавалерии случается, – но…) едва ли не сам-десять. Победители же, не преследуя бедолагу, двинулись на Ходжент – город, правда, кокандский, но сам-то Коканд в тот момент подчинялся Бухаре, а раз так, то сами понимаете. 24 мая взяли, перебив около 2,5 тысяч сарбазов и потеряв 5 солдат.
По обстановке
Итог столкновения при Ирджааре и падение Ходжента потрясли всех. Или, по крайней мере, изумили. По крупным городам, откуда ушли на войну «гази», прокатилась волна погромов, достигших апогея в Самарканде. С невыразимой тоской пишет об этом мирза Абд аль-Азим Сами, видевший все своими глазами. Начали, конечно, муллы, на все лады клявшие «отступников, которых Аллах покарал поражением», и требовавшие от горожан «бросить все и убивать многобожников везде». Горожане не спешили, муллы, пытаясь их принудить, выпустили из медресе толпы своих талибов, избивавших на базарах и улицах всех, не согласных «бросать все». Население дало отпор, начались побоища с десятками трупов, в связи с чем местное начальство «решило проявить храбрость и смелость, чтобы муллы, охваченные сном невежества, отрезвились от опьянения высокомерием, пробудились ото сна легкомыслия и образумились».
И проявило. Да так, что в итоге ушли к Аллаху не только многие пылкие юноши, но и несколько почтенных почтенных старцев, – и, «одним словом, произошло событие, какого не бывало в мусульманской общине с возникновения ислама». Параллельно трещала по швам и политическая конфигурация региона. Всеми запуганный Худояр, хан Коканда, уже не веря во всемогущество Бухары, писал русским слезные письма, умоляя о мире на любых условиях, пусть и «собачьих». Впрочем, ничего большего ему и не светило. «Вследствие сего, – гласили инструкции, данные Романовскому командованием, – не должно быть заключено с Кокандом никакого формального мирного договора, могущего связать наши дальнейшие действия». Впрочем, указывалось далее, «было бы полезно продлить с ним переговоры до того времени, пока силы наши дозволят окончательное завоевание этой области», для чего рекомендовалось «принять тон высокомерный, третировать Худояр-хана, как человека, который по положению своему должен быть вассалом России. Если обидится и будет действовать против нас, тем лучше, это даст предлог покончить с ним».
Таким образом, Россия не только приняла правила игры, но и начала диктовать свои. Причем не одному лишь жалкому, рушащемуся Коканду, но и Бухаре. Хамить Музаффару, в отличие от его морально сломленного коллеги, правда, не хамили, но требовали признать все, что заняли русские войска, – в том числе и земли, считавшиеся «исторически бухарскими», – собственностью России, отвязаться от Коканда, дать надежные гарантии русским купцам и выплатить гигантскую контрибуцию. Эмир, имея в активе обезумевших мулл, вышедших из подчинения беков, распавшуюся армию и крайне недовольное войной купечество, соглашался на все, кроме контрибуции, которую просил не взимать, ибо «беден, как бродячий дервиш без посоха».
Весьма обрадованный, Романовский расценил такую просьбу как «оскорбление интересам российским», взвинтил сумму до совершено дикой, к тому же потребовав выплатить ее сполна в течение 10 дней, что и в самом деле было совершенно нереально. А затем, не получив денег, возобновил наступление. 27 сентября пал очень вкусный город Ура-Тюбе (потери 2500:17), затем, 17–18 октября, – Джизак (потери 6000:6), после чего Дмитрий Ильич получил повышение, сдал командование Мантейфелю и убыл с фронта. Далее стало холодно, жизнь замерла, а следующий, 1867-й, прошел тускло, в мелких стычках, захватах русскими второстепенных городов и так далее. Главным событием года стало учреждение Туркестанского генерал-губернаторства во главе с легендарным Константином фон Кауфманом, «человеком большого ума, обширных знаний и, несмотря на немецкое происхождение, чисто русских взглядов на государственные задачи России».
В январе 1868 года Коканд окончательно выпал из колоды: Худояр подписал торговый договор, как бы равноправный, но по факту делавший его ханство вассалом России, а Музаффар-хан, успевший оклематься от шока, объявил «неверным» очередной джихад. На сей раз не с подачи мулл, а по праву Повелителя Правоверных, делая ставку не на «гази», от которых толку не было, и не на беков, которые тянули одеяло на себя, а на немногих армейских курбаши, проявивших в ходе событий мужество, верность и сноровку и сумевших сформировать более или менее крепкие части.
Вход рупь, выход пять
Естественно, это не понравилось муллам, у которых отбирали право рулить идеологией, и не понравилось бекам, поскольку дело пахло появлением у эмира собственной армии, способной, если нужно, воевать и с ними. Но, с другой стороны, не понравилось и олигархам Самарканда и Бухары, по мнению которых, убытки уже превысили всякую норму, а значит, с войной пришло время кончать. Оппозиция «справа» выдвинула собственного претендента, старшего эмирского сына Абдул-Малика, по прозвищу Катта-Тюра, – юношу, по оценке Абд аль-Азима Сами, «превзошедшего в любви к Аллаху самых богобоязненных ишанов», а оппозиция «слева» начала по чуть-чуть устанавливать связи с русским командованием. Для укрепления авторитета Музаффару срочно требовалась победа, хотя бы небольшая, – и 1 мая на зерафшанских холмах повторилось то же, что при Ирджааре. Даже круче: на сей раз огромная армия разбежалась, вообще не пожелав драться, хотя бы для вида. Остатки во главе с Повелителем Правоверных отступили к Самарканду, но горожане закрыли перед монархом ворота, предпочтя сдаться русским. 12 мая под стенами Ургута сгинула (потери 1200:0) вторая полевая армия эмира, а 1–2 июня на Зерабулакских высотах грянула наконец – под командованием лично Кауфмана – генеральная баталия. На сей раз, по оценке русских офицеров, сарбазы наконец-то хоть как-то себя проявили, разбежавшись не тотчас, а после некоторого сопротивления, – не зря же мирза Сами, об Ирджааре, как помним, почти молчавший, на сей раз дивно многословен, изобильно воспевая «великую битву, подобно битвам Тимура потрясшую основы мироздания». Однако итоги мало отличались от ирджаарских: потери 1500:0 (правда, 35 раненых) и дикое бегство. «Путь на Бухару был открыт вполне», а сам Музаффар, уже ни во что хорошее не веря, паковал вещи, целясь бежать в Хиву. Возможно, и сбежал бы. Но жизнь распорядилась иначе.
Именно теперь в войну вступили ранее выжидавшие беки мощного региона Шахрисабз, до тех пор эмиру в помощи отказывавшие, а теперь – имея, как помните, своего кандидата на престол – решившие, что время настало. Далее была знаменитая – увы, куда менее, чем следовало бы, – оборона самаркандской цитадели, где крохотный отряд русских, слегка усиленный горстью местных лоялистов в соотношении сто к одному целую неделю защищался от ворвавшихся в город шахрисабзцев, киргизов и горожан, желающих попасть в рай без очереди. Многие и попали. Очень многие. А потом с Зерабулака вернулся Кауфман, шахрисабзцы с киргизами куда-то пропали, на город же, в наказание за мятеж, генерал-губернатор не обращал внимания целых трое суток. Ну и… «Несмотря на назначение многочисленных патрулей, – вспоминал всю неделю не выпускавший винтовку из рук Василий Верещагин, – много темных дел совершилось в эти бесконечные три дня», – и ничего подобного в Самарканде больше не случалось. Зато прибыли послы от Повелителя Правоверных, теперь уже согласного на все, но при условии, что русские помогут прижать к ногтю охамевший Шахрисабз и прогонят негодяя-сына.
Братишка
На том и поладили. Беков приструнили, нахального Абдул-Малика выбили из его «столицы» Карши, потом выгнали еще раз, окончательно. После чего он бежал аж в Индию, к англичанам, с которыми поддерживал связи, а счастливый папа-эмир подписал мирный договор, «с великой радостью, от чистого сердца» уплатив 500 тысяч рублей контрибуции (впятеро больше, чем мог бы уплатить, будь он умнее в прошлом году). Правда, требования сверху «с дикарями обращаться без церемоний» ярым-подшо (то есть полуцарь) отверг. По его мнению, не было «решительно никакой целесообразности дальнейших военных действий при условии, если население Бухарского и Кокандского ханств не будет выступать против России». Кроме контрибуции, русские купцы получили право свободной торговли, а кроме того, эмир обязался «не посылать войска и шайки грабителей в русские пределы» и уступил «в знак любви и восхищения моему старшему брату Искандар-подшо» Ходжент, Ура-Тюбе и Джизак. То есть самые плодородные и водообильные области эмирата. Россия, в общем, в них не нуждалась, но без них эмирату, ежели что, воевать было бы сложно.
В порядке ответной любезности Музаффару вернули крепости Яны-Курган и Карши с гарантией (в Петербурге слово Кауфмана звучало крайне веско), что суверенитет сохранится. Правда, несколько позже, когда бухарцы рискнули шалить, брату Музаффару пришлось – тоже «с радостью и от чистого сердца» – «принести в дар» брату Искандару также право решать, кому быть наследником эмирского престола, а кому куш-беги, первым министром. Взамен, со своей стороны, «старший брат» гарантировал «младшему», помимо и так обещанной защиты от любых посягательств, еще и помощь в расширении ужавшейся территории за счет независимых районов Памира. Что и было выполнено в точности. Держать слово Россия умела.
Глава XXXVII. Геополитическая комедия (4)
Наши цели ясны, задачи определены
Мы, если помните, договорились обсуждать не цветочки и даже не ягодки, а почву, вглубь которой корешки оных ягодок тянутся. О том и будем. Начав с того, что происходящее в Средней Азии все больше бесило людей с далекого туманного острова. Там опасались…
Итогом опасений, как известно, стал «меморандум Кларендона» с настоятельным предложением о срочных переговорах насчет «точной границы нейтрального среднеазиатского пояса». Россия не возражала, но бритты хотели чересчур многого. Например, чтобы граница шла «по Амударье в ее среднем течении, с тем чтобы на меридиане Бухары она следовала строго на запад через всю Туркмению». Петербург резонно возражал, что ежели так, то черта окажется «в 230 верстах от Самарканда, тогда как расстояние от нее до передового английского поста с лишком вдвое больше», а какой же тут паритет? Тем более получилось бы, что линия, приятная кабинету Ее Величества, рассечет караванные тропы в Иран. Ну и, конечно, вопрос об Афганистане. Афганцы имели договор с Лондоном и хотели обладать Памиром, округлив свои владения за счет Бухары. В итоге поладили на том, что Россия не станет «расширять земли эмирата Бухарского более, чем следует». Без расшифровок. По итогам переговоров Кауфман, не без основания считавшийся в Петербурге экспертом по востоку высшего класса, представил в декабре 1870 года Особому совещанию докладом «О положении политических дел», указав, что результатом «во многом нежданных и не чаянных кампаний» стало заключение торговых договоров, «без соучастия военной силы невозможное». Более того, даже в Коканде «ныне нет беспорядков внутри, наладилась торговля, началось строительство базаров, караван-сараев, большого канала для орошения безводных степей».
Худояр-хана Константин Петрович характеризовал исключительно лестно, как «человека умного, понимающего и принимающего политический смысл программы России», прося его всячески поддерживать. Что касается Бухары, то отношения с ней Кауфман определял как «приемлемые», но возвращать Музаффару долину Зеравшана и Самарканд полагал «явно лишним», поскольку обладание этими землями, в случае чего, позволяло России «не медля наказать эмира за нарушение мирных соседских отношений». При этом вопрос об аннексии эмирата генерал-губернатор требовал снять раз и навсегда, настаивая, что России «во всех смыслах выгоднее иметь Бухару в дружественном соседстве, но не управлять ею, что нам и не на пользу, и обременительно». Относительно Афганистана (то есть Англии) было отмечено, что «ныне, когда в большинстве необходимое достигнуто, следует применять к авганскому эмиру предупредительность и широкое гостеприимство, потому что интересов там у России нет, и англичанам следует на это указать».
Зато, когда речь шла о Хиве, тон доклада разительно менялся. Кауфман не отрицал, что этот нюанс «для наших друзей столь же болезнен, как и авганский», но в этом вопросе отрицал любые компромиссы. «Выжидательная политика, – жестко констатировал он, – оказалась неприемлемой для этой страны… Хива не признает власти России, продолжает выступать против нее, что влияет самым невыгодным образом на развитие нашей среднеазиатской торговли… Неприязненное отношение к нам Хивы усложняет вообще все наше положение в Средней Азии и мешает делу устройства наших степных областей. Потому полагаю неотложно необходимым нанести решительный удар по Хиве, но, приняв во внимание общие условия, не присоединяя это дикое ханство к российским владениям».
Дюна
А кстати, что такое Хива? А ничего очень уж этакого. Небольшой, очень красивый городок, прижавшийся к Аму слева, еще несколько городков, вовсе уж маленьких, два десятка деревушек, рыболовство, какие-то ремесла, – и племена. Эрсари, теке, йомуды, еще пара-тройка. Вот они-то и наполняли жизнь дивным блеском. «Туркмены, – вспоминал Николай Гродеков, знавший ситуацию от и до, изнутри и снаружи, – это черное пятно на земном шаре, этот стыд человечества, которое их терпит. Если торговцы неграми поставлены вне законов всех наций, то и туркмены должны быть поставлены в такое же положение. Что бы там ни писали… о жестокостях русских в йомудскую экспедицию 1873 г., во всяком случае, приказ генерала Кауфмана об истреблении йомудов есть, по моему мнению, самый человеколюбивый акт, который когда-либо был издан, ибо он клонится к спасению и благополучию миллионов людей». Допустим даже, что Николай Иванович писал это в 1879-м, когда, по итогам войны с турками, Европа приструняла не в меру вознесшуюся Россию, – то есть в рамках пропагандистских перестрелок, но факт есть факт: смыслом жизни многочисленных племен пустыни был, помимо скучного овцеводства, грабеж.
Грабили страшно. Грабили караваны, приграничные русские поселки, казахские аулы, по несчастью, с ними соседствовавшие, и грабили подчистую, в первую очередь целясь на угон пленников. В сравнении с ними кокандские кайсаки, знакомые с какими-то правилами, были разве что лунтиками, – и как раз туркмены были солью хивинской земли, ее хозяевами и господами. Они – в первую очередь теке – ставили и свергали ханов, да и самого хана в Хиве терпели только как арбитра Чингизова рода в постоянно возникающих усобицах, понимая, что без стороннего авторитета просто вырежут друг дружку. Да еще как знамя в борьбе против йомудов, которых боялись все. Но при первой же попытке зажать гайки монарх терял голову (только в XIX веке таких голов случилось две). Да и что могли сделать ханы, если войско, не считая пары сот нукеров, составляли те же туркменские ополчения, а казна наполнялась за счет не налогов даже, а добровольных отчислений с общака? А и не хотели они ничего делать. Тем паче что был тут и положительный аспект. Даже Бухара, мечтавшая стать владыкой региона и всяко копавшая под Коканд, раздражая кайсаков (казахов и киргизов), на Хиву не претендовала. Ходила, конечно, но чисто пограбить. Ибо сознавала, что сам-то город взять не проблема, зато потом будет полный геморрой. Победить туркмен было невозможно – в самом худшем для себя случае они уходили к «тайным колодцам», вглубь Красных Песков, войти куда для непривычного человека означало не выйти, а затем появлялись снова, и это было страшно, потому что пощады люди пустыни не знали: пески, как и тундра для чукчей, диктовали своим детям, что едоков не своего племени должно быть чем меньше, тем лучше.
Излишне говорить, что российской торговле – вернее, персидскому ее направлению, и сухопутному, и морскому, – Хива мешала. Мешала так, что уже при Петре делались попытки хоть как-то ее урезонить, и кончилось это очень плохо, полным уничтожением немалого отряда князя Александра (Девлет-Киздень-мурзы) Черкасского. Полностью – не из-за туркмен даже, а из-за дикой погоды, выжить в которой могли только туркмены, – провалился и поход Василия Перовского в 1839-м. А к описываемому периоду «восточно-торговое сословие» Империи уже просто воем выло, умоляя правительство принять меры для «прочного овладения ориенталом Каспия». Как и население «линии». Как и казахи, уже почти научившиеся жить мирно, а потому более беззащитные, нежели в былые годы. А плюс ко всему, в период войны с Бухарой именно в Хиве находили крышу всяческие «разбойничьи партии», и выцарапать их оттуда не было никакой возможности. А второй плюс ко всему – в 1870-м Оренбург получил точные, проверенные данные, что специальный посол из Стамбула, побывав в Хиве, предложил хану Мухаммед-Рахиму и аксакалам «многие виды оружия в дар» в обмен на объявление джихада против России – на что туркмены, хотя идею джихада и не очень поняли, почуяв общий смысл и запах добычи, дали согласие.
Вот отсюда и жестко «ястребиная» позиция Кауфмана, обычно предпочитавшего арию умеренного «голубя». Вопреки опасениям дипломатов, как всегда, рассуждавших на предмет, что скажет Англия, Константин Петрович еще ранее столичного «да» учредил «красноводскую исследовательскую экспедицию», и полковник Николай Столетов приступил к «натуральным изучениям», по ходу дела закладывая – нежно, по сибирски, – «заимки». Типа, ночлежки для усталых географов. Красноводск, например, а потом и еще, и еще. В ответ же на демарш Тегерана, по традиции считавшего, что йомуды – иранские подданные, а их земли – иранские земли, Кауфман ответил, что немедленно закроет проект, если увидит в Красных Песках хотя бы одну персидскую таможню или заставу, и его величество Насриддин Каджар перестал возмущаться. Зато осерчали туркмены. В середине 1870 года в песках погиб отряд полковника Рукина, начались налеты на «заимки», и «натуралисты», подумав, решили идти на Хиву.
Правда, частные войны Империя не поощряла. Столетова отозвали и даже чуть было не отдали под суд, но дело его не пропало даром. «Заимки» строились, а Кауфман давил на самый верх: мол, Лондон Лондоном, но «сохранение на некоторое время спокойствия и мира» возможно только если хан «обережет» русских купцов, накажет грабителей и перестанет нападать на «верных кайсаков». Чего, по мнению Константина Петровича, «без нашего сильнейшего давления не достичь ни в каком случае». Государь не возражал. Дипломаты пахали, как кони, и к началу 1873 года островитяне получили ряд уступок: горный Памир признавался афганским, а сферы влияния разделялись по Пянджу и Амударье. Что же до Хивы, то посол Петр Шувалов заверил Вдову, что «ни при каких обстоятельствах Хива не станет российским владением». Ни словом, однако, не помянув (а откуда дипломату знать?) о том, что старт Большого Хивинского похода назначен на начало марта.
За работу, товарищи!
В рассказе о самом походе, думаю, нужды нет. И само дело, и подготовка, и все прочее, по всем трем «дистанциям» наступления, не раз, по дням или даже часам описано. И участниками, и учеными, и беллетристами, вплоть до самое Пикуля. В целом, «своеобразность и трудность похода, предпринятого в суровую зиму в предвидении, что придется на походе встретить весну и, затем, двигаться по безводной степи при страшной летней жаре, заставила серьезно заниматься мерами относительно здоровья людей». Даже при том, что занялись реально всерьез, пришлось очень и очень туго. Лютый мороз и лютая жара перепадами, падеж верблюдов, проблемы с водой, когда лишний глоток даже соленой – богатство. Тяжело было настолько, что один из трех отрядов до места дойти так и не сумел. И на фоне всего этого – удивительные примеры человеческих отношений, заставляющие задуматься о многом. Например: «Я видел, как один солдат подошел к лезгину-милиционеру, бывшему мимо с бутылкой воды. Лезгин сжалился, поделился, но денег не взял, сказав, что с брата брать нельзя». Или: «Спросив у дагестанцев, не трудно ли им биться с людьми своей веры, услышал я в ответ: и умереть за Россию-матушку для них радостно и почетно».
Так и шли.
Нечастые же стычки с тысячными отрядами туркмен, массово вставших по призыву хана, были на фоне погодных условий хоть и неприятными (люди пустыни драться умели), но частностями, крупнейшая из которых, у оазиса Мангит, обернулась соотношением потерь 400:3. Саму же Хиву, по сути, никто защищать не стал. 26 мая заняли предместья, а утром 28 мая город, после короткой «перепалки» (потери 123:4) пал. Хан бежал в пустыню, придворные, попытавшись было усадить на престол его мятежного брата Атаджана, сидевшего в зиндане, столкнулись с полным непониманием «отцов города», передавших власть ханскому дяде Сеиду Эмиру Эль-Умару, а тот немедленно начал переговоры с русскими, не споря ни с чем.
Впрочем, 2 июня из песков с «изъявлением покорности» явился и сам Мухаммед-Рахим, что Кауфмана вполне устроило, ибо договариваться с законной властью всегда приятнее. Для начала – как писал в отчете Константин Петрович, «соответственно духу времени умеряя азиатское сатрапство», – учредили «диван» (ответственный кабинет) из семи человек (трое назначены ханом, четверо Кауфманом, а решения монарха без одобрения большинства недействительны). Особо рьяных русофобов из высшей знати взяли под арест, их имущество конфисковали (благо все они кормились с работорговли), самых опасных сразу выслали в Россию, где они, обретя солидные пенсии, вполне прилично прижились в Калуге. Выпустили из зинданов безмерно удивленных невольников – русских, казахов и персов, примерно 30 тысяч, – снабдили их водой, питанием и отпустили, но пресекли (двух расстрелов хватило) попытки оторваться на семьях экс-хозяев. А затем стали готовить поход в пески туркмен. Всем было понятно: пока туркмены «полагали себя на воле, не могла быть достигнута цель всей экспедиции».
Правда, пока шла подготовка, явились аксакалы, извинялись за былые обиды, просили прощения, а услышав про контрибуцию в 300 тысяч рублей, покряхтев, согласились скинуться. Но вот узнав, что придется отказаться от работорговли, поцокали языками, сказали «йок» и уехали, а в Хиву пришли сведения, что племена, срочно собравшись, начали откочевывать на самый юг Красных Песков, к «тайным колодцам». Ловить их там было бы невозможно, выпустить обошлось бы себе дороже. Пришлось срочно догонять.
В ночь на 15 июля 1873 года авангард атаковали примерно десять тысяч конных и пеших йомудов. Подкравшись внезапно, дрались, согласно Терентьеву, «с дерзостью мести и отчаяния: подскакивая к фронту по двое на одном коне, они соскакивали и, надвинув папахи на глаза, кидались на русских с саблями и топорами». Отбились. Потери 800:4. Через два дня атаковали снова. Потери: 500:0, но, правда, 17 раненых. Затем догнали на переправе. И «здесь казакам представилась страшная картина: глубокий и быстрый проток был буквально запружен туркменами: молодыми, стариками, женщинами, детьми. Все бросились в озеро от преследовавших их казаков, тщетно усиливаясь достигнуть противоположного берега. Туркмен погибло здесь до 2 тыс. человек разного пола и возраста; часть утонула в самом озере, часть в окружающих его болотах».
Наутро вновь приехали аксакалы, моля о мире и утверждая, что «теперь Аллах велел им невольниками больше не торговать и проезжих купцов не трогать». Кауфман мысль одобрил, преследование прекратил, но на всякий случай все-таки взял заложников. Чуть позже – когда после войны 1877–1878 годов в Берлине решался вопрос о размерах Болгарии – британские газеты, имея заказ Форин-оффиса «устрашить Европу», развернулись вовсю, оплакивая «миролюбивых, вольных номадов, ставших невинными жертвами русских, действовавших хуже, чем турецкие башибузуки». В ответ, однако, русское военное руководство представило цифры туркменской работорговли и документы о туркменских налетах на линию, и, как писал Михаил Кочнев, «газетчики, будучи пристыжены, умолкли». Видимо, в те наивные времена «Times» еще можно было пристыдить.
Нет таких крепостей…
Окончательный мир, заключенный 12 августа, подтвердил, что Россия умеет соблюдать договоренности. Как и гарантировал Петр Шувалов, о превращении Хивы в российское владение не было и речи. Только установление протектората, отказ Хивы от «прямых сношений» с иностранными державами (кроме Бухары), исключительное право для русских судов хождения по Аму, ну и, конечно, отмена пошлин для русских купцов. Кроме того, совместная российско-хивинская комиссия, высчитав примерный убыток России за последние 20 лет туркменских налетов, определила размер контрибуции – 2 миллиона рублей. Заодно поощрив и Бухару, оказавшую очень серьезную помощь: «в поощрение и за былые от Хивы обиды» (которых было очень немало) побежденные уступили его светлости эмиру Музаффару несколько не очень больших, но экономически привлекательных участков речного берега.
А поскольку доверяй, но проверяй, на правом берегу великой реки, аккурат напротив ханства, учредили особую «военно-административную единицу», Амударьинский отдел Сырдарьинской области, – своего рода полицейский участок, надзирающий за порядком в ханстве. «Дальние» же колодцы (оазисы), где окопались племена, не сумевшие пересилить себя, какое-то время продолжали жить по старинке. До тех самых пор, пока Михаил Скобелев, придя под Геок-тепе, не объяснил ревнителям традиций, как они неправы. Но это уже эпилог, сам по себе ни о чем, кроме того, что дела всегда нужно доводить до конца, не говорящий.
Глава XXXVIII. Геополитическая комедия (5)
Я царь или не царь?
Миром, смешно отрицать, правят объективные факторы. В целом. Но в частностях, порой длиною в человеческую жизнь, субъективные тоже. А уж если и те, и другие играют в унисон, на выходе получается цунами. В середине 1873 года Средняя Азия, казалось, пришла в себя. Россия получила свое, Бухара – свое, Хива тоже, а уж Коканд, в отличие от «протекторатов», оставшийся единственным полностью независимым государством региона (торговый договор был равноправным), вообще искрился всеми оттенками радуги, сделавшись своего рода эталоном и витриной. Во всяком случае, с точки зрения Кауфмана…
Генерал-губернатор вообще был мужчина с мнением. Если хивинского Мухаммед-Рахима он в переписке иначе как «дикарем» не называл, а к бухарскому Музаффару, «человеку нетвердому и ненадежному», относился с брезгливым недоверием, то кокандскому Худояру откровенно протежировал, как «лицу, вполне понимающему политические планы России». Хан в самом деле был идеальным соседом. Не будучи формально ничем обязан, он себе в убыток помирился с Бухарой, уступив ей все, что «посоветовал» Кауфман, выслал в Ташкент мятежных беков Шахрисабза, просивших у него помощи, и вообще очень внимательно выслушивал советы «любимого, дорогого друга».
Во всем.
В 1871-м Константин Петрович «с полной уверенностью» извещал государя, что «хан кокандский отказался от всякой мысли враждовать с нами или прекословить нам, сделав то не вынужденно, но по велению разума и сердца», и просил поощрить «его высочество» (бухарский эмир и хивинский хан титуловались всего лишь «светлостями») знаками внимания. К чему, естественно, прислушались и поощрили. Но даже за год до того, проезжая через Коканд, русский посланник Струве с удивлением отметил, что «здешний хан увлечен прогрессом, не любит войн, строит дворцы, базары, караван-сараи, разводит сады, задает большие пиры для угощения народа». Сплошная идиллия. Но не совсем. А чтобы понять, почему, следует лучше понять самого Худояра. Личность была сложная. Став ханом в раннем отрочестве, по воле кипчаков, он всю жизнь оставался марионеткой. Его то выгоняли, то привозили назад, как куклу, – в общей сложности пять раз, – но даже привозя, продолжали считать пустым местом. И он рос, ненавидя. Всех. И врагов, и покровителей-кочевников, отнимавших реальную власть, ликвидируя и тех, и других при первой возможности (уж что-что, а лавировать хан умел), опираться же стараясь на мулл и купечество.
Неудивительно, что теперь, заполучив, наконец, могучего, надежного, да еще и подчеркнуто уважающего его покровителя, кавалер бриллиантовых знаков ордена св. Станислава I степени стал верен ему по-собачьи, а внимание свое сосредоточил на том, о чем мечтал всю жизнь: капитальное строительство, садоводство, праздники, пополнение гарема и так далее. Да только, вот беда, бюджет был нулевой. Сокровищницу кокандских ханов увез – в награду за помощь при очередном возвращении – эмир, доходы от грабежей и крышевания караванов иссякли (шалить киргизам теперь запрещалось), треть лучших земель (то есть и налоговых поступлений) и крупные транзитные города (то есть и пошлины) отошли России, а большие замыслы требовали больших денег. И гарем пополнять опять же хотелось.
Начались инновации, причем хан требовал, а ближний круг изобретал. Налоги вводились на все: на колючки, на камыш, на глину, на пиявок, даже на пойманных в степи сусликов. Вспомнив старую, тысячелетней давности традицию, отмененную еще Тимуридами, возродили практику бесплатных общественных работ, причем методы подавления недовольства мягкостью не отличались. Хрестоматийная история с 30 дехканами, не пришедшими рыть ханский арык в связи с уборкой своего урожая, которых за саботаж зарыли по шею в землю и оставили умирать на солнцепеке, еще не самая жуткая (тут хоть русский резидент, узнав, вмешался, и большинство все же выжило). А плюс ко всему, совершенно не имея возможности содержать армию, Худояр, узнав от какого-то ташкентского гостя о французских драгоннадах, идеей восхитился. Правда, Луи Каторз применял воинские постои как высшую меру коллективного наказания, а не как норму жизни, – ну и что? В XIX веке, в конце-то концов, живем! – и отряды сарбазов прикрепили к кишлакам, обязанным их кормить и содержать. А уж как вели себя солдатики, можно представить.
В итоге мнение о руководстве в обществе стало вполне согласованным, снизу доверху. В 1872-м известный ориенталист Александр Кун в докладе Географическому обществу (то есть разведуправлению Генштаба) предупреждал, что в «витринном» Коканде глубоко «пустила корни болезнь всеобщего неудовольствия против хана и его приближенных». С мнением Александра Людвиговича вполне соглашался и Кауфман, не раз и не два предупреждавший протеже, что, дескать, «лучшие люди идут против Вас, и народ неспокоен. Если Вы не перемените образа вашего управления народом и будете с ним неласковы, то я Вам предсказываю дурной конец». В ответ Худояр, мужик неглупый, писал, что все понимает и постарается слегка разжать гайки, но поскольку добрые советы, даже «самого близкого друга», на хлеб не намажешь, раком в опочивальне не поставишь и приближенным в знак поощрения тоже не раздашь, продолжал в том же духе, разве что запретив сообщать себе о плохом: дескать, делайте, что хотите, лишь бы порядок…
Имя! Назови имя!
Естественно, в ханстве, мягко говоря, бродило. На грани были все: и дехкане Ферганы, с которых драли все шкуры, до мяса, и номады (в основном киргизы), упавшие из хозяев жизни в налогоплательщики. К тому же 1870-й выдался на удивление неурожайным, погибло много скота, начался голод. Взорвать ситуацию всерьез мешало только отсутствие «знамени», но в 1873-м появилось и оно. Памятуя о старых смутах, старшины киргизов решили выставить своего кандидата в ханы. Однако найти такового было непросто, весь правящий род к тому времени уже перерезал себя сам, а семья Худояра была кровным врагом. Единственным вариантом оставался некий Пулат-бек, живший в Самарканде потомок восьмого кокандского бия и первого хана Алима, убитого еще в 1809-м, а при жизни считавшегося покровителем кочевников.
К нему и послали ходоков. Однако не вышло. Человек, видимо, посчитал, что за 170 лет из 15 коронованных родичей своей смертью умерли только двое, вспомнил, как и при каких обстоятельствах их резали, казнили или душили, – и отказался. Весьма опечаленные, аксакалы поехали назад, и в караван-сарае под Ташкентом встретили молодого человека, очень похожего на Пулат-бека, по имени Исхак, а по роду киргиза. Парень был непрост, учился в медресе, потом, бросив учебу, уехал в родной кишлак Ухну, где, как грамотей, стал муллой и имамом местной мечети. Образования ему, возможно, недоставало, зато веровал он истово, на грани фанатизма. А кроме того, был общителен, энергичен, очень неглуп, умел нравиться людям, и, что важно, не боялся рисковать.
Прощупав нового знакомого и убедившись, что по поводу происходящего он думает примерно то же, что и они, аксакалы предложили ему назваться Пулат-беком, которого все равно в лицо никто не знал, и мулла Исхак предложение принял. После чего мелкие бунты слились в один и к концу 1874 года охватили весь восток ханства. Политика центра вывела из себя даже местных беков, включая родственников Худояра. Еще больше недовольны были «ученые люди» из «святых городов» Ферганской долины, уверенные, что все беды – кара Аллаха, недовольного тем, что хан продался «неверным», колдовством подчинившим его своей воле. Сотни проповедников обрабатывали дошедшую до предела паству, и дехкане, получив исчерпывающие ответы на сложные вопросы бытия, шли в «гази» сотнями, а затем и тысячами. Кочевники же и без того сели на коней почти поголовно. Хан, однако, был уверен, что все под контролем, а сообщать ему правду не спешили, опасаясь последствий.
Весной 1875 года, когда стало ясно, что справиться с беспорядками ханские сарбазы не в силах, в элитах созрела идея решить вопрос радикально, выдавив прыщ. Заговор организовали люди более чем серьезные: главный мулла ханства Исса-Аулие, казначей, шеф полиции и автобачи (министр двора) Абдуррахман, кипчак, имевший личные причины ненавидеть Худояра (его отец Мусульманкул в свое время возвел того на престол, но потом был казнен, и сын этого не простил, хотя хан ему покровительствовал). Поддержал заговорщиков и ханский брат Султан-Мурад, бек обобранного до нитки Маргелана, и даже наследник престола Насриддин, с детства правивший в Андижане, воспитанный тамошними муллами и любимый ими за «примерную крепость в вере».
В июне Абдуррахман и Исса-Аулие, уйдя с 4000 сарбазов на подавление, перешли на сторону бунтовщиков. Потом к ним присоединился хан-заде со своими 5000 сарбазов. Затем «ревнителям веры» открыли ворота Ош и Наманган, – и мятеж превратился в гражданскую войну. 20 июля стало известно, что оппозиция – 30 тысяч с пушками – без боя вошла в Маргелан (менее ста километров от Коканда), где мулла Исса-Аулие с мимбара соборной мечети, не называя имен, призвал несогласных к джихаду «против свиноедов и их прислуги».
Корону за коня!
Очень вкусно повествует об этом в незавершенных мемуарах Михаил Скобелев, как раз в это время бывший по делам дипломатическим в Коканде. Грядущий герой Плевны обстоятельно рассказывает о красотах города, о ханском дворце, о самом хане, удивительно скромном на фоне расфуфыренных вельмож. Удивляется «равнодушию», с которым владыка велел казнить племянника, посягнувшего на престол и выданного Кауфманом, но отмечает, что в ответ на приложенную просьбу о помиловании Худояр, «на миг изменившись в лице, тотчас справился с собой, сказал нам, что просьба его друга для него закон, и приказал отпустить Абдулкерима на все четыре стороны» (отсюда, кстати, видно, за что генерал так ценил кокандского суверена).
Затем, однако, начали поступать вести с востока. «На всех улицах, – вспоминает Михаил Дмитриевич, – густые массы, очевидно пришлого вооруженного пешего и конного народа; все указывало на близость кровопролития. Толпы дервишей и мулл виднелись на всех перекрестках людных улиц; все они при виде гяуров (я ехал с казаком) отплевывались и, бренча четками, громко напевали, обращаясь к толпе, стихи из Корана. Все кофейни были переполнены, и массы пьяных от курения опиума и хашиша шатались по улицам. Я заехал в оружейный ряд большого базара, но тут пробраться я не мог, так как толпа была сплошная и, как мне показалось, еще более возбужденная; в лавках недоставало рук точить оружие. В эти дни оружейники, как говорили, очень нажились… вертящиеся дервиши в одной из главных мечетей уговаривали народ сделать угодное Богу и избежать бедствия избиением русских, находившихся в Коканде. Мы вернулись, готовые обороняться. Большим утешением служила, впрочем, уверенность, что наши войска, мстя за нас, камня на камне не оставят в Коканде».
Решили, однако, не драться, но уходить, пока не поздно.
Время же истекало: в ночь на 22 июля мятежники подошли к Коканду, и к ним ушел второй сын хана, Мухаммед-Алим, уведя с собой более половины гарнизона. Оставшиеся, тысяч восемь, впрочем, тоже было ненадежны. Верность Худояру сохраняла только личная стража, клинков пятьсот, но уже и во дворце не было безопасно. Группа придворных готовилась монарха зарезать, и плачущий от ужаса повелитель бросился за помощью к русским, пристав к уходящему посольству вместе с 8000 условно верных сарбазов и 80 телегами: гарем – 73 дамы – плюс казна. Из города вырвались, уже отбиваясь клинками, а сразу за городской стеной армия, забыв о лояльности, во главе с высшими офицерами ринулась грабить ханский обоз. Русских не трогали.
«Мирза Хаким (дипломат, симпатизировавший России), – свидетельствует Скобелев, – шепнул мне “Бросим эти арбы, полковник! Пускай грабят; если милость Божья будет, наживем втрое больше этого добра… Свою голову уносить надо”, и громовым голосом крикнул “Что вы делаете, дураки? Разве можно стрелять в русских? Если вы нам сделаете вред, то придут русские войска и вы не узнаете места, где был Коканд…”, что они тотчас и приняли во внимание».
Тем не менее на всем пути приходилось отстреливаться от маленьких шаек, пытавшихся задержать «свиноедов», и лишь к вечеру 23 июля посольство наконец добралось до кордона, а на следующий день и в Ходжент, где счастливый экс-хан, прося Кауфмана о политическом убежище, в частности, написал: «Дорогие мои гости г. Вейнберг и полк. Скобелев выехали вместе со мной и, несмотря на преследования бунтовщиков и перестрелку, не оставили. На подобный поступок способны лишь русские. Когда мои собственные приближенные изменили и бежали, они стойко следовали за мной, и, не будь их, может быть, я не добрался бы до русской границы». Константин Петрович героизм подчиненных оценил, отметил, но Худояр, обманувший его надежды, «ярым-подшо» уже, судя по всему, не интересовал. Он приказал вывезти его в Ташкент и на том забыл. Дел и без того было через край: понимая восток как никто, Кауфман сознавал, что происходит, и спешно изыскивал силы для обороны, на случай, если мятежники перейдут границу.
Кто с мечом к нам придет…
А они перешли. Да иначе и быть не могло. Сразу после бегства отца Насриддин-хан (он стал популярен, поскольку налоги, которые никто не отменял, никто и не пытался взимать) объявил о необходимости восстановить ханство в его старых границах от Ак-Мечети до Пишпека. Ходжент, Ташкент и прочее подразумевалось само собой. Это понравилось всем, в первую очередь кочевым и почти кочевым племенам, жаждавшим простора и традиционных промыслов, и мысль обрастала плотью. Уже в начале третьей декады июля мелкие «партии» мятежников появились у границы Туркестанского края, а 5 августа – по указанию Михаила Терентьева, «общими силами не менее 10 тысяч всадников», – началось вторжение. Вполне возможно, сыграло роль полученное мятежниками от некоего Юсупа, ханского конюха, известие, что Худояра в этот день намерены вывозить в Ташкент (подержать за шею беглого владыку хотели многие). Но, несомненно, был и четкий план: судя по операциям агрессоров, они намеревались, подняв местных киргизов и перерезав трассу Ташкент – Ходжент – Самарканд, не позволить небольшим русским частям соединиться. Плюс, нарушив почтовую и телеграфную связь, отсечь Туркестан от России. Во всяком случае, атаки на ямские станции были согласованы во времени и координировались их единого центра.
6–8 августа важнейшие дороги оказались во власти конных «шаек». Худояру, правда, чудом удалось проскочить, а вот персонал станций плюс несколько русских офицеров и военных чиновников, оказавшихся не в том месте и не в то время, были захвачены, и некоторые – хотя приказ из Коканда требовал не убивать «неверных», а везти в столицу, – даже зарезаны. Как, в частности, 8 августа военврач Петров, недавно овдовевший и ехавший с маленькими дочками в Ходжент; повстанцы убили его на глазах у детей, а девочек увезли в Коканд. Впрочем, иногда коса била в камень. 7 августа – об этом писано очень много, всеми, но грех не помянуть еще раз, – почтальон Степан Яковлев, отставной солдат из пскопских, имея два ружья и винтовку, почти двое суток в одиночку защищал свою наскоро укрепленную станцию. Сперва стрелял, убив с вышки свыше полусотни напавших (из трехсот), потом, когда станцию подожгли, кинулся в рукопашную, убил прикладом еще двух или трех, но, разумеется, и сам погиб, а голову опять-таки увезли в Коканд, как великий трофей.
К вечеру 8 августа огромная, по призыву муллы Исса-Аулие разбухающая армия появилась уж и под Ходжентом. Тамошние жители, правда, кочевников боялись и вставать под знамена джихада не спешили, но гарнизон был так мал, что оружие выдали всем русским, вплоть до женщин, и наутро штурм сорвался. Примерно то же – оружие всем – кстати, было и в Ташкенте, куда, однако, «шайки» не добрались (их авангард 11 августа был уничтожен под Зюльфагаром), к Ходженту же вскоре подоспела подмога. Не слишком большая – всего четыреста штыков, – но, как оказалось, вполне достаточная. Попытавшись атаковать около Коста-Кола, 16 тысяч воинов Абдуррахмана не преуспели, и автобачи, с трудом удержав потрепанное воинство в некоем подобии порядка, отступил от Ходжента к крепости Махрам, куда уже привел более 40 000 «гази» самозваный Пулат-бек. Однако к Махраму вел своих 4000 солдат (все, что можно было наскрести) и Кауфман.
22 августа кокандцы, пытавшиеся скопом задавить колонну, откатились прочь, а спустя два дня почти шестидесятитысячная «орда» перестала существовать. Ее буквально смели, заодно взяв и крепость. Потери при этом, по подсчетам скрупулезнейшего Антона Керсновского, составили 5 убитых и 8 раненых, агрессоров же погибло не менее 3000 человек, и если на поле боя сосчитали в точности (1237 убитых), то счесть жертвы бегства не мог никто. Казаки, получил распоряжение «рубить и рубить», выполнили его досконально. «Словом, – вспоминал очевидец, – погром вышел жестокий в возмездие за дерзкое нарушение нашей границы, за вторжение в наши пределы и беспокойство наших подданных». И это ошеломило. Всех. «Неверные, – сообщал в приватном письме Якуб-беку его посол в Коканде мирза Али-Махмуд, – до сих пор вели себя человечно, словно лучшие из правоверных. Истинно известно, что в Бухаре, если кто-то сдавался в плен, они таких кормили, поили их водой и отпускали, не причинив зла. Сейчас они, словно обезумев, пленных не берут».
Должные выводы не замедлили. «Скопища», не слушая призывов мулл и Пулат-бека, начали рассасываться, в ставке Кауфмана появились ходоки от купеческих «братств», даже из «святых городов», а из Коканда привезли уцелевших русских пленных, захваченных в начале августа, в том числе женщин и детей. К платьицу Вареньки Петровой, шести лет, беленькой и синеглазой младшей дочери зарезанного доктора, было даже приколото письмо с печатью, удостоверяющее, что ни некий Сотым-бек, убивший ее отца, ни хан, которому ее подарили, «не оборвали с цветка лепестки наслаждений» (позже, по просьбе Кауфмана, Варя была «взята на попечение Ее Величества Государыни», а вот о судьбе старшей, восьмилетней Наденьки, ничего не известно)…
Глава XXXIX. Геополитическая комедия (6)
Обыкновенное чудо
Позже, пытаясь непротиворечиво объяснить причины «Махрамского сокрушения», сломавшего ход войны, исследователи один за другим упирались в стенку…
Проще всего, конечно, говорить о «трусости», но, коль скоро речь шла о потомках воинов Тимура, с соседями воевавших постоянно, такое писали разве что журналисты. «Технологическая отсталость» тоже не убеждает. Она имела место, спору нет, но, с другой стороны, русские постоянно побеждали Бухару, как правило, побеждавшую афганцев, в свою очередь, раз за разом бивших самих бриттов, – а значит, что-то в таком объяснении тоже прихрамывает. Впрочем, не убеждает и сравнение с Ирджааром, зеравшанскими высотами и Зерабулаком. Да, эмир раз за разом выводил в поле огромные армии, но его сарбазы были плохо обучены, командиры неавторитетны, а главное, большинство «великих армий» составляли дехкане и горожане, плохо понимавшие, зачем вообще пошли воевать, к войне не привыкшие и разбегавшиеся при первом выстреле. Здесь, в Коканде, все было иначе. Костяк мятежных «скопищ» составляли кочевники и полукочевники, храбрые, хорошо понимавшие, ради чего бьются, с оружием знакомые с детства, имеющие какой-никакой боевой опыт, шедшие в атаку под руководством своих старшин, да еще и возглавляемые харизматическими лидерами, один из которых, Абдуррахман, не был обделен талантом полководца, а второй, Пулат-бек, умел зажигать толпу.
И тем не менее. В связи с чем историки этот момент старались обходить. Типа, ну победили, да и все тут. Сколько-то связное объяснение попытался дать Нафтали Халфин. На его взгляд, «исход сражения был определен нежеланием кокандских народных масс проливать свою кровь за чуждые им цели восстания, выдвинутые клерикально-феодальной верхушкой», – но эта версия, увы, не выдерживает критики. Нафтали Аронович, безусловно, великий ученый, он основал целую школу, плодотворно работающую и сегодня, он открыл множеству людей, интересующихся Востоком, глаза на прошлое Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, однако в данном случае не складывается. Как показали события, кровь эти самые «народные массы» проливать вполне желали, и чужую, и свою тоже, умирая, в отличие от бухарцев, с чувством исполняемого долга, и за «клерикально-феодальной верхушкой» – сиречь Абдуррахманом и Пулатом – они шли до конца. Можно сказать, в экстазе. Вполне разделяя ее цели – вырезать «неверных», вернуть утраченные города, степи и возможность (для кочевников) шарпать караваны, – поскольку в рамках этих целей их интересы вполне совпадали.
Впрочем, время рассуждать настало позже, а пока, 26 августа, войска Кауфмана, чуть-чуть отдохнув, двинулись на Коканд, даже не думавший сопротивляться. Молодой Насриддин-хан, после ухода главарей мятежа, крутивших им по своему усмотрению, стал, наконец, самовластным монархом – и в этом качестве писал «ярым-подшо» слезные челобитные. Естественно, умолял о пощаде. Молод-де, глуп, отстрадаю, отслужу! А 29 августа лично выехал встречать дорогих гостей. 30 августа покаялся в «неразумии» его дядя Султан-Мурад, бек Маргелана (сдался, прощен, выслан в Россию, получил пенсию и дом в Калуге). 31 августа проявил благоразумие мулла Исса-Аулие (прощен, выслан в Ташкент, получил пенсию). С ханом, отругав за случившееся, Константин Петрович начал переговоры. Влиятельные люди сдавались пачками, но Абуррахман, даже потеряв всех союзников на западе ханства, сдаваться не собирался, отступая на восток, в земли кипчаков, киргизов и «диких мулл», к Ошу и Маргелану, где созывал новых «гази» Пулат-бек. Вполне возможно, он в самом деле был из идейных. Небольшой отряд Скобелева, сумевший, нагнав противника у поселка Мин-Тюбе, разбить его арьергард и сесть на хвост, не давая времени для передышки, самого автобачи все же не поймал.
Новые приключения неуловимых
После 10 сентября, когда без боя сдался Ош, все еще немалая армия Абдуррахмана начала таять. Со всего лишь четырьмя сотнями самых верных людей автобачи метался между Андижаном и Узкентом, уклоняясь от стычек, а тем тем временем, 25 сентября, русские перешли Сыр, и на правом берегу, как и Ош, без боя, принял реальность Наманган. В принципе, дело шло к финалу. Еще, правда, держался Андижан, куда перешел самозваный бек и добрался, наконец, автобачи, и киргизы даже не думали складывать оружие, но это, как казалось многим, можно решить в рабочем порядке, – так что 23 сентября Кауфман счел возможным «даровать» Насриддину мирный договор, признав его законным правителем ханства. О некогда любимом Худояре «ярым-подшо» не изволил помянуть даже словом, а в порядке ответной любезности предложил перевести независимое ханство в режим протектората вроде Бухары или Хивы и «добровольно уступить» сочные территории Наманганского бекства на правом берегу Сыра. Если, разумеется, у достопочтенного хана не будет каких-либо возражений.
Возражений не было, достопочтенный хан подписал все, но тут выяснилось, что реальная власть его ограничивается периметром городских стен. Ферганская долина горела синим огнем. Киргизы, собравшись на курултай, объявили, что Насриддина больше не признают и, с подачи Абдуррахмана, подняли на белой кошме экс-муллу Исхака, то есть Пулат-бека, объявив его Пулат-ханом, или, как уточнили муллы, «святым ханом», а новый повелитель тотчас призвал подданных к «кровавому джихаду», в знак серьезности намерений приказав вывести на главную маргеланскую площадь русских пленников – несколько казаков и поручика Святополк-Мирского – и посадить их на колья. Автобачи, отдадим должное, возражал, но не очень настойчиво: главным для него было подбодрить народ, народ же зрелище весьма вдохновило, и хотя очень скоро (тела казненных еще не успели остыть) русские войска, руководимые генералом Троцким, разбили «скопища», вынудив Маргелан капитулировать, в начале октября ряды «гази» за два-три дня выросли до 70000 голов, а штурм Андижана провалился.
Не хватило сил. То есть сил-то хватило: хотя бой был невероятно жестоким, – русских погибло аж 63 человека, правда, и защитников, пощады не просивших, более четырех тысяч, – город все же был взят, но как только Троцкий ушел, сразу вновь захвачен киргизами. В отсутствие русских (после подписания договора Кауфман изволил отвести войска) «кровавый джихад» пошел по новому кругу. 10 октября в Ходженте появился перепуганный Насриддин, с трудом унесший ноги из Коканда – там вновь взбунтовали народ агенты автобачи. Затем восстал Маргелан, распахнувший ворота коннице Пулат-хана, затем Ош. «Скопища» захватили и Наманган, вынудив русский гарнизон, укрывшись в крепости и отбив штурм, сесть в осаду – правда, ненадолго, потому что Михаил Скобелев, вовремя подоспев, погасил бунт в зародыше, не дав разгореться.
С этого момента перестали работать все правила. Мятежники, собственно, и раньше их не соблюдали, но теперь перестали соблюдать и русские: то, что под Махрамом было позволено «в виде исключения», теперь стало реальностью, данной в ощущениях. Критерий был только один. На первый раз не трогали, только брали присягу. Зато с рецидивистами, и киргизскими жайляу и «святыми городами», называя вещи своими именами, поступали в лучших традициях англосаксов, артиллерией и от пуза, не обращая внимания на готовность снова «покаяться».
Короче, 31 декабря последнее войско Абдуррахмана – 20000 кипчаков – окончательно развалилось на Балыкчанских завалах. 4 января 1876 года, после многочасового артобстрела «по единогласному совету своих ученых людей бодро, радостно» капитулировал Андижан. И, наконец, 28 января – в тот самый день, когда, «предпочтя верность законному владыке», впустили вернувшегося Насриддина жители Коканда, – в ставку Скобелева, умоляя «проявить великодушие благородства, даровать милость и пощаду», приехал совершенно сломленный автобачи. В ответ на письмо Михаила Дмитриевича, указавшего, в частности, что пленник «в Маргелане имел намерение остановить резню, но не преуспел, потому что не от него сие зависело», Кауфман телеграфировал: «По докладу Государю Императору сдаче афтобачи Его Величество изволил остаться очень доволен… Абдуррахмана-афтобачи с семейством и с движимым имуществом отправить, когда возможно, Ташкента Россию, где по воле Государя будет жить спокойно». То есть по старой схеме: чемодан – вокзал – Россия, а там пенсия и домик то ли, как у всех, в Калуге, то ли (есть версия) в Пскове. Из вожаков на воле гулял еще только Пулат-хан, но это уже была агония. В середине февраля его выдали свои же, после чего Кауфман велел «прекратить наказания», а самозванца, осудив военным судом за «принятие на себя ханского звания» и «многие убийства», 1 марта повесили на главной площади Маргелана, где он, себе на беду не послушавшись своего командующего, сажал на колья русских пленных. Умер талиб-недоучка, как говорят очевидцы, спокойно, посулив напоследок завтра вернуться во главе ангельского войска, чего, как известно, не случилось, – однако на переполненной площади, со слов тех же очевидцев, «многие рыдали».
Утешение философией
Обсуждали случившееся и в Ташкенте, и на Неве долго. Но главный вывод был очевиден еще до окончательного финала. С установлением порядка на караванных путях ханство, по сути, билось в агонии, и раз за разом реанимировать уже по факту разлагающееся не имелось никакой возможности. Во всяком случае, ни Насриддин-хан, ни его младший брат удержать кочевников и «святые города» с гарантией не могли, а более никого и не имелось. Разве что Бухара, но усиливать эмира никто, разумеется, не собирался. Реально вариант получался только один, нежеланный, но единственно адекватный проблеме, и принципиальное согласие императора «решать все важнейшие вопросы на свое усмотрение, не сносясь с инстанциями», Кауфман имел еще до сражения при Махраме.
«Дело довольно серьезное, – писал 18 августа 1875 года Дмитрий Милютин, бывший, разумеется, в курсе, – предвижу новое усложнение в нашей азиатской политике, новые против нас крики в Англии! Государь принял это известие совершенно равнодушно как последствие, которого он ожидал, и не колеблясь разрешил готовить войска для отправления в Туркестанский край. Таким образом, в пять минут, без всяких рассуждений решился, по видимому, вопрос о присоединении к империи новой области – ханства Кокандского». Некоторое время, однако, «ярым-подшо» думал и взвешивал, но в начале января, отправляясь в столицу, предварительно направил военному министру «Записку о средствах и действиях против Коканда», констатирующую, что «настоящее ненормальное хаотическое состояние в Кокандском ханстве, несомненно, отражается на всем экономическом быте и строе Русского Туркестана. Непрекращение с нашей стороны такого состояния в Кокандском ханстве, подрывая наш престиж в Средней Азии, дискредитирует веру всего здешнего населения в нашу силу», с просьбой передать ее государю, минуя МИД. Возможно, узнай об этом дипломаты, ситуация опять подвисла бы, но они не узнали, а государю вся эта тягомотина надоела, и он стремился расставить слоников по полочкам раз и навсегда.
«Бывшее Кокандское ханство, – гласила телеграмма из Петербурга, – переименовать в Ферганскую область. Начальником области – Скобелев. Насриддина пока Ташкент. Кауфман». Правда, Коканд еще не был приведен в порядок, соответствующий такому сюрпризу. Город притих, ручной хан сидел в цитадели, и будь все по-старому, можно было бы не волноваться, а вот в свете очередных судьбоносных решений основания для тревоги как раз появлялись. Действовать необходимо было быстро и еще быстрее, пока до столицы не донеслись смутные слухи, удержать которые в стенах ташкентских канцелярий, какими карами ни грози, никто не надеялся. Далее, как известно, грянула знаменитая история с «двумя телеграммами», еще более знаменитый рывок Скобелева на Коканд, и вовсе уж на все лады воспетое объявление во время пира о ликвидации ханства, случившееся 12 (26) февраля 1876 года. Насриддин, только-только начавший привыкать к креслу, заламывал руки и рыдал, предвидя пенсию и домик в Калуге (что и случилось, хотя тут насчет Калуги не уверен), вельможи, сознавая, что теряют, рычали и хватались за кинжалы, кварталы, обрабатываемые муллами, глухо роптали, но воспротивиться не посмел никто. Изрядно напоследок вспотев, больной наконец обрел окончательную стабильность.
Осмыслить случившееся современникам удалось далеко не сразу. То есть вопросы практические, типа сколько предстоит вложений, какой вероятен доход и как определять стратегию России в новой ситуации, специалисты считали на раз. А вот с осознанием, скажем так, историософским возникали сложности. «Удивительное дело, – сетовал в одном из приватных писем дипломат Евгений Грейг. – Необходимость лежала лишь в окончательном обустройстве линии, обеспечении границ, не более. И вот, Коканд российский, Памир (…), Бухара и Хива в полной нашей власти, понять же все это, думается мне, только предстоит. В чем смысл? В чем смысл?»
Действительно, в чем?
Мнение на сей счет высказывали многие и тогда, и после, но, на мой взгляд, лучше всего оформил ответ некий мулло Абдулкарим Шауки, вельможа свиты будущего афганского эмира Абдуррахмана, некоторое время жившего под русской опекой в Ташкенте. «Когда я был мальчиком, – признавался в кругу туземной элиты немолодой пуштун, – мы были беспокойными, смелыми. Мы хотели понять, почему жизнь похожа на караван, идущий по кругу в песках, почему взрослые терпят это. Мы хотели сделать все иначе, но мы подросли и ничуть не преуспели. Сейчас я знаю: когда ничего не начинается, ничего не кончается, все уходит в песок, и чтобы выйти на верную тропу, нужен Искандар, нужен Амир Тимур. Откуда их позвать? Откуда им прийти? Сейчас, я верю, для Афганистана новым Искандаром станет мой господин. Для Коканда же и для Бухары новым Тимуром неисповедимым промыслом стала Россия. Воистину, Аллах знает пути…»
Глава XL. Геополитическая комедия (7)
Скажи мне, джинн…
Сколько ни тверди о «колониальной» сущности прихода России в Среднюю Азию (что, как ни крути, правда, особенно с конца 80 годов XIX века), факт остается фактом: для местного населения, вернее, его детей и внуков, событие это было благом. Даже не говоря о прекращении бесконечных войн, ликвидации «баранты» (набегов) и работорговли, и даже не говоря, что регион, замкнутый в себе и не имеющий реальных возможностей выйти из замкнутого круга, по которому он бродил после «обрыва» в конце XVI века «Великого шелкового пути», вырвался из тухлой изоляции. Это азбука. Русские принесли возможность прогресса. Сельское хозяйство перестало быть натуральным, появились фабрики и заводы, железные дороги, телеграф, библиотеки, в конце концов.
И все это, открывая «туземцам» дверь в европейскую культуру, давало толчок появлению национальной, будь она неладна, интеллигенции, в том числе и будущих борцов за «самостийность». Той самой, которая – в нынешнем поколении, то есть в лице праправнуков, – лопочет о «колониальном гнете». В ответ скажу одно. Появись вдруг некий джинн и предложи сказочникам, бичующим злую Россию, «растоптавшую самобытность древних народов», вернуть все к истокам, сделав так, чтобы Россия не пришла вовсе, и все оставалось «самобытно», – мне крайне интересно было бы выслушать ответ нынешних элит Бухары, Хивы и Коканда.
Впрочем, не суть. Куда интереснее на сей счет мнение лорда Керзона, в симпатиях к чужим империям отродясь не замеченного. «Россия, – констатировал он, – бесспорно, обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой. Русский братается в полном смысле слова. Он не уклоняется от социального и семейного общения с чуждыми и низшими расами. Его непобедимая беззаботность облегчает ему позицию невмешательства в чужие дела. Терпимость, с которой он смотрит на религиозные обряды, общественные обычаи и местные предрассудки своих азиатских собратьев, в меньшей степени итог дипломатического расчета, нежели плод врожденной беспечности». И это – при всем том, что, выслушав мнение англичанина, обычно следует поступать наоборот, – чистая правда.
Безусловно, многое в «жестких системах» зависит от личности. В Туркестане личность была. Располагая совершенно уникальным правом «применяясь к указанным в проекте основаниям, принимать все те меры, какие будут им признаны полезными для устройства края», имея обширные планы и будучи невероятно талантливым администратором, первый генерал-губернатор края смотрел далеко и понимал многое. Не будучи ангелом во плоти («Кауфман, – отмечал Милютин, – был падок на внешние почести, хотел разыгрывать роль царька»), Константин Петрович тем не менее нижним чутьем ловил ветер, часто даже, по оценке хорошо его знавшего Антона Остроумова, «предупреждая высшую правительственную власть, которой оставалось только соглашаться с его распоряжениями и утверждать их в законодательном порядке». Тем паче что имелись в его руках и рычаги: поскольку Туркестан «пребывал в ведомстве» не МВД, а военных, военные – исходя из принципа «нераздельности военной и административной власти и соединения ее в одних руках» – и рулили. По всем направлениям, включая суд. В итоге, как отмечали гости края, «генерал-губернатор олицетворял власть единую и сильную, входившую во все интересы текущей жизни и потому хорошо понятную туземцам, десятки веков жившим в принципах автократического правления».
Сам Кауфман, однако, полагая, что систему нужно шлифовать, еще в 1873-м представил Петербургу новый проект, «проникнутый идеей усиления власти». Увы, документ завис, и Константин Петрович, скончавшийся 4 мая 1882 года, увидеть реализацию своих планов не успел. А планы были широки. Не стану растекаться мысию по древу, но Туркестан в итоге стал своеобразной лабораторией реформирования сверху всей Империи, где вертикаль и параллель работали в почти идеальном – насколько это вообще возможно – балансе. Исследователи отмечают, что «Фактически в генерал-губернаторстве сформировалась т. н. «военно-народная» система управления, много более демократичная, чем обычная административная система на остальной территории империи». С подачи генерал-губернаторской канцелярии открывались школы, больницы, театры и прочие цветы цивилизации, вплоть до городского самоуправления (правда, только в Ташкенте, где русского населения, как считалось, достаточно, чтобы новация не вызвала бунта). Причем – это оговаривалось особо – «равно доступно следует быть как русским обывателям, так и туземным, проявляющим желание пользоваться их благами».
Мы в ответе за тех, кого…
«Желающих», однако, было немного. Опасались. Что ж, для таких, при условии, что лояльны, «доктрина Кауфмана» предполагала подчеркнутое уважение к традициям и вере – вплоть до запрета проповедовать православие. «Временное положение об управлении в областях Туркестанского генерал-губернаторства», принятое в 1867 и действовавшее 20 лет, предписывало «сколь возможно менее изменять существующий порядок вещей и избегать нововведений». На низшем уровне власти – «мирабы» (водомеры), «аксакалы» и так далее – ставка делалась на местные кадры.
«Генерал Кауфман, – отмечала наблюдательная Юлия Головнина, – знавший в совершенстве местное население с его обычаями, нравами и особенностями, дал ему сильное и близко стоящее к нему начальство в лице уездного начальника, которого снабдил обширными полномочиями; сельские туземные власти перестали быть выборными, как в ханские времена, а назначались властью того же уездного начальника, и эти должности стали оплачиваться большим жалованьем (до 1200 р.); на них попадали действительно лучшие люди. Уездный начальник (…) являлся не только начальством, но и радетелем, ведавшим все крупные и мелкие интересы туземца, и власть его в глазах населения была почти безгранична. Его уважали и по-своему любили, не видя с его стороны тех поборов и притеснений, к которым азиат привык искони. Вскоре в лице сельских властей, являвшихся наиболее зажиточными и влиятельными в своей среде людьми, стала образовываться сильная и верная русская партия; она группировалась около своего уездного начальника, который в свою очередь ценил и отличал лиц, оказывавших ему услуги (…); отношение населения к русским круто и благодетельно изменилось».
Если же вопросы к начальству русскому возникали у человека с улицы, все было продумано и тут. «Отстранению в туземном управлении, его законах и обычаях» подлежало лишь то, что «оказывалось решительно вредным в интересах государства». В остальном старались быть максимально деликатны. Не говоря даже про «оставление в силе местного шариата, а у кочевников – обычая в той сфере правоотношений, которая не могла быть до времени определена русским законом» (то есть как жили бродяги по «Степному уложению» раньше, так и теперь жили), снисхождение проявлялось и в новых правилах. Скажем, – дело, невиданное даже в самых продвинутых колониях Британии, – «прошения всех видов, кроме обращений на Высочайшее Имя, могут быть написаны на местном наречии и без соблюдения установленных правил, но должны быть ясны для уразумения предлагаемых подателем условий».
При этом крайне поощрялось изучение чиновниками, военными и гражданскими местных наречий, а «туземцам», не знающим русского языка, в канцеляриях делались «приличествующие послабления». Ни «сарты», ни «номады» не подлежали воинскому призыву. А после реформы, в 1886-м, приоритетом «в отношении покоренного населения» объявили «предоставление внутреннего управления туземным населением выборным из среды его по всем делам, не имеющим политического характера». То есть вернули общине право выбирать и мирабов, и аксакалов, полагая, что «низам» виднее. Хотя, конечно, некоторые вовсе уж дряхлые традиции (вроде рабства) были отменены. И это, надо сказать, «туземцев» очень сердило. Даже тех, кто по бедности рабов не имел, но надеялся когда-нибудь купить. Чуть позже, как мы увидим, вопрос о рабстве, и не только о нем, станет причиной серьезных обострений – как, увы, и вообще попытка введения в крае инноваций, противоречащих устоям благородных времен Амира Тимура.
Но.
Если кто-то думает, что я намерен рисовать рай, он ошибается. У всякого аверса есть реверс. Далеко не всем «туземцам» – а по большому счету, и большинству их – перемены пришлись по душе. Дело даже не «в крови и жестокостях периода присоединения», на чем любят строить концепцию некоторые теоретики. Это как раз не играло особой роли. Это было привычно и легко забывалось. Тем паче что, хотя и крови, и жестокости было более чем достаточно с обеих сторон, русские, как правило, не начинали первыми, а только отвечали подобным на подобное. Местные этого не отрицали и насчет «ужас-ужас» претензий не имели. Зато для элит – что во дворцах, что в мечетях, – новые реалии были серпом по самому нежному. Духовенство, парившее в эмпиреях вневременья, не могло и не хотело смириться с фактом, что «свиноеды» по-хозяйски пришли в «святые земли», а на улицах – воистину, последние времена настали! – смущая взоры правоверных, ходят женщины, не скрывающие лиц. «Бывшие» всех рангов, беки, визири, баши и прочий чиновный люд – совсем еще недавно владыки земли и воды, жизни и смерти, – воспринимали (хотя и держа язык за зубами) свой крепко пониженный статус как личное оскорбление.
Позже это назовут, сами понимаете, «национальным унижением», но до понятия «национальное» краю предстояло дорасти еще очень не скоро. Однако это недовольство само по себе в расчет можно было бы не брать, не находи оно отклик в массах. А оно находило. Ибо, хотя прогресс всегда лучше застоя, у всякого аверса, повторюсь, есть реверс.
Лишние люди
Цунами перемен опрокинуло и закружило очень много судеб. Кочевникам пришлось потесниться на своих жайляу, уступив часть «породных земель» русским крестьянам и казакам, расселяемым в крае на предмет обретения прочной социальной опоры, – и кочевники, и так не очень довольные финалом войны, не радовались. «Киргизы горных местностей относятся к русским недружелюбно, – писал ташкентский журналист Николай Возяев, – и главным мотивом своего недовольства выставляют отнятие у них земель, коими они пользовались издавна, под русские поселки». Ремесленники, привыкшие к почету и стабильности, разорялись, не выдерживая конкуренции с потоком ввозимого «свиноедами» ширпотреба, пусть и не такого качественного, как их кувшины и сапоги, зато дешевого и новомодного, – и ремесленники не радовались. Тем более что новые налоги были хоть и не больше ханских, но непонятны, непривычны, а потому и обременительны. Обвальное развитие хлопководства – Фергана давала 73 % туркестанского «белого золота» – убивающее арбузы, виноград и прочие дары Аллаха, а значит, и привычную, как у дедов-прадедов, размеренную жизнь, помимо прочего, быстро свела на нет какие-никакие, но все же гарантии, данные правоверным Кораном.
Вокруг хлопка закрутились большие, очень-очень большие деньги, а там, где крутятся большие деньги, не во всем властен сам Аллах. Откуда ни возьмись, появились скупщики, даром что «свиноеды», быстро нашедшие общий язык с потомственно халяльными баями. На поверхность выползло ранее стыдное ростовщичество, тем паче что мулла за долю малую всегда готов был прочитать все нужные молитвы. Ну и, понятно, далеко не всей чиновной русской мелочи было за державу обидно: уже в первые «хлопковые» годы хлесткое щедринское «господа ташкентцы» стало определением столь же нарицательным, сколь на американском Юге (примерно тогда же) «саквояжники». И убежденность властей, что «просвещение неодолимо», вылившаяся, как мы помним, в реставрацию выборности власти на низах, сыграла злую шутку.
«С 1887 года, – констатирует Юлия Головнина, – дело приняло совершенно иной оборот. Сельские власти перестали назначаться, снова сделавшись выборными. Жалованье им крепко убавлено, подкуп, интриги, кулачество царствуют в полной неприкосновенности. Лучшие люди стали отказываться от этих должностей, переставших быть почетными и дающих лишь простор наживе. Радикально изменилось и положение уездного начальника, власть его сокращена до минимума, деятельность сведена к канцелярии. Он оказался совершенно дискредитированным в глазах населения, не понимающего канцелярии, чиновничества и децентрализации власти; сарт знает только, что прежде уездный начальник, бывало, и заступится, и накажет, и разберет тяжбу: он “все мог”, а теперь он уже ничего не может и далеко отстоит от населения. Нет уже около него и преданной русской партии, которая распалась вследствие неизбежного отчуждения и отсутствия связи между сторонами. Взгляд на русских вообще и на “русское начальство” в особенности печальным образом изменился: теперь у туземца есть начальство, которое поставлено для того, чтобы карать, преследовать, но начальства, которое отстаивало бы его интересы, нет, и потому во всяком начальстве он видит прежде всего врага».
В итоге в крае, где совсем еще недавно все были так или иначе пристроены, а бродить по дорогам, если ты не разбойник, считалось приличным только «девона» – полубезумным дервишам, появились «бездомники», которым не было места в родных кишлаках. Эта волна хлынула в города – и тот, кому посчастливилось попасть в «мардикоры», всеми презираемые поденщики, мог считать, что ему крупно повезло. Везло же отнюдь не всем, – и всем, от еще как-то цепляющегося за соломинку «уважаемого человека» до последнего «бездомника», было абсолютно ясно: Страшный Суд не за горами…
Глава XLI. Геополитическая комедия (8)
Дети лейтенанта Худояра
Согласитесь: зная все, что мы уже знаем, не приходится удивляться тому, что в Ферганской долине началось, скажем так, смятение умов. При ханах был совсем не сахар, но этот «не сахар» продолжался из века в век и был, по крайней мере, привычным – как прадеды жили, так и мы проживем, – а теперь мир изменился, и найти место в изменившемся мире удавалось далеко не всем…
Были, конечно, и довольные. Из продвинутых. Но исчезающе мало. В целом, народ психовал. Злились мардикоры, злились «бездомники», среди которых, помимо лишенных всего дехкан, было достаточно сотрудников бывших силовых структур, руками работать не умевших и не желавших, бесились, все чаще получая указания с Самого-Самого Верха, «дикие муллы» – особенно вовсе уж невежественные ишаны, дервиши-чудотворцы. Самые толковые уездные начальники сообщали в Ташкент, что «везде и постоянно чувствуется брожение идеи газавата». С печальной стабильностью то там, то здесь как бы ниоткуда возникали «джетым-ханы» (ханы-самозванцы) самого разного происхождения: от бывших «офицеров» до явных бродяг. Дети Худояра, внуки Худояра, дальние родичи Худояра, дети и никогда не существовавшие братья Нисриддина, дети Пулат-хана, племянники Пулат-хана и так далее. Однажды объявился даже лично Пулат-хан, в девичестве – арбакеш Хусаин.
Кому-то не верили, высмеивали и прогоняли. Кого-то слушали. За кем-то и шли. Особенно если за то, что уж на этот-то раз хан настоящий, ручался авторитетный мулла или ишан. В таких случаях дело порой оборачивалось эксцессами, хотя и районного масштаба, но все равно неприятными. Не менее 50 таких «джетым-ханов» угодили за решетку, кого-то, успевшего чересчур порезвиться, даже повесили, но таких, кому повезло, не попав в руки властей, сгинуть, пообещав вернуться, было куда больше.
Особенно нервным в этом плане выдался 1885-й. «Базар» в «святых городах» шушукался о войне России с Афганистаном, о полном поражении «свиноедов» и скором пришествии «храбрых афганцев» (на самом деле под Кушкой все случилось совсем наоборот, но кто же мог такое допустить?). Также болтали о появлении в бухарских землях «справедливого царя», который вот-вот возьмет Бухару, повесит продавшегося «свиноедам» эмира и, опять-таки, двинется освобождать «священные города» (в реале мятеж Восэ в Бальджуане кончился как раз петлей для самого Восэ, но об этом никто не знал, а если и знал, не верил). И, наконец, святые чудотворцы по неким им одним ведомым приметам утверждали: все, тэрпець Божий урвався, вот-вот распахнутся небеса и явится Махди, имам-спаситель, после чего всем «свиноедам» уж точно кирдык.
По краю бродили группы сложных людей, в современной историографии некоторых независимых стран уважительно именуемых «повстанцами». Грабили дома волостных аксакалов, одного, упорно не отдававшего деньги, даже убили. Вновь появились самозванцы. В конце июля в Намангане поймали бомжа, называвшего себя аж Алим-ханом, зарезанным за век до того, но как бы вернувшимся волей Всевышнего, – однако, хотя дядя уехал в Сибирь, прокатилась молва, что он, сумев бежать из зиндана, прячется в тайном месте, оставив пока что за себя некоего Дервиш-хана-тюря, лицо бродячее, но не нищее (два садика у него имелись). Кстати, само имя (или псевдоним) интересное: «Дервиш» – святой человек, «хан» – пояснений не требует, «тюря» – из рода Чингизидов. То есть, смекал народ, ага, ага, – и бродяга по имени Мумин-бий, обойдя долину, собрал в итоге все шайки, приведя к Дервиш-хану человек тридцать «бездомников», если не больше, – после чего, разумеется, был провозглашен джихад. Или, в местном варианте, газават. До полной победы и восстановления ханства.
На пути шахидов встали, однако, 16 солдат. Приехали на трех арбах, нашли, разогнали. Стрелять не пришлось, но в драке трое «повстанцев» погибли, дюжину (из них пятеро тяжело раненных) повязали, кто бежал, тех в основном поймали в кишлаках. Судили. Мумин-бия, опознанного семьей убитого аксакала, повесили. Не смогли найти только Дервиш-хана, более на страницах истории не являвшегося. Разве что семь лет спустя, в 1892-м, некий Сабир-хан Коканди, бывший пятисотник ханского войска, намекая, что прислан «тайным ханом», собрал сотни полторы активистов и развернул знамя газавата. Но тут же откуда следует приехали солдаты на арбах – и сами понимаете. А в июне 1892 года «восстание», как положено ныне кое-где говорить, случилось аж в самом Ташкенте.
Ташкент – город всякий
По большому счету, ничего особенного. Чистой воды холерный бунт, какие бывали много где. Калька. Но с местным орнаментом, описать который для общего понимания обстановки, на мой взгляд, полезно. Собственно, власть стремилась всего лишь взять ситуацию под контроль, благо к тому времени бороться с холерой уже более или менее умели. На время эпидемии учредили особые «холерные» кладбища, за чертой города, временно закрыв старые, непосредственно в кварталах, а также организовали фельдшерские проверки неблагополучных районов. Казалось бы, ну и что? А то, что, согласно шариату, усопшего положено нести к месту упокоения на руках, а пилить невесть куда непонятно почему народу не нравилось, как не нравились и ограничения в церемонии прощания, предписанные по санитарным соображениям. О попытках фельдшеров санировать женские половины и говорить не приходится, при минимуме воображения пусть каждый представит сам. Ну и карантин опять же. Дикая выдумка неверных, учиненная, кто ж спорит, на погибель добрым мусульманам, лишенным возможности «бежать на все четыре стороны». Тем более что состоятельным горожанам, имеющим возможность пригласить врача, позволялось лечиться на дому, в «холерную» же больницу (место, скажем прямо, очень неприятное) сгоняли «почти исключительно мардикоров», не слишком часто оттуда выходивших (хотя и русских докторов тоже умерли двое).
Далее понятно. По Старому городу пошли «достоверные слухи»: дескать, врачи травят больных, а городской пристав скоро запретит укутывать покойников в саваны, да и вообще хоронить мертвых запретят, и воду в арыках отравят, или уже отравили, иначе, братья, откуда ж холера? Ситуацию усугубляло еще и то, что незадолго до событий личным распоряжением губернатора, генерала Гродекова, был смещен совсем уже неприлично зарвавшийся в смысле взяток старший аксакал «туземных кварталов», некто Иногам-ходжа, занимавший пост много лет и, понятно, расставивший свои кадры (в основном родственников) везде, и в участках «туземной» полиции тоже. Заменить их всех было немыслимо, да и некем, а как они приняли нового, «временного» аксакала Мухаммед-Якуба, он же Ма-Якуб, представить несложно. Во всяком случае, слухи они подтверждали, и слухи, подкрепленные словом уважаемых людей, наливались плотью. Ма-Якуб начал увольнять, в ответ слухи сделались куда ужаснее.
Нарыв, короче говоря, назревал. И лопнул. Еще в пятницу 20 июня казалось, что все в порядке. Жители «старого города» после молитвы не разошлись, а стали обсуждать, как бы уговорить власти вернуть дорогого Иногам-ходжу, при котором таких холер не случалось. Обговорили, собрали подписи. 23 июня, аккурат в пять утра, к началу Курбан-байрама, в главную мечеть, Джами, приехал лично градоначальник, полковник Путинцев и долго объяснял народу смысл санитарии и гигиены. Затем Шариф-ходжа, старейший кази Ташкента, прочел молитву за царя, напомнил, что при ханах эпидемии бывали чаще, в итоге призвав «верить русскому начальству и докторам». Люди выслушали и сделали вывод: Иногам-ходжу не вернут, а значит, холера никуда не денется.
А ночью Ма-Якуб, рывший копытом землю, чтобы стать из «временного» постоянным, доложил Путинцеву, что в «старом городе» начались тайные похороны холерных. Понятно, полиции велели разобраться, полиция, разобравшись, повела виновных в околоток, грозя, что те своими руками будут выкапывать дорогих усопших, народ начал скапливаться, в ситуацию включились святые люди, – и стало ясно: надо что-то делать. Храбрый Путинцев пошел в народ, на беду прихватив еще и Ма-Якуба, начавшего размахивать нагайкой. В ответ полетели камни, аксакал спешно эвакуировался в управление градоначальника, а подполковник, стоя у калитки, общался с населением, уговаривая разойтись по-хорошему.
Хорошо, однако, уже не получалось. Требовали выдать Ма-Якуба. В какой-то момент подполковника схватили за грудки, повалили, начали бить, требуя отдать Ма-Якуба и подписать бумагу, что «гнать холеру по-русски» больше не будут. Путинцев казал дулю и отбивался, очень удачно, и его в конце концов оставили в покое. Но начался погром конторы. Вынесли самовар, кружки, стулья, даже веники. К моменту, когда на место прибыл сам Гродеков с дюжиной солдат, от управы мало что осталось, но улица была пуста. Все разбежались, заодно погромив дом Ма-Якуба. Гродеков двинулся в «старый город», к толпе, толпа отступала, «забегая с боков и сзади, ругаясь и поражая отряд камнями».
Мы строили, строили – и…
Тем не менее губернатор все же добрался до мечети Джами, в самую гущу тусовки, и там сделал официальное сообщение: мол, «если жители недовольны начальником города и аксакалом, пусть подадут жалобу, и будет, по их желанию, назначен другой начальник города и аксакал». Увы, слушать было некому. «Оборванцы, бродячая молодежь, любители гашиша» (именно так обращался к своей группе поддержке один из лидеров толпы, грузчик Мухаммед-Бий) уже ушли в свободный полет. Солдатиков уже доставали дубинами, генерала потащили с лошади, камни летели большие и метко, появились раненые, кого-то чикнули ножом, – и Гродеков скомандовал: «Огонь!». Стреляли трижды, как потом сосчитали в точности, сделав 32 выстрела. По официальным данным, погибло человек 13–14, – в основном затоптанных рванувшими врассыпную несогласными, – но, надо думать, кого-то друзья унесли с собой, а потом о смерти не сообщили. Так что, может быть, и больше. По ходу дела появились и «добровольцы» с дубинками: в основном местные лавочники, бизнес которых «несогласные», протестуя, тоже не щадили. Эти, даром что тоже добрые мусульмане, вообще не церемонились, вытесняя убегавших «оборванцев, молодежь» и прочих к арыку и сталкивая туда. Позже из арыка выловили 80 трупов, но ни одного с огнестрелом. Затем из лагерей подошел казачий полк. В Ташкенте стало тихо.
На следующий день началась раздача слонов. Генерал-губернатор объявил служивым «большое спасибо», особенно отметив, что первый залп дали «поверх голов, вполне спокойно и согласно, как на учебной стрельбе». Были уволены все аксакалы, кази и, в первую очередь, «туземные полицейские» из клана Иногам-ходжи. Новые кадры набирали из русских отставников или из «туземцев», не имеющих в городе родни. Впрочем, Ма-Якуба тоже сместили, заменив «по случаю необходимости» опытным сызранским приставом Тимофеем Седовым. Полковника Путинцева – «за примерную отвагу» – не уволили, но, понизив в должности за «нераспорядительность», заменили «твердым и энергичным» полковником Тверитиновым. Естественно, возбудили дело. Поскольку все всех знали, а город, в связи с карантином, был закрыт, зачинщиков – 32 «бездомника», 10 мардикоров, 18 «базарного всякого люда» – похватали поголовно, некоторых прямо на местах погромов. Кого-то «за раскаянием» отпустили, но все же на выходе приговоры были серьезные: 8 «шпагатов», 3 «бессрочные ссылки», 17 «к арестантским ротам».
Впрочем, виселицы тут же заменили каторгой (от 15 до 20 лет), а сроки наказания сильно сократили. «Беря во внимание дикость этих бедняг, воспаляющую их воображение сверх всякой меры, – рапортовал Гродеков, – такое решение видится правильным. Действуя по наущению, они срывали со стен прокламации старшего аксакала и самого его прибить хотели, однако же толпа, среди которой не замечено ни единого из состоятельных сословий, не тронула ни Ваших изображений, ни портрета Государя. Также следует иметь в виду, что при немалом количестве в толпе лиц духовного звания, во все время событий ни разу не прозвучали крики о газавате. Мое мнение таково, что просвещение понемногу проникает и в эти темные души».
Барон Вревский, адресат, не возражал.
Напротив. «Из событий, – отвечал он, – в самом деле, видно, что возмущение это, хотя и в низших сословиях, имеет, однако, основу не в старом невежестве, но в новых веяниях. Сей странный азиацкий вид нигилизма и сам явление новое, но все ж много предпочтительней дикости в ее старом привычном понимании. Конечно, явный бунт следует подавлять силою, но сам вид умопомешательства дает основу говорить о благом смысле русского труда на здешней ниве». Иными словами, вояки сходились в том, что с «дикостью» края в основном покончено. Аллах свидетель, они ошибались…
Глава XLII. Геополитическая комедия (9)
Даже не знаю, с чего начать, чтобы, не подумайте плохого, хорошо кончить. Наверное, так…
Жил да был один ишан…
Итак, жил себе, поживал в большом кишлаке Минг-тепе ученый человек Мухаммед-Али-хальфа Сабир Суфиев. А проще – ишан Мадали. А если еще проще, дукчи-ишан (ишан-колыбельщик), поскольку изготовление колыбелек (дукчи) кормило лучше, чем маленький участок земли. В юности учился у известных ишанов, отрабатывая учение тяжким трудом, а потом унаследовал звание у одного из учителей. Славился добронравием, своими руками посадил рощицу деревьев, чтобы усталые путники могли отдохнуть, совершил хадж, а когда вернулся, пошли слухи, мол, у Гроба в Медине было ему откровение. Дескать, сказал Всевышний, что судьба ему «быть ишаном 10 лет, а потом объявить джихад, но перед тем завести большие котлы и кормить всех голодных». В ответ же на возражения Мадали, что нет у него на такое ни сил, ни денег, Аллах – так он сам говорил – «обещал ему помочь и подарил золотой ковш».
Тут уж ничего не поделаешь: вернувшись домой, начал Мадали не просто ишанить, но кормить народ – сперва в долг, а потом и на пожертвования. Заодно, понятно, творил и чудеса. Всякие. То котлы у него кипели без огня, то амулеты раздавал, превращающие пули в капли воды, – слухи о том со слов «слышавших от тех, кто слышал от тех, кто своими глазами видел видевших воочию», разошлись по Фергане. Вот и стал дукчи-ишан – а в умении влиять на толпу и бешеной энергии отказать ему никак нельзя – авторитетен на всю долину, аж до самого Пишпека. А когда стал, начал понемногу готовить джихад. «Хальфа» (ученики) ему помогали, а многочисленные «раисы» (блюстители) разносили мысли учителя туда-сюда.
Мысли же эти были проще простого: «Он счел себя призванным спасти народ, и с этой целью, прежде всего, освободить его от русской власти», а после того поставить в Фергане «доброго, богобоязненного хана». Присмотрел и кандидатуру: Абдул-Азиз, племянник 14 лет от роду, которому святой дядя помогал бы советами. Натурально, расписали заранее и кому каким визирем быть, а кому в каком городе беком или сборщиком податей. Позже, на суде, он честно объяснил, почему решил возмутить народ. Во-первых, ясен пень, оттого, что негоже правоверным подчиняться «свиноедам», во-вторых, отменена подать на содержание духовенства, что сильно прогневало Аллаха, в-третьих, правильные налоги поменяли на какие-то хотя и не больше, чем раньше, но непонятные, а значит, не от Бога. Опять же, рабство отменили, хотя в Коране сказано про рабов, но не про какие-то отмены.
А главное, чудотворца сильно беспокоила порча нравов в народе, из-за которой, по его мнению, пало Кокандское ханство. «Прежде, при ханах, – объяснял он судьям, – законы были хорошие, всякое преступление каралось строго: за воровство в первый раз отрубали руку, а во второй – голову; народ боялся; теперь за все лишь сажают в острог, сытно кормят, чисто держат, даже если казнить решат, на кол не посадят, повесят, да и все тут; бояться нечего, и вот нравы ухудшились, везде пьют, воруют, грешат развратом, и семьи уже не так крепки, как раньше, а всему виной русские, их глупая мягкость в управлении. Аллах гневен, и прогневается вконец, если мусульмане не истребят неверных, объявив джихад». А потом, сами понимаете, хан наведет порядок, именем самого султана турецкого. Подтверждением чему – вот, грамота от самого падишаха из Стамбула, признавшего за мною, Мадали-ишаном, высшее духовное руководство в Фергане. Грамотку святой человек, конечно, выписал себе сам, но, как признавали очевидцы, бывшие на суде, сам о том забыв, верил в нее истово.
Что уж говорить о пастве, она вообще ни в чем не сомневалась. А если кто сомневался, то уж очень вкусный плов раздавал ишан, да и должности в грядущем ханстве сулил щедро. Опять же, от султана грамотка – это вам не видения, она вот, ее пощупать можно. И так года два, не меньше. Позже в доме ишана нашли не только черновики «чакру-хат» (воззваний), но и груды писем, подписанных самыми разными людьми, вплоть до некоторых волостных старшин, помогавших агитаторам. Короче говоря, перефразируя Шукшина, народ по всей долине был для разврата готов.
Божией милостью
Кстати, о народе. Как видно из документов о конфискации имущества осужденных, 48 % имели «малое движимое имущество» (то есть чашка, плошка, кое-какая одежонка плюс кетмень), 30 % не имели вообще ничего, даже обуви, 12 % владели кой-каким скотом, в основном ишаками, 10 % – небольшие участки земли. В целом, люмпены и поденщики (из 208 сосланных в Сибирь только три «знающих мастерство» – сапожник, штукатур и портной). Ну и, как водится, сколько-то все тех же «бывших» – нищенствующих «баши» бывших ханских войск всех рангов. Эти заранее знали, кто где будет шефом стражи, кто губернатором, а кто генералом. Такой вот «национально-освободительный» контингент. Неудивительно, что отказывающимся «отдать посыльным зякат (духовный налог) за 15 лет, который они греховно не платили, на дело газавата» (такие письма с середины февраля подбрасывали в Коканде богатым людям от имени ишана), приходилось горько жалеть.
Рэкет, конечно, а что поделаешь? – а в марте-апреле 1898 года у тех, что готов был подать пример, выступив с оружием в руках, начали брать подписку – «клятву верности» – причем волостные аксакалы, ученики ишана, обязаны были скреплять ее своими печатями. «Во-первых, – гласила присяга, – для Бога и Пророка, мы должны быть победителями в священной войне, и во-вторых, пожертвовать жизнью в священной войне. Если по наущению шайтана, из себялюбия или из опасения за свою жизнь мы, оробев, откажемся от исполнения обета, да будем мы достойны ада, да почернеют в обоих мирах наши лица, да будем в день страшного суда посрамлены и опозорены». Правда, долго не могли определить срок: то говорили, что «нужно только подождать, пока поправятся лошади», то «когда созреет ячмень», а то и «как только число готовых одолеть неверных достигнет тысячи».
Но, по-любому, люди нервничали. Они «устали ждать». И святому человеку приходилось спешить. Тем паче шило в мешке никто не собирался прятать: о джихаде, подробно объясняя, где и когда собираться, вещал с мимбара сам Мадали, о том же шушукались на базарах, в чайханах и гашишнях. И не только в Андижане, но и в Оше, и в Маргелане, где «дремали», ожидая сигнала, достаточно сильные ячейки. «Район, знавший о волнениях, значительно обширнее, чем можно заключить из данных судебного разбирательства», – докладывало позже военное руководство в Ташкент. Но именно позже. До того же власти не обращали внимания на тревожные намеки. Вплоть до четких доносов. Только в Оше некий подполковник Зайцев отнесся к делу более серьезно, и несколько ключевых фигур подполья попали под арест, после чего дукчи-ишан, опасаясь новых утечек, решил, что медлить более нельзя, – и если в Андижане получится, займется вся долина и киргизские предгорья.
Основания для таких надежд имели место. «Чуток иначе, – писал позже командующий войсками Туркестанского военного округа, – событие стоило бы несравненно более крови, жертв и труда для его успокоения». А план был прост. Как показывал сам ишан, «напасть на войска и захватить город, а уж потом взяться за дома неверных, но истреблять, не причиняя лишней боли, а если кто обратится и покажет искренность, истребляя иных неверных, так такого велел я считать братом». Затем, по его мнению, все – естественно, с помощью Аллаха, а ее гарантировало специальное знамение, полученное им 11 мая, – пошло бы само собой. В успехе дела на первом, важнейшем этапе – захвате летнего гарнизонного лагеря – святой не сомневался: его «мюрид», некий Рустамбек Сатибалдыбекоз, держал лавочку в черте лагеря и дружил с солдатами. Иными словами, знал все. О распорядке, о привычках, а главное, о том, что в мирное время боевые патроны в лагеря не выдаются.
Дорогой длинной да ночкой лунною…
И вот поздно вечером 16 мая 1898 года по всему поселку Таджик (часть Минг-тепе) раздались крики «К оружию! К оружию! Бей неверных!», и 200 всадников двумя отрядами под зелеными знаменами выступили на Андижан. Еще один маленький отряд поскакал отдельно, резать телеграфные провода, и справился на славу: власти о событиях узнали куда позже, чем следовало бы. Понемногу ядро обрастало мясом: из кишлаков, лежащих по пути, к ишану бежали добровольцы, кто с кинжалом, кто с саблей, а кто и просто с мотыгой или дубиной. Ружей было мало, револьверов вообще не более пяти-шести – один, естественно, у ишана, – но народу было много: к предместьям подошла уже толпа тысячи в две, из них половина конных.
Тут разделились примерно поровну. Группа во главе со святым человеком двинулась в обход, чтобы атаковать русский квартал с запада, а лучшие силы, «ведомые флагоносцем на белом коне», пробравшись через сады сочувственно наблюдающих пригородных кишлаков, около 3 часов, в полной тьме и тишине, атаковала один из бараков летнего воинского лагеря. Не стреляли. Резали сонных, растерянных, сразу обнулив, как потом выяснилось, 22 души. Еще 19 были тяжело ранены, и еще 5 легко, но эти уже в свалке. Мятежники захватили десятка три винтовок, но незаряженных. Драка раскатилась по лагерю, солдаты, злые до предела, полуголые, бежали на шум, били шахидов всем, чем попало, убив многих, однако те, не оставаясь в долгу, давили числом.
Спас случай. Такого никто не мог предвидеть. Некий хозяйственный унтер, Назарий Хоменко, по случаю («ни о чем не ведал, прибрал с собою, не спросясь поручика, чтобы было, потому оно лучше когда есть», – объяснял он дознавателям после того) имел под койкой ящик патронов, которые солдатики расхватали мгновенно, – и при первых же выстрелах толпа побежала. Тем паче что флагоносца свалили одним из первых. При этом, однако, пишет Юлия Головнина, почти очевидица, «были эпизоды, невольно заставляющие проникаться удивлением к силе фанатизма. Когда толпа набросилась на спящих, несколько в стороне встал старый мулла и громко читал коран; возле него два мюрида держали свечи. Старик читал и когда поднялась тревога, и когда раздались первые выстрелы. Наконец, все смешалось, нападавшие бросились бежать врассыпную, последние из них скрылись в темноте, а старик все читал свой коран и его мюриды около него держали свечи, пока не пали все под ударами разъяренных солдат». Впрочем, и это не помогло. Сбежали все, кто мог хоть как-то бежать. Бросая все, вплоть до коранов и амулетов, превращающих пули в капли воды. Рассеялась, услышав пальбу, планом никак не предусмотренную, и толпа, обходившая город с запада. Одним из первых дал ноги сам ишан, далеко, впрочем, не ушедший: в 60 верстах от Андижана святого человека, несмотря на револьвер, поймали и сдали сами местные.
И пришел бука
Естественно, подошли войска, и по горячим следам были приняты меры. Город оцепили, сады прочесали, по кишлакам прошли густым гребнем. Кое-кто из нападавших, конечно, сумел скрыться, если не за китайский кордон, то в горах, но все, отметившиеся хоть как-то особо, – всего 546 человек – угодили на цугундер. Власти сообщили населению о намерении снести на фиг все кишлаки, через которые, получая подкрепление, прошло воинство дукчи-ишана, и взять с долины контрибуцию в миллион рублей. «Черное пятно лежит на всех вас, – спустя несколько месяцев, 23 августа, сказал “лучшим людям” Андижана специально прибывший генерал-губернатор. – Ужели не понимали вы, что песчинке не пристало бороться с великой горою?», – после чего уведомил собравшихся о решении правительства отменить не оправдавшую себя выборность аксакалов.
«Лучшие люди» выли, ползали на коленях, умоляли допустить к ручке или ножке, но дозволения не получили. Не было им доверия. Большинство их, так или иначе зная о предстоящем, молчали до упора. «Прискорбные события в ту трагическую ночь, – указывалось в обвинительном заключении, – ясно показали, кто есть кто: из местного населения нашлось всего три человека, осознавших свой долг перед великой Россией». О людях обычных говорить не приходится. Они слились с тенью. «Народ смущен и напуган, – констатировала Юлия Головнина, как раз в те дни проезжавшая через Андижан, – вину за собою знают все, все ожидают целого ряда казней и самой строгой кары. Население наружно почтительно к русским необычайно: при проезде русских по сартскому базару или старому городу все встают и почтительно кланяются; при проходе русского дают ему дорогу. В городе поговаривают о том, что солдат несколько распустили и что они нередко обижают сартов» (во что верю сразу, потому что служивые были в бешенстве, и не понять их трудно).
И суд таки оправдал худшие ожидания. 332 смертных приговоров даже по тамошним нравам не ожидал никто. Как никто до конца и не верил, что святому Мадали смогут причинить зло: базар ждал от чудотворца чуда, огня, явления ангелов с «длинными мечами, сияющими ярче лучей солнца», – но не дождался. Суд – 11 июня – был хотя и справедлив (обвиняемым, своих прав не знавшим, даже дали адвоката), но не толерантен. Пятеро лидеров мятежа получили вышку, кроме того, в рамках гражданского иска от имени семей убитых имущество осужденных постановили конфисковать, выплатив истцам по 5000 рублей за потерю кормильца, и это перепугало «базар» куда больше «шпагатов». Когда на следующий день приговор приводили в исполнение, в ответ на просьбу ишана (он, по свидетельству очевидцев, «сильно дрожал, но выглядел достойно») молиться за него и других, «ни единая рука не поднялась к небу» и «даже никто не плакал»: тысячная толпа молчала; «“боялись”, как нам объяснили». Затем повесили еще сколько-то активистов, начался снос кишлака, из которого, при полном молчании жителей, началась атака на лагерь, в Андижане появились русские переселенцы (земля под кишлаком была хороша, а святу месту пусту не быти), и «ненадежный» край в считанные дни стал совершенно бел и пушист.
Бабье сердце – вещун
Но.
Спустя некоторое время, побывав на Памире, г-жа Головнина со спутниками вновь (31 августа) проезжала через Андижан и была поражена. «Не то видели мы впоследствии, на обратном пути в Россию в конце августа, – сообщает она. – Теперь пренебрежительное отношение к русским било в глаза. Не солдаты уже обижали сартов, а сарт при нас криком бранил солдата дураком за то, что тот слишком, по его мнению, близко подошел к очагу, на котором он варил свой “палау”, и солдат молча отошел от него. Дороги русским не уступал никто, и мне пришлось заметить, что при проезде по сартскому базарчику военного губернатора ни один сарт не поклонился, никто не встал не только из сидевших, но даже из лежавших. Смотрели на него во все глаза, но принять более почтительной позы не захотел никто, хотя весь город, несомненно, знает губернатора в лицо. Это, конечно, мелочь, но она характерна». Аналогичная информация поступала и в канцелярию генерал-губернатора. «С месяц тому, – докладывал чиновник из Хорезма, – в пределах Хивинского ханства самые разговоры о дукчи-ишане разгонялись палками. Нынче же вслух говорят, что дукчи-ишан мог бы нанести русскому владычеству в Туркестане серьезный ущерб, если бы умело взялся за дело… Дело, начатое Мадали, еще не кончено и может снова разразиться». Говорили также – это уже в Маргелане, где в июне муллы предали «обманщика и волхва» проклятию, – что святой человек «обманул неверных, притворился мертвым, и уже собирает новые силы для нового нападения на русских», а среди киргизов шли разговоры, «что, конечно, ишан-колыбельщик сделал ошибку, не оповестив все соседние области, и что если он вернется, теперь горные киргизы наверное примкнут к его делу». Судя по сохранившейся переписке, которая достаточно обильна, на требование канцелярии объяснить причины таких перемен местное начальство, даже служившее в Азии много лет, ответить то ли не смогло, то ли побоялось.
А между тем умным людям, не обремененным условностями официозных доктрин, многое было ясно. В своем дневнике, через пару лет вышедшем книгой, Юлия Дмитриевна, не раз и не два задавшись сим проклятым вопросом, пришла в итоге к выводу, что, «как известно, все смертные приговоры, за исключением 18, были заменены каторгой. Из кишлаков уничтожены лишь два, один близ лагеря и другой – в котором жил ишан и собирал своих приверженцев, прочие же пощадили. Миллионная контрибуция была сбавлена до 250 тысяч. Все это равнялось почти помилованию и тем более подчеркнутому, что являлось не с течением времени, а почти тотчас, вслед за беспорядками, со странной поспешностью. Непонятно было азиату (подчеркнуто Ю. Г.) такое гуманное к нему отношение, и он приписал его слабости: его, значит, боятся тронуть, а слабого врага он презирает. Приходится сознаться, что дело ишана не прошло даром. Не пользуются здесь теперь русские популярностью, а еще недавно, по словам людей, поживших в крае, к нам относились с доверием и уважением, а если нужно, то и с почтительным страхом».
Такое вот мнение, начисто, согласен, лишенное какой бы то ни было политической корректности. Женская логика, чего уж. Однако, с другой стороны, не секрет, что умные женщины частенько умеют зреть в корень…
Finis coronat…
И на этом, пожалуй, все. По крайней мере, эпоха завершилась, и сквозь слои гнилой тины начало пробиваться что-то свежее. Дукчи-ишан был с ног до головы прошлым, а севернее, в казахских аулах уже вставали на крыло будущие джадиды (западники), с подачи татарских интеллектуалов осмысляющие себя как пусть своеобразную, но часть Европы. Отзвуки их идей ползли и на юг. Правда, очень медленно, а когда все-таки доползли, вольтерьянство приняло крайне причудливые формы, – и все же. Все случившееся далее, включая чудовищный бунт 1916 года и после того, это уже иные времена, иные идеи, иные реалии и совсем иные люди.
Подытоживая же нашу тему, остается разве понять: во благо или во вред пошли описанные события двум, как нынче модно формулировать, фигурантам? На мой взгляд, что касается «туземцев» ответ однозначен: да, во благо. С Россией сложнее. Выгод она, в конце концов, не получила, а потратила много – и никакой хлопок не окупал затрат. По сути, именно «инородность» этих территорий, доставляя Центру, как бы он ни назывался, лишь головную боль, стала одной из из причин развала Империи. Не основной, конечно. Однако немаловажной.
Так что, видимо, с какой-то точки зрения, возможно, и не стоило.
Но, с другой стороны, геополитика зла.
Если не приходишь ты, приходят к тебе.
И никак иначе.
Глава XLIII. Белое солнце пустыни
Впрочем, обустройство обустройством, а Большая Игра шла своим лишенным эмоций чередом. Тревога Острова за Индию диктовала правила. К тому же, полагая сферой своих «естественных интересов» все, что к Индии так или иначе прилегало или хотя бы лежало поблизости, островитяне, еще не оформив весь Индостан, уже присматривались к дорожкам, ведущим на север, в бесхозные, но, по слухам, богатые ханства Центральной Азии, на пути к которым лежал Афганистан…
За речкой
Собственно, сама по себе нищая, предельно проблемная страна, населенная диковатыми бестолковыми племенами, интереса не представляла. Но, контролируя ее перевалы, можно было не очень волноваться за северные границы Индии, так что игра стоила свеч. События развивались, словно фейерверк-шоу, захватывающе пестро. Россия одерживала яркие победы, остававшиеся, однако, только эпизодами. Окупалась спокойная методичная, с падениями и подъемами работа Лондона. Знаменитая «дуэль в Кабуле», где русский разведчик Ян Виткевич блестяще обыграл знаменитого коллегу Александра Бернса, убедив эмира Дост-Мухамеда просить Россию о принятии Афганистана под протекторат и защите от англичан, закончилась впустую. Николай Павлович не счел возможным ссориться с Британией, а Ян Викентьевич, как известно, погиб при невыясненных обстоятельствах в Петербурге, причем бумаги его, официально «сожженные перед самоубийством», как выяснилось много позже, почему-то оказались в распоряжении английских коллег. Плохо кончил, впрочем, и сам Бернс, убитый в Кабуле в самый разгар первой англо-афганской войны, начатой Лондоном с целью устранить «пророссийского» эмира и присоединить Афганистан к Британской Индии, но, в связи с огромными потерями, завершившейся довольно скромно – установлением «непрямого контроля», основанного на интригах и, в первую очередь, на подкупе. Эмир Дост-Мухамед, храбро сражавшийся, взятый в плен и принятый там с подчеркнутым уважением, возвратился в Кабул, где ни один из британских ставленников удержаться не смог, «верным другом Бадшах-Ханум с далекого Острова».
Впрочем, Россию это не взволновало, так что какое-то время все шло довольно спокойно. Бритты прижились в Кабуле, попытались попробовать на зуб Бухару, но очень неудачно: лучшие их агенты, включая самого Артура Конноли, автора термина Great Game, были расшифрованы «мухабаратчиками» эмира Насруллы, красноречиво прозванного «Мясником», и понятно что. Зато с середины 60-х колесо завертелось. Русские войска, официально заявив о необходимости покончить с набегами кочевников, двинулись вглубь Asia Magna, подчинили Кокандское ханство (вскоре, в связи с мятежом, расформированное), затем Бухару, потом Хиву, ставшие вассалами России на вполне мягких, приличных условиях. На карте Империи появилось Туркестанское генерал-губернаторство. И бульдог зарычал. В принципе, три ханства были «ничейные», никто никого не обокрал, но призрак русского солдата, моющего сапоги в Ганге, подобно тени отца Гамлета, не давал сэрам и пэрам покоя, тем паче что в Лондоне сильно подозревали, что великий «Сипайский» мятеж случился не без участия России. Истине это не соответствовало ни в какой мере, но мнение было. К тому же в Ташкенте начали появляться странные люди. Ладно бы еще некто Абдуррахман-хан, претендент на афганский престол, сидевший под русским крылом уже много лет, прижившийся и смирившийся с тем, что русские кормят от пуза, но войск не дадут. Но возникли и смуглые посланцы обиженных британцами князьков Северной Индии, сулившие русским генералам, ежели что, полное «бхай-бхай». В 1873-м, еще до покорения русскими Хивы, кое-как договорились – Афганистан признали «нейтральной зоной», земли «вольных» туркмен – «спорными», а Хиву – «под попечением России». Однако нервы белых сахибов были напряжены до предела, и когда невесть откуда возник слух (всего лишь слух), что посольство в Ташкент намерен отправить и афганский эмир Шер-Али, – бухнуло по полной программе.
Пыль, пыль, пыль
Вторая англо-афганская война, на сей раз за полное подчинение Афганистана, оказалась затеей непредсказуемо трудной. Кабул-то взяли легко, и крупные города оккупировали без проблем, но тогда только и началось. Во время мятежа в Кабуле погиб эмир-марионетка, затем, повторив судьбу знаменитого предшественника, Алексанлдра Бернса, – резидент Луи Каваньяри, лучший после смерти Конноли разведчик Британии. Дальше – больше. Принц Айюб-хан, объединив несколько пуштунских кланов, поднял знамя джихада, и 27 июля 1880 года корпус «красных мундиров» был растерт моджахедами в прах при Майванде, где, к слову сказать, был тяжело ранен военврач по имени Джеймс Ватсон. После чего на борьбу с «неверными» встала почти вся страна. В конце концов, правда, с огромным трудом, англичанам удалось добиться своего, если и не вполне, то в значительной степени, – и лишь потому, что на их сторону встал тот самый Абдуррахман-хан, десять лет сидевший в Самарканде под крылом у русских, прекрасно знавший русский язык и друживший со многими царскими генералами. Судя по ярким и подробным мемуарам, оставшимся после него, он вовсе не верил «корыстолюбивым, лицемерным англичанам», напротив, хотел бы видеть своими покровителями «моих русских друзей, храбрецов, благородных не менее, чем мы, дети гор Патаны», но планов на Афганистан у России не было, а упускать удобный, скорее всего, неповторимый случай застоявшийся политэмигрант не собирался. В связи с чем, убедившись, что к намекам генерал-губернатор не прислушивается, по-английски, не прощаясь, покинул гостеприимный Самарканд и объявился «за речкой», где и был радостно принят племенами, по разным причинам не любившими Айюб-хана.
Общими усилиями чересчур удачливого и не в меру непримиримого принца одолели, герой Майванда, так и не войдя в Кабул, бежал к персам, а война понемногу сошла на нет. В соответствии с договором, подписанным в Гандамаке, «красные мундиры» went home, а Кабул отказался вести внешнюю политику «без посредничества Великобритании», но не даром, а в обмен на солидную ежегодную субсидию. На всякий случай, чтобы новый эмир не своевольничал, вице-король Индии, связавшись с тосковавшим на чужбине Айюб-ханом, назначил небольшую пенсию и ему – просто так, безо всяких условий, сугубо «в знак уважения», однако Абдуррахман все понял правильно. Между тем Россия продолжала обживаться. В 1880–1882 годах были усмирены и приведены в порядок туркменские оазисы, ранее подчиненные хивинскому хану, а ныне уступленные русским. Непонятной оставалась только ситуация с оазисом древнего Мерва. Обитавшие вокруг него племена сарыков и саголов считались «вольными», а следовательно, зона их кочевий имела статус «нейтральной». Однако вели себя они, не считаясь с новомодными установлениями, традиционно промышляя грабежом караванов и налетами на Хиву, хан которой с полным основанием просил русских прекратить беспредел. В 1882-м, когда набеги стали мешать строительству железной дороги через Кызылкум, начальник Закаспийской области генерал-лейтенант Александр Комаров поставил перед столицей вопрос о необходимости «усмирения племен Мерва, ставшего гнездом разбоя и разрушения, тормозящим развитие всего края». Разрешение было получено с оговоркой «Обойтись без шума!» – и выполнено именно так. После сложных переговоров, 25 января 1884 года депутация аксакалов Мерва, прибыв в Ашхабад, поднесла Комарову прошение на имя императора о принятии города Мерва в русское подданство. Разумеется, согласие было дано, и вскоре мервцы присягнули на верность Империи.
Восточная логика
Хотя занятие русскими Мерва никаких договоренностей не нарушало, англичане сочли случившееся даже не вызовом, а переходом красной черты. Лорд Дафферин, вице-король Индии, получил соответствующие указания из Лондона, и Абдуррахману пришло время платить по счетам. Без малейшей возможности увильнуть: к этому времени белые друзья принудили шаха отказать в убежище беглому Айюб-хану, сняв его с пансиона, и тому не оставалось ничего иного, как откликнуться на дружеское приглашение перебраться под крыло былых врагов, с соответствующим статусом и пенсией. О чем сразу же сообщили «союзнику», дав понять, что если тот проявит хоть какое-то непослушание, герой Майванда может и появиться. С деньгами и оружием. Вариантов не было. Весной 1884 года Абдуррахман послал в принадлежащий племенами сарыкам и саголам оазис Пенджше войска генерала Наиба Сапартемур-хана, занявшие селение Аграбат, считавшееся ключом к горным дорогам, и в июне объявил об аннексии этой территории. Туркменам это крайне не понравилось. То есть под крышу эмира они бы пошли (не все ли равно, под чьей властью разбойничать?), но обойтись без Мерва, своей базы и ярмарки, не могли, а дорога в Мерв подданным эмира была заказана. Так что туркменские вожди обратились к российскому командованию, требуя как-то решить вопрос, после чего русские, ссылаясь на пожелание «вольных туркменских обществ, желающих принять принять русское, но отнюдь не авганское подданство», заявили протест, потребовав отозвать гарнизон из Пенджше. Разумеется, безуспешно. Более того, одновременно с учтиво-жестким отказом эмира пришло известие о том, что колонна «красных мундиров» численностью в полторы тысячи человек под командой генерала Лэмсдена при хорошем артиллерийском парке вошла в Герат. Чуть позже стало известно, что часть ее, по согласованию с Абдуррахманом, преодолев перевал, заняла городок Гульран, лежавший в предгорьях, недалеко от оазиса Кушка, и объявила себя «разграничительной комиссией». Это и само по себе было наглостью, но куда больше рассердила русское командование активнейшая деятельность «простых торговцев», повадившихся курсировать от кочевья к кочевью, рассказывая, как здорово будет жить храбрым сарыкам под властью великой «Бадшах-Ханум» из Лондона.
В подкрепление слов «простые купцы» безвозмездно, то есть даром, раздавали яркие халаты, шитые золотой тесьмой, самые настоящие офицерские кепи и даже револьверы, в связи с чем вожди пустынников вереницей потянулись в Гульран, где «почти самый главный сардар» наделял их серебряными монетами и золотыми соверенами с ушком, чтобы носить на одежде вместо медалей. Почтенным аксакалам поясняли, что каждый носитель такого знака становится «двоюродным братом Бадшах-Ханум», а затем предлагали сравнить хорошо им знакомую русскую «берданку» с английским четырнадцатизарядным винчестером, спрашивая, следует ли пояснять мудрым старцам, что британцы в 14 раз сильнее презренных русских? Пояснять нужды не было. Что 14 больше одного, люди песков понимали. А потому перестали остро реагировать на бойкость «душманов», с января 1885 года понемногу просачивавшихся с границ Пенджше в центр оазиса, к городкам Тахта-Базар и Таш-Кепри, владея которыми, можно было держать под контролем водные ресурсы региона. Теперь, когда в песках творилось уже не непонятно что, а конкретные земляные работы, русское командование, вообще-то имевшее указание не обострять, не могло не реагировать. В Таш-Кепри выехал казачий разъезд, однако, наткнувшись на превосходящий числом афганский заградотряд, без лишних слов открывший огонь, отошел, после чего генерал Комаров срочно известил Петербург о происходящих на границе безобразиях и попросил указаний. Ответ пришел быстро. Официальный приказ «От столкновений воздерживаться, огня не открывать». И – в том же пакете – личная записка Государя: «Мерзавцев выгнать, и проучить как следует!».
Ограниченный контингент
И закрутилось. Официально, так чтобы шпионы, которых среди туркмен была тьма-тьмущая, слышали, озвучив приказ – «От столкновений воздерживаться!», – Александр Виссарионович срочно направил коллеге Лэмсдену депешу с требованием немедленно прекратить деятельность «разграничительной комиссии» и уйти из нейтральной зоны, прихватив с собой «авганских разбойников». Параллельно в глубокой тайне формировался ударный Мургабский отряд, уже к началу марта ставший вполне боеспособным. А в начале марта, сразу после получения отрицательного ответа из Гульрана, колонны, возглавляемые лично Комаровым, двинулись на Таш-Кепри, который, несмотря на трудности перехода, и был 24 марта взят без единого выстрела; броском небольшой группы «пластунов» были очищены от аскеров эмира и стратегически важные высоты Кызыл-Тепе. Российские войска (восемь рот пехоты, три сотни казаков, одна сотня конных туркмен – всего 1760 человек при четырех легких горных орудиях) вышли в прямое соприкосновение с позициями афганцев (2500 конницы, 1500 пехоты, 8 новейших британских орудий и 11 старых литых пушек). Здесь же, впритык к частям Наиб Сапартемур-хана, располагалась «полномочная миссия разграничительной комиссии» (27 офицеров и около 60 «томми»). Сразу, однако, не атаковали, хотя казачки и солдатики, как писал позже в отчете генерал, «с большой бодростью просили позволить размяться». К афганскому сардару поехал капитан Прасолов с убедительной просьбой начальника Закаспийской области очистить левый берег Кушкасу по-хорошему, потому как через пять дней будет сильно хуже. В ответ сарбазы начали еще шустрее зарываться в землю и насыпать укрепления, уповая, что белые братья что-то придумают. В самом деле, Лондон нажал, гарантируя, что если русские не станут атаковать, то и афганцы вглубь Пендже больше не сунутся; 25 марта Петербург устами министра иностранных дел объявил, что таким вариантом, пожалуй, будет удовлетворен, а 28 марта то же самое было повторено уже от имени Государя. После чего Комаров вновь согласился начать переговоры и послал в штаб афганского сардара своих представителей.
Однако надолго идиллии не хватило: во-первых, случилась неприятная история с капитаном Томасом Йетта (офицер «разграничительной комиссии» капитан Йетта, прикомандированный к афганскому отряду, забыв, с кем имеет дело, позволил себе намекнуть нескольким близким к генералу офицерам, что только счет в лондонском банке делает человека счастливым), а кроме того, пока русские парламентеры вели степенные беседы, афганские отряды очень осторожно, как бы без ведома сардара, выдвинулись вперед и заняли выгодные позиции на расстоянии двух выстрелов от лагеря Комарова, взяв его в клещи. После чего, утром 29 марта сардару было направлено личное письмо. «Требую, – писал его превосходительство, – чтобы сегодня до вечера все подчиненные Вам военные чины до единого вернулись в прежние стоянки. Переговоров и объяснений по этому вопросу не будет. Вы, обладая проницательным умом, понимаете меня и, вероятно, не допустите, чтобы я свое требование привел в исполнение сам». Ответа, естественно, не было: решать что-то сам сардар не мог. Зато стало известно, что «кызыл-сарбазлар», люди в красных мундирах, ездят по аулам и раздают «кумыш-манат», серебряные монеты, всем, кто готов напасть на русских, суля храбрецам всю добычу из лагеря «неверных» и много ружей в подарок от «Бадшах-Ханум» в придачу. Причем общий сход джигитов на эту тему, как доносили доброхоты, состоится завтра, 30 марта, после полудня, и вероятность согласия растет не по дням, а по часам. Ждать было нечего и некого. Афганцев и без того было вдвое больше, чем русских, их артиллерия превосходила русскую по всем статьям, а за счет туркмен корпус Наиба Сапартемура мог увеличиться тысяч до семи, единственный же резервный отряд, сотня казаков из 1-го Казачьего полка, ожидался не ранее 3 марта, да и сама по себе ничего не решал. Короче говоря, Комаров приказал наступать.
Бег на длинную дистанцию
Рассказывать о самом сражении, описанном многими участниками событий, как с одной стороны, так и с другой, видимо, нет нужды. Хотя некоторые детали любопытны. Когда русские части двинулись вперед, имея приказ «оказывать воздействие на неприятеля одним лишь бравым видом, огня же первым не открывать», перед фронтом афганской конницы затянул молитву мулла, «пение которого, – как вспоминает Ламанов, – вызвало у авганцев воодушевление, а наших туркмен смутило». Замешательство, впрочем, тотчас пресек подполковник Максуд Алиханов-Аварский, командующий русской кавалерией. Выстрелом в воздух заставив туркменских всадников успокоится, он обратился к ним с краткой, но выразительной речью: «Не робейте, братцы! Опоздал мулла, афганский Аллах еще спит, а русский Аллах уже напился чаю. Клянусь Кораном, Он на нашей стороне, дадим им трепку, они убегут. Аллах-у– Акбар!». Туркмены приободрились, выровняли строй, и в этот момент с флангов неприятельских позиций началась частая, очень точная – британские специалисты дело знали – канонада, смешавшая первые шеренги атакующих, и Комаров наконец приказал стрелять на поражение. А дальше пошло быстро. Конная масса афганцев развернулась в лаву. Ее начальник Бабар-хан и его всадники, имея за плечами опыт Майванда, комплексов перед европейскими армиями не испытывали и огня не боялись. Опрокинув туркменскую милицию, они вышли во фланг русской пехоте, но, наткнувшись на залпы казаков, залегших в заграждении, все же притормозили, а затем, после гибели командира, обратились в бегство – кто через мост, кто вброд, через саму Кушку, – быстро ставшее паническим. На какое-то время наступление пехоты на окопы сдерживалось плотным ружейным и орудийным огнем, однако в дело вступила русская батарея – и наступил перелом. В общем, все шансы выиграть артиллерийскую дуэль были у афганцев, но при первых же разрывах снарядов поблизости британские «советники», бросив батареи и подчиненных, покинули позиции, причем невероятно шустро. «Не запрети Аллах русским иметь много жен, – писал по итогам Абдуррахман вице-королю Индии, – ваши офицеры пригодились бы им в качестве евнухов. Они виновны во всем. Мои люди бились, а они бежали к Герату, не выждав ни одного момента (…) Они были до такой степени испуганы и нервозны, что бежали, не будучи в состоянии отличить друзей от врагов. Некоторые потеряли лошадей и в страхе бежали даже и босиком, обгоняя конных». В итоге русская пехота рывком добралась до окопов. Как признавал позже Комаров, «авганцы сражались храбро, энергично и упорно, оставшиеся в крытых траншеях даже по окончании боя не сдавались; все начальники их ранены или убиты», и все-таки после короткой рукопашной сарбазы побежали, подставив спины собственным, развернутым теперь в их сторону орудиям.
Двадцать минут спустя через Кушку, давя упавших, бежала уже вся афганская пехота, а туркменская милиция, срочно вернувшись из песков, куда дала ноги при столкновении с лавой Бабар-хана, вовсю грабила афганский лагерь, навьючивая лошадей всем, что под руку попало. А попало много: два знамени, 317 шатров, 70 верблюдов, все восемь пушек. На поле боя осталось 509 человек убитыми (русские потеряли 10 человек, в том числе 3 туркменов), количество раненых по сей день неведомо (у русских 5 тяжелых и 39 слегка), в плен сдались 24 сарбаза. Могло быть и больше, не запрети Александр Виссарионович переходить Кушку. Туркмены, правда, очень просили, но им было разъяснено, что они теперь подданные Империи, а Империя за зипунами не ходит. Зато уже 31 марта в ставку Комарова прибыли аксакалы сарыков и сагоров с «нижайшей мольбой» считать их отныне «покорными подданными белого падишаха». Из Петербурга, правда, пришла депеша с указанием, что все, в общем, нормально, однако «…Его Величеству благоугодно знать в подробности причины, побудившия Вас поступить вопреки переданному Вам повелению: всеми силами воздерживаться от кровопролитного столкновения», но сразу по получении и прочтении рапорта, Государь, подчеркнув в тексте красным слова «Нахальство афганцев вынудило меня…», поставил в левом верхнем углу резолюцию: «Принять как достаточное».
Хотят ли русские войны?
Столкновения в далеких песках в Лондоне ждали, но такого исхода – никто. Пресса в полном смысле слова взвыла о «скором вторжении русских в многострадальный Афганистан», интервью с британскими офицерами, «чудом спасшимися из русского ада», мгновенно стали бестселлерами, общественность встала на дыбы, создав три комитета «помощи мирному, свободолюбивому афганскому народу». Соответствующим образом отреагировало и правительство Ее Величества, направив в Петербург ноту протеста. Требования, в общем, сводились к следующему: разжаловать и отдать под трибунал генерала Комарова за «самоуправство и преступление против цивилизации», принести официальные извинения Афганистану, передать эмиру территории за Кушкой и Мерв в виде «возмещения», а также выплатить компенсации «пострадавшим от жестокости русских войск» подданным Великобритании. Ответ требовали дать в течении пяти дней. Утром пятого дня, за несколько часов до срока, Александр III дал аудиенцию Александру Комарову, лично вручив ему Георгиевский крест, золотую шпагу с бриллиантами и 50 наградных комплектов орденов Святой Анны для офицеров и медалей для нижних чинов. Лондон направил еще одну ноту, много более резкую, требуя передачи вопроса о Кушке в международный арбитраж. Государь молчал. Когда молчание стало красноречивым, правительство Ее Величества объявило частичную мобилизацию, а «Times» заговорила о неизбежности «справедливой войны за свободу Афганистана» и начала сбор пожертвований. Со стороны России реакции не было. В июле на заседании британского кабинета был утвержден план ударов по черноморским портам России – Севастополю и Одессе, флот приведен в состояние «№ 2» (повышенной боевой готовности), а британский посол вручил российскому министру иностранных дел Гирсу очередную, по тону фактически равную ультиматуму ноту, потребовав ответа в течение суток.
Ситуация накалилась до такой степени, что министр испросил срочной аудиенции, на которой сообщил императору, что Империя стоит на грани войны, однако Александр Александрович, выслушав, ответил предельно коротко – знаменитым «Хотя бы и так…», – повелев передать свое мнение послу «в точности, без всякой дипломатии». А когда крайне встревоженный Гирс исполнил указание, выяснилось, что в запасе у посла имеется еще одна нота, где в учтивейших выражениях сообщалось, что правительство Ее Величества, «уважая и учитывая интересы Российской Империи», готово заключить «взаимоустраивающее» соглашение о разграничении южных границ. Каковое и было подписано 10 сентября 1885 года. Практически все, за малым исключением, спорные районы, согласно договору, остались за Россией, со своей стороны, давшей согласие считать Афганистан «зоной интересов» Великобритании. То есть признать факт, который Петербург, собственно, не оспаривал и раньше. Еще через несколько месяцев в Ташкент прибыло посольство из Кабула. Эмир Абдуррахман, выражая «искренние чувства к России и уверенность в понимании истинных мотивов его действий», просил наградить всех участников похода Комарова специально учрежденной афганской медалью «Львиное сердце. Защитникам крепости Кушка. 1885 год», а самого Александра Виссарионовича – старинной саблей из сокровищницы эмиров, по преданию, принадлежавшей некогда самому Тамерлану. Награды были с благодарностью приняты и вручены по назначению, после чего отношения между сопредельными государствами стали безоблачными на век вперед. Даже когда в 1892-м, исполняя приказ командования, русские войска под началом полковника Ионова двинулись в горные районы Памира, на которые эмир тоже имел виды, спорные территории по приказу Абдуррахмана были очищены. Более того, отряды афганцев оказали отряду Ионова помощь в изгнании китайцев, войска которых тоже успели просочиться в высокогорье. Что любопытно, именно в этих экспедициях впервые не упустили случай проявить себя молодые капитаны Лавр Корнилов и Николай Юденич – но это уже ни к Кушке, ни к Большой Игре никакого отношения не имеет.




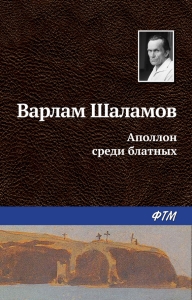

Комментарии к книге «Идем на восток! Как росла Россия», Лев Рэмович Вершинин
Всего 0 комментариев