Эмиль Абрамович Паин Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России
От автора
Фонд «Либеральная миссия» инициировал второе издание моей книги спустя всего несколько месяцев после выхода первого в декабре 2003 года. Не скрою, мне это приятно – так же как и то, что тираж первого издания разошелся в мгновение ока, а посещаемость интернет-сайта, где была представлена книга, оказалась рекордно большой.
Пользуясь случаем, я внес в книгу некоторые дополнения. Прежде всего они связаны с итогами последних президентских выборов и проявившемся на них эффекте «демонстративной лояльности» жителей республик Российской Федерации, а также с показательным объединением Коми-Пермяцкого АО с Пермской областью. Также в настоящем издании отражена свежая информация об этническом экстремизме и ряд других новых материалов. Здесь же впервые представлены материалы обсуждения книги, состоявшегося в Москве 5 февраля 2004 года.
Сама же идея этой книги родилась несколько лет назад в ходе дискуссии «Десять лет после августа», организованной Фондом «Либеральная миссия» 21 сентября 2001 года. Участниками дискуссии была высказана мысль о том, что современные либеральные мыслители в России сумели более или менее ясно для российской общественности сформулировать идеи экономической модернизации общества, менее четко определили либеральные ориентиры в сфере общей политики и практически не высказали своей позиции по проблемам этнической политики. Это заметно ослабляет концептуальный потенциал либеральной политики не только в этой области, но и в ряде смежных областей, в том числе при решении таких кардинальных вопросов развития страны, как реформирование административно-территориального управления, совершенствование федеративных отношений, проведение миграционной политики, развитие российской культуры и др.
Стремление хоть в какой-то мере восполнить этот пробел и стимулировало работу, результаты которой мы предлагаем оценить читателям.
Исследование выполнялось в Фонде «Либеральная миссия» как часть более широкой исследовательской темы «Модернистский проект» [1] .
Работа над этнополитическим компонентом «Модернистского проекта» продолжалась с января по сентябрь 2003 года. В ней приняли участие многие известные российские эксперты, выступившие на организованных Фондом семинарах – ситуационных анализах, которые были посвящены трем узловым проблемам этнической политики:
1. Русский вопрос в России. В чем суть этого вопроса? Каковы функции и роль этнического большинства в процессе нациестроительства в России? Должна ли федеральная власть проводить особую политику для решения проблем этнического большинства?
2. Этнические аспекты федерализма. Совместима ли асимметричность федерации (наличие областей и республик) и сохраняющаяся этнополитическая специфика ряда ее субъектов, прежде всего некоторых республик, с идей развития гражданского общества и гражданской нации? Какое влияние оказала рецентрализация управления, доктрина «вертикали власти» на этнофедеративные отношения в России? Какой должна быть политика властей в этой сфере?
3. Этнические аспекты миграционных процессов. Способствует ли миграция росту этнофобий? Каковы среднесрочные перспективы этнических миграций? Какой должна быть взаимосвязь между миграционной и этнонациональной политикой?
Ни в российской политической практике, ни в исследованиях российских ученых готовых ответов на поставленные вопросы не существует, поэтому обсуждение их было весьма интересным и, как мне представляется, плодотворным. Первоначально у меня, как у руководителя исследовательского проекта, была мысль просто обобщить и отредактировать выступления участников обсуждений и этот материал представить на суд читателей. Однако в процессе работы я по ряду причин отказался от этой идеи. Во-первых, материалы указанных ситуационных анализов представлены на сайте Фонда «Либеральная миссия», поэтому заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с ними в оригинале. Во-вторых, мы специально приглашали на наши семинары специалистов разных областей знания, а главное, людей, отличающихся своими политическими установками и отношением к предмету исследования, поэтому обобщить их позиции оказалось практически невозможно.
В-третьих, все три наши дискуссии, при обилии высказанных на них интересных идей, все же не дают целостного представления о рассматриваемых проблемах, и прежде всего потому, что не вписаны в общий контекст этнополитических процессов. Поэтому было принято решение, поддержанное руководителями Фонда, написать книгу не столько на материалах, сколько «по мотивам» прошедших семинаров. Основное внимание в ней уделено анализу главных тенденций этнополитических процессов, механизмов, приводящих их в движение, а также авторскому видению контуров национальной политики и ее составной части – этнической политики – в концептуальной перспективе модернистского проекта.
Выражаю свою искреннюю благодарность всем участникам ситуационных анализов – Л. М. Дробижевой, А. Г. Гришановой, Л. Д. Гудкову, Ж. А. Зайончковской, Н. В. Зубаревич, И. М. Клямкину, И. М. Кузнецову, Н. М. Лебедевой, В. И. Мукомелю, Т. В. Полосковой, В. П. Расторгуеву, Л. В. Смирнягину, Е. И. Филипповой, Е. Г. Ясину.
Введение
Идея государства-нации, подразумевающая сочетание демократического типа государственного устройства и гражданского типа нации, – такой же знаковый признак либерализма и модернизма, как рынок, демократия и свобода слова. По-моему, взгляды на феномен нации даже в большей мере характеризуют модернизм мышления современных политиков, чем, скажем, взгляды на свободу рыночных отношений. В самом деле, не просто определить, кто больший рыночник – Хайдер или Шредер, Ле Пен или Ширак, зато легко отличить названных политиков по их отношению к миграциям, к меньшинствам, представителям разных рас и конфессий. А за этим стоит более фундаментальный вопрос: какую модель нации отстаивают маргинальные политики типа Хайдера или Ле Пена и те, кто олицетворяет в цивилизованном мире политическую респектабельность, – нацию гражданскую, равноправную или этническую, в которой есть главный, «свой» народ и народы прочие, второстепенные, «чужие». Тот факт, что феномен нации практически выпал из поля зрения российских либералов, свидетельствует лишь о том, что отечественный либерализм идеологически еще не самоопределился и, подобно мольеровскому герою, еще не знает, что говорит прозой.
В России никогда не было национальной политики как нациестроительства (nation-building). Министерства и ведомства, которые считались ведающими такой политикой, на самом деле занимались более узкими вопросами, теми, которые включаются обычно в понятие «этническая политика». Однако и в этом случае можно говорить о присущей российской политической традиции узости представлений о ее предмете. В России этническую проблематику привыкли связывать только с проблемами меньшинств (точнее, нерусских народов), а отсюда как бы сам собой напрашивается вывод: «Стоит ли заниматься проблемами 15–17 % населения, когда у нас есть более важные задачи?» Между тем проблемы этнических меньшинств трудно отделить от проблем этнического большинства жителей. Скажем, чеченская проблема затрагивает не только чеченцев, составляющих сотые доли процента населения России, но вот уже почти десять лет будоражит все российское общество.
Не менее важно и то, что в современной России все более актуальными становятся и особые проблемы этнического большинства, русских, хотя бы потому, что представители этой этнической общности сегодня демонстрируют более высокий уровень национальной озабоченности, чем представители многих других национальностей. Зоны проявления этнополитических проблем все более смещаются из республик в русские регионы России. Объектом ксенофобии ныне выступают не только «чеченские сепаратисты и террористы», но и большая часть мигрантов, особенно иноэтнических. Мигрантофобия, в свою очередь, выступает преградой для развития экономики, испытывающей потребность в притоке рабочей силы. Нужна миграция и для поддержания приемлемого уровня воспроизводства населения. Так что проблемы, которые мы рассматриваем, так или иначе затрагивают практически все сферы развития страны и общества.
Разумеется, не только недостаток внимания к национальным, этнополитическим проблемам и узость их трактовки обусловили отсутствие у политиков либерального направления, да и у других политических сил, целостной концепции нациестроительства. Еще в большей мере это объясняется реальной сложностью и «деликатностью» предмета размышлений, а также дискуссионным характером многих теоретических проблем, которые нельзя обойти при разработке концепций национальной политики.
Назову лишь некоторые из таких проблем, затронутых в настоящей работе.
О сущности нации. Это самый спорный и, я бы даже сказал, запутанный вопрос в мировом обществоведении. В книге дается краткий обзор дискуссий по этой проблеме, анализируются аргументы сторонников как этнической, так и гражданской трактовки понятия «нация». Обозначена в ней и позиция автора по этому вопросу. Не буду повторять ее здесь, скажу лишь, что я присоединяюсь к распространенному в мировой науке мнению о том, что переход от имперского типа государства к государству-нации Россией еще не завершен. При этом ни я, ни мои зарубежные коллеги не сомневаемся в том, что по своему государственному устройству современная Россия уже не империя, хотя немалая часть ее элиты сохраняет черты имперского сознания, более того, имперские признаки мышления в последние годы даже усилились и приобретают идеологическое оформление. В книге показано становление этой идеологии, названной автором «рецидивирующим традиционализмом», и обозначены политические факторы, выступающие ее активными проводниками.
Замечу, что в российском обществоведении преобладает крайне узкая трактовка понятия «империя» и производных от него понятий «имперская политика», «имперское мышление» и др. Обычно последние связываются только с внешнеполитической экспансией, с ориентацией на захват новых земель. Однако функции империи никогда не сводились только к захвату территорий, еще важнее была функция их колонизации и удержания. И в этом смысле весьма примечательно, что в новое для России время, в эпоху, фактически совпавшую с приходом к власти В. Путина, все большей популярностью пользуется традиционный, имперский, колониальный по своей сути, принцип удержания территорий, обладающих этнической спецификой. Принцип удержания, противоположный принципу добровольной и осознанной интеграции народов в федерацию, обозначен даже в официальных документах. Так, в Послании президента Федеральному собранию В. Путин называет в качестве подвига России «удержание государства на обширном пространстве» [2] .
И все же главным признаком империи является тип государственного устройства, основанный на принципах авторитарной самодержавной власти. Не всякое государство, ведущее экспансионистскую политику и владеющее колониями, называют империей. Республики, которые проводили колониальную политику, будь то феодальная Венецианская или капиталистическая Французская, удерживавшая свои колонии до середины 1950-х годов, не определяются в науке как империи. Римское государство захватывало колонии и владело ими задолго до того, как стало империей, однако историки различают республиканский и имперский периоды жизни этого государства.
Сегодня многими забыт первоначальный смысл латинского слова imperator – повелитель, самодержец. Если вдуматься в него, то становится понятно, что имперская политика начинается не с колоний, а с метрополии, в которой демократия (в своих ранних формах) заменяется автократией, где устанавливается имперский принцип подданства, противоположный принципу гражданства. Подданные не могут оказывать влияние на формирование власти, они слуги царевы (напомню, что русское слово «царь», как и немецкое «кайзер», производно от caesar – император), поэтому даже население метрополии, народ, выполняющий функции «цемента империи», является государствообразующим только по отношению к еще более бесправным жителям колоний.
Конечно же, колониализм и экспансионизм не случайно связаны с имперским типом государственного устройства, они чаще всего и побуждают к большей концентрации власти, вплоть до ее сосредоточения в одних руках, однако именно самодержавная власть и генетически, и функционально является стержнем имперской политики. Ведь и в России она появилась не сразу, а, вероятнее всего, во времена Петра I, хотя завоевания и удержания обширных земель происходили и до него, например в правление Ивана Грозного. И дело здесь не только в юридическом определении России как империи, которое ей дал Петр, но и в фактическом устранении остатков феодального управления.
Современные историки выделяют систему признаков классической империи нового времени, отличающих ее как от феодальных государств, так и от государств конституционных, демократических. Все эти признаки связаны с двумя базовыми понятиями – с централизацией и иерархизацией. Назову лишь некоторые из этих признаков: централизация и иерархизация самодержавного аппарата, связанная с диверсификацией функций государственного управления и введением многоярусной Табели о рангах; иерархизация пространственного тела империи с четким разделением центра и иноэтнической периферии (провинций, колоний); иерархизация этнических общностей с выделением главного государствообразующего народа, государствообразующей религии и титульного языка; иерархизация сословий, в которых не просто отделяется плебс от аристократии, но и устанавливаются ранги самой аристократии; иерархизация культуры, в которой народная (простонародная) культура отделена от высокой, призванной к тому же обеспечивать функцию возвеличивания империи. Во внешней политике империи нового времени отличались от феодальных государств тем, что добивались легитимизации статуса великой державы и претендовали на роль блокообразующего лидера на международной арене [3] . Таким образом, и внешнеполитическая среда имперского мира была иерархизирована, в ней появились державы с признанным статусом разного ранга, да и завоевания в ней перестали носить сугубо прагматический смысл и зачастую в большей мере играли роль символов, доказывающих право на определенный статус в мировой политике.
Мысль о системном характере связи основных элементов империи, и прежде всего экспансионизма, колониализма и самодержавия (авторитаризма) при ведущей роли последнего, развивается в настоящей книге, является одной из важнейших в ней и во многом определяет авторскую концепцию.
Для своего времени классическая империя была передовой формой государственной организации, которая стала изживать себя лишь к середине XIX века с появлением и утверждением новых, более жизнеспособных образцов государственного устройства. Однако в XX столетии появились «вторичные империи». Это особые (диктаторские) модификации империй, сохранившие их главную сущность – авторитаризм и производные от него свойства политики – экспансионизм и колониализм.
Два таких государства сыграли наибольшую роль в истории XX века. Одно из них официально именовалось империей (германский Третий рейх), второе называлось Союзом Советских Социалистических Республик, хотя фактически они мало отличались как друг от друга, так и от классических империй. Их сходство не ограничивалось только тоталитарным подавлением всех форм самоорганизации общества. Оно проявлялось также и в утрированном, даже по сравнению с классическими империями, уровне централизации и иерархизации не только власти, но и всей жизни общества включая культуру и науку, в которых устанавливалась многоярусная вертикаль рангов, а также во внешних символах власти, например в склонности к имперской помпезности архитектуры, музыки, литературы и т. д.
В какой-то мере новые диктаторские империи отличаются от классических демонстративным использованием символов народовластия – конституций, выборов, парламента. Однако и это не было такой уж новацией, поскольку и Римская империя сохраняла институт сената как дань республиканской традиции и также использовала его исключительно как декоративный атрибут, что позволило, например, императору Калигуле назначить сенатором своего коня.
Более существенная особенность новых империй заключалась в том, что они постоянно нуждались в мобилизации общества на основе различных видов страха, и прежде всего ксенофобии (страха по отношению к чужим). В книге делается попытка объяснить, почему такие свойства диктаторских империй, как ксенофобия и этнонационализм, в принципе не присущи классическим империям в периоды их стабильного развития.
Хочу обратить внимание на кажущиеся существенными различия между двумя разновидностями вторичных империй по характеру используемых ими мобилизационных ресурсов. Гитлер, как известно, в основном опирался на разжигание этнорасовых фобий, направленных против так называемых неарийских народов, а Сталин – на социальную ненависть к классовым врагам. Однако на самом деле эти различия сводятся лишь к неодинаковым пропорциям использования одних и тех же мобилизационных ресурсов. Гитлеровская партия называлась национал-социалистической и, по крайней мере во фразеологии, позиционировала себя как антикапиталистическая, при этом этнорасовые враги одновременно были и классово чуждыми (мировое еврейство – мировые банкиры). Сталин же дополнял классовую ненависть разжиганием этнофобий по отношению к народам-«предателям», проводил этнические чистки (депортации). В Германии власть опиралась на иерархию этнорасовых обществ: немцы провозглашались государствоообразующим народом, затем стояли неполноценные народы-расы и, наконец, выделялись народы-враги, подлежащие уничтожению. Но и в Советском Союзе существовала определенная, пусть и менее жесткая, форма иерархии народов, и Сталин также провозгласил русский народ руководящим, государствообразующим.
Нет нужды доказывать, что современная Россия не может быть отнесена ни к одному из названных типов империй. Вместе с тем все более заметно проявляющаяся тенденция возрождения имперского сознания выразительно свидетельствует о внутренней целостности имперского проекта. Так, идея удержания территорий и стремление к воспроизводству блокообразующих функций империи во внешнеполитической сфере неизбежно приводит к усилению авториторизма, который, в свою очередь, почти всегда сопровождается и ростом колониалистских настроений, и стремлением к воспроизводству иерархии этнических общностей (прежде всего, идеи государствообразующего народа), и даже возрождением культурного декора империи, выражающимся в растущей популярности помпезных архитектурных форм, в ностальгии по империи в литературе и искусстве.
Новая Россия – уже не империя, но она еще и не государство-нация. В государствах с давними демократическими традициями понятия гражданского демократического государства и гражданской нации настолько слились, что стали взаимозаменяемыми и часто пишутся через дефис – nation-state. Между тем стоит задуматься о функциях каждого из элементов этой двуединой целостности.
В книге рассматриваются вопрос о соотношении понятия «нация» и таких близких к нему, но не тождественных понятий, как «народ», «население» и «гражданство», а также характер связи и природа различий наций и этнических общностей. Пока скажу лишь, что новая современная трактовка понятия «нация» в России чрезвычайно затруднена по множеству причин. Среди них языковая традиция, в которой закреплено отождествление этничности и нации. Эта традиция исторически мотивирована: если в России никогда не было гражданского общества, то не могли появиться и представления о гражданской нации. Впрочем, в русском языке в ограниченном виде присутствует понимание нации как общества, о чем свидетельствует, например, весьма популярный в советские времена термин «национализация (обобществление) собственности». В то же время нужно признать, что популярность этого термина никак не сказалась на традиционном для России понимании нации, хотя бы потому, что реально, на практике, национализация означала не столько обобществление, сколько огосударствление собственности.
Подобная практика огосударствления всей общественной жизни делает более вероятным переход от этнической трактовки нации не к общественной, а к государственнической, при которой нация воспринимается как синоним государства. Такая трактовка в последнее время действительно широко распространяется, закрепляясь в терминах «национальная армия», «Совет национальной безопасности», «национальные (государственные) интересы» и т. д. Подобная терминология используется и в других странах и пришла в Россию как раз из западного политического лексикона, однако там эти термины имеют иной генезис и воспринимаются иначе, чем в нашей стране с ее недавним имперским прошлым.
Для России вопрос о нации не сводится к выбору терминологии. Многое в нашей жизни будет зависеть от ответа на вопрос, кто же должен формировать национальные интересы – государство для общества или общество для исполнения государством.
Сама идея гражданской нации возникла как рефлексия по поводу роли общества по отношению к государству и тесно связана с доктриной «общественного договора» или «народного суверенитета». Суть ее хорошо известна, напомню лишь некоторые ее положения: не государь, а народ (общество) является источником власти, суверенитета; не народ служит государству, а государство является «слугой народа», проводником его коллективного национального интереса. Из этого вытекает также и то, что не отдельная группа (династическая, корпоративная или этническая), а все общество выполняет государствообразующую функцию, именно оно вырабатывает современные политические механизмы делегирования, разделения полномочий и другие, которые должны предотвращать возможность узурпации власти. Однако, каким бы демократическим ни было устройство государства само по себе, оно не дает гарантий от перерождения его в диктатуру. Только развитая гражданская нация с устоявшимися гражданскими ценностями и институтами гражданского общества может быть таким гарантом.
Подобные доктрины первоначально складывались в узких социальных слоях общества (горожане, буржуа), которые раньше, чем другие группы, осознали свои интересы в отношении к абсолютистскому государству, к империи как оппозиционные. Постепенно элитарные идеи, достояние интеллектуалов, становились массовыми в процессе кристаллизации организованного гражданского общества и развития его институтов.
Переход от вненационального развития в империях к гражданской нации, скорее всего, носит универсальный характер, однако траектория этого движения может быть разной, и в книге рассматриваются несколько реальных исторических моделей такого движения. Здесь лишь обозначу авторский подход к этнической форме развития нации.
Прежде всего, национальное и этническое самосознание имеет разную природу: национальное складывается в процессе осознания обществом своих интересов по отношению к государству, а этническое – во взаимоотношениях одной этнической общности с другой или другими.
По самой своей природе этническое сознание политически нейтрально, но может приобрести политическую (этнополитическую) направленность под влиянием элит, которые в науке принято называть «этническими антрепренерами». Сам этот термин имеет преимущественно негативное звучание, однако в действительности влияние этнических элит не обязательно противоположно целям модернизации общества, в том числе и целям формирования гражданской нации – все зависит от политической ориентации элит и их фундаментальных интересов в конкретных исторических условиях. Да и сама возможность появления этнонационализма различна в разных исторических обстоятельствах.
Во Франции XVIII века идею народного суверенитета отстаивало прежде всего этническое большинство, французы, которым для осознания своих особых социальных и политических интересов в борьбе с абсолютизмом не нужны были этнические подпорки. А вот в Нидерландах XVI века голландцы вначале осознали специфику своих интересов по отношению к испанским завоевателям, а затем, уже в ходе этнонациональной войны, – и специфику своих политических интересов в сфере национально-государственного устройства. Это пример того, как этнонационализм использовался в качестве трамплина на пути к осознанию идей гражданской нации, и такой путь был характерен для большинства государств бывших колоний, провинций неких империй. Однако немало и примеров того, как национальные движения, добившись освобождения от колониальной зависимости, сами перерождались в диктаторские режимы и свои государства превращали в микроимперии. И наконец, опыт Третьего рейха демонстрирует модель использования этнического национализма для возрождения империи уже не в колонии, а в метрополии. Автор предполагает, что третья из названных моделей является наиболее вероятной в случае развития этнического национализма в бывших центрах империй и применительно к этническим общностям, выступавшим в прошлом в роли «цемента империи».
По какому пути пойдет Россия?
В России гражданская нация пока не сложилась ни на культурно-ценностном, ни на институциональном уровне. Пока не проявился даже базовый, отправной фактор такого развития – устойчивое преобладание общероссийской гражданской идентичности населения по сравнению с этнической, региональной, конфессиональной и т. п. Не определена и во многом непонятна и траектория такого движения. Просматривающаяся в российской Конституции ориентация власти на развитие гражданской нации, объединяющей весь многонациональный (многоэтнический) народ страны, не конкретизирована в политической практике и пока слабо воспринимается не только в массовом сознании, но и в элитарных кругах. К тому же Конституция создавалась в эпоху, когда либеральные ценности, по крайней мере, декларировались как доминирующие в государстве. В новую же эпоху все большую популярность получают иные принципы формирования нации. Различные модели этнического национализма, основанные как на идеях превосходства одного «государствообразующего народа» над другим, так и на идеях этнического сепаратизма, лишь кажутся конкурирующими, а на самом деле взаимосвязаны и усиливают друг друга. В книге показано, как раскачивается в России этнополитический маятник, как нарушение баланса интересов любой из сторон межэтнических отношений (этнического большинства и этнических меньшинств) различными политическими силами приводит к дестабилизации не только самих этих отношений, но и всей политической жизни в стране.
Проблемы нациестроительства в России осложняются неустойчивым, волнообразным характером ее модернизации с заметными тенденциями к откату на путь традиционализма. Одним из проявлений этого отката, на мой взгляд, является и доктрина строительства «вертикали власти», или «рецентрализации», проявляющаяся в восстановлении унитарной по своей сути вертикали управления регионами России с использованием управленческих моделей, доказавших свою несостоятельность еще в советское время.
Однако традиционалистский откат не ограничивается только сферой политики, он проявляется также в идеологии и в массовом сознании. Поэтому в книге анализируется инверсия основных идеологем ельцинской эпохи в эпоху Путина, а также влияние смены политических и идеологических концепций на рост ксенофобии как этнополитической формы массового проявления традиционализма. Ксенофобия же, в свою очередь, выступает не только следствием традиционализма, но и поводом для его идеологов обосновывать свою доктрину «особого пути развития России», противоположного общим мировым тенденциям модернизации, ссылками на «волю русского народа».
Необходимость осознания природы перемен, происходящих в России, и в частности причин усиления традиционалистских тенденций в обществе, стимулируют научные и идеологические дискуссии [4] . Безусловно, правы те социологи, которые говорят, что в новую эпоху смещается сама ось публичной политики – уходит в прошлое противостояние между «демократами» и «коммунистами» [5] . Вопрос в том, что же сегодня пришло на смену прежней оппозиции и становится основным содержанием современной идеологической полемики. На мой взгляд, основным ее предметом, пока слабоосознаваемым сторонами дискуссии, является вопрос о нации, точнее, о взаимоотношениях общества и государства. Традиционалисты отстаивают идею огосударствления нации (общества), модернисты, напротив, предлагают проект национализации (обобществления) государства. Если государство не будет национализировано, то его могут приватизировать в своих интересах те или иные корпоративные группы, для которых лозунги этнического национализма станут лишь прикрытием, как это часто бывало в истории. Можно также образно определить эти различия как противоположность проекта укрепления вертикальных опор государства проекту сооружения горизонтального каркаса нации (общества).
Эта дискуссия между традиционалистами и модернистами вовсе не сводится к тому, что одна сторона выступает за сильное государство, а другая поддерживает анархию. Ее суть – в различном понимании того, в чем состоит сила государства: в интенсивности подавления и подчинения или в способности заинтересовывать общество и развивать инициативу его членов. Различны и предлагаемые механизмы достижения целей, по сути дела, общих как для традиционалистов, так и для модернистов, – роста консолидации общества, укрепления единства страны и обеспечения условий для ее экономического развития.
В отмеченной дискуссии присутствуют и этнополитические аспекты, поскольку традиционалисты обосновывают свой проект в основном декларативными ссылками на русские национальные традиции, которые якобы жестко задают коридор возможных вариаций модернизации в разных сферах жизни. Либеральная же часть спектра российских политических сил либо старается не замечать в этой дискуссии этнополитической проблематики, либо выступает с критикой этнополитических позиций своих оппонентов, указывая на несовершенство их аргументации, но не противопоставляет традиционалистскому проекту собственный конструктивный подход, иначе говоря, свой модернистский этнополитический проект. Поэтому автор предпринимает попытку представить себе, как могла бы развиваться дискуссия между традиционалистами и модернистами, если бы обе стороны сосредоточились на обсуждении этнополитических проблем. В такой воображаемой дискуссии базовым принципам традиционалистского проекта (имперская насильственность, иерархичность и унитаризм) могут быть противопоставлены модернистские идеи – идеи гражданской нации, мульткультурализма и федерализма. Основную же свою задачу автор видит в том, чтобы определить, каким может быть ответ различных этнополитических сил на традиционалистский имперский проект и насколько модернистский проект соответствует интересам различных этнических групп, включая, разумеется, и этническое большинство.
Явное или неявное присутствие этнополитической проблематики в современных идеологических дискуссиях усиливает необходимость рассмотрения еще одного фундаментального вопроса нациестроительства – вопроса о природе этничности.
В течение нескольких десятилетий в науке идет спор между сторонниками так называемой «примордиальной» концепции, рассматривающей этничность как природное, естественное (примордиальное) свойство людей, и «конструктивистской», определяющей этнические свойства как преимущественно социально и культурно обусловленные и уже поэтому исторически конструируемые и перестраиваемые. Этот, казалось бы, сугубо академический диспут имеет прямое отношение к современным идеологическим дискуссиям в России, поскольку модернисты преимущественно стоят на конструктивистских позициях, а традиционалисты, чаще всего стихийно, без опоры на теорию, исходят из примордиалистских установок и зачастую утрируют их, выстраивая утверждения, подобные, например, такому: «Если традиции естественны, то они незыблемы». Нет необходимости повторять здесь приводимые в книге аргументы, доказывающие, по крайней мере, спорность такого утверждения. Скажу лишь, что автор является сторонником умеренно-конструктивистской концепции. Ее «умеренность» состоит, прежде всего, в предположении о существовании пределов, границ в конструировании этничности, обусловленных множеством факторов – от доверия к «конструкторам» и их инструментам до численности этнической общности, ее социальной и образовательной структуры, расселения и др. Важным элементом, обусловливающим ограниченность внешних конструктивных воздействий на общность, является мера их соответствия социальным ожиданиям людей в конкретных исторических условиях. Разумеется, в наибольшей мере границы конструирования задаются инерционностью этнического сознания. Она может ограничивать результативность многих управленческих решений, даже косвенно связанных с этничностью, например в сфере национально-государственного устройства. Этнополитическая практика предоставляет множество примеров того, как благие по своим целям реформы в этой сфере, направленные, казалось бы, на политическую стабилизацию и укрепление целостности страны, приводили к прямо противоположным последствиям именно потому, что вызывали отторжение или даже сопротивление этнических сообществ.
В книге предпринимается попытка обозначить те управленческие решения, которые способны вызывать протест, сопротивление массового этнического сознания. Прежде всего, к ним относятся такие решения, которые связываются массовым сознанием с угрозой основным этническим символам (языку, «исторической территории», самоуправлению и др.), будоражат травмы исторической памяти, нарушают сложившийся баланс интересов этнического большинства, с одной стороны, и этнических меньшинств – с другой.
Говоря о формируемых этническим сознанием границах модернизации и любых других конструируемых изменений общества, в книге нельзя было обойти еще один фундаментальный вопрос – вопрос о роли элит в этнополитических процессах.
На этот счет существуют две точки зрения. По одной из них, элитарные слои общества всего лишь воспроизводят, транслируют и перерабатывают массовые стереотипы, по другой – элиты сами конструируют новые идеи и зачастую навязывают их массам. Я полагаю, что эти позиции на самом деле не являются взаимоисключающими. Они могут дополнять друг друга в разных условиях и на разных стадиях развития общества. Материалы этносоциологических исследований, используемые в данной работе, указывают на значительную роль элит в формировании этнических предпочтений, настроений. Вместе с тем, когда подобные настроения уже сложились и приобрели некоторую устойчивость, они сами оказывают влияние на поведение элит и на их социальный состав, скажем, через механизмы выборов, обусловливая спрос на типаж популярных политических деятелей, на продукцию массовой печати и массовой культуры.
Инерционные процессы представляют особый интерес для политической практики, поскольку именно они ставят политиков перед выбором: опереться на сложившиеся стереотипы, подстроиться под них или попытаться их переломить. Однако может быть и третий подход, в какой-то мере синтезирующий два вышеназванных: не только общество должно адаптироваться к модернизации, но и модернизация должна приспособиться к обществу, к его особенностям. Именно этот подход и защищается в книге.
Автор исходит из того, что инерционность этнического сознания не создает непреодолимых препятствий для модернизации страны. Совмещение задач модернизации и учета этнических традиций в мировой практике обычно достигается за счет эшелонирования различных реформ во времени и на основе региональной дифференциации преобразований с учетом достигнутого уровня модернизации регионов.
Признание многообразия форм и возможных траекторий модернизации является главным постулатом концепции «неомодернизма», последователем которой считает себя и автор. Если рассматривать идею «особого пути развития России» с точки зрения признания особенностей ее модернизации (своеобразия форм, темпов, последовательности), то и автор является сторонником такого особого пути.
Признание того, что специфичность развития России, как, впрочем, и любой другой страны, неизбежна, а также совместный поиск этой специфики как традиционалистами, так и модернистами создают возможность для перевода жесткой оппозиции между ними в форму конструктивного диалога.
Итак, дискуссия между традиционалистами и модернистами, отчасти реальная, отраженная в публикациях, отчасти воображаемая, моделируемая автором, стала смысловым стержнем настоящей работы. Под углом зрения этой дискуссии рассматриваются этнополитические процессы в современной России, и прежде всего, динамика этнического самосознания, чередование активности этнического большинства и этнических меньшинств. Эти процессы, так же как и модернизация, носят маятникообразный характер, поэтому одна из основных целей нашего исследования состояла в выявлении взаимосвязи между динамикой модернизации и этнополитических процессов.
Этнополитический маятник и волны модернизации
Интерпретации взаимосвязи рассматриваемых процессов
Постсоветскую историю России часто подразделяют на два периода, по времени правления двух лидеров. Сравнение эпохи Ельцина с эпохой Путина сегодня пользуется популярностью у политологов, и, на мой взгляд, такой компаративизм не лишен эвристичности. Период правления Бориса Ельцина часто называют эпохой революции, поскольку в это время протекали наиболее бурные процессы, связанные с инерцией распада СССР и становлением новой федерации в России, массовым притоком в нашу страну мигрантов из республик бывшего Союза, столкновением интересов внутри российской политической элиты и радикальным переделом собственности. С фактическим приходом к власти Владимира Путина в 1999 году совпало по времени начало периода, который сегодня называют эпохой стабилизации.
В этнополитической сфере важнейшей особенностью, разделяющей эти два периода, было чередование протестной активности, тревожности этнических меньшинств и этнического большинства [6] . Первый период постсоветской России прошел под знаком активности этнических меньшинств. Второй начался с активизации этнического большинства. Существует ли связь между сменой активности разных этнических общностей? Исследовательская гипотеза состоит в том, что эти явления взаимосвязаны и носят маятникообразный характер: активность меньшинств, прямо или косвенно, активизирует большинство, которое в свою очередь приводит к возобновлению активности меньшинств. Предполагается также существование зависимости между чередованием активности этнических общностей и модернизационными процессами в постсоветской России.
Относительно характера и успехов модернизации России существуют разные точки зрения среди социологов и политологов. Прежде всего, обсуждаются перемены в сознании, в социальной структуре населения с точки зрения соотношения в них традиционных и новых черт. Перечислю несколько таких точек зрения [7] :
• модернизация идет достаточно успешно, однако она может сорваться из-за неадекватных представлений элиты о процессах, происходящих в стране, и неадекватности самой элиты стоящим перед ней задачам;
• модернизация не имеет успеха, поскольку атомизация общества, распад традиционных структур превалируют над формированием современных корпоративных начал и интеграционных механизмов;
• модернизация носит неустойчивый, волнообразный характер – волны ее подъема сменяются волнами рецидивирующего традиционализма.
Маятникообразный характер этнополитических процессов как будто подтверждает волновую концепцию модернизации, однако интерпретация взаимосвязи динамики этнических процессов и волн модернизации может быть различной.
Концепция этничности как традиционализма. Если признать справедливым весьма распространенное представление о том, что всякий рост этнического самосознания усиливает традиционность населения, то при такой интерпретации волны традиционализма накрывают весь период перестройки в СССР и почти весь постсоветский период, за вычетом небольшого временного отрезка (между 1994–1998 годами), когда активность этнических меньшинств уже в основном спала, а активность большинства еще не набрала размаха.
Такая концепция не только не плодотворна для осмысления эмпирического материала, но и принципиально неверна по самой постановке проблемы, поскольку в ней, во-первых, смешиваются два разных феномена – культурные и социально-политические традиции, во-вторых, предполагается, что культурный традиционализм всегда соответствует политическому. Между тем существует немало примеров того, как общества, чрезвычайно бережно относящиеся к своему этнокультурному наследию, одновременно демонстрируют высокую склонность к экономическим и социально-политическим модернизациям. Англичане и японцы, французы и голландцы чрезвычайно дорожат своими культурными традициями, что не мешает им быть не меньшими модернистами, чем, скажем, жители Белоруссии, где забвение традиционных культурных норм, например национального языка, одно время было официальной доктриной администрации Лукашенко.
Культурный традиционализм в принципе не только не препятствует развитию гражданской нации, но и является одним из ее главных условий. Только общества, в которых существует традиция сакрализации таких атрибутов современности, как собственность, гражданские права, конституция, способны осуществлять последовательную модернизацию. И наоборот, те общества, где не сложилась традиция уважения конституции, собственности и гражданских прав; общества, членам которых необходимо все время объяснять и доказывать, почему нельзя постоянно пересматривать основной закон, периодически производить передел собственности и сомневаться в абсолютной ценности человеческой жизни, – такие общества обречены на постоянное чередование революций и контрреволюций, реформ и контрреформ. Традиционные культурные нормы, которые практически всегда имеют этническую оболочку и некоторую специфичность, выполняют в социальном мире такую же функцию, как инстинкты в биологическом. Человек как биологический феномен не смог бы выжить, если бы инстинктивно, не задумываясь, не отдергивал руку от раскаленного предмета. Человечество как социальное явление не выжило бы, если бы, например, не хранило не всегда объяснимую (и обычно не разъясняемую) на рациональном уровне традицию заботы о старых и немощных членах общества.
Этнический традиционализм может стать предпосылкой политического, только когда специально эксплуатируется в конкретных политических целях так называемыми этническими антрепренерами. В таких случаях те самые особенности этнического самосознания, которые обеспечивают автоматизм передачи культурных норм и культурного самосохранения человечества, становятся угрозой для социальной и политической модернизации. Эмоциональность этнических отношений используется для быстрой мобилизации масс; иррационализм восприятия традиций как должного позволяет внедрять в сознание нерациональные и иногда крайне опасные для самой общности политические цели; коллективная историческая память как хранитель традиций превращается с помощью пропаганды в механизм актуализации исторических обид и развития ксенофобии. Главное же, что коллективизм как источник сохранения коллективных представлений превращается в механизм тирании сообщества над индивидом. В условиях высокой этнической мобилизованности остракизму подвергается всякое инакомыслие, при этом коллективный «авторитаризм» общественного мнения часто бывает более жестким, чем авторитаризм личной власти. Не многие способны на поступок философа Мамардашвили, осмелившегося публично сказать, что его народ, избравший диктатора, не прав.
Механизмы инструментального использования этничности, манипулирования этническим сознанием хорошо изучены. Известна негативная роль этнических антрепренеров вообще (в теоретическом смысле) и в определенных исторических обстоятельствах в частности. Все это принимается автором в качестве базовых методологических установок данной работы. Однако я принципиально не согласен с представлениями, все больше утверждающимся в российской этнологии, о том, что всякая этническая мобилизация есть зло. Такие представления противоречат всему мировому опыту, показывающему, что подавляющее большинство современных государств мира когда-то были колониями или провинциями неких империй (Римской, Австро-Венгерской, Османской, Британской и др.) и само их появление стало возможным только как следствие протестной этнополитической мобилизации (не обязательно в форме национально-освободительных войн). Более того, бывшие колонии часто демонстрировали большую склонность к модернизации, чем страны-метрополии: Нидерланды по сравнению с Испанской империей, Соединенные Штаты по сравнению с Британской, Чехия по сравнению с Австро-Венгерской, Финляндия по сравнению с Российской империей и т. д. Сама логика антиимперской борьбы подталкивала новые независимые государства к развитию идей гражданской нации. Разумеется, история указывает и на другие примеры, когда новые государства приходили к диктатуре, но об этом мы еще поговорим.
Неверно полагать, что антиколониальная этническая мобилизация ушла в прошлое. До сих пор в мире существуют полноценные диктаторские империи, сохраняется и имперская политика у неимперских по своей внутренней организации государств, поэтому протестная этнополитическая консолидация неизбежна. Именно поэтому чрезвычайно важно учитывать целевую направленность этнополитических движений.
Вторая из рассматриваемых нами концепций взаимосвязи этнополитических и модернизационных процессов в постсоветской России как раз и основывается на учете политической направленности этнической активности. Точнее, речь идет об учете целей этнических элит, которые используют, и во многом направляют, этническую активность масс.
Концепция односторонней модернистичности меньшинств. В этом случае рассуждения обычно строятся следующим образом. Элиты этнических меньшинств направляли активность последних на разрушение имперских основ СССР и устранение их остатков в Российской Федерации. Такая направленность этнической активности делала ее частью модернизационного процесса, который продолжался до середины 1990-х годов. Элиты этнического большинства в России используют этническую активность, вызванную недовольствома масс, в противоположных целях – для реставрации имперского устройства и в этом смысле усиливают общую традиционализацию общества. Такая направленность этнических процессов проявилась после 1999 года, т. е. в «эпоху стабилизации».
Интерпретация, основанная на учете политических целей этнических активистов, кажется мне более обоснованной, чем огульная оценка этничности как фактора политического традиционализма. Однако и она требует уточнений, отражающих неоднозначность взаимосвязи этнополитических и модернизационных процессов.
Безоговорочная поддержка национальных движений этнических меньшинств как составной части общедемократического процесса была характерна для российских либералов времен перестройки и первых лет постсоветской России. Однако сама жизнь показала упрощенность подобных оценок. Так, некоторые лидеры этнических меньшинств, выступая с антиимперских позиций и в этом смысле выполняя модернизирующую функцию на общесоюзном и общероссийском уровнях, одновременно могли навязывать политически традиционные порядки внутри своих республик (союзных или автономных). Далее, какими бы благими целями ни мотивировались требования расширения самостоятельности республик, они зачастую нарушали баланс интересов большинства и меньшинств и в той или иной мере провоцировали рост традиционализма этнического большинства. И наконец, такая концепция неадекватно оценивает роль этнического большинства в модернизации.
Концепция модернистического потенциала этнического большинства. На мой взгляд, принципиально неверно рассматривать этническое большинство как носитель политического традиционализма. Политическая модернизация в целом и такой ее компонент, как переход от имперского общества к гражданскому, во всем мире чаще всего возглавлялись именно представителями этнического большинства. Да иначе и быть не могло, поскольку без опоры на большинство идея гражданской нации не может быть реализована. Именно представители большинства, как правило, выдвигали некие интеграционные модели для других этнических общностей. Эти модели были разными. Революционная Франция выдвигала идею гражданского равноправия для всех этнических общностей, но требовала культурной, по крайней мере языковой, однородности нации. Знаменитый лозунг аббата Грегуара гласил: все граждане должны говорить на одном языке, поскольку только тогда они могут сообщать свои мысли беспрепятственно и иметь равный доступ к государственным постам [8] . Впрочем, даже якобинская Франция проявляла терпимость к культурным особенностям этнографических групп, допуская некоторое культурное пространство для бретонцев и корсиканцев. Лидеры же этнического большинства Швейцарии, немцы, напротив, в качестве основы для национальной интеграции исходно выдвигали идею сохранения многокультурности и территориальной автономности как формы учета интересов народов, проживающих в стране.
Мировые модели формирования гражданских наций так или иначе учитывают этнические различия населения и в той или иной мере могут быть распределены на оси между французской и швейцарской моделями. Одни из них предполагают предоставление меньшинствам компенсаций за отсутствие возможности полноценной политической самозащиты электоральным путем, другие, как французская, этого не предусматривают, допуская все же какие-то формы культурных автономий, однако все они исключают возможность предоставления преимущественных прав большинству и какую-либо иерархичность построения системы межэтнических отношений. Такой тип отношений складывался только в имперских государствах, и прежде всего в государствах диктаторского типа.
Можно с уверенностью сказать, что во всех известных исторических случаях лидирующая роль представителей этнического большинства в интеграции общества сопровождалась их отказом от требований преимущественных прав для себя.
Почему привилегии меньшинствам менее опасны для общества, чем преимущества, предоставляемые этническому большинству? Прежде всего потому, что они носят заведомо компенсационный характер, тогда как преимущества большинству лишь усиливают его политическое доминирование. Еще важнее то, что преимущества, пусть даже чисто символические, большинству (составляющему 70–80 % населения страны) сразу же выводят этнический фактор в число основных социально-стратификационных и политических доминант общества. В таких условиях и речи быть не может о развитии единой гражданской идентификации для членов всего общества. Можно оспаривать результативность неких механизмов «защиты меньшинств», предусмотренных, например, Рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств (1998 год) [9] , однако совершенно очевидно, что такие меры не спровоцируют усиление авторитарных тенденций в обществе, напротив, демократия проявляет себя прежде всего в своем отношении к меньшинствам, ко всем их разновидностям – политическим, конфессиональным, этническим и даже сексуальным. В то же время исторический опыт показывает, что любые попытки предоставить особый статус большинству неизбежно приводили к росту авторитаризма, к диктатуре. Немецкое большинство Германии обрекло себя на диктатуру уже тем, что согласилось признать себя этнически и расово более полноценным, чем другие народы. Весьма вероятным было дальнейшее усиление тоталитарных тенденций и в Советском Союзе, если бы доктрина «руководящего народа», предложенная Сталиным в 1945 году [10] , успела реализоваться. Однако уже его преемник Н. Хрущев в числе первых своих решений провел общую либерализацию национальной политики, в частности принял указы о возвращении депортированных народов (1956 год).
Важно учитывать не только и не столько численность этнической общности, сколько ее роль в прошлой имперской жизни, поскольку именно этим определяется характер инструментов этнополитической мобилизации. Эти инструменты всегда связаны с актуализацией символов, хранимых в исторической памяти. Так, этническая элита меньшинств актуализирует в народной памяти прошлые обиды, связанные с угнетенным положением представителей этой общности в империи, что, как правило, предполагает требования расширения гражданских прав в современных условиях. Этническая же элита бывшего «главного народа» империи, «старшего брата», эксплуатирует совершенно иные воспоминания представителей этнического большинства, прежде всего ностальгию по символам империи: ее пространственному телу, былой мощи державы и былой роли «главного народа», и культивирует обиды, связанные с нынешним временем. Именно эта идеализация имперского прошлого как компенсация некомфортного положения в настоящем приводит к тому, что этническая мобилизация этнического большинства имеет своим наиболее вероятным следствием идею реставрации империи, пусть и в неявном виде.
Итак, только этническое большинство, оно же и электоральное большинство, способно возглавить процесс продвижения идей модернизации в обществе. Этническое большинство всегда является культурным эталоном для меньшинств, оно задает норму межэтнической толерантности, оно, как правило, характеризуется меньшей этнической тревожностью, меньшим уровнем ксенофобии и больше, чем меньшинства, готово к уступкам в межэтнических отношениях. Однако именно большинству более всего противопоказана политическая мобилизация в этнической форме. И первые годы жизни постсоветской России давали основания думать, что как раз для большинства социально-политические формы консолидации и самоорганизации более значимы, чем этнические.
Высокая этническая толерантность русских и практически всеобщее владение русским языком всех народов России еще недавно, казалось бы, позволяли прогнозировать сравнительно безболезненное развитие гражданской нации в стране. Но в том-то и состоит одна из проблем России, что процесс перехода от этнонигилистического сознания этнического большинства, характерного для условий империи, к национальному стал развиваться в направлении, противоположном ожидаемому.
Маятник активности этнических общностей
Первый цикл – активизация этнических меньшинств
Этот процесс стал заметным в канун распада СССР, и активность этнических меньшинств сохранялась на высоком уроне до 1993–1994 годов. Она проявилась, прежде всего, в ходе многочисленных этнических конфликтов, начиная с карабахского (1987 год). Инерция этого процесса сохранялась и в первые годы жизни постсоветской России. Именно национальные движения этнических меньшинств возглавляли так называемый «парад суверенитетов» – принятие российскими республиками деклараций о суверенитете, очень похожих на те, которые до того были приняты союзными республиками, ставшими вскоре независимыми государствами (1990–1991 годы).
Этнические меньшинства были сторонами многочисленных этнополитических конфликтов в России, как крупных, вооруженных, например осетино-ингушского, так и множества мелких, порой даже не замечаемых российским обществом, таких как конфликты между различными народами республик Северного Кавказа и Поволжья. И даже на международной арене в отношениях России с новыми независимыми государствами на первом этапе наибольшую активность проявляли этнические меньшинства. Примером может служить абхазский конфликт и участие в нем больших групп волонтеров, состоявших из представителей народов Северного Кавказа.
Однако уже к середине 90-х годов становится заметным спад активности этнических меньшинств. С этого времени не было ни одной серьезной вспышки этнического сепаратизма, за исключением чеченского, о котором особый разговор. После 1993 года практически не проявляет себя осетино-ингушский конфликт. И даже в таком котле потенциальных этнических противоречий, как Дагестан, затихли активно выступавшие до той поры национальные движения аварцев, лезгин, нагайцев, лакцев и др. Показательна ситуация в Татарстане. После 1994 года, а именно после подписания известного договора о разграничении полномочий между органами власти республики и федерального центра, перестали быть сколько-нибудь заметными такие некогда могущественные национальные партии, объединения и организации, как Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), комитет «Суверенитет», партия «Иттифак», объединение «Азатлык», Исламская демократическая партия, Комитет защиты Татарстана, Общество им. Марджани и др. Их лидеры не получили поддержки у населения на федеральных, региональных и даже местных выборах.
Причины взрыва политической активности и проявления различных форм недовольства этнических меньшинств в революционные периоды сравнительно хорошо изучены [11] . В предшествующие революциям эпохи тоталитарного или авторитарного правления недовольство меньшинств накапливалось и затем, в периоды слома режима, вырывалось наружу. Такой взрыв, в принципе, тем вероятнее, чем больше в исторической памяти народов накапливается обид, интерпретируемых как проявления этнической дискриминации. Российская история, особенно советского периода, дала для этого немало поводов. Она буквально переполнена фактами государственного произвола. Здесь и деление народов по сортам и рангам, и произвольное расчленение этнических границ, и, разумеется, различные виды этнических чисток, депортаций. Настроения недовольства были использованы национальной элитой в целях политической мобилизации меньшинств, однако, как уже было сказано, за десять лет такой мобилизации (с середины 80-х по середину 90-х годов) активность этнических меньшинств заметно спала. Сказалась усталость основной массы представителей этнических общностей, да и национальная элита отчасти успокоилась, поскольку реализовала многие свои политические цели (бывшие союзные республики стали независимыми, а российские – повысили уровень своей автономии). К тому же процессы приватизации и развития новых политических институтов, новых органов власти «оттянули» немалую часть этнических активистов. Все это в немалой мере обусловило стабилизацию этнополитических процессов в среде меньшинств.
Лишь одна Чечня как будто застряла в прежней эпохе. Лидеры чеченского национального движения не успели реализовать идею национальной независимости в эпоху этнических революций, и сейчас их действия выглядят как анахронизм. Другое дело, что отношение к чеченскому сепаратизму со стороны россиян могло бы быть совершенно иным, если бы в эпоху произвола национальной политики кто-либо из советских вождей приписал бы Чечню не к России, а, скажем, к Грузии, как Абхазию и Южную Осетию, или как Крым к Украине. В этом случае отношение российского общества к чеченскому сепаратизму могло быть столь же благожелательным, как к сепаратизму юго-осетинскому, абхазскому или крымскому. Так уже бывало в российской истории, например в середине XIX века. Тогда российское общество с энтузиазмом подстрекало «болгар к бунту против Стамбула или чехов – против Вены, принимая в то же время позу благородного негодования, едва заходила речь о совершенно аналогичном бунте поляков против Петербурга» [12] .
Что касается динамики активности этнического большинства, то она изучена несравненно хуже, чем этнополитические процессы в среде меньшинств, а взаимосвязь динамик этнических процессов у большинства и меньшинства – и того хуже. Известны лишь достаточно тривиальные факты о том, что самосознание этнического большинства менее выражено и слабее подвержено тревогам, чем у меньшинств. Большинство доминирует как в культуре, так и в политике (бывают исключения, но в современном мире они чрезвычайно редки), и ему не нужно включать дополнительные механизмы групповой консолидации для адаптации к новым условиям. У большинства не возникает необходимости в смене этнической идентификации, и в своей бытовой повседневности оно значительно реже, чем меньшинство, сталкивается с явлениями, задевающими его этнические чувства.
Основываясь на материалах первых социологических исследований русского населения, проведенных в 1970-1980-х годах в разных республиках СССР, можно охарактеризовать межнациональные установки русских как этнический нигилизм, безразличие («Мне все равно, я никогда не задумывался, какой они национальности»). В 1970-х годах более 90 % опрошенных русских не придавали значения тому, с представителями каких национальностей они вместе работают, при этом такие межэтнические установки почти в равной мере проявлялись у русских в городах России и в других республиках. И даже в особо чувствительной к этническим различиям сфере брачных отношений русские демонстрировали наибольшую толерантность в сравнении с другими народами страны, особенно представителями народов Средней Азии и Кавказа, которые крайне редко проявляли готовность к вступлению в межнациональные браки (особенно женщины). Так, в Тбилиси и в Ташкенте не более 10–15 % представителей титульных национальностей заявляли о своей терпимости к межнациональным бракам, тогда как среди русских таких было свыше половины [13] .
Этническая терпимость практически всегда является следствием высокого самоуважения народа, отсутствия или слабой выраженности комплексов «неполноценности». Уже поэтому я не вкладываю негативного смысла в понятие «этнический нигилизм», напротив, чем бы ни была обусловлена этническая терпимость русских – это одно из немногих позитивных, с моей точки зрения, проявлений «советского образа жизни», это то качество, постепенное ослабление которого вызывает у меня большие сожаления. И все же не могу не отметить тот факт, что этнический нигилизм русских в немалой мере был вызван их особой и во многом навязанной им государством ролью главного народа в Советском Союзе, «старшего брата». В обществах имперского типа этнические особенности большинства зачастую сознательно подавлялись властями, поскольку, чтобы выступать в качестве «цемента империи», большинство должно быть носителем только державной идеологии.
В СССР на политическом уровне закреплялось представление об этничности (национальности) как о явлении, характерном только для нерусских народов. Не случайно в советском политическом лексиконе прочно утвердилась дихотомия «Российская Федерация и национальные республики» (Россия, следовательно, не национальная республика). Отдел ЦК КПСС по делам национальностей занимался проблемами в нерусских регионах и в среде этнических меньшинств. В советской этнографической науке до середины 1970-х годов современное русское население (во всяком случае городское) не воспринималось как носитель особой этничности. Вспоминается анекдот советского времени о том, как представитель этнического меньшинства, заполняя очередную анкету, в графе «национальность» просто указал: «есть».
Сразу после войны И. В. Сталин предпринял попытку искусственно взбодрить этническое самосознание русских. Это нужно было ему и для укрепления системы личной власти, и для отвлечения внимания людей от тягот жизни в разрушенной стране. Вождь действовал лестью (вспомним его знаменитый тост «Спасибо русскому народу!» и провозглашение русских «руководящим народом» [14] ). Он также разжигал страхи, начав кампанию «борьбы с космополитизмом». Однако все это хоть и всколыхнуло отчасти бытовую ксенофобию и несколько усилило «номенклатурный национализм», но в целом не изменило пассивного отношения русского большинства к своей этничности. Высокая этническая толерантность русских в немалой мере обеспечивала сохранение политической стабильности в условиях, когда в исторической памяти меньшинств накапливались обиды на власть и формировались представления о «национальном унижении».
Роль «старшего брата» была нелегкой и неблагодарной. Во-первых, за нее приходилось расплачиваться ослаблением демографического потенциала Российской Федерации и русского населения в ней, являвшегося основным кадровым резервом для пополнения армейских частей, милиции, органов управления, да и всех великих строек в национальных республиках Союза. Во-вторых, она вызывала недовольство «младших братьев и сестер» в республиках СССР, которое росло по мере увеличения численности местной национальной интеллигенции.
Уже к началу 1980-х годов положение русских стало меняться к худшему в ряде республик, где еще недавно в составе коренных народов почти не было своей инженерно-технической интеллигенции и квалифицированных работников физического труда. К этому времени республики Средней Азии, Азербайджан, Грузия, Молдавия опередили Россию по доле интеллигенции и квалифицированных рабочих в составе титульных национальностей. Во многих союзных республиках усилилась этническая конкуренция в наиболее престижных сферах деятельности и на «верхних этажах» социальной иерархии. Межнациональные отношения в целом стали ухудшаться [15] . Тем не менее еще в 1991 году русские на всей территории СССР осознавали себя хозяевами страны. По своей национально-государственной идентификации они отличались от подавляющего большинства титульных народов бывшего СССР. Если узбеки, грузины, эстонцы и другие считали своей родиной одноименную республику, то подавляющее большинство русских (почти 80 %), проживавших как в России, так и в союзных республиках, называли своей родиной весь Советский Союз [16] . В модной тогда песне рефреном звучали строки: «Наш адрес – не дом и не улица, наш адрес – Советский Союз».
Этнополитическая ситуация стала круто меняться в годы перестройки, однако заметный рост этнического самосознания русских проявился не сразу, а лишь к концу 1990-х годов. Обращает на себя внимание различная по периодам реакция большинства на одни и те же явления.
Начнем с миграции этнических русских из стран СНГ в Россию. За период 1990–1999 годов 3 млн этнических русских прибыло в Россию из стран СНГ, в том числе 1 085 000 человек только из одного Казахстана [17] . Большая часть русской иммиграции (почти 2 млн человек) пришлась на первые четыре года жизни новой России, но в то время такой беспрецедентный по мировым масштабам и меркам мирного времени миграционный приток остался почти не замеченным массовым сознанием, тогда как в «эпоху стабилизации» проблема «вытеснения» русских из бывших союзных республик стала одной из самых расхожих в политическом обиходе [18] .
Да и сам распад СССР в первую из рассматриваемых эпох не только не вызывал каких-то заметных политических брожений в российском обществе, но даже не фиксировался социологическими замерами в качестве психологически значимого фактора. Напротив, исследования ВЦИОМ 1993 года показывали, что россиянами сделан выбор в пользу независимого развития России. Косвенным подтверждением справедливости такого вывода могут служить ответы на вопрос: «Если в ближайшее время состоятся выборы в новый парламент России, за какого кандидата Вы бы предпочли голосовать?» Лишь 25,5 % ответили: «За сторонника воссоздания Союза», а большинство (51,5 %) предпочли бы «сторонника независимого развития России». Исследования указывали на то, что, казалось бы, наблюдается процесс адаптации россиян к новым геополитическим реалиям, за пределами России зона их актуального интереса ограничивалась лишь двумя славянскими республиками, Украиной и Белоруссией, и Казахстаном, который продолжал восприниматься как наполовину русская страна [19] . Зато в «эпоху стабилизации» именно распад Советского Союза расценивается этническим большинством в качестве наиболее болезненного события недавней истории [20] .
Если в первый из рассматриваемых периодов русский язык без сопротивления воспринимал новые слова и обороты, навязанные ему соседними государствами, то во второй стало заметным решительное, я бы даже сказал, демонстративное их отторжение.
Примером может служить использование русскоязычными СМИ оборотов «в Украине» и «на Украине» (см. рис. 1).
Рисунок 1. ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВЫРАЖЕНИЙ «В УКРАИНЕ»/«НА УКРАИНЕ» с 1995 по 2002 год, %
...
Примечание: индекс употребления равен отношению количества употреблений выражения «В Украине» к количеству употреблений выражения «На Украине», умноженному на 100. Источник: расчеты А. Смолянского (Integrum World Wide) на основе данных Integrum World Wide
Судя по графику, до определенного времени новая языковая норма последовательно приживалась в русскоязычных СМИ всех стран СНГ. При этом в России этот процесс был даже более последовательным и плавным, чем в других странах Содружества, исключая Украину. Так было до 1999 года, когда в России обозначился крутой перелом тенденций и столь же последовательное, как и в первый период движение, но уже в другом направлении – к возврату к традиционной норме. Время перелома я связываю с национально-патриотическим подъемом периода побед (точнее, представления о победах) российской армии в Дагестане и началом второй Чеченской войны. О том, что отмеченные языковые процессы имеют прямую связь с политическим (точнее, этнополитическим) позиционированием СМИ, свидетельствует пример русских газет Крыма. Эти газеты постоянно позиционировали себя как защитников русского языка в условиях навязываемой Киевом украинизации, поэтому все эти годы твердо придерживались традиционной формы, а использование новой ни разу не превысило 14 % случаев, да и те были связаны в основном с перепечаткой или цитированием высказываний, опубликованных в московских или киевских изданиях.
Важно учесть и то, что большую часть источников, на основе которых был построен график, составили не столько газеты, сколько справочная литература и рекламные издания, которые ориентируются исключительно на спрос покупателей. Следовательно, отмеченная тенденция отражает массовые ориентации, а не навязанные какими-либо политическими лидерами.
Сам по себе рост этнического самосознания этнического большинства мог бы быть оценен как позитивное явление (в том смысле, что самобичевание конца 80-х и начала 90-х годов сменилось восстановлением самоуважения людей), если бы этот процесс не сопровождался эскалацией страхов, фобий и не послужил поводом для реставрации традиционалистских концепций.
Второй цикл – активизация этнического большинства. «Синдром тревожности»
Исследования этносоциологов под руководством Л. М. Дробижевой показывают, что уровень этнического самосознания русских в 1990-х годах быстро повышался. Об этом свидетельствовали социологические исследования, в которых по уровню самосознания русские сравнивались с другими народами. Для этого использовалась методика, в которой утвердительные ответы на подсказку в социологической анкете: «Я никогда не забываю, что я…» (далее указывается соответствующая национальность: «русский», «осетин», «якут», «татарин», «башкир» и т. д.) – рассматривались социологами как признак ярко выраженного этнического самосознания. За период 1994–1999 годов у всех перечисленных представителей этнических меньшинств прирост доли лиц с таким признаком составил 10–15 %, тогда как у русских он удвоился. При этом быстрее всего выросли наиболее эмоционально выраженные формы этнического самосознания. Если в 1994 году не более 8 % русских в республиках отвечали, что «любые средства хороши для отстаивания благополучия моего народа», то в 1999 году и в республиках, и впервые в русских областях такую установку продемонстрировали в опросах более четверти русских респондентов [21] . К сожалению, росло и число приверженцев националистической установки «Россия для русских». Это подтверждается и материалами других исследовательских групп.
По данным ВЦИОМ, доля людей, полностью или частично поддерживающих идею «Россия для русских», возросла за пять лет (1998–2002 годы) с 46 до 55 % опрошенных (в 2001 году она доходила до 60 %). Эти результаты получены на основе репрезентативной для России выборки, в которой русские составляли 85 % опрошенных. При этом симпатии к лозунгу в основном проявили именно русские, тогда как представители других национальностей в большинстве своем оценили его крайне отрицательно. Например, в 2002 году оценку данному лозунгу: «Это настоящий фашизм» – дали 22 % русских и 59 % представителей других национальностей [22] .
Исследования Центра этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ) показали, что этнополитическая ситуация в «период стабилизации» радикально изменилась по сравнению с предыдущим «революционным периодом». Основной зоной межэтнических конфликтов стали не республики, как в предшествующий период, а русские края и области, особенно на юге Федерации [23] . Изменился и тип этнополитических противоречий. В «революционную эпоху» они имели как бы «вертикальную» направленность – между республиками и федеральным центром, в «эпоху стабилизации» характер конфликтов приобрел иную, «горизонтальную», направленность. Речь идет о межгрупповых конфликтах между русским большинством и этническими меньшинствами.
Русский национализм становится более организованным. Так, в 1992 году в Москве и Петербурге были зафиксированы первые молодежные экстремистские организации, типа «Скинхедов». Тогда численность этих организаций оценивалась в 10–15 человек, а к 2001 году отмечается гигантский (на несколько порядков) рост числа скинхедов, которых, по данным МВД России, насчитывалось уже около 10 тыс. человек. Независимые же исследователи, такие как А. Тарасов, тогда оценивали численность подробных организаций примерно в 30 тыс. человек [24] . Еще через три года тот же автор указывает на увеличение числа скинхедов более чем в 1,5 раза, и к 2004 году оценивает их численность в 50 тыс. человек [25] . Важно еще и то, что эти тысячи молодых расистов и фашистов сосредоточены в крупнейших городах России. В Москве и ближнем Подмосковье сейчас, по разным подсчетам, от 5 до 5,5 тыс. скинхедов, в Петербурге и ближайших окрестностях – до 3 тыс., в Нижнем Новгороде – свыше 2,5 тыс. скинов, в Ростове-на-Дону – свыше 1,5 тыс., в Пскове, Калининграде, Екатеринбурге, Краснодаре – свыше 1000, в Воронеже, Самаре, Саратове, Красноярске, Иркутске, Омске, Томске, Владивостоке, Рязани, Петрозаводске – несколько сотен. В одной Москве больше десятка таких организаций [26] . В основном преобладают мелкие группы (от 3 до 10 человек). Средний срок их существования – несколько лет. Но есть и более крупные и упорядоченные структуры. Первыми возникли в Москве «Скинлегион» и «Blood&Honor – Русский филиал» (B&H). B&H – это международная организация наци-скинов, в некоторых странах она официально запрещена как экстремистская или фашистская (осенью 2000 года была запрещена в Германии). В «B&H – Русском филиале» и в «Скинлегионе» состояло по 200–250 человек и наличествовала определенная дисциплина, иерархия, разделение труда. В 1998-м к ним добавилась третья крупная организация – «Объединенные бригады 88» (ОБ 88), возникшие в результате слияния небольших скин-групп «Белые бульдоги» и «Лефортовский фронт». В Петербурге около 400 скинов входят в организацию «Русский кулак» и не меньше 100 – в организацию «Коловрат» (считающуюся довольно умеренной), в Нижнем Новгороде – свыше 300 человек входит в группировку «Север» [27] . Подавляющее большинство скинхедов – это подростки лет 13–19, однако за ними стоят вполне «взрослые» политические силы. В Москве молодежные банды скинов в той или иной мере попали под влияние различных праворадикальных организаций. Среди них «Национальный фронт» (лидер – Илья Лазаренко) и Народная национальная партия (лидер – Александр Иванов-Сухаревский). В Петербурге со скинами работает Партия Свободы (до 2000 года – Национально-республиканская партия России, лидер – Юрий Беляев), в городах Поволжья и Краснодаре – «Российское национальное единство» (РНЕ) и «Русская гвардия».
Практика управления в большинстве русских краев и областей в той или иной мере определяется ростом ксенофобии среди этнического большинства населения. В российских регионах, по наблюдениям В. Мукомеля, сформировались четыре модели этнической политики [28] .
1. Политика отчужденности. Власти стараются не замечать роста ксенофобии среди русского населения и полагают, что сама постановка вопроса о проблемах национальных меньшинств провоцирует межэтническую напряженность. (Такая модель сложилась в Тульской, Рязанской, Смоленской и в большинстве других областей Центральной России .)
Практика замалчивания проблем этнических меньшинств приводит к оживлению русского национализма. Его активисты воспринимают молчание региональных лидеров как знак согласия или благожелательного нейтралитета по отношению к их экстремистской деятельности. В условиях, когда региональное руководство склонно не замечать проблем меньшинств, представители региональных правоохранительных структур, прежде всего милиции, со своей стороны, склонны квалифицировать даже видимые невооруженным глазом проявления идеологически мотивированного насилия по отношению к меньшинствам как разрозненные акты хулиганства или молодежные «разборки».
2. Политика конфронтации с отдельными нацменьшинствами . Этот путь избрал ряд регионов юга России, где сильны позиции казачества, сильны антикавказские настроения (Краснодарский и Ставропольский края, в меньшей степени Ростовская область).
Русские регионы Северного Кавказа, по мнению многих аналитиков, «один из самых националистических и консервативных регионов России. Достаточно вспомнить антисемитские высказывания всенародно любимого на Кубани бывшего губернатора Кондратенко и казачьи погромы „инородцев“» [29] . Ситуация в этом регионе усугубляется территориальной близостью Чечни. Высказывания, публикуемые в бдительно контролируемой местными властями прессе, нередко сводятся к простой и от того еще более страшной формуле: «Чеченцы – это нелюди, враги России, и их нужно уничтожать» [30] . Свою лепту в развитие русского национального экстремизма вносят прокуратура и судебные инстанции, которые заводят уголовные дела на тех, кто высказывает свое критическое отношение к проповедям национальной розни, и не замечают деятельности самих проповедников. Так, в Ставропольском крае, выделяющемся среди российских регионов массовостью таких радикальных националистических организаций, как «Российское национальное единство» (РНЕ), в конце 2002 года возбуждено уголовное дело в отношении вовсе даже не активиста РНЕ, а ученого Виктора Авксентьева, известного специалиста в области этнической конфликтологии.
3. Политика балансирования между общественным мнением, настроенным против национальных меньшинств, и необходимостью обеспечения политической стабильности, а следовательно, и какой-то формы защиты интересов нацменьшинств (Воронежская, Волгоградская, Курская области).
Это районы Южного Нечерноземья, примыкающие к Северному Кавказу. Близость Чечни и большой приток мигрантов с Кавказа порождают сильные настроения ксенофобии в массовом сознании. Вместе с тем крупные промышленные центры, такие как Воронеж и Волгоград, требуют притока рабочей силы из числа этнических меньшинств. Да и в сельской местности здесь исторически сложились обширные районы, заселенные этническими меньшинствами, поэтому открытая поддержка русского национализма могла бы резко дестабилизировать политическую ситуацию в этом субрегионе – все это побуждает власти к политике балансирования.
4. Политика противодействия экстремизму и конструктивного сотрудничества с национальными меньшинствами (Астраханская и Оренбургская, в меньшей мере Самарская и Саратовская области).
Так, в Астраханской области «администрация области исходит из того, что власть не должна делать никакого различия между этносами, что представители всех национальностей должны пользоваться одинаковыми правами и нести одинаковые обязанности. Только при соблюдении этого условия возможно доверие населения к органам государственной власти. Без этого доверия не может быть нормального, сбалансированного управления в многонациональном регионе» [31] . Однако даже в группе сравнительно благополучных по характеру межэтнических отношений областей заметен рост ксенофобии, сопровождающийся проявлениями дискриминации этнических меньшинств.
Группой исследователей ЦЭПРИ под руководством В. Мукомеля была предпринята попытка опытным путем проверить, существует ли дискриминация представителей национальных меньшинств в сфере найма на работу. Обследование проводилось волонтерами, преимущественно студентами. Волонтеры попарно (русский и представитель национальных меньшинств) устраивались на работу. Все они были одного пола, возраста, уровня образования и квалификации, семейного положения, все имели российское гражданство и законно проживали в регионе. Методика обследования включала элиминирование всех, по возможности, факторов, кроме этнической принадлежности претендентов, и сводилась к «провоцированию» работодателей на выбор между представителем национального меньшинства и русским (либо между представителями разных национальных меньшинств). Например, одному из волонтеров ЦЭПРИ, представителю этнических меньшинств, отказывали в приеме на работу под предлогом того, что он студент-заочник и его неизбежные отлучки на экзаменационные сессии не устраивают фирму. Тогда через некоторое время к тому же работодателю приходил русский волонтер и специально подчеркивал, что он студент и ему необходимо отлучаться на экзаменационные сессии. Если ему предлагали работу, считая указанное обстоятельство несущественным, то полученный ранее отказ представителю этнического меньшинства рассматривался исследователями как проявление дискриминации. В обследованных областях группы волонтеров предприняли по две-три попытки устроиться на работу почти на 50 предприятий, дававших объявления о найме работников, и в 40,5 % случаев отказ от приема может быть интерпретирован как проявление дискриминации национальных меньшинств (самый высокий уровень дискриминации отмечен в Самаре, здесь она зафиксирована в 50 % случаев, самый низкий в Астрахани – в 28 % случаев).
Наиболее надежный инструмент для анализа этнических дискриминаций – частные объявления. В объявлениях о найме на работу указаний на национальность нет, а вот частные объявления о сдаче или съеме жилья во всех областях пестрят указанием на этническую принадлежность потенциального арендатора. Нами проанализировано свыше 8, 2 тыс. объявлений в газетах бесплатных объявлений типа «Из рук в руки», «Все для всех» и др. в 2002 году.
Из 4484 объявлений о сдаче жилья от частных лиц в каждом десятом фигурируют пометки «только русским», «только русской семье», хотя доля таких объявлений очень варьирует по регионам. Даже в Астраханской области, одной из самых толерантных по всем показателям, в 2,1 % объявлений встречается жесткая формулировка: «лицам кавказской национальности не беспокоиться».
Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке жилья, лица, ищущие жилье, зачастую сами указывают свою национальность. Из 3717 объявлений о съеме жилья, опубликованных в местных газетах в 2002 году, в 17,3 % всех объявлений указывалась национальность ищущего жилье. Наиболее распространены формулировки: «для русской семьи», «русского мужчины», «русской женщины», «русской девушки». В подобных объявлениях только русские указывают свою национальную принадлежность.
Повсеместно доля объявлений «с этническим уклоном» выше среди объявлений о найме жилья, чем среди объявлений о продаже жилья (см. рис. 2).
Рисунок 2. ОБЪЯВЛЕНИЯ «ТОЛЬКО ДЛЯ РУССКИХ»
...
Источник: расчеты В. И. Мукомеля
Более пристальный анализ показал, что доля «этнических» объявлений о сдаче жилья в печатных СМИ явно занижена и не отражает местных реалий – в силу контроля за такого рода объявлениями, идущими вразрез с федеральным законодательством. Об этом свидетельствует сопоставление объявлений в прессе и расклеенных объявлений о сдаче или найме жилья. Среди расклеенных объявлений владельцев жилья доля объявлений с пометой «только для русских» вчетверо выше, чем среди опубликованных, а среди расклеенных же объявлений о съеме жилья более половины потенциальных арендаторов сочли необходимым указать свою национальность, излишне напоминать, что все они – русские.
Впечатляющая картина массовых этнических фобий среди этнического большинства открывается при анализе ответов на вопрос: «Как Вы думаете, представляют ли сейчас угрозу безопасности России люди нерусских национальностей, проживающие в России?» Негативный ответ – «никакой угрозы» – дали лишь 19,6 % русских (это вдвое меньше, чем представители других национальностей – 41,8 %). Почти 2/3 опрошенных (57,7 %) ощущают ту или иную меру угрозы – «большую угрозу», «некоторую угрозу» – со стороны жителей других национальностей [32] . Однако анализ ответов на другой вопрос, в котором речь шла уже не об угрозах стране, а об угрозах конкретным людям, показывает, что уровень этнических фобий у русских не столь уж драматичен, как может показаться (см. табл. 1).
Таблица 1. «ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВРАЖДЕБНОСТЬ К СЕБЕ СО СТОРОНЫ ЛЮДЕЙ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ?» (в % к числу опрошенных)
...
Источник: данные опроса ВЦИОМ (Экспресс-7, 26–29 июля 2002 года).
Данные таблицы 1 показывают, что большинство россиян различных национальностей не ощущают враждебности иных народов к себе лично. Любопытно, что в русской среде доля людей, которые никогда не испытывают такой враждебности по отношению к себе, примерно такая же, как и тех, кто видит в других российских народах врагов стране (59,7 и 57,7 %, те же 2/3 опрошенных). Это свидетельствует, во-первых, о том, что многие этнические фобии носят абстрактный характер; во-вторых, о сохранении пережитков традиционного сознания, характерного для империй, когда государство отождествляется с властителем и у него одни враги, а у подданных – другие.
Обращает на себя внимание, что русские по всем вариантам ответов проявляют большую озабоченность отношением к себе со стороны других народов, чем представители этнических меньшинств. При этом крайние формы этнической подозрительности среди русских проявили почти в два раза больше опрошенных, чем среди представителей других национальностей. Этот результат следует признать неожиданным, поскольку этническое большинство, как правило, проявляет меньшую этническую озабоченность, чем меньшинства. Это доказано многочисленными исследованиями, проведенными в разных странах мира, и, что особенно важно, исследованиями в 70-х и 80-х годах в Советском Союзе [33] . Массовая тревожность большинства свидетельствует о том, что оно, по сути, перенимает поведенческие стереотипы меньшинств и утрачивает естественную для него ведущую роль в обществе.
Вероятным последствием роста тревожности у представителей этнического большинства может стать ответная реакция этнических меньшинств. В этом случае этнополитический маятник совершит третий, заключительный цикл колебаний, который может завершиться разрушительным кризисом государственности.
Гипотезы о механизмах действия этнополитического маятника в условиях модернизации
Большинство российских этносоциологов определяют рост этнической тревожности русских как ответ на предшествующую активизацию этнических меньшинств. Речь идет о прямом ответе русских на рост негативного отношения к ним со стороны национальных движений других народов СССР и России, зачастую переносивших на этническое большинство грехи советского режима [34] .
Активность одних этнических общностей, несомненно, оказывает заражающее и провоцирующее влияние на другие, активизирует их, и все же такое объяснение причин чередования этнической активности меньшинств и большинства мне представляется ограниченным и упрощенным.
Во-первых, оно не учитывает незначительную численность и малое влияние той категории русских в России, которая имела непосредственный негативный опыт межэтнического общения, а именно мигрантов из новых независимых государств и жителей некоторых республик Российской Федерации.
Во-вторых, указанная гипотеза не дает ответа на главный вопрос: почему ответ русских так запоздал, ведь пик миграций был пройден в 1994 году, к этому же времени угасли последние вспышки этнической активности (кроме Чечни), а рост этнической тревожности русских стал заметно проявляться лишь в конце 1990-х годов?
Думаю, что этот феномен может быть сравнительно адекватно объяснен в терминах концепции рецидивирующего традиционализма, а именно как следствие взаимодействия четырех основных его механизмов.
Кризис идентичности и разновременность процессов этнической мобилизации
Для этнических меньшинств русские во все времена выступали тем, что философы называют конституирующий «иной», по отношению к которому самоопределяются меньшинства. Само же этническое большинство в условиях Российской империи и Советского Союза могло даже не замечать присутствия меньшинств и уж во всяком случае по отношению к ним не самоопределялось. Для них конституирующим «иным» могли быть иностранные народы, особенно в условиях внешнего вызова (французы в Отечественную войну 1812 года, немцы в Великую Отечественную, американцы в период противостояния блоков и т. д.). В своей же бытовой повседневности большинство самоопределялось только по отношению к государству, социально-стратификационную систему которого можно определить как «этакратическую» (государственническую), поскольку ее основные параметры определялись рангом человека во властной иерархии [35] .
Но вот государство распалось, и вся система отношений радикально изменилась: русские впервые вступили в систему горизонтальных межэтнических отношений. Сам процесс разгосударствления этнических отношений можно считать важным этапом на пути к формированию гражданской нации, однако новые условия функционирования этнического большинства оказались для него психологически весьма болезненными.
Крутые исторические перемены порождают так называемый «кризис идентичности» и стимулируют сплочение людей в рамках традиционных общностей – этнических, клановых, конфессиональных. Таким образом, исходный толчок для всплеска активности был общим как для меньшинств, так и для большинства. Однако небольшие по численности общности, особенно территориально локализованные, быстрее консолидируются и легче находят в своей исторической памяти обиды, чем большие, расселенные на обширных пространствах такой страны, как Россия.
Пока большинство оставалось относительно инертным в этническом отношении, меньшинства самоопределялись по отношению друг к другу, особенно в контактных зонах, где они делили между собой территорию, ресурсы, власть. Когда же начался рост этнического самосознания большинства, стала изменяться и конфигурация межэтнических отношений: ее основной осью стали взаимоотношения большинства и меньшинств. Так начал формироваться этнический маятник, основанный на равновесии интересов двух основных типов этнических общностей. Однако в полную силу он начал раскачиваться лишь тогда, когда власть, элиты и сами последствия их деятельности стали нарушать хрупкий баланс интересов этнических общностей. Этнический маятник стал этнополитическим.
Изменение политических стратегий федеральной власти в отношении этнических сообществ России
Этническая политика обоих российских президентов была и остается реактивной, т. е. формируемой как ответ на некие актуальные вызовы. В эпоху Ельцина они исходили от меньшинств (точнее, от национальных движений республик России), поэтому его политика во многом определялась формулой «Берите суверенитета, сколько сможете», а в эпоху Путина – от этнического большинства, и ответом на этот вызов стала политика ограничения прав этнической элиты в республиках РФ и постепенный переход к охранительной политике в отношении этнического большинства.
Односторонняя ориентация власти на поддержку той или иной группы этнических сообществ усиливает амплитуду колебания этнополитического маятника, вызывая негативный ответ и консолидацию групп, которые считают себя «обделенными» вниманием власти.
Дрейф политической идеологии, в том числе и представлений о справедливости (несправедливости) этнической политики
Общество воспринимает и оценивает политические стратегии не напрямую, а опосредованно, через представления, формируемые интеллектуальной элитой, лидерами общественного мнения, или, как их еще называют, «производителями смыслов». Именно элита формирует представления о справедливости или несправедливости государственной политики, в том числе и этнической, приписывая ей ориентацию на поддержку одних этнических общностей в ущерб другим. В постсоветское время заметно проявил себя дрейф элитарных идей. Если в период перестройки и в начале эпохи Ельцина доминировал комплекс идей, вытекающих из негативной оценки советского прошлого (отсюда, в частности, вытекала идея «покаяния» русского народа перед меньшинствами за грехи имперской политики), то в «эпоху стабилизации» доминирующей стала прямо противоположная система оценок – идеализация советской истории и негативная оценка периода постсоветских реформ. Отсюда и растущая популярность представлений о комплексе обид, нанесенных русскому народу как «иными народами», так и властью, предоставившей неоправданные преимущества «иным народам» в период «постсоветской смуты». При этом пятилетний период, разделявший спад активности одних этнических общностей и подъем других, был временем освоения массовым сознанием новых представлений и их политической актуализации.
Непоследовательная и незавершенная модернизация
Если элиты несут основную ответственность за раскачивание этнополитического маятника, то что обусловливает поведение самой элиты? Предполагается, что готовность российской интеллектуальной элиты к радикальной смене политических ориентации и к возрождению традиционных советских идеологем закономерна. Она обусловлена, с одной стороны, медленным и непоследовательным развитием институциональных, социально-стратификационных и социально-культурных условий для утверждения в обществе модернизационных ценностей, а с другой – наличием обширного слоя людей и множества социальных институтов, являющихся носителями рецидивирующего традиционализма.
Таковы исходные гипотезы о механизмах раскачивания этнополитического маятника.
Этнополитическая природа рецидивирующего традиционализма
Политические предпосылки возрождения традиционализма. Маятник этнополитических стратегий
Ныне стали почти догмой представления о том, что во времена правления Б. Ельцина усиливался хаос и нарастали дезинтеграционные процессы в России, а с приходом президента В. Путина начала укрепляться целостность страны. У меня же подобные представления вызывают большие сомнения хотя бы потому, что оценка реформ как хаоса весьма характерна для истории России. Да и мог ли нарастать сепаратизм этнических элит республик, если их активность, как уже отмечалось, спала к середине 1990-х годов и этнополитический маятник качнулся в другую сторону? Есть и другие вопросы, над которыми стоит задуматься, оценивая содержание перемен в политической стратегии Ельцина и Путина. Например, в какой мере предложенные новой администрацией преобразования в системе взаимоотношений центра и регионов в принципе адекватны задачам усиления интеграционных процессов? Можно ли рассматривать такие преобразования как продолжение реформы федеративных и национальных отношений или правильнее их оценивать как контрреформы? А главное, в какой мере новая политика учитывала баланс интересов этнических общностей и не привела ли она к усилению амплитуды раскачивания этнополитического маятника?
Альтернативные стратегии
Выбор политической стратегии в сфере национально-государственного развития был не случайным как во времена Ельцина, так и в период правления Путина. Однако, на мой взгляд, коридор возможностей у первого президента России был уже, чем у его преемника.
В первые годы существования новой России были крайне слабы силы, заинтересованные в сохранении ее единства. Лидеры национальных движений нерусских народов добивались суверенитета для «своих» республик, а русские националисты не способствовали укреплению общероссийского единства, поскольку мечтали о восстановлении СССР.
После того как российские республики продемонстрировали «парад суверенитетов», непреодолимое желание повысить свой статус возникло у российских краев и областей. О своем суверенитете объявили даже административные районы в некоторых городах. Инерция распада СССР набирала силу, и никто в то время еще не знал, когда и на каком территориальном уровне она может завершиться.
Сложившаяся политическая ситуация в значительной мере продиктовала политическую стратегию Ельцина во взаимоотношениях с наиболее активной тогда частью общества – с региональными политическими элитами. Это была политика что называется ad hoc – почти стихийный ответ на вызов времени. Однако, несмотря на свою спонтанность, стратегия Ельцина, основанная на переговорном процессе, достижении компромиссов, взаимных уступок, сделанных как федеральной властью, так и лидерами республик, помогла переломить негативные тенденции в федеративных отношениях. Договоры между федеральным центром и органами власти субъектов Федерации, а также Договор об общественном согласии (1994 год), подписанный всеми субъектами Федерации, кроме Чечни, значительно ограничили формальную возможность объявления кем-либо из руководителей республик, краев, областей о выходе из состава Федерации, поскольку все они признали, что «…реализация прав субъектов Федерации возможна только при обеспечении государственной целостности России, ее политического, экономического и правового единства» [36] .
С конца 1993 года в России установился новый политический порядок во взаимоотношениях центра и регионов, в основе которого лежали не только формальные, но и устные договоренности между президентом Ельциным и лидерами республик. При этом в обмен на расширение прав региональной элиты на федеральном уровне региональные лидеры обязались усмирить наиболее радикальные национальные движения. И с тех пор не наблюдалось ни одного проявления этнического сепаратизма, за исключением конфликта с Чеченской Республикой, которая в то время ни в каких договоренностях с лидерами России не участвовала.
Эти перемены тогда были замечены российским общественным мнением. В массовом сознании россиян постепенно росла уверенность в том, что целостность России укрепляется, а главное, уменьшается угроза вооруженных конфликтов, неизбежного спутника распада страны. Об этом неопровержимо свидетельствовали материалы мониторинговых социологических исследований (см. табл. 2).
Таблица 2. «КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНЫ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ В РОССИИ?» (по материалам мониторинга ВЦИОМ)
Как видно из таблицы 2, в 1993 году определился перелом в массовом сознании россиян. Если в первые два года жизни постсоветской России более половины опрошенных жили в страхе перед грядущим якобы уже в ближайшие месяцы взрывом вооруженных конфликтов, то к концу 1993 года большинство демонстрировало определенный оптимизм.
Но прошло время, и политика компромиссов стала восприниматься в сознании большинства россиян как стратегия односторонних уступок республикам, как начало развала России и даже как злой умысел: «Те же, кто развалили СССР, теперь разваливают Россию».
По большей части такие представления имеют мало общего с реальностью. Например, знаменитая фраза Ельцина «Берите суверенитета столько, сколько сможете освоить», оброненная им в Татарстане в 1992 году, сегодня трактуется чуть ли не как начало дезинтеграции России. Но ведь она была брошена не до, а после «парада суверенитетов» и не только не подтолкнула республики к большей суверенизации, но, как уже было показано, предшествовала процессу стабилизации отношений регионов и федерального центра.
Договор федеральной власти с Татарстаном с нарастающей силой осуждается наиболее консервативными государственниками. В действительности же он был полезен как для республики, так и для Федерации в целом. Он резко ослабил в республике позиции радикально националистических сил, влияние которых основывалось почти целиком на страхе населения перед образом «имперского врага». Договор между Москвой и Казанью сильно «притушил» этот образ в сознании жителей Татарстана.
Договор не отменил ни одного из принятых в республике законодательных актов, но практически сделал их не опасными с точки зрения сохранения целостности страны. Например, по республиканской Конституции Татарстан является субъектом международного права, но оказалось, что зарубежные инвесторы не готовы и рубля вложить в экономику Татарстана без гарантий Москвы. По местным законам все недра принадлежат республике, но тем не менее основное ее богатство – нефть транспортируется через федеральный нефтепровод, и уже после подписания Договора в 1994 году объем продажи Татарстаном нефти даже сократился ввиду перегрузки общероссийского нефтепровода (так технические устройства могут выполнять политические функции). Республиканский закон велит всем гражданам республики проходить военную службу в республике, но ее территория входит в состав Приволжского военного округа, откуда новобранцы направляются служить в разные регионы страны, в том числе и в Чечню. Таким образом, границы допустимых уступок со стороны федеральной власти республикам определялись ее способностью контролировать основные рычаги влияния на регионы: финансовую систему, транспорт, магистральные трубопроводы и, разумеется, силовые структуры.
Не случайно татарские националисты радикального толка крайне негативно оценили договор между федеральным центром и Татарстаном. На Втором Всетатарском курултае в феврале 1994 года 655 делегатов осудили этот договор как капитуляцию перед «имперским центром». Как заявила Фаузия Байрамова, «мы потерпели поражение, и с заключением 15 февраля договора в Москве республика отброшена в 1989 год» [37] .
Также по крайней мере спорными можно считать весьма распространенные представления о несправедливости и нецелесообразности предоставления ряду республик налоговых льгот. Например, ныне не только общественное мнение, но и большинство экспертов-экономистов осуждают идею создания «оффшорной зоны» в Ингушетии. Однако, на мой взгляд, нельзя не согласиться с бывшим секретарем Совета безопасности России И. П. Рыбкиным, отмечавшим, что без этого не удалось бы предотвратить вовлечение Ингушетии в чеченский конфликт [38] . Это значит, что налоговые потери от оффшорной зоны ничтожно малы по сравнению с возможными потерями бюджета на войну с Ингушетией, не говоря уже о неизбежных в таких случаях потерях человеческих жизней.
С точки зрения воздействия социальных представлений на политику не столь уж важно, насколько они реалистичны. Если представления возникли и стали массовыми, то они влияют на политический процесс ничуть не меньше, чем реальность. В этом я полностью солидаризируюсь с известной «теоремой Томаса»: «Если люди определяют ситуации как реальные, то они и являются реальными по своим последствиям» [39] . Думаю, что именно из такой реальности, основанной на массовых и во многом мифологизированных представлениях, выросла стратегия Путина, ключевыми идеями которой являются создание «единой исполнительной вертикали» и ограничение политической роли региональной элиты, прежде всего лидеров республик .
Эти задачи прямо или косвенно были поставлены в первых же законодательных инициативах президента Путина. Они обосновывались необходимостью преодоления дезинтеграции, которая, на мой взгляд, к тому времени уже была преодолена. В своем первом Послании Федеральному Собранию (2000 год) президент отмечает: «У нас еще нет полноценного федеративного государства. Хочу это подчеркнуть: у нас есть, у нас создано децентрализованное государство» [40] . Замечу, что децентрализация вовсе не равнозначна дезинтеграции. Федеративное государство по определению децентрализовано, поскольку основывается на принципе субсидиарности, предусматривающем сохранение за центральной властью лишь узкого круга базовых функций управления и передачу всех остальных региональным властям. В следующем своем Послании президент снова показывает, что не осознает различий между децентрализацией и дезинтеграцией, которую федеральной власти удалось переломить всего лишь за девять месяцев, разделявших оба послания. «Сегодня, – отметил президент, – уже можно сказать: период „расползания“ государственности позади. Дезинтеграция государства, о которой говорилось в предыдущем Послании, остановлена. В прошлом году мы много для этого сделали, мы – все вместе. Разработали и приняли федеративный пакет – пакет федеральных законов. Провели реформу Совета Федерации. Первые результаты дала работа полпредов в федеральных округах» [41] .
Первое Послание от второго отделяет, как уже отмечено, всего девять месяцев. Если учесть, что на подготовку таких документов уходит несколько месяцев, то получается, что администрации Путина потребовалось всего около полугода на то, чтобы, как он заявляет, остановить процесс дезинтеграции государства. Какие же чудодейственные средства использовала власть, чтобы достичь столь выдающихся успехов? Все они перечислены в Послании президента.
Результативность реформ
Начнем с реформы Совета Федерации. Специалисты давно обсуждают вопрос о целесообразности изменения принципа формирования верхней палаты парламента за счет прямого избрания его членов. Однако реформа таких радикальных перемен не предусматривала. Она привела лишь к тому, что вместо руководителей исполнительной и законодательной власти регионов в Совете представлены их представители. По сути, сегодня места в Совете Федерации почти открыто покупаются представителями крупного бизнеса или используются Администрацией Президента в качестве временного пристанища для чиновников федеральной номенклатуры. Лидеры регионов были хоть в какой-то мере ответственны за свои решения перед своими избирателями, в то время как меру ответственности назначенцев весьма сложно определить. Совет Федерации предыдущего созыва долгое время выступал как инструмент стабилизации политической ситуации в России. Во всяком случае, его законотворческая деятельность всегда отличалась значительно большей взвешенностью, чем решения Государственной Думы. Может ли нынешний Совет быть лучше прежнего, если вывод из его состава региональных лидеров исключает возможность использования этого органа в качестве механизма согласования интересов центра и регионов? Однако вне зависимости от ответа на этот вопрос можно с уверенность говорить, что проведенная реформа Совета Федерации не могла обеспечить перелом в дезинтеграционных процессах.
Другой элемент новой административной реформы, направленной на выстраивание единой вертикали власти, – создание семи административных округов во главе с полномочными представителями президента. Поначалу именно с их деятельностью многие представители российской элиты связывали основные надежды на преодоление дезинтеграционных тенденций. Например, Александр Солженицын в 2000 году признал целесообразным создание Путиным семи федеральных округов во главе с «генерал-губернаторами» как реальный ответ на угрозу территориального распада страны [42] . Однако ни появление округов, ни назначение полпредов не могли в принципе оказать влияние на такие глубинные процессы, как дезинтеграция. Кроме того, на мой взгляд (и я попытаюсь его обосновать), эти реформы в действительности лишь имитировали перемены в управлении регионами, поскольку решающую роль во взаимоотношениях центра и регионов по-прежнему играют федеральные чиновники.
Попытаюсь также обосновать и мысль о том, что концепция федеральных округов изначально была обречена на провал, поскольку воспроизводила ту традиционную модель управления, которая доказала свою несостоятельность еще в советское время.
Попытки усилить контроль Москвы над регионами с помощью создания промежуточных административных структур, объединяющих сразу несколько регионов, предпринимались и раньше. Недолго просуществовавшие совнархозы можно считать предтечами нынешних федеральных округов. Совнархозы были лишь в 1,5–2 раза больше нынешних областей, краев и республик, но все равно оказались слишком громоздкими и поэтому сложными в управлении. Административные округа намного больше (они включают 12–13 регионов), и, следовательно, ими еще сложнее управлять. К тому же ушла в небытие партийная дисциплина, на которую в советские годы опиралась административная система управления регионами. Да и состав полпредов (пятеро из семи – генералы, не имеющие опыта управления территориями) вряд ли позволяет надеяться на успешность этого начинания. Сила и натиск не помогли генералам выиграть чеченскую кампанию, и еще меньше вероятность того, что они помогут утверждению федеральных округов в жизни России.
Некомпетентность генералов-полпредов сразу же стала особенно заметной в кризисных ситуациях, которые становились значительным раздражителем для федеральной элиты и грозили подрывом позиций президента в регионах. Так было, например, в ходе кризиса в Приморье в 2001 году, когда приход к власти Сергея Дарькина совпал с острейшим энергетическим кризисом в крае. Показательно, что в ходе осуществления первой волны кадровых решений по Приморью Владимир Путин предпочел общаться с местным руководством напрямую, видимо понимая, что указания, передаваемые через полпреда в ситуации, когда кризис стал открытым, уже не воспринимаются как безусловно легитимные. Полпред в Приморье Константин Пуликовский, несмотря на большую публичность в своей деятельности, использовался президентской администрацией лишь как вспомогательное звено в доведении позиции Кремля до местных элит, а основную часть деятельности по решению кадровых вопросов и устранению последствий политического кризиса в крае взял на себя заместитель главы Администрации президента РФ Владислав Сурков.
В Южном федеральном округе главной задачей является умиротворение Чечни. История подготовки референдума по Конституции Чеченской Республики, которому президент придавал чрезвычайно важное значение, показывает, что и в этом регионе особо ответственные политические задачи поручаются не полпреду президента, а ключевым сотрудникам президентской администрации. Вот и организация референдума была поручена не Виктору Казанцеву, а Владиславу Суркову и помощнику президента Сергею Ястржемскому. Они напрямую контактировали с московским назначенцем в Чечне Ахмадом Кадыровым и без участия полпреда добились победного результата.
Правительство России также оттесняет полпредов президента от решения ключевых вопросов. Так, в период кризиса в Приморском крае глава правительства Михаил Касьянов в ходе своей инспекционной поездки по региону неоднократно повторял, что введение прямого президентского правления в крае маловероятно. В то же время решения, принятые во время этой поездки, продемонстрировали другое – губернаторская власть перешла под непосредственный контроль правительственных структур. Было объявлено, что бюджет Приморья будет верстаться под руководством Правительства РФ, а исполнять его будет федеральное казначейство. Координировать поставки топлива в Приморье и платежи за него премьер поручил одному из заместителей министра энергетики, которому предписали постоянно находиться во Владивостоке. Кроме того, предполагалась проверка финансовой деятельности краевой администрации. Только на таких условиях Правительство РФ было готово предоставить краю трансферты (5, 6 млрд рублей). Таким образом, Сергей Дарькин в обмен на признание себя губернатором фактически потерял право самостоятельного управления финансами края. На вторых ролях оказался и полпред Президента РФ К. Пуликовский. Обозреватели отмечают как весьма примечательный тот факт, что он даже не был на пресс-конференции, на которой Касьянов изложил столь важные для края решения правительства [43] .
В Уральском федеральном округе отказ Правительства России от работы с полпредством наиболее наглядно демонстрирует ситуация в Курганской области. В 2001–2002 годах шли ожесточенные дискуссии о дальнейшей судьбе данного субъекта и программах по выводу его из кризиса. После долгих баталий окружные чиновники предложили некие решения проблемы, однако ни одно из них до сих пор даже не рассмотрено Правительством России [44] .
Конкуренция между федеральными чиновниками и полпредами может стать основной причиной провала идеи федеральных округов. Федеральные министры прямо, а чаще косвенно выражают обеспокоенность попытками полномочных представителей президента в округах поставить под контроль финансовые потоки, направляемые из центра в регионы. Примерно то же можно сказать и о чиновниках Администрации президента, которые, естественно, недовольны попытками окружных начальников оказывать влияние на распределение должностей и наград федеральных служащих в регионах. Федеральные чиновники (будь то представители администрации или правительства) неоднократно доказывали свою способность отодвигать полпредов на второй план, и у них, безусловно, есть возможность блокировать активность окружного начальства в тех сферах, которые вызывают у них тревогу. Подобная форма конкуренции проявлялась и в советское время, и уже тогда она привела к полному коллапсу любимого детища Никиты Хрущева – совнархозов. Скорее всего, такая же судьба ожидает и федеральные округа.
Похоже, это осознают сегодня многие представители политической элиты России, в том числе и люди весьма лояльные президенту. Косвенным доказательством этого служит заявление спикера предыдущей Государственной думы Геннадия Селезнева о том, что «семь федеральных округов были нужны на первом этапе, когда существовала угроза распада государства», а ныне он «на месте президента страны подумал бы о том, чтобы ликвидировать их в течение ближайших полутора-двух лет» [45] .
Важным элементом реформы регионального управления, с конца 2003 года стал процесс объединения автономных округов с краями и областями как скрытая форма ликвидации вначале округов, а затем и других форм национальных автономий в России.
Состоявшийся в декабре 2003 года региональный референдум по вопросу об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в единый Пермский край представляет особый интерес, поскольку этим актом начался процесс ликвидации автономных округов. Сразу же замечу, что попытка использовать пермский референдум 2003 года в качестве модельного случая мне представляется не корректной, хотя бы потому, что у каждого национального округа своя специфика. Так, бюджет Коми-Пермяцкий АО существенно ниже, чем у Пермской области, поэтому большинство населения округа от объединения выигрывает.
Совершенно иная ситуация в большинстве ресурсодобывающих округов Западной Сибири. Так, в 2003 году доходы бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) составили 23,5 млрд руб., Ханты-Мансийского (ХМАО) – 49,9 млрд руб., тогда как в бюджет Тюменской области, куда планируется со временем влить и ЯНАО и ХМАО, собрали чуть больше 20 млрд руб. [46] О том, что автономные округа практически обречены федеральной властью на включение в состав краев и областей, свидетельствует Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ» в редакции от 4 июля 2003 года (ее еще называют «редакция Д. Козака» или «закон Д. Козака»).В соответствии с этим федеральным законом автономные округа обязаны передать краям и областям 24 своих полномочия из числа тех, которые Конституция определяет как «полномочия совместного ведения», и оставить за собой только 17 полномочий, в основном связанных с расходом средств, получаемых от вышестоящих звеньев управленческой иерархии [47] . По новому закону ресурсодобывающие территории (ХМАО и ЯНАО) должны передать Тюменской области 95 % налога на добычу полезных ископаемых. Так уже было: в советское время все налоги отбирались у регионов и затем распределялись сверху без учета того, сколько регионы вкладывали в федеральный бюджет, и эта уравниловка подавляла стимулы территорий к самостоятельному развитию. О таких же последствиях в наше время, говорит представитель ХМАО в Совете Федерации Петр Волостригов: «И кому будет интересно работать, если все взять и поделить? У наших нефтяников не будет мотивации увеличивать производство промышленной продукции. Не стоит забывать о том, что нефтяные вышки стоят на землях традиционного природопользования коренных народов: хантов, манси, ненцев» [48] .
Последнее обстоятельство весьма существенно, ведь округа как раз и создавались в целях обеспечения жизнедеятельности и сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера, у которых в силу исторических обстоятельств и специфики проживания в экстремальных природно-климатических условиях оказалась пониженная способность к самозащите и к самостоятельному развитию. Далеко не все округа, но многие справлялись с задачей сохранения коренных малочисленных народов и их культуры лучше, чем другие, не специализированные субъекты Федерации.
Так, ХМАО один из немногих субъектов Федерации, Устав которого предусматривает особый порядок формирования законодательной власти округа (Думы) с учетом обязательного представительства КМНС. Уставом гарантируется избрание в Думу 5 депутатов (20 % состава) по единому многомандатному округу, которым признается территория ХМАО (ст. 37, ч. 2). Депутаты Думы, избранные по многомандатному округу, составляют Ассамблею представителей коренных малочисленных народов Севера (Асамблея КМНС), а ее председатель является по статусу заместителем председателя окружной Думы (ст. 41, ч. 2). В новых условиях, когда округ потеряет возможность самостоятельно формировать свой бюджет, роль представительных органов коренных народов становится сугубо бутафорской. Как сказал мне один из видных деятелей движения коренных малочисленных народов севера, «теперь, как в прежние годы, придется ездить за тысячи километров обивать пороги начальства, просить помощи и получать с барского стола лишь то, что останется».
В советское время, в условиях подданнического сознания, когда народ безмолвствовал, у начальства часто возникал «зуд» по воду того, что «надо бы что-то укрупнить»: поселения ли, административные районы, республики или области. Советские ученые в таких случаях обосновывали решения партии и правительства «самой объективной» в мире теорией «оптимальных размеров» некоего субъекта. Так были обоснованы «оптимальные» размеры сел, городов, районов. Но со временем практически всегда прежнее территориальное деление возобновлялось, разумеется, если субъект умудрялся выжить после эксперимента.
Об одной такой кампании – «ликвидации малых сел и хуторов» в конце советской эпохи – будут помнить не одно десятилетие спустя, потому что она сопровождалась многими бедствиями. Прежде всего, она привела к почти полной депопуляции и забросу огромных пространств сельской местности российского Нечерноземья. До сих пор заметны и этнокультурные последствия тех реформ. Например, на Севере они привели к деградации части коренных малочисленных народов, как раз той, которая переселялась из так называемых «неперспективных» малых селений в создававшиеся крупные поселки. В результате люди там от традиционной среды оторваны, к новой – не приспособлены, к тому же, поскольку рабочих мест нет, происходит коллективная алкоголизация населения «перспективных» сел. Так что эхо проводившихся в советское время административно-территориальных переделов слышится до сих пор.
Напомню, что на месте территориальных рубцов, образовавшихся после административной хирургии советских времен, загноились многочисленные этнотерриториальные конфликты (Карабахский, Абхазский, Осетино-Ингушский, Ошский и др.) По этой же причине возникли и проблема Крыма, и проблема Тузлы, и множество других больших и малых проблем. Но, даже если ничего радикального на территории не происходило, ее население страдало от укрупнений регионов. В каждом районе должны были быть школа, больница, определенный уровень инфраструктуры. Как только территория лишалась административного статуса, она лишалась и этих благ. И сегодня есть такие ниши для государственных служащих и бюджетников, которые существуют только на уровне отдельного субъекта Федерации, а при укрупнении теряются.
Одним из негативных последствий укрупнения территорий является ухудшение их управляемости. Даже в нынешних условиях, когда управленческие вопросы можно решать по телефону и по интернету, оказывается, что прямое наблюдение, надзор и заинтересованность власти в благополучии крайне существенны. Так, если взять только территорию Ханты – Мансийкого округа, то она составляет 534 тыс. кв. км, весь юг Тюменской области, где расположены автономные округа, куда более протяженный и оторван от столицы области на тысячи километров. Внутри этого безмерного пространства расположены разные природно-климатические зоны с разной экономикой, демографическими и культурными условиями. Все это требует приближения управления к человеку, однако вместо этого управляющие центры отдаляются.
Процесс поглощения округов краями и областями, и даже лишь утрата округами части своих полномочий, порождает юридические коллизии, поскольку в российской Конституции продекламировано равноправие округов с краями и областями. В Конституции не предусмотрен особый статус субъекта федерации с ограниченными правами. Отмечая эти и другие обстоятельства, например несоответствие «закона Козака» ряду других федеральных законов, власти Ненецкого автономного округа передали в Конституционный суд запрос относительно конституционности нового закона [49] .
Получается, что единственное заинтересованное лицо во всех этих укрупнениях и тогда и сейчас – это верховные чиновники.
Им проще иметь дело с меньшим количеством управляемых. Но нужно ли ломать жизнь тысяч людей только для того, чтобы упростить жизнь десятку бюрократов?
Мы еще продолжим оценку тех механизмов, с помощью которых администрации Путина удалось в невиданно короткие сроки «переломить» процесс дезинтеграции России. А сейчас стоит задаться вопросом, насколько в то время была актуальной сама задача смены стратегии управления регионами и диктовалась ли она только необходимостью борьбы с дезинтеграцией страны.
Дезинтеграция страны: реальность угроз и адекватность методов противодействия
Уже отмечалось, что с середины 1990-х годов в регионах России не было зафиксировано ни одного серьезного проявления сепаратизма, за исключением сепаратизма в Чечне, который проявляется и сегодня, в период, когда, по определению президента, «расползание государственности позади». Уже во второй президентский срок Ельцина в Кремле не выстраивалась очередь региональных лидеров за подписанием новых договоров между регионами и центром, да и те, которые были подписаны после Татарстанского договора, отличались таким уровнем декларативности прав регионов, что их не приводят в доказательство угрозы дезинтеграции даже самые ревностные сторонники централизации и унитаризма. Вся их критика сосредоточена на первом договоре 1994 года.
Устойчивость российской федеративной системы прошла проверку на прочность в период экономического кризиса 1998 года, хотя поначалу казалось, что именно он подтолкнет Федерацию к неминуемому распаду.
После объявления федеральным правительством дефолта практически все регионы стали предпринимать меры экономической самозащиты, которые, казалось бы, реально угрожали сохранению экономической целостности страны. Так, по материалам Госкомстата России, к сентябрю 1998 года 79 регионов ввели административное регулирование цен на продукты питания и запрет (либо ограничение) на их вывоз за пределы соответствующего региона. В прессе заговорили о том, что «продовольственный сепаратизм посильнее политического» [50] . Еще страшнее выглядели действия ряда регионов по обособлению региональной финансовой системы и отказу от перечисления налогов в федеральный бюджет (см. табл. 3).
Таблица 3. ПРИМЕРЫ ФИНАНСОВОЙ АВТАРКИИ РЕГИОНОВ В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 1998 ГОДА (по материалам российской прессы)
Подобные действия дали повод известным российским политикам говорить о распаде России как чуть ли не о свершившемся факте. О реальной опасности «потерять» Россию 2 сентября 1998 года заявил исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский [51] . Вслед за ним 3 сентября такую же опасность признал красноярский губернатор Александр Лебедь [52] . Неделей позже лидер проправительственной думской фракции НДР Александр Шохин уже прямо обвинил главу правительства в том, что тот «не сумел сохранить финансово-экономическую, а значит, и политическую целостность России» [53] . Что касается публицистов и ученых, то они буквально соревновались друг с другом в мрачности прогнозов распада России. Если журналист А. Венедиктов исходил из предположения о распаде как одномоментном акте и называл 17 августа днем, «когда в России территории и регионы начинают жить отдельной жизнью от Москвы и от федеральных властей» [54] , то историк В. Логинов, признавая распад России неизбежным, отводил ему целую эпоху [55] .
В это же время получили распространение идеи введения чрезвычайных административных мер по нормализации ситуации. Губернатор Сахалина Игорь Фархутдинов предложил отменить республики и ввести губернскую форму управления [56] . Губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын предложил заполнить вакуум власти за счет создания «федеральных округов» в границах восьми региональных ассоциаций экономического сотрудничества. Это должно было, по мысли губернатора, «помочь Российскому государству, правительству и Администрации президента сформировать ту вертикаль власти, которая бы была работающей и взаимообязанной» [57] . Не правда ли, эта идея очень напоминает ту, которая впоследствии была реализована президентом Путиным в 2000 году? Те же слова про «вертикаль власти » и та же ставка на общение федеральной власти не с 89 лидерами субъектов Федерации, а с руководителями нескольких региональных округов. Правда, вместо предлагаемых восьми федеральных округов Путиным было создано семь, и не в рамках экономических ассоциаций, а в границах военных округов. Не была реализована также идея Лисицина о взаимных обязательствах центра и регионов, вместо этого была создана система прямого подчинения нижестоящих звеньев вышестоящим. Но главное не в этом.
Ни в то время, ни позднее не было никакой нужды в чрезвычайных административных мерах, поскольку в России уже сложились обычные, я бы даже сказал, классические механизмы, надежно обеспечивающие сохранение целостности Федерации.
Уже через три недели после дефолта и шока, на время парализовавшего всю систему управления, федеральная власть включила обычные правовые механизмы борьбы с экономической автаркией. И их использование привело к неожиданно быстрому успеху. Так, 23 сентября 1998 года генеральный прокурор Юрий Скуратов дал указание всем прокурорам субъектов Федерации проверить законность действий местных властей [58] , и уже на следующий день они были опротестованы. Многие должностные лица, пусть и не первые, а всего лишь исполнители, были привлечены к уголовной ответственности. Еще раньше (10 сентября) Центробанк России отозвал лицензию Банка Калмыкии, по сути, ликвидировал его. Республика дорого заплатила за попытку присвоить себе средства, предназначенные для уплаты федеральных налогов.
С «сельскохозяйственным сепаратизмом» довольно быстро и жестко расправился рынок: те края и области, которые ограничили вывоз продовольствия, в ответ перестали получать бензин и горюче-смазочные материалы (это в сентябре-то, в уборочную кампанию!), поэтому вынуждены были сами отменить свои решения. Ни в одном из регионов не удался эксперимент по административному замораживанию цен. Через два месяца после августовского кризиса, к октябрю 1998 года, от проявлений экономического сепаратизма в России не осталось и следа, и сегодня о том эпизоде помнят разве что специалисты-аналитики. Если даже чрезвычайные проблемы удалось решить обычными инструментами (правовыми и экономическими), то еще легче было таким же способом решать рутинные вопросы, скажем, постепенно устранять различия в законодательствах многих субъектов Федерации. При этом не лишен резона и вопрос о том, в какой мере асимметрия региональных законодательств в принципе представляет собой угрозу для целостности государства и нужно ли обязательно ее преодолевать. Об этом мы еще поговорим, а пока замечу, что, на мой взгляд, уже тогда вполне уверенно можно было утверждать, что период «расползания государственности» завершен.
Хочу подчеркнуть, что не считаю федеративную и национальную политику Ельцина совершенной. Прежде всего, она была стихийной, отношения с региональными элитами были неупорядоченными (преимущества зачастую получали те, кто был ближе к уху, к телу, к «семье» и т. д.), она создавала ощущение неравенства, выигрыша этнических меньшинств по сравнению с большинством. Однако я абсолютно уверен, что основную часть этих проблем можно было решить путем корректировки политики, без смены самой стратегии, которая впервые в истории России ввела в общественный оборот саму идею «общественного договора» (в формах федеративного договора, договора об общественном согласии, договоров с субъектами Федерации). Доктрина «общественного договора» неоднократно в истории служила отправной точкой на пути движения обществ к национальной гражданской консолидации. Именно по отношению к доктрине «общественного договора» новая доктрина вертикализации федеративных отношений и возвращение к традиционным командно-административным моделям управления может рассматриваться как контрреформа.
Зачем же президенту Путину в 2000 году нужно было возвращаться к идеям, возникшим в период кризиса 1998 года, и к тому же усиливать их административную жесткость, если необходимость в таких мерах отпала еще за два года до его избрания главой государства?
На мой взгляд, стратегия «вертикали власти» появилась не только в качестве ответа на проблему предотвращения дезинтеграции государства, но и как реакция на настроения большинства электората России. Избиратель хочет наведения порядка в стране, так нет ничего проще, чем имитировать его установление за счет создания федеральных округов во главе с генералами. Избиратель недоволен тем, что «региональные бароны» забрали себе слишком много власти, – в ответ делается эффектный ход по изгнанию лидеров регионов из Совета федерации. И если административные реформы оценивать в качестве политических технологий, с позиций воздействия на избирателей, то следует признать их успешными, по крайней мере поначалу.
Я далек от того, чтобы трактовать перемены в управлении регионами лишь как элемент избирательных технологий, ведь реформы были проведены сразу после триумфального избрания Путина на пост президента и задолго до новых президентских выборов. В то же время поддержка общественного мнения для Путина чрезвычайно важна. Придя к власти как ставленник нелюбимого в народе Ельцина, он сумел быстро завоевать симпатии масс и расстаться с этим народным признанием уже не может. Признание же пришло вследствие жесткой позиции Путина по проблеме чеченского сепаратизма. С тех пор борьба с сепаратизмом (реальным и мнимым) стала не только одной из фундаментальных задач новой администрации, но и ее символом. Чеченская политика во многом определила подход и инструментарий решения всего комплекса региональных и этнических проблем: это метод давления (не обязательно военного), непременно жесткого и обеспечивающего беспрекословное послушание региональных лидеров Кремлю. Не случайно федеральная власть сделала ставку на генералов, в том числе и «героев чеченской войны», в проведении этой политики.
Чеченская война и административные реформы являются единокровными детьми одной и той же идеологии «неотрадиционализма», поэтому вполне естественно пересечение в обеих кампаниях одних и тех же фигур. По ряду признаков путинский проект строительства «вертикали власти» очень напоминает государственное и партийное строительство советского типа, лишь с тем различием, что «большевики в свое время от идеологической организации перешли к государственно-бюрократической, сегодняшние партстроители начинают с последней» [59] .
Политика ограничительная и охранительная
Для нас существен вопрос о том, в какой мере этот проект нарушал баланс интересов этнических общностей.
Начнем с этнической элиты республик России. Существуют или могут существовать разные точки зрения относительно того, в какой мере путинские контрреформы изначально были направлены на ограничение их прав. Так, губернатор Новгородской области Михаил Прусак полагает, что новая политика как раз и отличается от прежней тем, что Ельцин делил региональных лидеров на «своих – демократических» и «чужих – коммунистических», а Путин взял курс на тотальное подчинение региональных элит. Прусак пишет, что «раньше для Кремля губернаторы были белые и красные, а теперь одинаковые – „все плохие“» [60] .
Однако можно предположить, что все же часть региональной элиты кажется Кремлю особенно «плохой» – это руководители республик, которые были лидерами «парада суверенитетов».
И наконец, не исключено, что реформы изначально не предусматривали какой-либо сегрегации региональной элиты, но болезненность восприятия последней этих реформ была разной в русских регионах и в республиках. При этом национальная элита республик и массы этнических меньшинств в них могли приписывать реформам некий скрытый этнический подтекст. Подозрения на этот счет могли усугубляться тем, что именно в «эпоху стабилизации» были приняты управленческие решения, которые, безусловно, ущемляли этнокультурные права и интересы меньшинств. Примером может служить уже упоминавшийся Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ» (в редакции Д. Козака), а также Федеральный закон «О внесении дополнения в статью 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», суть которого сводится к тому, что в Российской Федерации государственные языки республик должны использовать алфавиты только на основе кириллицы. Ограничения затронули и мигрантские группы этнических меньшинств. Такие ограничения стали частью перемен в миграционной политике. Если во времена Ельцина существовало самостоятельное миграционное ведомство, которое занималось преимущественно абсорбцией мигрантов, то в «эпоху стабилизации» оно стало частью милицейского аппарата и занято в основном ограничением миграции. Выиграло ли от указанных преобразований этническое большинство? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует задуматься, есть ли у большинства фундаментальная заинтересованность в самой федерализации. Нет сомнений в том, что этот процесс нужен этническим меньшинствам, он позволил им удовлетворить часть интересов в расширении и укреплении самостоятельности своих автономий. Интерес же этнического большинства в федерализации страны не очевиден, по крайней мере на первый взгляд. Однако часто бывает так, что одни и те же процессы или явления могут удовлетворять разные интересы, а они действительно неодинаковы у большинства и меньшинств.
Многочисленные этносоциологические исследования, проведенные как в России, так и в других странах, показывают, что с ростом этнического самосознания у этнических меньшинств усиливаются автономистские требования, а у этнического большинства – требование сохранения целостности страны [61] . Этническое большинство по определению не заинтересовано в борьбе за автономию, поэтому идеи «русской республики» как русской этнической автономии в пределах преимущественно русского же по своему национальному составу государства – это нонсенс. К величайшему сожалению, никто не пытался объяснить народу, что в исторически сложившейся этнополитической ситуации в России именно федеративное устройство является оптимальной формой учета баланса интересов этнических сообществ, когда меньшинства получают автономии, а большинство удовлетворяет, таким образом, свой главный интерес в сохранении целостности страны и единого контролируемого ареала своего расселения. Дефицит объяснений целесообразности федерализации не только для меньшинств, но и для большинства и одновременно избыток ее критики с позиций русского национализма усиливали дезориентацию масс. Если даже президент Путин в своем первом послании Федеральному Собранию не делал различий между децентрализацией и дезинтеграцией страны, то стоит ли удивляться тому, что массы и вовсе воспринимали федерализацию как односторонние уступки «националам», как хаос и начало распада страны.
В таких условиях реальное или только кажущееся ограничение роли «зарвавшихся региональных баронов» в целом было положительно воспринято этническим большинством. Однако логика контрреформ, логика огосударствления межэтнических отношений требовала не только ограничить политические возможности элиты этнических меньшинств, но и создать ей надежный противовес. Это логика формирования этнической опоры авторитарной власти – «цемента империи» и иерархизации народов по принципу «свои», «почти свои», «чужие». Такая политика декорируется лозунгами о защите прав этнического большинства, поэтому ныне все отчетливее стала проявляться и ориентация нынешнего политического истеблишмента России на сочетание ограничительно-запретительной политики по отношению к этническим меньшинствам с усилением охранительной политики по отношению к этническому большинству .
Так, наряду с законом, запрещающим этническим меньшинствам использовать иную графику, кроме кириллической, Государственной Думой принят Закон «О русском языке как государственном языке России», который трактуется политиками типа В. В. Жириновского как политический символ главенства русского языка и русского народа [62] .
В Думе подготовлен проект Закона «О русском народе». При его обсуждении выдвигались два основных тезиса: во-первых, признание русских «единственным государствообразующим народом», во-вторых, «признание России мононациональной, а не „многонациональной“ страной», при этом речь идет об этнической трактовке понятия «нация» [63] . В таком же направлении обсуждается идея пересмотра Концепции государственной национальной политики, принятой во времена Ельцина, и прежде всего замена принятой там формулы «все коренные народы России являются государствообразующими» на идею исключительности – «русские являются государствообразующим народом России» [64] .
Включилась в это творчество по переосмыслению национальной политики и Русская православная церковь (РПЦ). Митрополит Кирилл, глава отдела внешних церковных связей Патриархии, ведающий также и связями с органами федеральной власти, заявляет: «Мы должны вообще забыть этот расхожий термин – многоконфессиональная страна; Россия – это православная страна с национальными и религиозными меньшинствами» [65] . Действительно, РПЦ все настойчивее проводит в жизнь идею иерархии конфессиональных и этнических общностей. На вершине – «государствоообразующий православный народ», второй уровень – так называемые «традиционные религии» (ислам, буддизм и иудаизм), далее идут нетрадиционные религии (католицизм и протестантизм) и исповедующие их этнические общности и, наконец, так называемые «тоталитарные секты» и связанные с ними этнические общности.
Митрополит Кирилл – влиятельная политическая фигура, но все же он не государственный служащий, поэтому, когда его идеи озвучивает Георгий Полтавченко, полпред президента в Центральном федеральном округе, они приобретают иной, куда более весомый политический смысл.
Генерал тоже ратует за усиление роли традиционных конфессий в жизни России. В интервью, данном 26 февраля 2003 года, полпред отметил, что традиционными религиями в России считаются православие, ислам, буддизм и иудаизм. При этом Полтавченко подчеркнул, что именно православие на протяжении многих веков являлось государствообразующей религией [66] . В этом же интервью полпред сформулировал свое отношение к нетрадиционным религиям: «Почему мы должны создавать искусственные благоприятные условия для того, чтобы к нам пришли протестанты, католики, муниты и так далее?» [67] Эти рассуждения могут показаться, мягко говоря, странными для официального лица, но вполне естественными для человека, который убежден, что «слово „просвещение“ есть только в русском языке» [68] . Такой человек может и не осознавать, что в России, в том числе и на территории вверенного его попечительству федерального округа, уже несколько веков проживают многотысячные этнические общности, в которых большинство верующих исповедует католицизм (например, поляки) или протестантизм (например, большинство верующих немцев). Протестантизм – вообще одна из самых массовых конфессий России и охватывает значительную часть русского населения.
Любопытно, что в России вовсе не ислам, как многие думают, а различные течения протестантизма занимают второе место после православия по числу зарегистрированных организаций и учреждений. Речь идет о таких течениях протестантизма, которые появились в России в советское и более раннее время, например баптизм. По данным Министерства юстиции России, на 1 января 2003 года зарегистрировано следующее количество организаций и учреждений различных конфессий:
• Русской православной церкви – 112 999;
• исламских – 3467;
• буддистских – 218;
• иудаизма – 270;
• римско-католических – 268;
• протестантских – 5128.
Таким образом, общее число приходов так называемых «нетрадиционных религий» (протестантских и католических вместе взятых) превышает общую численность всех «традиционных» и уступает лишь совокупности приходов религии, которую полпред называет «государствообразующей».
Г. Полтавченко не случайно отказывается от подхода к конфессиям как к равноудаленным от государства. Для генерала религия и межэтнические отношения – это объект так называемой «духовной безопасности», которую он рассматривает как часть национальной государственной безопасности [69] . Его умозаключения, скорее всего, имеют цель обосновать с позиций обеспечения государственной безопасности целесообразность совмещения идеи «вертикали власти» с идей «вертикали иерархии» в системе этноконфессиональных общностей России.
Вырисовывается картина, до боли знакомая по советским временам, когда действовала модель «братских народов», но разделенных тем не менее на «старших» и «младших». Однако страна с тех пор изменилась, и легко себе представить, как на «вертикаль» центра ответят подобными же «вертикалями» республики. На вершине одной из них может оказаться татарско-мусульманский «старший брат», на другой – буддистско-калмыцкий и т. д. Вместо интеграции России мы получим множество очагов напряженности, и понятно, что укреплению федерации это способствовать не будет.
Пока концепция «вертикали этноконфессиональных общностей» не является официальной государственной политикой, более того, она противоречит российской Конституции, провозглашающей равноправие всех этнических и конфессиональных общностей «многонационального народа России». Противоречит эта идеология и высказываниям президента Путина, который, судя по его публичным выступлениям, не поддерживает тезис о России как «моноконфессиональной и моноэтнической стране с меньшинствами» и определяет ее как «страну, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий, культур» [70] . В этой связи можно рассматривать идеологию «этноконфессиональной вертикали» как целевой проект, осуществления которого добивается та часть политической элиты страны, влияние которой усилилось в «эпоху стабилизации».Идеологические предпосылки неотрадиционализма. Маятник этнополитических идей
Смена эпох, о которых мы говорим, ознаменовалась инверсией элитарных политических представлений. Идеологемы, осуждавшиеся элитой в «эпоху революции», стали престижными в «эпоху стабилизации». Произошел переход от идеи осуждения советского строя к его идеализации; от ориентации на западную модель развития к обоснованию особого пути России; от идеи «повинимся перед меньшинствами за имперское прошлое» к идее защиты этнического большинства от агрессивных меньшинств или защиты «хозяев» от «гостей». Мы еще поговорим о том, все ли идеи революционной эпохи заслуживали безоговорочной поддержки и не следовало ли какие-то из них пересмотреть. Пока же отмечу сам факт отказа части интеллигенции от своих прежних идей и то, что во многом это привело к усилению позиций идеологии традиционализма, или «неотрадиционализма».
По мнению Л. Гудкова, «неотрадиционализм» включает в себя следующие элементы: 1) «мечтания о прежней роли супердержавы в мире», 2) «антизападничество и изоляционизм», 3) «упрощение и консервацию сниженных представлений о человеке и социальной действительности» [71] .
Принимая в целом эту концепцию, все же считаю нужным уточнить как признаки понятия «неотрадиционализм» (акцентируя внимание не столько на внешнеполитических проявлениях традиционализма, сколько на внутренних, российских), так и предложенную Гудковым последовательность событий в процессе разрастания традиционных стереотипов в элитарном и в массовом сознании. Гудков исходит из того, что российская элита всего лишь воспроизвела уже сложившиеся «самые расхожие массовые мнения и взгляды», я же полагаю, что неотрадиционалистские «мнения и взгляды» вначале были вовсе не расхожими и не массовыми, сформировались именно в элитарных слоях и уже затем были искусственно оживлены в обществе. И лишь после того, как реконструированные элитой советские имперские стереотипы получили массовое распространение и приобрели значимость в качестве электорального фактора, их стали активно эксплуатировать влиятельные силы, при этом не только в политических целях. Растущая в массовом сознании идеализация советской эпохи привлекла внимание бизнеса, который стал активно использовать ее в коммерческих интересах. Например, корпорация «Балтика» решила возродить советский брэнд – пиво «Ленинградское» с этикеткой, которая была в советское время, диски с записями советских песен расходятся миллионными тиражами, рекламными плакатами «Наша родина – СССР» (реклама одной из радиостанций) заклеены вагоны московского метрополитена. Политическая и коммерческая эксплуатация советской ностальгии еще больше ее усилила.
Постараюсь обосновать свой тезис о «навязанном возрождении советских стереотипов», опираясь на материалы тех же исследований ВЦИОМ, которые использует мой коллега и друг Л. Гудков [72] .
Навязанные традиции
Элиты не только «производят идеи», но и распространяют их. Так было и в конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда основным выразителем идей перестройки, модернизации России был весьма узкий слой российского общества. В основном это были жители крупнейших городов бывшего СССР, преимущественно из среды гуманитарной интеллигенции. Этот слой в советское время испытывал растущую неудовлетворенность и дискомфорт от бюрократического характера организации всей социальной и повседневной жизни, поэтому, когда представилась возможность, он и сформировал идеи перестройки как одной из форм модернизации России. Суть этих идей в конечном счете сводилась к двум лозунгам: «так жить нельзя» и «пора вернуть Россию на путь цивилизованного развития, с которого она была сброшена коммунистическим переворотом». Крайне негативные оценки советского общества, советской экономики, политических институтов быстро утвердились в наиболее популярных масс-медиа в конце 1980-х годов. Массовое сознание какое-то время сопротивлялось этим новым веяниям, и потребовалось около двух лет для того, чтобы интеллигенция смогла довести до масс требование «разорвать с прошлым» и переломить настроения россиян. Так, доля опрошенных, согласных с тем, что в результате коммунистической революции страна оказалась на обочине истории и принесла людям лишь нищету, страдания и массовые репрессии, в 1989 году не превышала 7 %, а уже в 1991 году выросла более чем в 8 раз (до 57 %) [73] . Эта идея удерживалась в качестве доминирующей до 1992 года, переломного во многих отношениях, хотя и в то время негативные оценки советского периода все еще поддерживали почти 50 % опрошенных, несмотря на спад эйфории, связанной с надеждами на быстрые успехи либеральных реформ.
Демократическая мобилизация, направленная против союзной номенклатуры, помогла также российскому обществу адаптироваться к распаду СССР и обусловила сравнительно спокойное его восприятие, несмотря на то, что всего лишь за несколько месяцев до роспуска союзных органов власти большинство россиян на референдуме в марте 1991 года проголосовало за сохранение Союза. Однако подобная мобилизация продолжалась недолго, и непрочный союз разрозненных политические группировок, именовавших себя «демократами» (от прозападных либеральных до популистских и даже националистических сил), быстро распался. Солидная по численности демократическая фракция российского парламента буквально рассыпалась.
Первыми из демократической коалиции выделились так называемые «белые державники». Уже через год после образования новой суверенной России представители этого слоя ощутили, что у них больше сходного, чем различного, с «красными державниками». Поначалу их объединяла в основном ностальгия по Советскому Союзу и сожаления о том, что Россию перестали бояться в мире (одновременное повышение уважения к ней и рост готовности к сотрудничеству в расчет не принимались). Затем к этому добавилось общее негативное отношение к федерализации, которая, с точки зрения «державников» (т. е. традиционалистов, стоящих на имперских позициях), однозначно оценивалась как начало «развала России».
В октябре 1992 года была создана первая коалиция сил, оппозиционных Ельцину и правительству Гайдара, – это был Фронт национального спасения (ФНС). Его идейной основой был этатизм («державничество»), а лидирующую роль в нем первоначально играли не коммунисты, а те самые «белые державники», многие из которых в свое время поддерживали А. Сахарова [74] . Одновременно и левые силы стали больше выпячивать именно свои национал-державные, антизападнические идеи, а вовсе не принципы социального равенства. Так, Г. Зюганов вошел в ФНС не как лидер российских коммунистов, а как председатель Координационного совета народно-патриотических сил, вместе с ним пришли сторонники воссоединения Союза, например В. Алкснис («Союз»), и русские националисты, например А. Стерлигов («Русский национальный собор») [75] .
Вероятно, уже в это время наметилось смещение центра тяжести политической борьбы в России. Его главным содержанием все больше становилось не противостояние «демократов» и «коммунистов», а противоборство «западников» и «националистов», точнее, противоборство идеологий: «универсальной модернизации», с одной стороны, и «особого русского пути», основанного на идеях имперского традиционализма, – с другой.
В 1991–1992 годах российская оппозиция в основном сосредоточилась на критике внешнеполитического курса администрации Ельцина. Особенно доставалось за проамериканскую ориентацию Андрею Козыреву, руководившему в то время внешнеполитическим ведомством России. Выдвигались лозунги «объединения разделенного русского народа» и «защиты русских соотечественников», «брошенных на произвол судьбы» в новых независимых государствах. Русские в СНГ рассматривались державниками как основа ирредентистских движений, как инструмент восстановления СССР: «Без воссоединения ныне разделенного русского народа наше государство не поднимется с колен» [76] . В это время и часть представителей правящих политических кругов исходили из целесообразности тактики «перехвата лозунгов» державности, которые, как многим казалось, должны были пользоваться популярностью у народа [77] .
Между тем подобные идеи носили тогда сугубо элитарный характер и почти не отражались в массовом сознании. Об этом свидетельствуют опросы ВЦИОМ 1993 года (см. табл. 4).
Таблица 4. «СВЯЗАНА ЛИ ЛИЧНО ВАША СЕГОДНЯШНЯЯ ЖИЗНЬ С ДРУГИМИ РЕСПУБЛИКАМИ БЫВШЕГО СОЮЗА?» (в % к количеству опрошенных), 1993 год
...
Примечание: 1 – да, в значительной степени; 2 – да, в незначительной степени; 3 – практически нет; 4 – затрудняюсь ответить.
Источник: данные опроса ВЦИОМ (Омнибус 93-1).
Всего около 16 % россиян в то время заявляли, что их жизнь в значительной мере связана с другими республиками бывшего СССР, при этом у этнического большинства актуальные связи с другими республиками были менее значимыми, чем у респондентов других национальностей, многие их которых, возможно, были выходцами из других республик бывшего Союза. Свыше 2/3 русских респондентов отмечали, что их повседневная жизнь практически не связана с другими республиками бывшего СССР, тогда как среди представителей других национальностей таких было меньше половины. Лишь 9,3 % русских и 12,9 % представителей других национальностей заявляли, что они ощущают «свою общность с людьми и историей этих республик» [78] . Только 21 % русских ощущали интерес к тому, что происходит даже в родственной Украине, которая в то время воспринималась как неразрывная часть единого ареала расселения русских [79] .
И по отношению к вопросу о репатриации русских в России на протяжении 1990-х годов в массовом сознании преобладали настроения безразличия и безучастности, сменявшиеся в периоды кризисов ростом откровенного негативизма к русским из других республик. К ним старожилы относились как к непрошеным нахлебникам и конкурентам в экономической и социальной сферах [80] . Так, в Тверской области до середины 1990-х годов преобладало равнодушное отношение к притоку в область русских вынужденных переселенцев. Не более четверти опрошенных высказывали тогда негативное отношение к ним, однако после августовского кризиса 1998 года доля недовольных возросла уже до 44 % при безразличном отношении к русским мигрантам со стороны большей части респондентов [81] .
Можно утверждать, что политическая оппозиция того времени не опиралась на реальный анализ настроений народа и ссылалась на «волю народа» без малейшего на то основания.
К концу 1993 года сложились практически все основные разновидности лозунгов возрожденной «русской идеи» в ее имперской, традиционалистской трактовке. Коммунисты пугали народ ужасными последствиями распада СССР: «…нынешняя Российская Федерация – это еще не вполне Россия, а обрубок с кровоточащими разорванными связями» [82] . Сторонники Жириновского завлекали народ перспективами воссоединения великой державы: «Россия – это страна в границах как минимум СССР либо Российской империи» [83] . Радикалы из РНЕ призывали к насилию: «…представитель Русской Нации обязан восстанавливать справедливость в отношении Русских людей своей властью и своим оружием, не обращаясь в судебные и иные инстанции» [84] . В период обострения борьбы президента и Верховного Совета (1993 год) лагерь оппозиции еще больше расширился. В это время к критике внешней политики и гайдаровских реформ добавились упреки в адрес федеральной власти в «развале России», в поддержке сепаратизма республиканских элит. Тем не менее, несмотря на шумную пропаганду, подобные идеи в первой половине 1990-х годов еще не пользовались массовым спросом.
Как уже отмечалось, в электоральных предпочтениях населения доля сторонников «независимого развития России» превосходила долю сторонников «воссоединения СССР». Да и «образ врага», один из ключевых в неотрадиционалистском варианте «русской идеи», тоже не сразу овладел массами. В 1989 году большинство опрошенных (49 %) полагало, «зачем искать врагов, если корень наших бед в нас самих», и лишь 12 % были уверены, что источником проблем русских являются их враги. Через шесть лет (1994 год) уже 41 % опрошенных видели во врагах главный источник своих бед, но почти столько же придерживалось противоположного мнения. Понадобилось еще пять лет, чтобы «образ врага» прочно утвердился в сознании россиян, и в 1999 году уже подавляющее большинство опрошенных (65 %) стало объяснять свои проблемы происками врагов [85] .
Вряд ли кого-нибудь удивит тот факт, что привычная, стереотипная и удобная идея переноса ответственности за проблемы русского народа на «врагов» приобретала все новых сторонников по мере роста негативного восприятия жизни в России. Понятно, что возвращение к старому всегда требует меньше усилий, чем освоение новых ценностей. Поражает другое – сравнительно прочная устойчивость новой для посттоталитарного мышления идеи «корень наших бед в нас самих».
Позволю себе выдвинуть гипотезу о том, что за девять-десять лет с начала перестройки (1985–1994 годы) в российском обществе начала формироваться новая традиция, основанная на идеях индивидуальной свободы и персональной ответственности, которая оказалась способной какое-то время сопротивляться возвращению советских стереотипов, навязываемых массовому сознанию коммунистическими и радикально-националистическими пропагандистами, а также либералами-перебежчиками. И еще смелее могу утверждать, что социологические материалы доказывают сравнительно высокую пластичность массового сознания россиян и его готовность к восприятию новых социальных и политических парадигм.
При этом речь идет не только о быстро меняющихся политических представлениях, но и о глубинных ценностных ориентациях. Так, двенадцатилетние исследования Николая Лапина свидетельствуют о последовательном нарастании либеральных ценностей (свободы, независимости, инициативности) в той части структуры ценностных ориентаций россиян, которые обусловлены «утвердившимся социокультурным типом общества» [86] . Социологические исследования, проведенные разными исследователями, разнящимися по своим идеологическим убеждениям и по методологическим приемам, показывают, что сегодня около 40 % населения России – это люди, исповедующие ценности, во многом напоминающие так называемые протестантские в веберовском смысле этого понятия, т. е. глубоко индивидуализированные, ориентирующиеся на индивидуальный, рациональный выбор, на минимальное обращение за поддержкой к окружающей среде, за исключением семьи [87] . Не только социологические исследования, но и упоминавшийся уже факт многочисленности представителей протестантской религии (второй по численности верующих в России) свидетельствует, что ценности протестантской этики не чужды русским людям. Все это ставит под сомнение (по крайней мере) справедливость популярных ныне представлений о том, что русский народ был не готов к освоению модернизационных ценностей или что они якобы принципиально не соответствуют природе «русской души и ментальности».
Модернистская идеология в постсоветской России оказывала влияние на массовое сознание до тех пор, пока у россиян сохранялась надежда, что либеральные реформы приведут к позитивным переменам, что жизнь улучшится. Влияние же традиционализма стало прогрессировать по мере ослабления этих надежд. Массовые разочарования, усталость, фрустрации как раз и обусловили большую, чем раньше, восприимчивость людей к элитарным идеям неотрадиционализма, в изобилии выплескиваемым известными «экспертами» на массовую аудиторию в популярных телепередачах, в газетах и журналах. Традиционалистские же объяснения происходящих перемен, в свою очередь, обусловили еще больший рост массовой дезориентации населения и нарастание ностальгии по прежним временам идеализированной стабильности и благополучия.
Традиционализм как исторический фатализм
Мы еще остановимся на оценке иных факторов, обусловивших указанные перемены, а пока отмечу, что на российской интеллигенции в немалой мере лежит «грех» формирования упаднических настроений в обществе. В отличие от других стран Восточной Европы (Чехия, Польша, Венгрия) в России не возникло элиты, которая смогла бы выработать целостную программу национального развития, проект модернизации страны или хотя бы рационализировать происходящее. Вместо этого российская интеллектуальная элита проявила высокую склонность к популизму, который Ю. Левада определяет как антипод демократии. По его мнению, демократия представляет собой систему институтов и механизмов, которые «превращают толпу в народ», в то время как популизм «низводит общественное до массового, т. е. до уровня наиболее распространенного, „простого“» [88] . Популизм, в свою очередь, является важным фактором роста массовых этнических предрассудков, этнофобий. В условиях, когда стереотипы массового сознания становятся эталонами в обществе, «на сцену выходят дремавшие под покровом демонстративной „советской“ лояльности этнические фобии и национальные амбиции» [89] .
Развивается этнический национализм и под влиянием так называемого стихийного примордиализма, т. е. такого образа мыслей, который зиждется на представлениях о том, что людям, принадлежащим к одной этнической общности, изначально (примордиально) и навсегда присущ некий набор культурных свойств, обусловливающих их поведение [90] . Одним из политических следствий доктрины примордиализма является исторический фатализм, проявляющийся, например, в формуле: «Культура – это судьба». Между тем в этнологии примордиализм как научный концепт находится на периферии научной мысли и подвергается уже по крайней мере с середины прошлого века всевозрастающей критике. Прежде всего, его рассматривают как предтечу расизма, а при широкой трактовке последнего как «культурного расизма» непосредственно включают в это понятие [91] . Однако в России за пределами сообщества этнологов (этносоциологов) стихийный примордиализм доминирует как в массовом, так и в элитарном сознании.
Именно с примордиалистских позиций в российской прессе, да и в научных публикациях, чаще всего оценивают свойства этнических общностей, в том числе и русских. При этом используют две, казалось бы, абсолютно противоположные модели такого подхода: 1) «самобичевание», когда выпячиваются и абсолютизируются такие якобы извечно присущие русским свойства, как леность, неприспособленность к упорному, кропотливому труду, пьянство, низкая ценность жизни, неготовность к жизни в условиях демократии и др.; 2) «самолюбование», подчеркивающее абсолютно позитивные качества, такие как великодушие, щедрость, духовность и др.
Так, Лев Аннинский описывает русских в терминах первой из названных моделей: «Американец упорно работает, чтобы и дети, и внуки его имели счастливую возможность также работать. Наш человек героически вкалывает, чтобы если не дети его, то хоть внуки его получили наконец возможность ничего не делать» [92] . Другой современный литератор, Владимир Бондаренко, использует вторую модель (правда, весьма своеобразно, с сомнительными признаками позитивности), заявляя: «Русские – имперский, государствообразующий народ. Таким не являются ни грузины, ни эстонцы, ни даже немцы. Лишь русские, со своей обширностью и безразмерностью, с мечтательностью и жалостливостью, даже со своей треклятой обломовщиной, способны на державность» [93] .
Ни один из авторов ни приводит никаких аргументов в подтверждение своих слов. Все рассуждения о русских, грузинах, эстонцах и американцах не более обоснованны, чем знаменитые этнические анекдоты «армянского радио», и, похоже, на них и основаны. Отсутствие корректного и доказательного сравнения русских с другими этническими общностями заменяется категоричностью заявлений, сделанных во вневременных рамках, в терминах «всегда», «никогда», «во все времена». Это самая характерная черта стихийно примордиалистских суждений.
Такая внеисторичность противоречит накопленным результатам исследований и базовым теориям современной этнологии, свидетельствующим, что не существует вечных этнических особенностей. Этничность – это прежде всего отношения «мы – они». Именно такие отношения, как правило, и задают культурные особенности, которые, в терминологии Ф. Барта, выступают как «этнические маркеры», формирующие культурные этнические границы [94] . Культурные особенности любого народа всегда относительны: испанский язык отличает испанца от француза, но не отличает от чилийца и аргентинца, использование борща в повседневной диете отличает украинца от немца, но не отличает от русского и т. д. Этнические особенности являются всего лишь композицией преходящих культурных свойств, которые только на определенное время, в данный исторический момент могут отличать одну группу от каких-то других [95] . Но и в этом случае речь должна идти именно о группах, социальных и региональных, а не о всей общности. Русские горожане не только по поведенческим, но и по ментальным характеристикам отличаются от русских селян. Значительно различается элитарное и массовое сознание. Еще больше различий, включая зачастую и языковые, между этническими русскими, живущими в Америке или во Франции, и русскими россиянами. Единственная особенность, которая так же уникальна, как почерк или отпечатки пальцев человека, – это самоназвание народа (этноним), и предельным признаком этничности, с утратой которого происходит ее смена, является отказ от этнонима. Использование же традиционного этнонима свидетельствует о сохранении в какой-то мере этнической самоидентификации: люди могут уехать с исторической родины, забыть родной язык и утратить все навыки традиционной культуры, но продолжать считать себя представителями определенной этнической общности, другой, чем живущие рядом народы, что, однако, может не оказывать никакого влияния на их поведение.
Именно при анализе реального исторического поведения людей быстро рушатся стихийно примордиалистские конструкции. Например, если бы в русской народной традиции действительно преобладала ориентация родителей «на безделье своих детей и внуков», как утверждает Аннинский, то не мог бы действовать известный механизм передачи трудовых традиций из поколения в поколение, на основе которого формировалась и закреплялась исторически устойчивая региональная специализация ремесел (тульские оружейники, ивановские ткачи, стеклодувы Гусь-Хрустального и т. д.). Этот же механизм ранней профессиональной ориентации и передачи трудовых навыков до сих пор обеспечивает устойчивость русских народных промыслов (палехского, хохломского, дымковского, жестовского и множества других). А как согласуется с утверждением о русских как имперском народе (более имперском, чем какие-либо другие) тот факт, что на протяжении XX века Российская империя распадалась дважды и оба раза без сопротивления русского народа, в то время как любая попытка внешнего нападения на Отечество неизбежно подымала народное партизанское движение? Это миролюбие русских людей и одновременно рациональность – готовность защищать страну от агрессора и отсутствие желания проливать кровь за имперские амбиции элиты, на мой взгляд, является подлинным достоинством большого народа.
Высказывание В. Бондаренко о державности русского народа порождает множество вопросов. Прежде всего, что такое «державность» и чем она отличается от любви к родине и лояльности граждан государству? Не думаю, что цитируемый мною публицист будет настаивать на том, что русские больше любят свое государство и более склонны соблюдать его законы, чем, скажем, упомянутые им эстонцы или немцы. Он говорит о другом: об отношении русских людей к особому типу государства, к империи, в которой, во-первых, есть самодержавный правитель и его подданные, слуги (это имеет в виду Бондаренко, используя знаменитую лермонтовскую фразу: «Слуга царю, отец солдатам»); во-вторых, есть главный, имперский, как говорит публицист, «государствообразующий», народ, на которого возложена функция покорения других народов или насильственного удержания их в составе государства. Может ли державность в вышеизложенном ее понимании выступать в качестве этнически специфицирующего фактора? Да, может, но, как уже отмечалось, не вечно, а лишь на исторически определенное время. В XVIII веке, когда идея общественного договора и гражданской нации поддерживалась во Франции не только элитой, но и массами на революционных баррикадах, а в России о таких идеях большинство людей никогда не слышали, наверное, можно было говорить, что русские более имперский народ, чем французы. В середине XIX столетия, когда польские повстанцы в Российской империи выдвигали требования не только этнонационального, но и гражданского самоопределения, а русская элита, включая даже великого Пушкина, отказывала ей в таком праве, следовало говорить (и такие люди, как Герцен, говорили) о преобладании имперского сознания в российском обществе. Но все это было в прошлом. А какие признаки имперской державности заметны в массовом сознании русских сейчас?
Ностальгия по утрате империи, какой был Советский Союз, у них, скорее всего, проявляется в большей степени, чем, например, у упоминавшихся эстонцев. Однако, как уже было показано, эта ностальгия проявляется в форме преходящих настроений, по крайней мере, она мало похожа на «вековую мечту». Подобные настроения были слабо заметны сразу после распада Союза, они появились позднее, как одно из проявлений идеализации советского прошлого в условиях разочарования настоящим, и вполне вероятно, что они со временем утихнут, как обычно утихает всякая ностальгия. Да и сегодня эти настроения имеют крайне слабые политические последствия, поскольку сожаления о былом Союзе не порождают стремлений к его восстановлению. Имперский экспансионизм начисто отсутствует в массовом сознании, напротив, ему противостоит другая традиционная установка: «Лишь бы не было войны». Даже Г. Зюганов и его единомышленники по партии и коалиции не выдвигают сегодня, как в начале 1990-х, лозунгов, связанных с восстановлением СССР, понимая их полную политическую бесперспективность в избирательных кампаниях.
А насколько сильно укоренилась в русском сознании державность как идея «удержания территорий», скажем, применительно к Чечне? Именно с войной в Чечне идеологи русского традиционализма связывают основные надежды на приращение числа и консолидацию своих сторонников. «Чеченская война, – пишет Бондаренко, – изначально никому не нужная и развязанная теми же нефтебанкирами, в конце концов привела сегодня к общему патриотическому подъему народа. С концом века кончилась и эпоха русского унижения» [96] . Писалось это в 2000 году, в начале второй чеченской кампании, когда не только цитируемый публицист верил, что российская «на сто процентов рабоче-крестьянская армия воюет и побеждает на Кавказе». Думаю, что сейчас он бы не стал связывать надежду на конец «эпохи русского унижения» именно с победой в Чечне. Во всяком случае, у российского общественного мнения совершенно другие представления о возможном финале чеченской кампании. Если в 2000 году 40 % опрошенных ВЦИОМ были уверены, что федеральные войска в Чечне «очень близки» или «скорее близки» к победе, то в 2002 году лишь 0,8 % опрошенных верили, что война в Чечне уже закончилась, еще 10,1 % респондентов полагали, что на завершение войны потребуется около 5 лет, но самую большую группу (36,6 %) составляли те, кто считал маловероятным окончание войны даже через 10–15 лет [97] . С каждым годом войны такие настроения укрепляются. Примечательно, что ныне большинство опрошенных не считают нужным проливать кровь за удержание Чечни в составе Российской Федерации: 15,5 % полагают, что республика фактически уже не находится в ее составе, и еще 55 % не возражали бы против выхода ее из Федерации или готовы смириться с этим [98] . Следовательно, абсолютное большинство россиян (свыше 70 %), и прежде всего русских (они составляют 85 % опрошенных), выступают против идеи «удержания территорий».
И наконец, третий элемент «державности» – принцип подданничества (народ как «слуга царю») тоже постепенно уходит в прошлое. Если в 1989 году 27 % опрошенных поддерживали утверждение: «Мы должны стать свободными людьми и заставить государство служить нашим интересам», то к 1999 году их доля выросла до 37 % [99] . Аналогичные результаты (и даже со сходными количественными параметрами) получили и другие исследователи. Так, по данным Т. Кутковец и И. Клямкина, убежденные сторонники «традиционализма» в таких его проявлениях, как доминирование государства над личностью, патернализм и закрытость страны, составляют менее 7 % респондентов. Невелик и их резерв (22 %). Между тем сторонники модернистской альтернативы (приоритет интересов личности, ее самостоятельность и ответственность за свою жизнь, открытость страны) составляют 33 % населения при несколько большем по численности резерве (37 %) [100] .
На основе анализа многочисленных литературных источников Е. Ясиным было отобрано по 10 наиболее часто повторяющихся традиционных русских и советских ценностей. В ходе анализа он пришел к выводу, что успешное, хотя и противоречивое развитие капитализма в России перед Октябрьской революцией либо преодолело, либо трансформировало ядро традиционных российских ценностей. Далее, уже в советское время, урбанизация (а к началу 1990-х годов 2/3 населения России жило в городах и более половины, включая сельских жителей, – в индивидуальных квартирах) сильно потеснила патриархальные общинные коллективистские ценности и стимулировала рост индивидуализма. Урбанизация и индустриализация лишили основы те народные традиции, которые возникали вследствие зависимости русских селян от климатических условий (рваный ритм труда, чрезмерные, но краткосрочные напряжения). Радикальная смена демографического режима – переход от быстрого роста населения при высокой рождаемости, но и высокой смертности к стационарному населению или даже к его снижению при сравнительно низких показателях рождаемости и смертности – отразила и одновременно стимулировала рост ценности человеческой жизни. В то же время сохранение и даже реанимация некоторых традиционных ценностей в советское время (например, патернализма как формы иждивенчества) были обусловлены не столько относительной инерцией массового сознания, сколько сходством советского строя с прежним (еще большая роль государства, иерархическая организация общества и меньшая роль рыночных отношений).
Таким образом, культурные нормы и ценности оказываются устойчивыми настолько, насколько сохраняются формирующие их социальные институты [101] . Эти выводы полностью согласуются с теорией Бронислава Малиновского, родоначальника функционализма – одного из основных направлений современной культурной антропологии. Автор этой теории еще в 20-е годы прошлого века убедительно показал, что устойчивость культурных традиций, в том числе и традиционных ценностей, определяется их включенностью в функционирование конкретного общества и напрямую зависит от формируемой им системы потребностей и интересов людей. Изменения потребностей и интересов определяют и динамику ценностей [102] .
В информационную эпоху последней трети прошлого века эта теория была дополнена новым научным направлением – конструктивизмом, который указал на особую роль в трансформации ценностей интеллектуальной элиты, конструирующей культуру, изобретающей «традиции», содействующей развитию и распространению национального самосознания [103] . Конструктивизм, ставший основной парадигмой современных социальных наук, дал толчок развитию еще одного научного направления – инструментализма, который сосредоточил свое внимание на изучении политических технологий манипулирования массовым сознанием. Так, один из лидеров этого направления, Пол Брасс, отмечает значительную гибкость даже такой исторически устойчивой формы идентичности, как этническая, которая также поддается перенастройке при известных усилиях и под целенаправленным воздействием информационных систем. Их использование позволяет «политическим предпринимателям» стимулировать или тормозить (конечно же, в определенных пределах, которые мы еще специально обсудим) развитие интересов социальных групп и этнических общностей и воздействовать тем самым на их ценностные ориентации [104] .
В сравнении с доктринами функционализма, конструктивизма и инструментализма упоминавшийся мной стихийный примордиализм как концептуальный фундамент идеи незыблемости русских традиционных ценностей выглядит крайне недееспособным, поскольку не может предложить рациональных объяснений механизма устойчивости традиций. По сути, все объяснения такого рода сводятся к следующим представлениям:
• о мистическом замысле, который таится якобы в недрах народных и проявляется в некий предначертанный час («Народный замысел повис над ними дамокловым мечом и начнет рубить всех, кто пойдет антидержавным, прозападническим путем» [105] );
• о генетической предрасположенности того или иного народа к определенной модели культуры и социально-политической организации [106] ;
• о некоем неведомом «ментальном коде», определяющем особое восприятие жизни («Русскому человеку стать западником невозможно. Для того чтобы им стать, ему необходим определенный ментальный код» [107] ).
С рассуждениями о мистическом замысле бессмысленно спорить, поскольку они иррациональны. В это можно либо верить, либо не верить. Я не верю в «богоизбранность» какого-либо народа. О генетической теории предопределенности народной судьбы также говорить не имеет смысла, но по другой причине. По сути, эта теория лежит в основе идеологии расизма, осужденного практически во всем мире и юридически, и морально, а также множество раз разоблаченного как научно несостоятельная доктрина. К этому мне нечего добавить. Другое дело – замечание о «ментальном коде», оно выглядит вполне респектабельно, и этот термин часто употребляется в культурологии, однако в основном как метафора, а не как строгое научное понятие. Если бы такой код действительно удалось найти и появился бы ключ к его расшифровке, то это стало бы таким же революционным событием в науке, как открытие ДНК (генетического кода). Пока заявлений о подобных открытиях никто в мире не делал, что, однако, не мешает сравнительно часто использовать указанный термин, правда, всего лишь как художественный образ, подобный выражению «архитектура – это застывшая музыка».
Но если для научного обоснования этничности мистицизм и туманность можно признать недостатками концепций, то для их массового распространения – это скорее достоинство. Этничность сама по себе сложный феномен, и люди, как правило, не задумываются над природой исторической устойчивости национального языка или этнонимов. История общего происхождения всегда легендарна. Одни легенды выводят корни народа прямо от бога, другие – только от его пророков. И даже внутри этнической группы среди толкователей легенд могут существовать на этот счет разные точки зрения: одни толкователи «аргументированно» доказывают, что их общей прародительницей была сама римская волчица, а другие считают, что они происходят от ее выкормышей Ромула и Рема или только от одного из них. Кому хочется думать, что многие священные атрибуты этничности возникли лишь в силу необходимости отличать себя от других?
Традиционализм и имперское сознание
Несмотря на то, что идеологи традиционализма чаще других обосновывают свои рассуждения ссылками на российскую историю, державный традиционализм в действительности антиисторичен. Во-первых, традиционалисты либо вообще оперируют внеисторическими категориями («всегда – никогда»), либо приписывают истории несвойственную ей, по сути, мистическую судьбоносность, фатальность воздействия на народ и народную волю. Во-вторых, они весьма селективно и тенденциозно оперируют историческими фактами, выхватывая одни и отбрасывая другие. В российской истории, помимо традиций несвободы, авторитаризма, т. е. державности, была и сохраняется иная традиция – либеральная, демократическая. Это традиция Новгородской республики, декабристов и Герцена, «русских европейцев» конца XIX века – все они соответствовали европейским тенденциям модернизации и иногда даже опережали их. Но в том-то и дело, что современный русский политический традиционализм опирается не на всю российскую политическую традицию, а лишь на одно ее направление – имперское . Именно империю идеологи современного русского традиционализма преподносят как символ порядка и стабильности, как высший авторитет, а в последнее время еще и как привлекательный образ жизни. Империя – это «красиво», иногда даже «шикарно», как парад в «Сибирском цирюльнике» [108] .
У меня не вызывает сомнений, что традиционализм в принципе может быть как имперским, так и не имперским. Иной вопрос, к какой категории отнести такую разновидность традиционализма, как русское почвенничество? Какова связь между ним и имперским традиционализмом? Напомню, что одной из центральных для почвенничества является идея неорганичности для русской культурной среды (почвы) модернистских моделей политической организации государства и общества, как заимствованных из другой культурной почвы. Не буду долго распространяться об искусственности самого построения о почвенных и непочвенных элементах культуры. К какой категории прикажете отнести такие, казалось бы, знаково русские элементы культуры, как сарафан и кадриль, гармонь и картуз и сотни других, которые имеют иноэтническое, иностранное происхождение, но вошли в русскую культурную почву и лишь обогатили ее? Но все же речь идет о политических моделях.
Политолог А. Ципко убежден, что никакой связи между почвенничеством и имперским сознанием нет, и даже выделил особую разновидность почвенничества, дав ему название «великорусский сепаратизм» [109] . Действительно, сепаратизм противоположен имперскому порядку – он его основной разрушитель. Однако трудно себе представить сепаратизм этнического большинства, «великорусский сепаратизм». В качестве примера последнего политолог приводит высказывание Валентины Чесноковой, которая в известной дискуссии «Западники и националисты», отстаивая идеи русского почвеннического традиционализма, подчеркивала, что ей нет дела ни до народов Закавказья или Средней Азии, ни даже до того, как сложится судьба украинцев и белорусов, и что она, как и многие русские, устала от империи [110] .
И о чем же свидетельствует это высказывание? Понятно, что к сепаратизму, великорусскому или иному, оно не имеет никакого отношения, поскольку сепаратизм – это стремление отделиться от существующего государства, а вовсе не отказ от возвращения уже утерянных земель. Оно не может быть свидетельством отсутствия у автора имперской ориентации. Дело вовсе не в том, что я не верю заявлению автора, что она «устала от империи», – охотно в это верю, более того, не сомневаюсь, что В. Чеснокова, как и большинство русских людей, не поддерживает идею насильственного возвращения бывших союзных республик, ныне независимых государств. От имперского экспансионизма как одного из компонентов имперской идеологии действительно все устали. Правда и то, что судьбой бывших «братских народов» в России мало интересуются. Но из приведенной цитаты нельзя сделать никакого вывода об отношении ее автора к судьбе нынешних «братских народов» Российской Федерации и, следовательно, об отношении к другому компоненту имперского сознания – к идее удержания территорий, которые когда-то были завоеваны. Трудно определить и отношение Чесноковой к третьей составляющей имперского сознания – к идее самодержавия, зато можно с уверенностью сказать, что сама концепция русского почвеннического традиционализма, которую отстаивает В. Чеснокова, используется другими идеологами как раз для доказательства необходимости развивать в русской национальной среде (почве) только авторитарную (по-русски – самодержавную) модель государственного устройства, поскольку другие модели этой почвой якобы отторгаются.
Например, В. Найшуль обосновывает свой проект «Авторитаризм (самодержавие) и невозможность представительной демократии в России» ссылками на работы В. Чесноковой, и ей же, по его собственным неоднократным признаниям, он обязан своим самодержавническим мировоззрением. Эту идейную связь специально изучал историк А. Янов [111] .
Понятно, что почвеннический традиционализм – это не исток, а всего лишь прикрытие для авторитарных (самодержавных) доктрин. По крайней мере, увлечение экономиста В. Найшуля авторитаризмом началось не с русского традиционализма, а с любования политикой чилийского диктатора Пиночета (какое уж тут русское почвенничество!), и лишь затем, когда идеологический маятник в России качнулся в сторону традиционализма, бывший либерал приспособил авторитаризм к своей доктрине «национальной экономики». Следовательно, эта доктрина вовсе не традиционная и совсем не русская, а заимствованная из чилийского опыта, прямо скажем, не самого передового. Вот уж действительно история повторяется в виде фарса! Ныне в русский сарафан наряжает чилийскую модель Виталий Найшуль, тогда как полтора века назад на основе немецкой философии разрабатывал доктрину самодержавной (официальной) народности сам граф Уваров.
Правда, современный российский экономист все же ближе к русской народной культуре, чем николаевский министр просвещения. В. Найшуль хоть говорит и пишет по-русски, тогда как Уваров использовал только французский и на этом языке как раз и изложил в записке царю свою знаменитую триаду: православие, самодержавие, народность. Однако дело не в языке. Даже если бы Уваров знал русский язык так же, как автор толкового словаря В. Даль, и провел бы молодые годы не в Геттингене, а в каком-нибудь подмосковном имении, он и в этом случае не смог бы вывести свою концепцию официальной народности из тогдашней русской народной почвы. Там ее не было и не могло быть.
Уваровская идея сводилась в конечном счете к тому, чтобы воспитывать у народа – подданных – чувство любви к самодержавию, а у элиты (это особенно важно) – уважение к народным корням. С позиций современного человека такая концепция может показаться и простенькой, и архаичной, но для России первой трети XIX века она была абсолютно новой и до восстания декабристов могла бы, наверное, восприниматься властью как «опасное вольнодумие». Что такое народ в крестьянской стране, большая часть жителей которой – крепостные крестьяне? Зачем царской власти опираться на народную любовь, если эта власть от Бога и веками устоявшаяся легитимность ее династической передачи не подвергалась сомнению даже самыми отъявленными бунтарями вроде Емельяна Пугачева, которые вынуждены были для легитимизации своих действий появляться перед народом в обличье лжецарей?
И уж совсем такой власти не нужны были ни народные корни, ни народная почва. Представители царской династии и аристократическая элита гордились вовсе не своей народностью, а как раз наоборот, инородностью – своим происхождением от византийских императоров или от скандинавских викингов, тем, что они Рюриковичи. Только такая инородность (высокородность) легитимизировала право Рюриковичей владеть крестьянскими душами Ивановичей и Степановичей. Отсюда вытекала и необходимость маркировать свою инородность использованием благородного иностранного языка, отличающегося от простонародного «говора черни».
И вдруг правящей династии и аристократии предлагают освоить новый для них язык, отказаться от привычной психологии и даже в какой-то мере делегитимизировать свое право на превосходство. Это могло случиться лишь после декабристского восстания, абсолютно непохожего ни на предшествующие народные бунты, ни на дворцовые перевороты, – восстания, которое впервые поставило под сомнение сами устои самодержавия. Декабристы требовали Конституции, республиканской или по крайней мере той, какая используется в конституционной монархии. Еще страшнее было то, что в некоторых европейских империях подобные требования уже осуществились. Только такое потрясение заставило самодержавие, аристократическую элиту искать дополнительные ресурсы легитимности власти в виде «народной любви», а для этого элита должна была выглядеть «своей», «народной».
Понятно, что сама идея опоры самодержавия на народ и народность тогда могла прийти только из Европы, в которой монархии к этому времени либо уже полностью утратили признаки абсолютизма, либо двинулись по этому пути и нуждались в новой мифологии власти, в ее фольклоризации. В это время, как по мановению волшебной палочки, вдруг «отыскались» и стали популярными легенды о Нибелунгах, Волгаве и другие. Уваров, долго живший за границей и хорошо знавший новые идеи западной, прежде всего немецкой, философской мысли или, как сейчас сказали бы, политической технологии, как раз и применил в России прусские идеи декорирования самодержавной власти под народную. Хочу отметить, что он не был ретроградом, каким его часто изображала советская историография. Это был просвещенный бюрократ и даже своего рода реформатор, точнее, контрреформатор, поскольку он использовал западные новации не для обновления политической системы, а для упрочения традиционной, для усиления ее сопротивляемости надвигавшимся волнам модернизации.
Если почвеннический традиционализм – всего лишь декорация для имперского, то идея авторитаризма (самодержавия) – его сердцевина. Державность и самодержавие не просто однокоренные слова, они не только генетически связаны, они отражают самую суть имперского сознания – это ствол имперского древа, которое продолжает плодоносить и в тех случаях, когда отдельные ветви его (например, имперский экспансионизм) отмирают. Некоторыми ветвями (например, идеей удержания территории) самодержавники в некоторых случаях даже сами могут пожертвовать, лишь бы не усох авторитарный ствол. Примером может служить перемена отношения так называемых «Народно-патриотических сил России» (НПСР) к чеченской войне.
Сейчас, во время второй войны, публицист патриотической газеты «Завтра», горячий сторонник НПСР, пишет: «Победа в Чечне нужна как воздух…дело не в Чечне, за Чечней просматривается дальнейший и уже непоправимый распад России». Если это так, то почему в первую войну НПСР не предпринимали никаких попыток поднять патриотический дух народа и сплотить его на войну за целостность державы? Наоборот, Ампилов призывал к объединению чеченских боевиков с русским народом в борьбе с режимом Ельцина, а Зюганов, как и другие депутаты-патриоты, в Думе добивался отставки президента, ставя ему в вину как раз чеченскую войну, и вовсе не потому, что она была непобедоносной, а исключительно сам факт проведения военной кампании. Во время первой чеченской кампании национал-патриоты, по сути, выдвигали привычный для левых сил лозунг «поражения собственного правительства», которое они именовали антинациональным.
Самодержавный традиционализм на самом деле не имеет ничего общего с абстрактной любовью к государству. Державники (самодержавники) легко могут заменить лозунг «Нам нужна великая Россия» на противоположный – «Нам нужны великие потрясения», скажем, «русский бунт», если это потребуется для устранения не нравящихся им режимов и достижения их главной цели – установления авторитарного режима.
Итак, одни компоненты современного традиционализма связаны между собой жестко и неразрывно, другие носят вспомогательный и даже декоративный характер. В этой связи возникает вопрос, в какой мере такой тип традиционализма может быть связан с великорусским этническим национализмом.
Традиционализм – национализм – ксенофобия
«Имперское сознание противоположно национализму». Это утверждение часто встречается в обществоведческой литературе в России и на Западе. Иногда при этом ссылаются на самую популярную ныне и авторитетную теорию нации и национализма Эрнста Геллнера. Действительно, это один из ее постулатов, но при этом ученый имел в виду гражданскую нацию и гражданский же национализм, т. е. идеологию и массовые антиимперские движения, имеющие целью создание независимых государств, основанных на самоорганизации свободных граждан [112] . Понятно, что такой национализм противоположен имперскому сознанию вне зависимости от того, говорим ли мы о классических империях или о вторичных, типа Третьего рейха.
Этнический национализм имеет совершенно иное содержание – это идеология, в основу которой положен принцип исключительности того или иного народа (этнической общности). Народ может признаваться исключительным то ли потому, что он самый достойный, то ли, наоборот, потому, что он самый обделенный («народ-страдалец»). Ему могут приписывать извечную неспособность к каким-то свойствам или такой же вековой дар обладания какими-то чудесными свойствами, которыми его наделили то ли божественные силы, то ли природные. Иногда все эти постулаты в националистических доктринах причудливо переплетаются, а еще чаще вовсе не обосновываются – просто утверждается, что «наш» народ исключительный и поэтому достоин особых прав или привилегий.
Отношение имперского сознания к этническому национализму намного сложнее, чем к гражданскому. Обычно имперское сознание не опирается на этнический национализм в условиях стабильного функционирования классических империй. В таких случаях национализм противоречит базовым интересам имперской власти и элиты. Национализм меньшинств – это ее основной враг, а в опоре на национализм большинства власть редко бывает заинтересована. К тому же национализм – это всегда стихия, массовое движение, которое власть не может контролировать полностью, а, как говорил мне когда-то один высокий советский начальник, «самотека мы допустить не можем».
В условиях стабильного развития державы имперская власть иногда даже сознательно подавляет этническое самосознание своей основной опоры (этнического большинства) хотя бы для того, чтобы не возбуждать излишнего беспокойства в национальных провинциях. В кризисные периоды, когда центр ослаблен, а национальные провинции возбуждены, власть стремится задобрить именно меньшинства и в это время, по понятным причинам, также не подстегивает этнизацию большинства. Она может быть в этом заинтересована лишь в стадии своего упадка, например после крупных социальных потрясений и неудавшихся национальных революций, в целях подавления остатков сопротивления меньшинств и, как говорится, для острастки. Здесь вспоминаются несколько волн армянской резни в Османской империи и еврейские погромы в Российской в начале XX века. Такие действия имперской власти лишь усиливали раскачивание этнополитического маятника, приближая распад империй. Однако замечу, что во всех названных случаях мы горим не о национализме, а о массовой ксенофобии. Русский национализм как элитарная идеология хоть и проявился в России сравнительно давно, как минимум с середины XIX века, однако как организованное массовое общественное движение вышел на политическую арену только тогда, когда абсолютная монархия стала конституционной и дозволила появление партий, в том числе и таких, как «Союз русского народа». Так что даже этнический национализм в целом не характерен для классических империй. Иное дело – империи вторичные, но о них разговор впереди.
Хотя описанная модель этнической политики в империях и имеет отдаленное сходство с механизмом действия этнополитического маятника в постсоветский период (хотя бы в том, что Ельцин шел на уступки меньшинствам, а нынешний политический истеблишмент в чем-то, как говорится, «подкручивает гайки»), однако современная ситуация принципиально отличается в главном: Российская Федерация в своих основных чертах – не империя.
Прежде всего, Россия не самодержавная страна, несмотря на остатки авторитаризма и даже на некоторые тенденции его роста. Сложившийся в современной России экономический порядок и множество других факторов сильно затрудняют установление авторитарной (самодержавной) власти.
Россия не имеет колоний. Это федерация с высоким уровнем самоуправляемости регионов, и, несмотря на попытки унитаризации федеративных отношений в ходе проведенных реформ, власть в регионах по-прежнему сосредоточена в руках региональных элит, которые достаточно сильны, чтобы противодействовать дальнейшей централизации власти в стране. И даже Чечня, как бы негативно многие ни оценивали силовую политику решения проблем ее взаимоотношений с центром, колонией по своему статусу не являлась и не является, поэтому ни ООН, ни какие-либо другие международные организации никогда не предъявляли России претензий в том, что она нарушает ту часть международного права, которая связана с принципами деколонизации. Международные и российские правозащитные организации говорят лишь о колониальных методах решения чеченской проблемы. Однако подобные же методы иногда используют и другие государства, которые тем не менее не называют империями.
Имперское прошлое напоминает о себе остатками самодержавного имперского сознания элит. Однако при всех колебаниях курса федеральной власти идеология имперского традиционализма, как уже отмечалось, все же не стала основой государственной политики (возможно, пока еще не стала). Поэтому апологеты этой идеологии, несмотря на их возросшее влияние, не могут использовать ресурс власти для непосредственного утверждения своего проекта в обществе, что обусловливает необходимость для них опереться на массовую поддержку. Такой необходимости увлечь массы, как правило, не возникает в условиях классической империи.
Итак, положение, интересы и политическая стратегия имперски ориентированных элит в условиях империй и в современной России кардинально различаются. И если в классических империях национализм по крайней мере не обязательная черта имперского сознания, то в нынешних условиях он является его важнейшей составной частью, а главное, основным, если не единственным, мобилизационным ресурсом самодержавников [113] .
Здесь самое время вспомнить про вторичные империи диктаторского типа, и прежде всего Третий рейх, который был сконструирован в основном на идеях этнического национализма. Вот для таких империй этнический национализм абсолютно естествен, хотя мера проявления его различна в разных государствах одного и того же типа. При Сталине, несмотря на периодически возникавшие у него позывы к этническому национализму, все же не только националисты-сепаратисты, но и откровенные великодержавные националисты, призывавшие очистить Россию от инородцев, сидели в ГУЛАГе вместе с либеральными диссидентами. И само собой разумеется, тогда не могла бы появиться такая современная мутация национализма, как русский фашизм, русский национализм с гитлеровской свастикой.
Не хочу сравнивать современную Россию с Германией и Австрией 1930-х годов – политические ситуации тех лет и нынешняя российская, конечно же, различаются, однако механизмы, используемые имперскими силами, очень схожи.
Чем сегодня может увлечь массы самодержавный традиционализм в России? Предложить идею гражданской интеграции на основах самоорганизации общества он не может по определению, отсюда и постоянные ссылки его идеологов на то, что Россия до демократии то ли «не доросла», то ли та и вовсе чужда российской культурной почве. Увлечь идеей самодержавности в чистом виде, без этнической оболочки, не получается, ценностные ориентации масс изменились, люди больше не хотят быть слугами государя и государства. Остается, по сути, единственный мобилизационный ресурс – эксплуатация уязвленного национального достоинства русского народа. При этом наиболее действенной формой политических манипуляций массовым сознанием оказывается упаковка реальных и мнимых обид и «образа врага» в этническую оболочку – не просто чужой, а этнически чужой, не просто обижают, а потому, что имеют злой умысел против данного народа.
Как уже отмечалось, в революционные и постреволюционные периоды неизбежно возрастает этническое самосознание всех народов, растет и ксенофобия. Поэтому в современных условиях развиваются два встречных процесса – идеологический национализм элит и стихийная этнофобия масс. Оба процесса усиливают друг друга, хотя различия между элитарным национализмом и массовыми этнофобиями все же сохранятся. Это можно проследить на примере освоения массовым сознанием основных идеологем новой эпохи.
Оппозиция периоду реформ – идеализация советского времени . В попытках изжить травмирующие оценки настоящего массовое сознание повернулось к прошлому. К середине 1990-х годов в общественном мнении россиян позитивное отношение к советской эпохе стало преобладающим. Вместе с тем психологическая реабилитация советской системы наступила не сразу и прошла несколько этапов. К 1995 году более половины россиян полагали, что сама по себе советская система была не так уж плоха, однако негодными были ее правители. Еще через два года частичную реабилитацию получили и советские лидеры. Сравнения ВЦИОМ (1997 год) старой советской и новой российской власти дали следующую картину: советская власть к этому времени характеризовалась значительной частью опрошенных (36 %) как «близкая народу, своя», а нынешняя власть – как «далекая от народа, чужая» (41 %) [114] .
В качестве психологического механизма, компенсирующего ущербность «чужой» власти, в обществе усилились традиционалистские настроения, выражающиеся, например, в представлениях о том, что «настоящий русский характер» среди правителей не найти, что он воплощен в обычных, рядовых, простых людях, что он редко проявляется в столицах, а скрывается в тихой глубинке. При этом «свои» – это прежде всего люди этнически близкие. Социологи фиксируют и усиление корреляции между ростом приверженности традиционализму и увеличением поддержки идеи «Россия – для русских» [115] .
Для усиления образа «чужой власти» русские националисты в своей пропагандистской деятельности приписывали видным деятелям команды Ельцина несвойственные им этнические характеристики. Польский дипломат в своей книге вспоминает, что во время известных событий осени 1993 года возле Дома Советов было множество листовок с карикатурным изображением известных политиков из окружения Ельцина. На них грек по национальности Гавриил Попов изображался евреем, и ему почему-то приписывали фамилию Нейман; русского Андрея Козырева называли Козыревичем и рисовали со звездой Давида на лбу, а самого президента неизменно называли Борухом Натановичем Эльцыным и рисовали с усиками Гитлера [116] . Это сочетание Гитлера с еврейством с рациональной точки зрения представляется абсурдным, но политико-технологический смысл этой символики понятен: она должна означать, что изображенный на карикатуре человек «дважды чужой». Националисты в угоду политической целесообразности могут пренебречь реальностями этнического происхождения и записать евреем самого русского по облику и поведенческому колориту за всю историю России ее правителя и одновременно признать своим, русским, грузина Сталина, который до конца жизни говорил по-русски с характерным грузинским акцентом. Однако эти детали могут быть упущены, заретушированы политическими технологами при инструментальном использовании образа «вождя».
Образ Сталина действительно был нужен националистам всех разновидностей. Для националистов ярко выраженного имперского направления Сталин «был новым собирателем империи, новым Петром Великим, новым супергосударственником, которому прощалось народом многое» [117] . Для русских почвенников Сталин ассоциируется с порядком в государстве, и они его ценят за то, что он якобы «опирался на русские культурные ценности» [118] . Михаил Леонтьев ценит Сталина за то, что он был автором проекта «мобилизационного общества» [119] . Виталий Третьяков, бывший главный редактор некогда одной из самых либеральных в России «Независимой газеты», без объяснения причин, возможно, чтобы шагать в ногу со временем, так характеризует вождя народов: «Сталин – наше все. Как и Пушкин. Два полюса русской культуры…» [120]
Новое увлечение российской элиты Сталиным оказало влияние и на массовое сознание. Вместе с тем в нем антисталинские настроения удерживались сравнительно долго: с периода перестройки до начала эпохи Ельцина. Лишь к середине 1990-х годов антисталинизм приелся, надоел и фигура Сталина стала подыматься в массовом сознании, приобретая признаки величия. В социологических опросах 1995 года (вопрос «Назовите наиболее значительных деятелей и ученых в истории России») Сталин занял третье место среди самых важных и авторитетных фигур [121] . Тем не менее еще в 2002 году не многие россияне хотели бы жить во времена правления Сталина. Наибольшая часть опрошенных (39 %) предпочла бы жить во времена Л. И. Брежнева, и лишь 3 % выбрали сталинский период, а именно годы пятилеток [122] . Выбор брежневского времени во многом продиктован восприятием его как стабильного и не жестокого. Стабильность всегда привлекательна, но она становится особенно желанной для людей, уставших от 15-летнего периода бурных политических трансформаций.
Такие настроения подготавливали этническое большинство к восприятию идей националистической пропаганды, постоянно твердившей о том, что весь период реформ был временем национального позора. Массовому сознанию навязывались представления, что власть (администрация Ельцина), не просто «чужая», но и антинациональная, умышленно вела Россию к катастрофе, а распад СССР, массовая миграция русских и даже демографический кризис стали следствием злого умысла и некоего заговора против русских, организованного «антинациональной властью, которая, прикрываясь маской „реформ“, развязала широкомасштабный геноцид против собственного народа» [123] .
Оппозиция Западу – идеализация особого пути России. В период, когда в элитарном и массовом сознании преобладало критическое отношение к советскому прошлому, большинство россиян смотрело на Запад как на эталон движения в будущее. В 1989 году 60 % из 6585 опрошенных оценивали западный образ жизни как образцовый [124] . В середине 1990-х начался демонтаж этого эталона, а к 2000 году оценки конца 1980-х поменялись на противоположные. В это время 67 % опрошенных указали, что западный вариант общественного устройства не вполне подходит или совершенно не годится для российских условий и противоречит укладу жизни русского народа [125] . Отказ от иллюзий перестройки с ее прозападными настроениями сопровождался усилением утешительной веры в то, что «у России свой собственный путь»; доля людей, поддерживающих это представление, за 1990-е годы выросла вдвое и составила в конце их 60–70 % опрошенных.
В массовом сознании образ «особого пути России» чрезвычайно размыт, лишен какой-либо конкретности и в основном связан с идеализацией традиционных норм поведения: «Есть опыт наших дедов, и мы должны держаться за него». С этим суждением в конце 1990-х годов были согласны 65 % опрошенных, не согласны – только 20 % [126] .
В элитарных проектах «особого пути» роль традиций тоже чрезвычайно велика, однако в них все же преобладают современные антизападные или даже только антиамериканские внешнеполитические мотивы. Державническая элита не может полностью опереться на традиционализм, испытывая трудности в создании убедительного образа «золотого века» на материалах конкретной истории России, – непонятно, какой этап истории можно признать эталонным (неужели сталинский?). Как справедливо отмечает О. Малинова, «главная проблема современного российского антизападничества состоит в сложности поиска подходящей утопии: прошлое слишком разнородно, из него трудно синтезировать органичную традицию» [127] . Поэтому и в элитарном традиционалистском сознании ясного образа «особого пути развития России» тоже нет, его определенность состоит только в том, что он должен быть каким-то традиционным и каким-то не западным. При этом массовое антизападничество является исключительно продуктом информационного конструирования, поскольку сопровождается сохранением у россиян предпочтений в отношении большинства элементов западного образа жизни, западных товаров и услуг, а уж доверие к западной валюте, по меткому выражению одного из политологов, «заведомо превосходит доверие к любым другим институтам, включая доверие к Президенту Российской Федерации» [128] .
Тем не менее внушаемые общественному мнению представления об «угрозах Запада», игра на струнах уязвленного национального самолюбия и попытки использовать русский национализм в политических целях – все это усиливает массовую тревожность и ксенофобию, уровень которых и без того высок. Антизападничество связывается в массовом сознании с мнимыми угрозами для внутренней ситуации в России – угрозами «разграбления, колонизации России», «тайного сговора с внутренними врагами с целью закабалить страну». Подобные представления об «угрозах Запада» зачастую воспринимаются как злой умысел, имеющий этническую подоплеку. Даже Анатолий Чубайс не удержался от подобных оценок. По его мнению, «…произошел очень витиеватый и неожиданный для нас альянс левых и правых – скажу жестче, антироссийский альянс левых и правых на Западе… Империя зла не потому – что коммунисты, а потому – что русские» [129] . Уже упоминавшийся публицист национал-патриотического направления В. Бондаренко не без злорадства так комментирует это высказывание одного из лидеров российских либералов-западников: «…похлеще академика Игоря Шафаревича с его знаменитой уже классической „Русофобией“» [130] .
Оппозиция этническим меньшинствам в России – возрождение идеи «старшего брата». Национальное самоутверждение в форме оппозиции «свои – чужие» неизбежно приводит к этнофобии, объектом которой становятся местные российские этнические общности. При этом массовые этнофобии подвержены колебаниям (они то возрастают в периоды кризисов, то затухают), тогда как их элитарные проявления характеризуются высокой устойчивостью. Единственной группой, демонстрирующей не просто сохранение, но и постоянный рост негативизма в отношении нерусских народов, явилась группа респондентов с высшим образованием. За семь лет наблюдений ВЦИОМ (1990–1997 годы) доля негативных оценок этнических меньшинств в этой группе увеличилась почти вдвое – с 39 до 69 % [131] . Именно в этой среде полагают, что государственные органы должны следить за тем, чтобы «инородцы, нерусские не могли занимать ключевые посты в правительстве, в средствах массовой информации, армии и милиции» [132] .
Проявляются различия и в субординации образа «чужих». Для идейных русских националистов, особенно представителей радикальных экстремистских организаций, главным объектом ксенофобии выступают евреи, о чем свидетельствуют их газеты, листовки, сайты в интернете [133] . В массовом же сознании совершенно иная структура ксенофобии. Анализ ответов на вопрос социологического мониторинга ВЦИОМ (1995–2002 годы) «Как Вы в целом относитесь к людям следующих национальностей..?», именно суммы ответов «с неприязнью, раздражением» и «со страхом, недоверием», позволяет определить иерархию негативных оценок россиян в отношении представителей разных национальностей (см. рис. 3).
Столбцы на графике указывают на колебания негативных оценок этнических общностей по годам. Внизу, под названием национальности указаны интервалы, или пороги, этих колебаний в процентах к числу опрошенных.
Рисунок. 3. ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЯ «НЕПРИЯЗНИ», «СТРАХА И НЕДОВЕРИЯ» К РАЗЛИЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ
...
Рассчитано по: Гудков Л. Д. Динамика этнофобий в России последнего десятилетия (доклад на конференции «Национальные меньшинства в Российской Федерации», Москва, 2–3 июня 2003 г.).
К большинству этнических общностей в массовом сознании россиян преобладает положительное или спокойное, нейтральное отношение. Например, в опросах ВЦИОМ 2002 года оценку «отношусь спокойно, как к любым другим» в отношении к азербайджанцам продемонстрировали 58,8 %; к евреям – 76,8 %; к эстонцам – 80,1 % опрошенных русских [134] . При этом в оценках конкретных этнических общностей (в отличие от оценок абстрактных «врагов страны») не проявляются существенные различия между русскими и респондентами других национальностей. Во всяком случае приоритеты в отношениях к «иным народам» у респондентов разных национальностей совпадают. Мы выделили три группы национальностей по уровню негативного отношения к ним россиян, прежде всего русских, составляющих 85 % опрошенных.
«Совсем чужие». Эту группу составили народы, по отношению к которым доля негативных оценок за восемь лет наблюдений не опускалась ниже 30 % от числа опрошенных. Крайний негативизм за все эти годы проявляется лишь к чеченцам и цыганам – это единственные народы, негативное отношение к которым демонстрируют более половины респондентов. К чеченцам такое отношение фиксируется с 1996 года, а к цыганам – с 2002 года. Следующими по уровню негативного восприятия стоят азербайджанцы (доля негативных оценок к ним была не меньше 30 %, а в 1998 году увеличилась до 48 % от числа опрошенных). Далее по убыванию негативного отношения, но в отмеченном интервале колеблются оценки армян и грузин (доля негативных оценок была не меньше 27 %, а в отдельные годы доходила до 45 % от числа опрошенных), и, наконец, замыкают эту группу представители народов Средней Азии, негативные оценки которым давали 20–22 % опрошенных.
«Чужие». В эту группу вошли этнические общности, по отношению к которым негативные оценки респондентов колеблются в интервале от 20 до 15 %. Умеренный негативизм проявился к евреям и эстонцам – доля негативных оценок колебалась по годам от 13 до 17 % и однажды, в 1997 году, по отношению к эстонцам подобралась к 20 %; по отношению к татарам и башкирам колебания негативных оценок составили от 12 до 15 % и лишь однажды, в 1999 году, их доля по отношению к татарам увеличилась до 18 %.
В 2002 году в эту группу по сугубо формальным причинам попали и американцы – доля негативных оценок составила 17 %. Между тем до этого времени отношение к американцам было таким же, как и к народам, которые входят в следующую, третью группу.
В ней представлены национальности, по отношению к которым негативные оценки не превышали 15 %. Как оказалось, такой сравнительно слабый негативизм относится к двум совершенно разным типам этнических общностей.
«Почти свои» – этнически родственные для русских группы, например украинцы, негативные оценки к которым обозначают нижние (самые слабые, менее 7 %) пороговые значения этнофобии.
«Виртуальные» – это группы, с которыми подавляющее большинство россиян никогда не встречалось и оценивает их только на основе информации, почерпнутой из масс-медиа. Так, неожиданный, на первый взгляд, взлет негативных оценок арабов до 12 % в 2002 году, при том что до 2001 года негативных оценок этой группы в социологическом мониторинге вообще не было, несомненно, объясняется информационной реакцией на события 11 сентября в Нью-Йорке и общим ростом числа упоминаний этой группы в СМИ в связи с терроризмом во всем мире, в том числе и в Чечне. Трудно объяснить неожиданный рост негативизма (тоже от 0 % в 1993–1999 годах до 12 % в 2002 году) по отношению к немцам. Не исключено, что это отражение общего роста ксенофобии (во многом абстрактной) по отношении к Западу в целом. Что касается роста негативного отношения к американцам в последние годы, то оно, безусловно, связано с информационными кампаниями в России по поводу американской политики на Балканах и особенно их акции в Ираке.
Анализ отношения россиян к малоизвестным им этническим общностям прямо указывает на существенную роль информационного конструирования в развитии ксенофобии. Вместе с тем заметны и границы возможностей такого конструирования – все же самый высокий уровень этнофобии проявляется по отношению не к «виртуальным» для русских людей национальностям, а к хорошо известным. Можно ли такой вывод трактовать как доказательство справедливости часто повторяемого в современной прессе, да ив научных публикациях, утверждения, что в основе ксенофобии лежат не мифы и устоявшиеся стереотипы массового сознания, а реальное «несходство характера» русских с какими-то конкретными этносами?
Действительно, культурная дистанция – степень фактического различия во внешних признаках, поведении, культуре, образе жизни разных этнических общностей – оказывает определенное влияние на межэтнические отношения. Вместе с тем личный опыт людей ограничен, и, перенося свои впечатления на всех представителей некой этнической общности, люди так или иначе руководствуются не только своими наблюдениями, но и коллективными представлениями, запечатленными в преданиях, слухах, сплетнях, анекдотах и др.
В информационную эпоху роль коллективных представлений еще больше и формируются они преимущественно на сообщениях прессы, дополняемых (зачастую искажаемых) молвой. Особенно велика роль средств массовой информации по отношению к сравнительно новым для данной территории группам. Скажем, азербайджанцев сегодня обвиняют в том, что они захватили все городские рынки, взвинчивают цены, изгоняют «чужих» торговцев и т. д. Однако обычный русский покупатель, придя на рынок, вряд ли отличит азербайджанца от других «кавказцев». Информацию «о захвате» рынков «гостями» он получает из СМИ, которые вольно или невольно искажают реальную картину распределения представителей этнических групп в рыночном бизнесе. Прессу просто не интересует тот факт, что подавляющую часть рынков в стране все же контролируют представители этнического большинства. Ее интерес к русским хозяевам рынков просыпается лишь в некоторых, особо «пикантных» ситуациях, как, например, в Хабаровске, где главный хозяин городского рынка (его директор) Борис Суслов – это бывший первый секретарь горкома КПСС [135] .
Между тем процесс замещения «кавказцев» русскими на большинстве рынков России принял необратимый характер.
С одной стороны, русский бизнес (как легальный, так и нелегальный) все больше вытесняет с рынка, при явном или неявном содействии местных властей, выходцев с Кавказа. С другой стороны, сами «кавказцы» стали уходить в тень, выставляя вместо себя представителей этнического большинства в качестве продавцов своего товара (как легального, так и нелегального). Этот процесс особенно усилился после серии кавказских погромов на российских рынках. Еще важнее то, что за последнее десятилетие в России выросло целое поколение русских людей, для которых торговля на базаре – это вполне привычный и даже престижный бизнес. Поэтому процесс последовательного уменьшения роли этнических меньшинств идет постоянно и по нескольким направлениям одновременно, но пока никак не сказывается на динамике ксенофобии.
Не только журналисты, но и официальные лица в региональных управлениях милиции поддерживают представления о том, что чуть ли не вся розничная сеть торговли наркотиками состоит исключительно из цыган. Чем же объясняют официальные лица такое почти тотальное засилье цыган? «Цыганская диаспора, – отвечает на этот вопрос Аркадий Казак, представитель одного из региональных подразделений МВД России, – многочисленна, а из-за постоянной миграции – трудноконтролируема» [136] . Насколько же велика эта диаспора? Во всем Советском Союзе насчитывалось всего около 200 тыс. цыган, а в России их менее 150 тыс. И сегодня это одна из самых малочисленных этнических общностей в России. К тому же зона активности цыган в сфере распространения наркотиков сжимается. Они проживают на окраинах городов, в рабочих районах и «обслуживают» соответствующую часть населения. В таких популярных ныне местах распространения наркотиков, как ночные клубы и дискотеки, рестораны, сауны и бильярдные, университеты и другие учебные заведения, цыгане большая редкость. Мне уже приходилось писать о том, что массовые представления об этническом составе наркоторговцев сильно мифологизированы. Данные милицейской статистики и материалы судебных дел показывают, что и в наркопреступности этнические меньшинства составляют меньшинство, а криминальные группировки становятся все более многонациональными [137] .
О том, что культурные различия не являются главными в развитии ксенофобии, можно судить и на примере еврейского меньшинства в России.
Социологи и правозащитники в один голос утверждают, что уровень антисемитизма в современной России существенно снизился по сравнению с советскими временами. Эту тенденцию невозможно объяснить повышением уровня культурной адаптации евреев к традиционным российским условиям и ценностям. Евреи в России живут давно (по выражению А. Солженицына, русские и евреи «двести лет вместе») и в массе своей особенно не выделяются внешними признаками, поведенческими характеристиками, языком и даже самосознанием. В советскую эпоху еврейское население России максимально старалось «слиться со средой», чтобы не выделяться даже своими именами. Начиная с 1920-х годов не только новые имена детям евреи давали из набора русских (Игорь, Евгений, Юрий и др.) или международных (Артур, Эмиль, Марк и др.), но и старые переиначивали на русский лад (Хаим – Ефим, Сара – Соня и т. п.). В это время был почти полностью утрачен язык «идиш», религиозные праздники отмечались почти тайно и в основном людьми пожилого возраста, но антисемитизм продолжал нарастать. Сейчас же еврейское население страны демонстрирует несравненно большее культурное своеобразие, чем в советские времена: евреи перестали стесняться своей национальности, многократно увеличилось число синагог, еврейских театров и фольклорных групп, однако все это не приводит к росту антисемитизма, наоборот, в массовом сознании, повторим, он уменьшился в сравнении с советским периодом. И даже появление в последние годы множества антисемитских изданий радикально эту ситуацию не меняет. Почему? Прежде всего потому, что исчез «государственный антисемитизм».
Массовое сознание избирательно относится к информации. Позиция правительствам особенно первых лиц государства, и слышится дальше, и оценивается весомее, чем мнение обозревателя малотиражки. В России же иерархичность сознания пока еще очень велика, поэтому решительные и недвусмысленные выступления против антисемитизма как первого, так и второго президентов страны безусловно оказали существенное влияние на его снижение [138] . По этой и по ряду других причин самые массовые и влиятельные органы российских СМИ проявляют в целом высокий уровень корректности по отношению к рассматриваемой этнической общности.
Совершенно иная ситуация складывается вокруг чеченцев. Две военные кампании не могли не поставить эту группу в центр общественного внимания. При этом вторая война начиналась с организованной государственными структурами информационной кампании. По замыслу она была направлена против боевиков, террористов в Чечне, но легко переносилась в массовом сознании на всех чеченцев. Информационная война не многое дала для поддержания уверенности россиян в военной победе. Победы не получилось, и сколько бы ни пыталась сегодня официальная пропаганда представить ситуацию в Чечне как успех государственной политики, уровень доверия к ней не растет. Вместо патриотического подъема наблюдается небывалый рост ксенофобии по отношению к чеченцам: к 2002 году ее показатель подобрался к отметке почти 70 %.
Тому виной не только государственная пропаганда. Заметны перемены и в позиции независимой прессы, которую еще недавно называли демократической. Если в «революционный период» защита прав этнических меньшинств считалась одним из опознавательных знаков демократической печати, то в «эпоху стабилизации» ситуация изменилась радикально. Именно бывшая демократическая, а ныне массовая коммерческая пресса наиболее эффективно распространяет мифы об угрозах, связанных с пришлыми этническими меньшинствами. Социолог Оксана Карпенко сознательно сосредоточила свое внимание на анализе не националистической печати, а изданий, имеющих репутацию «демократической прессы». Такой анализ позволил ей выявить именно в этом секторе СМИ несколько основных клише, с помощью которых придается этнический смысл реальным и мнимым угрозам русскому народу. Речь идет о демографической катастрофе, связанной с изменением соотношения русских и нерусских в России; об угрозе ее благосостоянию ввиду увеличения роли в экономике этнических меньшинств («торгашей», «перекупщиков»); об угрозе русской национальной культуре в связи с чуждыми ей нравами и обычаями пришельцев; об угрозах криминализации России и роста терроризма в связи с притоком иноэтнических мигрантов [139] .
О. Карпенко отмечает и некоторые механизмы технологии навязывания читателю так называемой «охранительной» модели взаимоотношений между «хозяевами» страны и ее «гостями». Понятно, что «хозяевами» признаются прежде всего представители этнического большинства, а «гостями» – либо представители конкретных этнических общностей, например чеченцы или таджики, либо некие обобщенные квазиэтнические категории типа «южане», «кавказцы» или «горцы», к которым относят почти всех людей «неславянской наружности». При этом «хозяева» обладают правом порицать и наказывать «гостей» за несоблюдение обычаев, установленных «нами» в «нашем доме», на «своей» территории. Привилегированное право на наказание имеют силовые структуры, и сама сила признается самым результативным методом воздействия на «гостей» [140] . Если вдуматься, то описанная модель отношений «хозяев» и «гостей» характерна не для традиционного жилища (где гостю у всех народов отводится лучшее место), а для тюрьмы или российской казармы, в которой старожилы имеют право силой навязывать свои порядки новобранцам.
Такое извращенное, перевернутое, нарушающее традиции понимание отношений «гость» и «хозяин» отражает весьма типичные для постимперских условий психологические комплексы, связанные с болезненностью привыкания этнического большинства к своему новому пространственному телу, как бы сжавшемуся после распада Союза. В этой логике «великодержавный изоляционизм» является лишь компенсаторным механизмом психологической самозащиты от переживаний, связанных с утратой империи. К тому же произвольное, этноцентристское деление населения России на «хозяев» и «гостей» зачастую выступает в качестве этической платформы в аргументах, обосновывающих формулу «Россия для русских».
Подобные стереотипы получают распространение в среде политического истеблишмента России и определяют требования усиливающейся неотрадиционалистской (по сути, националистической) партии к реформированию этнической политики на основе «охранительной идеологии». Впрочем, не только этой партии. Даже директор Института этнологии РАН В. А. Тишков, которого никак нельзя отнести к сторонникам традиционализма и тем более национализма, в какой-то мере поддержал «охранительную» доктрину. Он пишет, что «наступает другое время – время не только зашиты притесняемых меньшинств, но и защиты большинства от радикализма и агрессивности меньшинства» [141] . Трудно не согласиться с известным этнологом в том, что радикализм меньшинств – это реальная и серьезная проблема, но она нисколько не уменьшится, даже если государство возьмет на себя функцию защиты этнического большинства. Как справедливо отмечает Юрий Александров, особая «социальная защита большинства – это нонсенс, кто его может защитить, если оно не защищает само себя?» [142] .
Охранительная идеология нисколько не повышает защищенности ни большинства, ни меньшинств. Сама эта идея способна лишь взвинтить взаимные страхи и усилить взаимное недоверие, что мы и без того наблюдаем. Если в начале 1990-х годов было заметно снижение страхов перед угрозой кровопролития на этнической почве, то сейчас эти страхи вновь возросли. По данным ВЦИОМ, доля лиц, которые считают возможными в настоящее время в России кровопролитные столкновения на национальной почве, составила летом 2002 года 47,3 % (ответы «определенно да» и «скорее да») против 27 % в 1993 году. Среди русских доля таких ответов составила в последнем по времени опросе 48,8 %, среди представителей других национальностей – 40,6 % [143] . Как видим, и в этом случае уровень тревожности среди русских выше, чем среди представителей других этнических групп.
Особенности и дефекты российской модернизации как факторы традиционализации общества. Маятник общественных настроений
О векторе развития российского общества
Некоторые мои коллеги полагают, что «вектор развития российского общества вопреки распространенному мнению явно направлен в сторону, противоположную традиционализму… Дальнейшая модернизация блокируется не менталитетом населения, а российской элитой, не готовой и не способной управлять свободными людьми» [144] . При всем моем уважении к авторам приведенного утверждения, не могу все же в полной мере согласиться с ними.
Начну с оценки вектора развития общества. Вывод о том, что он противоположен традиционализму, возможно, верен применительно к некой длительной исторической перспективе. Однако актуальное развитие показывает, что по крайней мере в рассматриваемой нами сфере национально-государственного строительства усиливаются как раз традиционалистские тенденции.
Неоднозначен, на мой взгляд, и ответ на вопрос о том, в какой мере массовое сознание блокирует процесс модернизации. Ценностные ориентации россиян действительно изменились в последние годы в том числе и по своим базовым характеристикам и сегодня ближе к модернизму, чем к традиционализму. Во всяком случае, бытующие представления о якобы извечной предрасположенности русских людей к державности, т. е. к имперской модели государственного устройства, в ходе нашего исследования не подтверждаются. Напротив, русские люди все меньше желают служить орудием для подавления других народов (как внутри России, так и вне ее) и все больше стремятся освободиться от состояния подданничества и стать свободными гражданами. Вместе с тем актуальные настроения большинства населения сегодня качнулись в сторону традиционализма, что проявляется в росте массовой тревожности, ксенофобии и даже националистического экстремизма.
К выводу о традиционалистском откате не только элиты, но и масс применительно к общему социально-экономическому развитию страны приходит и Е. Г. Ясин, который пишет, что в период завершения правления Ельцина и в наши дни «было сделано все, чтобы покончить даже с видимостью разделения властей…Раз за разом власть показывала, что она может делать все что захочет, причем давая такую интерпретацию закона, которая полностью обосновывала легитимность ее действия…Короче, пока можно сказать: традиция возобладала, причем не только в действиях власть предержащих, но и подвластных, которые толкают власть к тому, чтобы она быстрее стала авторитарной» [145] .
В том же направлении подталкивает власть и рост ксенофобии, который оказывает негативное влияние не только на характер межнациональных отношений, но на всю политическую ситуацию в обществе. Если страхи и фобии станут лейтмотивом гражданской жизни, то это создаст фон для общей дестабилизации политической ситуации в стране. В таких условиях возрастает опасность усиления авторитаризма, востребованного обществом в качестве «избавителя от страха ».
Было бы совершенно неверно объяснять тенденцию к росту этнофобий только влиянием элит, националистических активистов и соответствующей пропаганды. Возможности манипуляции массовым сознанием, в том числе и «конструированием этнических стереотипов», ограничены множеством факторов, назову лишь некоторые из них.
Величина, масштабность и уровень сплоченности общности. Малые, локализованные общности легче поддаются манипуляции, чем большие, расселенные на больших пространствах и слабо сплоченные.
Уровень развития социальных институтов и среды обитания. Чем менее архаична социальная организация самой группы и меньше традиционных черт сохраняет среда ее обитания, тем менее группа поддается внешнему конструированию и более склонна к саморазвитию.
Временные границы и стадии развития инерционных процессов. Роль этнических лидеров велика лишь на начальном этапе развития этнических фобий, затем они утрачивают контроль над массовым сознанием, теряют возможность его «конструировать» и зачастую сами могут стать заложниками уже сформировавшихся общественных настроений и раскручивающегося маховика ксенофобии. К тому же и сам этот маховик запускается не только вследствие манипуляции общественным мнением.
Социальные факторы ксенофобии
Возросшая поляризация социальной структуры, образовавшийся в постсоветские годы огромный разрыв между верхними и нижними ступенями социальной лестницы уменьшают возможности социальной мобильности людей и плавного перехода из низших в более высокие слои. В целом социальное неблагополучие в различных его проявлениях (от роста преступности до периодически повторяющихся невыплат зарплат и пенсий и, наконец, серьезных экономических кризисов, таких как дефолт 1998 года) сыграло весьма существенную роль в формировании у населения чувства неуверенности, настороженности и разочарования. Растут страхи, одним из проявлений которых является ксенофобия. Особенно велики они у жителей населенных пунктов, экономическая база которых восстанавливается медленнее, чем в крупных городах.
Все это объясняет результаты социологических исследований, показывающих, например, что при общем чрезвычайно высоком уровне подозрительности и отрицательного отношения к иноэтническим мигрантам такое отношение в малых и средних городах выражено сильнее, чем в крупных, и особенно в Москве и Петербурге. Лишь одна группа опрошенных (предприниматели) продемонстрировала существенно меньший уровень недоброжелательства к иноэтническим мигрантам, хотя и в этой группе 50 % респондентов завили, что их отношение к мигрантам «скорее отрицательное» и «резко отрицательное». Однако предпринимательское сословие весьма малочисленно в России, между тем в самых многочисленных социальных группах (рабочие, служащие и пенсионеры) показатели ксенофобии превышают 65 % [146] . В «лидирующей» группе по уровню этнического негативизма оказалась и учащаяся молодежь. Это неожиданный результат.
Почти аксиомой среди исследователей этнофобий считается представление о том, что молодежь меньше склонна к ксенофобии, чем люди пожилого возраста. Так было и в России еще 5–6 лет назад, однако сегодня ситуация изменилась (см. табл. 5).
Таблица 5. «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ Л И СЕЙЧАС УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ ЛЮДИ НЕРУССКИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОССИИ?»
...
Источник: данные ВЦИОМ (Экспресс-15, 7–10 апреля 2000 г.).
Как видно из таблицы 5, былая зависимость роста уровня этнофобий от увеличения возраста опрашиваемых наблюдается сегодня, только если начать отсчет с группы 25-39-летних, т. е. с тех, кому (в большинстве своем) в начале 1990-х годов было менее 24 лет. Зато нынешняя молодежь демонстрирует даже больший уровень этнофобий, чем представители самой пожилой из представленных в таблице групп. Нельзя объяснить это только большей возбудимостью молодежи, поскольку такая вполне естественная особенность возрастной психологии проявлялась и раньше. Однако в начале 1990-х она обусловливала наибольший уровень этнической толерантности, а ныне – наибольшие этнические фобии и страхи.
Естественно, возникает вопрос, почему именно сейчас страхов стало больше, хотя социально-экономические показатели страны не ухудшились по сравнению с «революционным периодом»? Думаю, что это связано не в малой мере и с тем, что ксенофобия сама становится системным фактором. По мере ее роста этнические различия воспринимаются острее, чем социальные и политические, происходит корректировка выбора ответственных за «наши» беды. Если в «революционный период» социальные проблемы политизировались, т. е. вину за них возлагали на власти или на стоящих за ними олигархов, то сейчас проблемы все чаще этнизируются и ответственность переносится на «чужие» этнические общности.
Если говорить о настроениях этнического большинства, то травмирующее воздействие на него оказывают и этнодемографические процессы. Продолжающийся уже более четырех десятилетий, но ставший заметным только в последние годы процесс уменьшения доли русских на фоне быстрых темпов роста этнических общностей, которые часто объединяют под общим названием «исламские народы» или, точнее сказать, «народы, исторически связанные с исламской традицией», воспринимается болезненно. Когда этническое большинство ощущает угрозу утраты своего статуса или реально теряет его на некоторых территориях, это, как правило, усиливает позиции этнического национализма. Напомню, что в начале прошлого века наиболее воинственное направление русского национализма (организации «Черной сотни») как раз и зарождалось на тех территориях Российской империи, где русское население было в меньшинстве и проигрывало в приросте местному (в Молдавии и на Украине). Именно там впервые и сформировался лозунг «Россия для русских». И в нынешние времена наибольший рост русского национализма отмечается в южных регионах России, где процессы изменения соотношения между большинством и меньшинством особенно заметны. Там же охотнее всего воспринимается националистическая пропаганда, представляющая демографические сдвиги (наряду с распадом СССР, федерализацией и экономическими реформами) как «геноцид русского народа». Она еще более усиливает болезненное восприятие демографических перемен.
Наибольшее влияние на рост ксенофобии в России оказала и продолжает оказывать чеченская война, сама явившаяся следствием незавершенности и непоследовательности реформы федеративных отношений и неопределенности этнической политики.
Чеченская война – это системный фактор в жизни нашего общества, влекущий за собой множество следствий, которые не могут быть сведены только к попыткам определенных политических сил использовать войну как инструмент реанимации в нашей стране «мобилизационного общества».
По некоторым оценкам, за две кампании через горнило Чечни прошло уже около полутора миллионов человек из разных районов России – военнослужащих (постоянных и временно командированных) и гражданских лиц, занятых в обеспечении армии, МВД, сил безопасности и др. [147] Немалая часть из них – это люди с расстроенной психикой, высоким уровнем агрессивности. Не случайно в российских тюрьмах сейчас чрезвычайно высока доля заключенных, совершивших свои преступления после возвращения из армейских частей, расквартированных в Чечне.
В понятие «чеченский синдром» входит и рост ксенофобии, особенно античеченских настроений. «Для большинства русских людей чеченец ни больше ни меньше как разбойник, а Чечня – притон разбойных шаек» [148] . Это было сказано в конце XIX века, и уже тогда подобные взгляды определялись автором как невежество, но сегодня это замечание выглядит как цитата из современного социологического обзора. По данным ВЦИОМ, почти три четверти (67,2 %) россиян убеждены, что чеченцы понимают только «язык силы» и попытки говорить с ними на равных воспринимают лишь как слабость другой стороны [149] .
Чеченская война порождает рост страхов в обществе. Подавляющее большинство россиян (68 %) уверены, что следующее поколение чеченцев будет еще более враждебным по отношению к России, чем нынешнее, и еще больше наших сограждан (78 %) испытывают страх перед возможностью уже в ближайшее время стать жертвами террористических актов со стороны чеченских боевиков. Подобные страхи стали поводом для демонизации чеченцев, которым приписывают почти биологическую ненависть к русским («это у них в крови, в генах», «они всегда ненавидели русских» и др.) [150] .
Этнические фобии обладают высокой инерционной устойчивостью и могут долго удерживаться в массовом сознании даже после исчезновения реальных политических причин, их породивших, поэтому, даже если удастся со временем благополучно разрешить чеченский кризис, эхо его последствий может быть весьма продолжительным. При этом ксенофобия неуправляема, в том смысле что она не может быть направлена только на одну этническую общность и, как правило, распространяется на широкий спектр «чужих народов». Не случайно с 2000 по 2002 год выросли негативные оценки не только чеченцев, но и более чем половины этнических общностей, включенных в опросные листы ВЦИОМ (см. рис. 3). Это еще не тенденция, но уже опасность.
Сам рост этатизма в стране, усиление надежд на «сильную руку» во многом связаны с чеченской войной. Война определила и рост влияния генералов и высших офицеров армии, МВД и сил безопасности на политическую жизнь страны. Не случайно два из семи полпредов президента в федеральных округах (генералы Виктор Казанцев и Константин Пуликовский) – полководцы чеченской войны. Еще один из ее полководцев – генерал Владимир Шаманов – стал губернатором Ульяновской области, а чеченский главком Геннадий Трошев – советником президента. В высшем военном руководстве страны уже целая плеяда «чеченцев», при этом особенно заметна роль начальника Генерального штаба Анатолия Квашнина, которого чрезвычайно высоко оценивает «патриотическая пресса», приписывая ему заслугу превращения российского Генерального штаба в «по сути своей русский, государственнический институт» [151] . Социологи называют политическую элиту страны времен Путина «милитократической» (см. табл. 6).
Таблица 6. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В ПЕРВЫЕ ДВА Г ОДА ПРАВЛЕНИЙ Б. Н. ЕЛЬЦИНА И В. В. ПУТИНА
...
Источник: данные исследований российской элиты, проводимых сектором изучения элиты Института социологии РАН с 1989 г. по настоящее время. К элите были отнесены: члены Совета безопасности РФ, депутаты обеих палат Федерального Собрания РФ, члены Правительства РФ, главы субъектов Федерации РФ, соответственно 1993 и 2002 гг. См. подробнее: Крыштановская О. В. Режим Путина: либеральная милитократия? // Pro et Contra. 2002. T. 7. № 4. C. 158–180.
Приведенные в таблице материалы О. Крыштановской интересны с точки зрения рассматриваемых нами проблем прежде всего изменением соотношения в составе политической элиты людей с учеными степенями, которые характеризуются как наиболее модернистически настроенная и толерантная часть общества, и военнослужащих, оцениваемых в уже упоминавшихся исследованиях ВЦИОМ как часть общества с наиболее выраженными чертами традиционализма и ксенофобии. В сравнении с эпохой Ельцина доля ученых сократилась в 2,5 раза (с 52,5 до 20,9 %), а доля военных почти на столько же возросла (с 11,2 до 25,1 %).
Для нашей темы особенно существен отмеченный многочисленными социологическими исследованиями факт, что среди военнослужащих и сотрудников МВД отмечается самый высокий уровень ксенофобии. Так, в уже упоминавшемся исследовании ВЦИОМ об отношении к иноэтническим мигрантам представители указанной группы продемонстрировали рекордно высокий негативизм (73 %). На первый взгляд этот результат кажется неожиданным, ведь данная категория наших сограждан меньше других испытывает конкуренцию со стороны приезжих как в трудовой, так и в бытовой сфере. Все это так, только представители этой социальной категории и рассуждают иначе, чем другие. Они чаще мотивируют свое отношение вовсе не с индивидуалистических позиций («мне станет хуже»), а исходя из своего понимания интересов державы. Именно представители армии, МВД и службы безопасности чаще других объясняли свое негативное отношение к иноэтническим мигрантам следующими соображениями: «они ведут себя нагло и агрессивно, они опасны» или «большинство преступлений совершается приезжими».
История многих стран мира – Франции в период «дела Дрейфуса», Германии и Италии в 20-40-х годах прошлого века, Греции в период правления «черных полковников» – показывает, что с ростом влияния армии на политическую жизнь страны в обществе растет национализм.
Рост доли военных в составе политической элиты в эпоху Путина по сравнению с эпохой Ельцина вызван не только тем, что к власти пришел бывший офицер, который больше доверяет представителям своей корпоративной группы. Куда важнее фактор изменения политической стратегии. Если стоит задача выстроить общество в шеренгу, то никто лучше генералов с этой задачей не справится. Однако ведь не только интересами и целями нынешней власти объясняется процесс милитаризации политической элиты. Нельзя забывать и о том, что значительная часть тех, кого социологи включили в состав политической элиты, вовсе не назначенцы, а народные избранники. При этом их избрание нельзя сводить только к эффекту так называемого «административного ресурса», во многом оно обусловлено и нынешним состоянием массового сознания. Пятнадцатилетний мониторинг ВЦИОМ показывает, что с середины 1990-х годов в России заметно сужение зоны доверия к основным социально-политическим институтам. В настоящее время наибольшим доверием пользуются лишь президент (в личном качестве, т. е. как правитель, а не как институт президентства), Церковь и Вооруженные силы, включая военнослужащих ФСБ, а из институтов гражданского общества – только СМИ, при крайне низком доверии к правительству, парламенту, суду, не говоря уже о политических партиях [152] .
Есть все основания оспаривать абсолютно спекулятивные построения традиционалистов о некой ментальной предрасположенности русского народа к самодержавной форме государственного устройства. Однако невозможно отрицать, что в современной России существуют некие ситуативно обусловленные (следовательно, преодолимые в принципе, возможно, уже в недалекой перспективе) границы политической либерализации, блокируемой ныне не только элитой (хотя ее ответственность за это наибольшая), но уже и настроениями масс. Можно и нужно не соглашаться с доводами ортодоксальных традиционалистов о некой фатальной невозможности для нашей страны осуществить модернизацию в ее базовых для современного мира чертах. Однако стоит прислушаться к тем, кто ставит под сомнение не принцип модернизации как таковой, а всего лишь совершенство той ее модели, которая сложилась в постсоветской России во многом стихийно, без предварительной проектной проработки и без учета реальных, а не надуманных особенностей России. Такие сомнения особенно оправданны уже потому, что во всем мире происходит переосмысление теории модернизации.
«Особый путь развития России» с позиций неомодернизма
Сама идея модернизации подверглась серьезной критике в конце 1960-х и в 1970-х годах. Тогда классической версии модернизма (У. Ростоу, К. Керр, С. Хантингтон) ставилось в вину эмпирическое несоответствие ее постулатов реальности, наблюдаемой в странах «третьего мира», особенно африканских, попытки модернизации которых зачастую не приводили к ожидаемым результатам. В теоретическом плане отмечался архаизм концептуального аппарата первых версий модернизма, который базировался на представлениях эволюционизма еще XIX века (Г. Спенсер, Э. Тэйлор, Л. Морган) об однолинейности исторического развития и жесткой универсальности для всего человечества целевых моделей организации общества. Одним из ответвлений такого эволюционизма был и марксизм. Между тем сам Маркс столкнулся с неудобствами жесткого универсализма своей конструкции пяти исторических формаций, поскольку никак не мог приспособить к ней особенности архаичных обществ, и поэтому изобрел особый «азиатский способ производства».
Факт концептуального пересечения марксизма и классического модернизма мне кажется важным, поскольку не исключено, что многие современные российские реформаторы основывали свои взгляды не только на идеях раннего модернизма, инкорпорированного в экономические концепции Сакса, Ослунда, Бальцеровича, но и – невольно – на усвоенных со школьной скамьи идеях марксистского эволюционизма.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов многим казалось, что модернизм будет похоронен и его вытеснит постмодернизм, по сути, отказавшийся от восприятия истории как процесса модернизации (обновления) и от самого принципа прогрессивного развития. Однако в середине 1980-х годов характер научных дискуссий круто изменился – началось возрождение модернизма. Это было связано прежде всего с переменами в мировой геополитической обстановке, вызванными появлением посткоммунистических обществ и их стремлением «войти», или «вернуться», в Европу (т. е. в современный западный мир) [153] . И дело не только в том, что вновь возник политический спрос на идеи модернизации (свою роль в обновлении этих идей сыграла теоретическая критика, а главное, появилась эмпирическая база для выводов о специфических и универсальных закономерностях модернизации). Открылся континуум обществ с давними историческими традициями модернизации, обществ, переживших социалистическую модернизацию, а также немодернизированных, архаичных, и на основе его сравнительного анализа стал формироваться «неомодернизм», к сторонникам которого себя относит и автор.
Неомодернизм освободился от всех наслоений классического эволюционизма, он не настаивает на какой-либо единственной конечной цели развития и допускает обратимость характера исторических изменений. Модернизация рассматривается как исторически ограниченный процесс, узаконивающий универсальную целесообразность лишь ограниченного набора «институтов и ценностей современности: демократию, рынок, образование, разумное администрирование, самодисциплину, трудовую этику и т. д.» [154] . В такой редакции модернизм избавился и от привкуса сугубо западнической модели, хотя и не отрицает значения «демонстрационного эффекта» как важнейшего стимула к обновлению, но вместо единого образца для подражания выдвигает принцип «движущихся эпицентров современности». Например, для Украины образцом в каких-то сферах модернизации может быть не Америка, а, скажем, Польша или Венгрия, в других – Россия. Главным же постулатом этой концепции является признание возможности многолинейного исторического развития, в котором модернизация осуществляется разными путями в зависимости от стартовых позиций тех или иных обществ и специфики проблем, с которыми они сталкиваются [155] .
Насколько такая версия модернизма совместима с утверждениями традиционалистов о неизбежности «особого пути» развития России? Ответ зависит от того, что понимается под «особым путем». Если имеется в виду стратегическое направление движения не к обновлению (модернизации), а к архаизации страны, возвращению в авторитарное прошлое, то такой лозунг абсолютно противоположен идеям неомодернизма, а если речь идет о вариации моделей и технологий обновления, о темпах, последовательности и средствах движения, то в этом случае он вполне совместим с новыми веяниями в модернизме.
Нет нужды доказывать, что Россия имеет свои особенности даже по сравнению с типологически близкой ей группой посткоммунистических стран Восточной и Центральной Европы. Эти особенности обусловлены не только огромными масштабами страны и наследием милитаризированной советской экономики, но и особенностями социальных ресурсов модернизации (например, меньшей укорененностью и меньшим удельным весом предпринимательства и более слабыми основами гражданского общества), а также спецификой этнополитической ситуации в России и ее федеративным устройством. К сожалению, все эти особенности не в полной мере учитывались в ходе проведения реформ.
Дефекты модернизации в России
Разумеется, я не имею возможности дать комплексный анализ современной российской модернизации и поэтому остановлюсь лишь на двух ее дефектах, в наибольшей мере связанных с этническими аспектами политики реформ.
Модернизация сверху и отсутствие учета баланса этнических интересов. Петр I мог проводить модернизацию сверху, мог рубить головы стрельцам или стричь бороды боярам, поскольку опирался на общественное представление о легитимности воли монарха. Сталин также мог проводить модернизацию сверху (не буду оценивать ее результаты), опираясь на силу репрессивного аппарата, народный страх, а еще больше – на полную закрытость общества, которое не знало, что «так жить нельзя». Ныне же у власти нет действенных инструментов, для того чтобы выстроить общество в шеренги и направить их по тому или иному пути. Мониторинг ВЦИОМ показывает, что с середины 1990-х годов лишь война в Чечне оставалась фактором политической мобилизации российского общества [156] . Однако мобилизация на волне страхов и фобий недолговечна, а главное, ее нельзя использовать для созидания.
При отсутствии мобилизационных ресурсов одной лишь воли элит недостаточно для того, чтобы модернизировать страну. В таких условиях модернизация может быть успешной, если она будет отражать жизненные интересы «масс», в этом случае народ станет не только требовать продолжения реформ, но и сам начнет проводить их. Однако в реальности реформы проходили в лучшем случае при непротивлении масс, но не при их поддержке, и со временем отчуждение от них нарастало. Даже сами слова «реформы» и «реформаторы» приобрели в массовом сознании преимущественно негативное звучание. Если реформаторы не смогли сделать реформы «своими» для народа, то уже одним этим позволили оппозиции представить их как «антинародные». По мере восприятия реформ как антинародных и неуспешных росла и ксенофобия, которая выполняла две функции: во-первых, объясняла народу причины его неблагополучия, связывая их с происками «чужих», во-вторых, служила компенсаторным механизмом самоутверждения (если люди не могут самоутвердиться в достижениях, они самоутверждаются, выдумывая или утрируя недостатки других).
Большинство из перечисленных мной социальных причин ксенофобии скорее всего были неизбежными. Я не знаю, можно ли было в 1990-х годах сделать разрыв между «верхами» и «низами» общества не таким зияющим, а ступени между социальными стратами более дробными. Демографический кризис вообще не результат, а сопутствующее условие реформ, и здесь в вину либералам-реформаторам можно поставить лишь их безучастность к попыткам националистических сил представить демографические проблемы как следствие «геноцида русского народа». Вот чеченская война – явление преимущественно рукотворное, и, конечно же, определенную ответственность за нее несет все общество, а в этом смысле и либералы-реформаторы, хотя их антивоенная позиция была более принципиальной и последовательной, чем у самодержавнической оппозиции. Однако этот сюжет требует специального разговора, уж слишком он сложен, запутан и деликатен. Поэтому я остановлюсь лишь на тех просчетах архитекторов реформ, которые мне кажутся очевидными.
Попытки сделать реформы народными, «своими», заинтересовать каждого отдельного индивида в реформировании общества предпринимались, но их трудно назвать успешными. Скажем, ваучерная приватизация по своему замыслу должна была превратить каждого российского гражданина в совладельца бывшей государственной, а ныне приватизированной собственности, однако подавляющее большинство граждан так до сих пор ничего и не получило за свой ваучер. Зато очень многие потеряли сбережения в сберкассах в 1991–1992 годах и в банках после дефолта 1998 года. Никто из лиц, ответственных за такую экономическую политику, своей вины или своих просчетов не признал. Напротив, все чаще можно услышать оправдания дефолта тем, что он стимулировал новый подъем экономики. Возможно, так оно и есть, но стоило бы для баланса подсчитать и потери для реформ, к которым привела эта акция. Они проявились, например, в росте недоверия людей к власти реформаторов, в усилении восприятия ее как «чужой» и одновременно в росте положительного восприятия традиционалистской альтернативы реформ.
Вообще «небалансовое» мышление, т. е. подсчет лишь выгод, достигнутых в одних сферах, без оценки потерь в других, – это весьма характерная черта нынешней российской общественной мысли, в том числе и ее либерального направления. По крайней мере, баланс этнических интересов совершенно не принимался во внимание ни архитекторами реформ, ни поддерживавшими их кругами российской интеллигенции.
Нужно признать, что на первом этапе российских реформ меньше всего учитывались интересы этнического большинства. При его относительной этнической пассивности власти относились к нему по принципу «терпит, не бунтует – и слава богу». Либеральная интеллигенция обращалась к русскому народу разве что с предложением повиниться перед меньшинствами за преступления империи.
Это предложение сомнительно во многих отношениях: во-первых, у подданных не может быть ответственности, во-вторых, русские («кулаки», казаки, интеллигенция и др.) пострадали от тоталитарного аппарата, его репрессий не меньше других народов. В то же время крайне мало внимания уделялось актуальным проблемам этнического большинства, например этнокультурным аспектам миграции, в которой основным субъектом были русские, составлявшие 3/4 всего миграционного притока. В либеральных кругах относились с определенной настороженностью и к проблемам русской диаспоры в странах СНГ, рассматривая политику в этой сфере чуть ли не как проявление империализма, хотя, например, в совершенно прозападной Венгрии аналогичная проблематика была одним из знаковых признаков политики всех правительств этой страны в постсоциалистический период. Совершенно игнорировалась проблема русских как меньшинств в ряде республик Российской Федерации (и совершенно экстремального положения их в Чечне) и одновременно идеализировалась демократичность национальных движений меньшинств. При этом именно либеральные круги обращали мало внимания на авторитарно-традиционалистские проявления политики национальных элит некоторых российских республик (замечу, что сейчас характерна другая крайность – традиционализм национальных элит безмерно утрируется). В начале 1990-х годов в интеллигентских кругах господствовало весьма сомнительное, на мой взгляд, представление о принципах национального самоопределения меньшинств: такая его форма, как создание независимых государств, рассматривалась как норма, как желаемая цель, а не «наименьшее зло» в некоторых чрезвычайных ситуациях. Серьезно обсуждалась в то время и концепция «упреждающего распада России», или «направленного взрыва», т. е. подготовленного сверху, не допускающего кровопролития целенаправленного раздела федерации на несколько самостоятельных государств. Эта концепция абсолютно утопична, однако сама ее постановка показывает, что специфика интересов этнического большинства просто не попадала в поле зрения «мыслителей». Спрашивается, почему русские люди должны быть заинтересованы в рассечении независимыми государствами единого ареала своего расселения и какой другой этнической общности, будь она на месте русских, такая перспектива могла бы понравиться?
Как уже отмечалось, не пытались реформаторы и объяснить народу целесообразность федерализации как разумного компромисса между интересами меньшинств в автономии и большинства в сохранении целостности страны и единого ареала своего расселения. Более того, когда начались контрреформы федеративных отношений, они были с энтузиазмом подхвачены значительной частью либеральных кругов, ратовавших «за восстановление порядка». Те же самые люди, которые не могли допустить мысли о восстановлении командной экономики, легко соглашались с командно-бюрократическими моделями управления регионами. Те же самые политики, которые осознавали, что пересмотр итогов приватизации недопустим, с благожелательностью принимали мысль о радикальной ревизии другого не менее важного компонента реформ и всей модернизации, что неизбежно вело к полной делегитимизации самой идеи реформирования общества. В таких условиях этническому большинству трудно было признать федерализацию, да и не только ее, «своей» реформой, «своей» модернизацией.
Технократизм и однолинейность концепции модернизации, отсутствие ее проекта . В ответ на весьма распространенные ныне упреки архитекторам реформ в том, что экономическая составляющая модернизации оторвалась от своих социально-культурных тылов, обычно слышится: «Ну и что же? Поправим дело на следующих этапах». Не стану с этим спорить (разумеется, многое можно поправить, хотя и с большими издержками), меня беспокоит другое – проглядывающее сквозь этот ответ эволюционистское (марксистское) представление о том, что экономические, политические и социально-культурные процессы непременно движутся в одном направлении, только с разными скоростями. При этом экономика подталкивает развитие других сфер, поэтому социально-культурные преобразования, не осуществленные сегодня, можно сделать завтра, возможно, даже с большим успехом, поскольку экономическое положение улучшается. Прямо как у Маркса: «производительные силы неизбежно приведут к изменению производственных отношений».
В реальности же успехи экономики могут сочетаться с противоположными, откатными движениями в политике и в настроениях масс, тормозящими общий ход модернизации. Например, не вызывает сомнений необходимость развития в России местного самоуправления, без этого модернизации снизу не получится. Однако модернизировать и либерализировать местное самоуправление сегодня, когда оно все больше пристегивается к вертикали власти, труднее, чем в эпоху Ельцина. Все чаще и настойчивее ныне говорится, что на нынешнем, втором этапе реформ дальнейшее развитие модернизации страны будет блокироваться или даже «модернизация по-настоящему не стронется с места» без решения проблем концентрации власти и собственности, преступности, коррупции, а «успех в этой сфере обусловлен реальными изменениями в системе ценностей, неформальных институтов, в культуре» [157] . Полностью разделяю эту точку зрения, вопрос лишь в том, как реализовать эти идеи в нынешние времена. Понятно, что изменений в системе ценностей и культуры нельзя достичь пиар-кампаниями, для этого нужны серьезные преобразования в системе народного образования. Но кто же сегодня допустит либералов к таким преобразованиям, когда власть, а за ней школа и вузы сильно качнулись в сторону традиционалистской идеологии? По этой же причине и средства массовой информации сегодня менее пригодны для распространения идей либерализма и модернизма, чем в предшествующую эпоху. Эти сани нужно было готовить загодя.
Но даже если бы мы не знали всего этого, а, скажем, «с чистого листа» и на основе здравого смысла стали бы готовить проект модернизации России, то и в этом случае идеологическую и ценностную подготовку населения, безусловно, отнесли бы не на второй и даже не на первый этапы модернизации, а на некий нулевой цикл, как поступила компания «Форд», которая перед тем, как запустить свое производство в Ленинградской области и начать выпуск автомобилей, позаботилась о подготовке кадров по крайней мере стартовой команды.
Я далек от мысли кого-нибудь упрекать в отсутствии проекта модернизации России, поскольку понимаю, что его просто не могло быть в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Тем нужнее он сейчас. Для элит такой проект – план действий, программа комплектования и эшелонирования преобразований во времени, а для масс – источник просвещения и средство поиска решений весьма сложных проблем модернизации.
Для России социально-культурная подготовка населения к модернизации даже важнее, чем для многих других стран бывшего социалистического лагеря. Например, в период коренной ломки всего общественного устройства в странах Восточной Европы, также как и в России, усилился этнический национализм. Однако особенностью восточно-европейского национализма в отличие от русского было то, что он формировался как антисоветский и уже поэтому был прозападным. Однозначный же выбор Запада в качестве политического и экономического ориентира для элит бывших социалистических стран Восточной Европы оказал блокирующее влияние на развитие в них как этнического фундаментализма (с ним на Запад не пускают), так и на возможность возрождения идей «социалистического пути» [158] . В России же такого естественного барьера на пути возвращения к советскому традиционализму нет, следовательно, у нас больше, чем где бы то ни было, нужны рациональные обоснования того, что «так жить нельзя», и одними лозунгами, как на заре перестройки, здесь не обойтись.
Далее, в России нет, как у наших бывших «солагерников», почти иррационального (или, скажем, дологического) народного влечения «вернуться в Европу», напротив, национализм у нас исторически развивался (еще со времен своей славянофильской модели) как оппозиция Западу, и это антизападничество особенно усилилось в советское время, поэтому его рецидивы в виде периодически вспыхивающих антизападнических настроений можно было предвидеть. Указанная особенность не ставит непреодолимых преград на пути модернизации страны, она лишь требует подбора адекватных инструментов. Например, архитекторы модернистского проекта должны ориентироваться не столько на «демонстрационный эффект» («будем жить, как на Западе»), сколько на рациональное, детальное и убедительное доказательство того, что этот проект лучше конкурирующих с ним отечественных и что он в большей мере соответствует интересам всех социальных групп и этнических общностей страны.
Таким образом, модернистский проект развития России в качестве общественного явления должен включать в себя как изложение параметров своей целевой модели в конкретных сферах жизни (в том числе и в этнической политике), так и критический анализ своей традиционалистской альтернативы.
Начнем со второй части этой задачи.
Альтернативные проекты национального развития
Этнополитические последствия традиционалистского проекта
Как уже отмечалось, используемые в книге термины «традиционалистский, имперский проект» и «традиционалистский, гражданско-национальный проект» весьма условны. Они имеют вспомогательное назначение, очерчивая два возможных варианта национальной политики. Эти термины нужны автору для сравнения нынешней российской стратегии «усиления вертикали власти» с теоретически возможной стратегией развития горизонтального каркаса государства и общества. Последняя стратегия связана с федерализацией государства, развитием гражданского общества и мультикультурализмом. Ни традиционалистский, ни модернистский проекты в России в качестве развернутых идей, программ пока не сложились. Они проявились лишь в некоторых разрозненных признаках, по которым можно смоделировать проекты в целом – для того чтобы оценить возможные последствия их осуществления.
Угрозы возрождения сепаратистских настроений. Обратный ход маятника
О каком ответе этнических меньшинств, да еще в форме сепаратизма, можно говорить в условиях «политической стабилизации», признаки которой весьма заметны и в этнополитической сфере? Действительно открытые проявления сепаратизма значительно уменьшились, а зона его сузилась даже не до республики, а всего лишь до отдельных районов одной Чечни. Некогда могущественные лидеры национальных движений в республиках России как будто бы совсем ушли с политической арены. Воспоминания о том, что в начале 1990-х некоторые республики Федерации отказывались от проведения федеральных выборов, сегодня кажутся почти фантастикой или могут восприниматься как рассказ о другой стране. В современной России именно республики демонстрируют наивысшие проявления лояльности к федеральному центру, именно там действующий российский президент получил на выборах 2004 года небывалую поддержку: свыше 90 % голосов при почти поголовной явке избирателей. Впрочем, такие результаты бывали и прежде, но лишь в советские годы.
Возврат к советским образцам политического поведения дал повод некоторым политикам, политологам и публицистам говорить о том, что Россия после нескольких лет «смуты» возвращается к норме и даже к фундаментальным истокам своей культурно-исторической идентичности, а именно: к «державности» как всеобщей готовности народа служить государству и государю, в каком бы облике последний ни представал – царя, генерального секретаря или президента.
Однако возможна и другая трактовка указанных перемен – всего лишь как очередного колебания исторического маятника. В этом случае эпоха революций лишь на время уступила свое место эпохе стабильности, а под покровом нынешней демонстративной лояльности лидеров национальных республик могут накапливаться политические силы для будущих этнополитических взрывов. Немало исторических примеров показывает, что высокая лояльность подчиненных народов демонстрировалась как раз накануне крупных территориальных конфликтов. Так, жители Алжира в 1958 году единодушно (95 % голосов, что значительно больше, чем в метрополии) поддержали конституцию Франции, за четыре года до того как с боями покинуть ее. В 1991-м аналогичная ситуация повторилась на референдуме по поводу судьбы СССР. Тогда, например, народ Азербайджана «весь как один» подержал идею сохранения Союза, а через пару месяцев после этого стройными рядами пошел за Народным фронтом республики, выступавшим за ее независимость, и с тех пор ежегодно и сплоченно «ликует» по поводу празднования «Дня независимости».
Так ли стабильна нынешняя этнополитическая обстановка в России?
Уменьшились открытые проявления этнического сепаратизма, но одновременно во много раз возросли проявления этнического терроризма.
Ушли с политической сцены (возможно, всего лишь на время) лидеры национальных движений этнических меньшинств, но заметнее стала активность русских националистов, в том числе и таких радикальных групп как «скинхеды».
Если в начале 1990-х идею этнической правосубъектности отстаивали этнические антрепренеры из числа наиболее политизированных групп этнических меньшинств, то сейчас ту же идею отстаивают люди, причисляющие себя к «защитникам интересов русского народа». Покоящийся на такой доктринальной основе законопроект «О русском народе» поставлен в число первоочередных для рассмотрения Комитетом по делам национальностей нового состава (избранного в 2003 году) Государственной Думы. Этнический традиционализм (можно даже сказать фундаментализм), ранее характерный лишь для этнических меньшинств и выражающийся в категорическом неприятии неких политических перемен под предлогом их якобы несоответствия народным традициям, ныне стал популярным практически у всех групп политической элиты России.
Некоторые действия властей и даже всего лишь заявления, декларации, исходящие от представителей властной элиты, уже вызывают протестную консолидацию меньшинств.
Язык, историческая территория, самоуправление, национальная государственность и власть (если она признается «своей») – все это важнейшие символы этнических общностей. Любые попытки посягательств на эти символы немедленно актуализируют негативную этническую консолидацию. Понятно, что региональные лидеры не одобряют своего изгнания из Совета Федерации. Но ведь и массовое сознание вряд ли оценивает положительно многие перемены в Совете Федерации, например тот факт, что Республику Туву сейчас в нем представляют вдова бывшего питерского губернатора Людмила Нарусова и питерский банкир Сергей Пугачев. Разумеется, само по себе это не приведет к бунту, но в исторической памяти народов, возможно, отложится. При этом особенность этой памяти не только в том, что она дольше всего хранит именно негативные события, но и в том, что обычно со временем она еще и драматизирует их, превращая обычную глупость или сиюминутный расчет в «стратегический замысел», направленный против того или иного народа. Создание федеральных округов также не вызывает восторга региональной элиты, а основную функцию полномочных представителей в округах она, на мой взгляд, представляет как надзор за своей лояльностью. Настораживает региональных лидеров и прямое вмешательство президентских полпредов в избирательный процесс, и прежде всего в использование административных ресурсов для проведения выборов глав регионов по сценариям, благоприятным для Кремля. Так, почти демонстративное отстранение от президентских выборов в республиках в начале 2002 года таких популярных претендентов на этот пост, как Михаил Николаев в Якутии и Хамзат Гуцириев в Ингушетии, стимулирует негативную консолидацию региональной элиты и побуждает ее к прямой или скрытой конфронтации с полпредами.
Поначалу у региональных лидеров преобладал страх, и большинство из них остерегалось открыто высказывать свое негативное отношение к преобразованиям административной системы, предпочитая скрыто действовать через оппозиционных представителей национальных движений. Однако вскоре лидеры республик стали открыто ставить под сомнение целесообразность как преобразований в Совете Федерации, так и создания семи административных округов [159] .
В тех случаях, когда лидеры республик и губернаторы остерегаются публично критиковать полпредов, они дают волю своим чувствам в отношении фигур второго уровня в округах – федеральных инспекторов. Не прекращается публичная перепалка губернатора Михаила Прусака с федеральным инспектором по Новгородской области Любовью Андреевой. Бывший питерский губернатор Яковлев (тогда еще не сосланный в Москву) публично назвал Николая Винниченко, федерального инспектора по Санкт-Петербургу «одним из наиболее беспринципных» [160] . Мягкий и интеллигентный президент Чувашии Николай Федоров в деликатной манере, но с явной издевкой оценивает сам институт федеральных инспекторов в регионе. В одном из интервью он говорит: «Мне недавно назначили, правда, согласовав со мной, главного федерального инспектора по Чувашии генерал-полковника Александра Муратова. Я это воспринял как признание роли и значимости Чувашии: за Шаймиевым присматривает генерал-майор погранвойск, за Рахимовым – тоже генерал-майор, но МЧС, за Марий Эл – вообще полковник. А у меня генерал-полковник, да еще командующий Внутренними войсками Приволжского округа» [161] .
В отличие от Н. Федорова главным оружием многих президентов республик против сомнительного, с их точки зрения, института полпредов и федеральных инспекторов становится не столько публичное высмеивание или критика последних, сколько негласная поддержка своих местных неформальных лидеров национальных движений. В сложившихся условиях многие лидеры республик стали «меньше замечать» новое оживление национальных движений, у которых любые административные действия Кремля в отношении «их» республик повышают жизненный тонус, придают осмысленность деятельности в «защиту своего народа».
Наибольшее влияние на развитие этнополитической ситуации в России может оказать та часть административных реформ, которая предусматривает изменение пропорций в распределении налогов, идущих в федеральные и региональные бюджеты. При этом больше всего пострадала муниципальная часть регионального бюджета, сократившись с 32 до 17 % [162] . Между тем расходы муниципалитетов не уменьшились, следовательно, дефицит бюджетов городов и сел возрос. Именно вследствие этого многие города и села испытывали перебои с обеспечением электроэнергией и теплом зимой 2000–2001 года.
Федеральные власти тешат себя иллюзиями, что рост числа регионов, полностью зависимых от них материально, сделает региональную элиту более послушной. В действительности ситуация прямо противоположная: чем меньше средств в региональных и муниципальных бюджетах, тем меньше ответственности несут их руководители и тем меньше может быть спрос с них. В связи с этим вполне оправданны ожидания того, что уже в ближайшем будущем жители городов и сел будут все чаще адресовать свое недовольство не местным руководителям, а непосредственно Кремлю.
Для территорий, где преобладает нерусское население, указанная тенденция может привести к росту антирусских настроений и фобий, поскольку в таких местах федеральная власть воспринимается как русская и исходящие от нее неприятности зачастую рассматриваются как целенаправленная дискриминация нерусских народов.
Вместо «вертикали власти» в реальности выстраивается конструкция наподобие трубы, в которую снизу поступают требования, подозрения и фобии, а сверху, при ослаблении региональных фильтров, спускаются ошибочные управленческие решения вроде уже упоминавшегося Закона «О языках народов Российской Федерации», в соответствии с которым алфавиты государственных языков республик России должны строиться на графической основе кириллицы. Как только этот закон был принят, даже в тишайшей Карелии оживились национальные движения. Представители национальных общественных организаций республик в декабре 2002 года высказались против законопроекта, заявив, что он «ставит под сомнение перспективу дальнейшего развития и признания национальных языков Карелии» [163] . Госсовет Татарстана обратился к Президенту России, а затем в Конституционный суд РФ, ссылаясь на неконституционность этого нормативного акта. Социологические исследования в республике зафиксировали значительный рост интереса населения к проблеме национального языка, при этом даже те татары, жители республики, которые еще недавно весьма прохладно относились к идее перевода их языка на латинскую графику, ныне почувствовали себя ущемленными тем, что в Москве решают, какой алфавит им использовать в своем собственном языке [164] . Один из лидеров радикального крыла татарских националистов в беседе со мной не без удовольствия заметил: «Вот вы все время говорили, что федерализм достаточен для защиты национальной культуры. Теперь видите, как вы ошибались. Только полная независимость может нас спасти». Подобные высказывания служат иллюстрацией к выводу о том, что этнический сепаратизм, сильно ослабевший к середине 1990-х годов, может ожить и уже начал оживать, пусть пока еще в слабой и закамуфлированной форме.
В какой-то мере его росту может способствовать рост религиозности населения, и особенно квазирелигиозности, не сопровождающейся глубоким освоением веры и даже соблюдением основных ритуалов. Именно такая квазирелигиозность развивается быстрыми темпами.
По данным ВЦИОМ, в 1989 году при опросах населения России лишь 30 % опрошенных считали себя православными, в 1993 году таких было уже 50 %, в 1994 году – 57 % [165] . Думаю, что в настоящее время число лиц, считающих себя православными, среди русских превышает 60 %. Еще выше уровень реальной или мнимой религиозности среди мусульман. Так, в 1994 году в Татарстане верующими мусульманами себя называли 86 % сельских жителей и 66,6 % горожан [166] . К настоящему времени доля верующих мусульман, несомненно, возросла. При этом республики Поволжья по уровню исламизированности населения сильно уступают республикам Северного Кавказа [167] .
Повторяю, повсеместный интерес к религии не обязательно сопровождается ростом истинной веры. Значительно чаще религиозная идентификация служит дополнительным символом-маркером этнической идентичности. Истинный русский – значит, православный, так же как истинный татарин (башкир, чеченец, лезгин и др.) – это мусульманин.
Особенно заметен такой инструментально-символический подход к религии у молодежи. Подтверждением этого могут служить исследования социологов Татарстана. Вот что показали эти исследования.
Во-первых, среди татарской молодежи верующие мусульмане составляют абсолютное большинство, более 3/4. Однако в их числе преобладает (45,2 %) группа молодежи, которую социологи назвали «номинальными» мусульманами: они идентифицируют себя с исламом, но не исполняют мусульманских обрядов. «Истинные» (или «традиционные») мусульмане, т. е. исполняющие и традиционные обряды, и мусульманские ритуалы, составляют 25,3 % исламской молодежи. Лишь 19 % опрошенных – внеконфессиональная молодежь.
Во-вторых, с ростом религиозности татарской молодежи возрастает ее этническая самоидентификация. Если среди внеконфессиональной молодежи лишь 27,5 % опрошенных «никогда не забывают о своей национальности», то среди верующих таких уже 79 % [168] .
Далее, с ростом этничности и религиозности у татар возрастает региональная идентификация. Если среди представителей нерелигиозной татарской молодежи гражданами только Татарстана, а не всей Российской Федерации считает себя приблизительно четверть опрошенных (26 %), то среди молодых мусульман – более половины (58,2 %). Показательно также распределение по выделенным группам татарской молодежи, причисляющей себя к россиянам как общности: среди неисламизированных татар россиянами себя считают 18 %, а среди верующих – всего 1,5 %.
Совершенно иная тенденция замечена среди русской молодежи Татарстана: с ростом этничности и религиозности уменьшается региональная идентификация и возрастает общероссийская: почти половина опрошенных русских (47,2 %) обозначила себя только гражданами России, а не республики, и лишь 5,4 % назвали себя только татарстанцами, остальные демонстрируют ту или иную форму смешанной, двойной идентификации.
Также можно говорить о большей поддержке в религиозной группе националистических проявлений в политике Татарстана. Так, только 5 % респондентов внеконфессиональной группы одобряют деятельность политических национальных движений в республике, а в религиозной группе респондентов их деятельность одобряет уже почти четверть (23 %). При этом «номинальные мусульмане» отличаются большим политическим радикализмом и интолерантностью по отношению к русским, чем «истинные». Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что квазирелигиозность выступает лишь как дополнительный индикатор негативных этнических установок, тогда как истинная вера способна, по крайней мере отчасти, сдерживать этнические фобии. Национализм все чаще использует религиозные чувства для мобилизации своих сторонников. Показательно в этом отношении дело Рафиса Кашапова.
Это один из лидеров набережночелнинского отделения Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), задержанный 25 марта 2003 года правоохранительными органами г. Набережные Челны по результатам обыска, проведенного у него на квартире после разрушения православной часовни Св. Татьяны. Во время обыска были найдены листовки, имеющие, по мнению прокуратуры, «экстремистское содержание». На этом основании прокуратура города предъявила Р. Кашапову обвинение по статье 282 УК РФ – «разжигание межнациональной розни».
«Дело Кашапова» продемонстрировало потенциал общественной активности национально ориентированных сил республики, мобилизованных, пожалуй, впервые после 1990-х годов лозунгами, сочетавшими этнические и религиозные мотивы. 1 апреля руководители ВТОЦ и председатель Народного фронта по защите суверенитета Татарстана Фарид Хабибуллин подали прокурору республики письменное поручительство с просьбой освободить Кашапова из-под стражи. 7 апреля национальные общественные организации провели митинг в его защиту. В мае группа деятелей культуры Татарстана направила в адрес президента республики Минтимера Шаймиева, председателя Верховного суда Татарстана Геннадия Баранова и прокурора республики Кафиля Амирова открытое письмо также в связи с арестом Кашапова. Верховный суд Татарстана дважды рассматривал ходатайство об освобождении Р. Кашапова и вначале оставил без изменений решение набережночелнинского суда о содержании задержанного под стражей, а затем все же отменил его.
Я не берусь оценивать виновность или невиновность одного из лидеров татарского национального движения по рассматриваемому делу и привожу хронику событий, связанных с его арестом, исключительно для того, чтобы показать, что сегодня национализм с религиозной окраской имеет определенную общественную поддержку в Татарстане. Между тем многочисленные исследования показывают, что Татарстан и по уровню религиозности, и по уровню развития этнического самосознания уступает многим другим так называемым «исламским» республикам России [169] . Следовательно, выявленные тенденции роста религиозности и этнополитической активности населения в этой республике не в меньшей мере должны проявляться и в других республиках названной группы. Это, в свою очередь, позволяет выдвинуть предположение о возможном росте автономистских настроений в ряде республик уже сейчас, при сложившихся тенденциях политического, социально-экономического развития. Еще больше возрастет вероятность возрождения этнического сепаратизма в случае ухудшения общего политического и экономического климата в России.
Угрозы роста этнополитической нестабильности в русских регионах. Новые следствия колебаний маятника
Как уже отмечалось, этнополитическая ситуация в «период стабилизации» изменилась по сравнению с предыдущим периодом прежде всего за счет смещения основной зоны межэтнических конфликтов из республик в русские края и области. На обширной территории от Воронежской области до Краснодарского края не только заметен рост ксенофобии по отношению к цыганам, чеченцам, другим выходцам с Кавказа и из Средней Азии, но наблюдается и становление новых вооруженных формирований: русские националистические движения смыкаются со скинхедами. Это уже породило множество эксцессов, в том числе и с человеческими жертвами [170] .
Чем могут ответить на это дисперсные группы этнических меньшинств? Прежде всего, ростом криминализации. Чем меньше у представителей этнических меньшинств шансов на получение легальной работы вследствие дискриминации, тем выше вероятность их вовлечения в нелегальный бизнес, а это, в свою очередь, усиливает ксенофобию по отношению к ним. Эта тенденция хорошо прослеживается на примере одного из самых опасных для современной России вида преступности – наркоторговли.
Мы уже говорили о том, что представления о засилье цыган в этой сфере мифологизированы. Однако несомненно и то, что представители этой общности, как одной из наименее интегрированных в социально-экономическую сферу России, характеризуются высокой вовлеченностью в нелегальный бизнес, в том числе и в торговлю наркотиками, а конкуренцию им составляют те группы, которые имеют столь же малые возможности для получения легальных заработков. Например, таджики становятся все заметнее в большинстве регионов России как уличные торговцы и распространители наркотиков. По мнению начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД столицы полковника Василия Сорокина, только в одной Москве в незаконный оборот наркотиков вовлечены от 1 тыс. до 1, 5 тыс. таджиков [171] .
Возрастает и локальная консолидация меньшинств. Чем меньше у представителей эмигрантских меньшинств возможностей интеграции в бытовую сферу вследствие дискриминации при найме жилья, тем выше их замкнутость, которая, в свою очередь, значительно усиливает ксенофобию по отношению к ним со стороны этнического большинства. Ныне во многих регионах формируются замкнутые анклавы расселения эмигрантских меньшинств, в которых архаичные традиции социальной организации не просто консервируются, но иногда и возрождаются. Например, в ходе проведенных мной интервью с представителями разных региональных групп таджиков в Москве мои собеседники сообщали, что вследствие чрезвычайных сложностей в трудоустройстве даже на самые тяжелые и малооплачиваемые виды работ трудовая конкуренция усилилась уже внутри таджикской диаспоры между разными ее региональными группами. Необходимость групповой консолидации стимулировала возрождение таких региональных и клановых подгрупп таджиков, которые, казалось, были уже забыты в самом Таджикистане. Усилилась и роль неформальных лидеров этнических общин и клановых групп внутри них.
В наибольшей мере к жизни замкнутыми общинами обстоятельства подталкивают нелегальных мигрантов, например китайских. По сообщениям прессы, в Москве китайцы живут в 10 «чайна-таунах», в арендуемых квартирах, гостиницах и переоборудованных под непритязательные отели студенческих общежитиях, которые нередко служат и офисом фирм, и складом товаров. По данным милиции, наибольшей сплоченностью, в том числе и в криминальной сфере, отличаются уроженцы провинции Фудзянь [172] .
Возникновение замкнутых группировок этнических меньшинств вызывает резко негативную реакцию окружающей социальной среды и буквально взвинчивает ксенофобию. В то же время этим пытаются воспользоваться наиболее радикальные группировки – политические и религиозные. Наибольшую активность в этом отношении проявляют представители многочисленных организаций исламских фундаменталистов.
В целом роль таких организаций, а главное, их политические амбиции пока явно недооцениваются ни властями, ни общественностью. Приведу в качестве примера рассуждения одного из идеологов исламской политической организации «Исламский конгресс России». Он пишет, что, «устав от бардака демократов-олигархов, народ, став электоратом, решил отдать предпочтение „сильной руке“…генералам, адмиралам и сотрудникам спецслужб. Но так ли сильна эта„сильная рука“ и поможет ли она России в нынешней нелегкой ситуации?» Ответ автора резко отрицательный: «…на коренные изменения генералы не способны…» И далее, последовательно оценивая потенциал различных политических сил России, он вычеркивает из списка тех, кто не способен привести страну к позитивным (с его позиций) переменам: «Во-первых, убежденных коммунистов – это в основном бабушки с ностальгическими воспоминаниями и экзальтированная молодежь „а-ля Эдичка Лимонов“… Во-вторых, Русская Православная Церковь – даже в тех тепличных условиях, в которых существует сейчас РПЦ во главе с Алексием II (Редигером), она не смогла объединить народ, и в дальнейшем авторитет будет только падать вместе с авторитетом поддерживаемого ею действующего правительства… В-третьих, демократы, либералы, социал-демократы – их день только что закончился, о чем свидетельствуют и настроения в обществе, на волне которых пришли к власти генералы. И, наконец, патриоты. Можно сказать, что именно эта категория общества ставит перед собой цели и задачи, наиболее отвечающие государственным интересам нашей Родины, хотя и сложно считать патриотом, например, Жириновского —„самого рьяного защитника русского народа“, у которого „отец юрист, а мать украинка“, или господина Проханова – злейшего врага „сионистской прессы“, но почему-то полностью вторящего ей, как только дело касается ислама… Остается только одна сила, динамично развивающаяся, избежавшая демографического и в значительной степени духовного кризиса, испытывающая сильный рост, как количественный, так и качественный, – мусульманская община… Да, конечно, мусульманская умма (община) сегодня расколота на множество мелких общин – джамаатов, вирдов самого различного толка. Но при этом есть немало и объединительных тенденций, и основной из них является тот колоссальный прессинг, который испытывают на себе сегодня все мусульмане независимо от национальной принадлежности или от того, какого направления в исламе они придерживаются» [173] .
Вся статья, из которой приводятся эти выдержки, не оставляет сомнений в том, что ее автор – апологет «мусульманской идеи», как доминирующей не только в религиозной сфере, но и в политической системе России. По сути, это та же самодержавная идеология «старшего брата» или «государствообразующей» религии, но лишь с заменой православия на ислам. Не случайно исламский фундаменталист видит в русском национально-патриотическом движении родственную политическую силу. Исламские фундаменталисты, так же как и их alter ego, русские националисты, главным врагом считают «мировое еврейство». Они одинаково ненавидят таких людей, как Жириновский, и не столько за нечистокровность («отец юрист, а мать украинка»), сколько за дискредитацию «фундаменталистской идеи», а также за высокую конкурентоспособность ЛДПР в борьбе за общий электорат национал-фундаменталистских сил.
Оба направления фундаментализма примерно в равной мере противодействуют модернизации России. Вместе с тем радикальные фундаменталисты обоих типов отчетливо понимают невозможность политического союза в нынешних условиях, поскольку основные мобилизационные ресурсы русского национализма – чеченофобия и мигрантофобия – сегодня густо замешаны на сильных антиисламских настроениях. Маловероятно, что «исламский мобилизационный проект» может быть реализован в России в том масштабе, на который рассчитывают его авторы. Как я уже говорил, приводя в пример Татарстан, сегодня ислам в большинстве регионов России выступает скорее как этноспецифицирующий, а не объединяющий фактор. Однако этот проект может найти поддержку в среде дисперсных общностей разных национальностей и сплотить в рамках неких локальных зон представителей различных этнических групп мигрантов из республик и Средней Азии, и Кавказа.
Лишь в одном из регионов России, на Северном Кавказе, более или менее реально проявляется угроза политического объединения разных этнических групп на платформе радикального исламского фундаментализма. В ходе чеченской войны в регионе усиливается влияние радикальных исламских организаций, ставящих своей целью стирание этнических границ, сплочение мусульман на основе идеи создания единого государственного объединения, противостоящего России. Так уже было в период Кавказской войны XIX века, которая стимулировала объединение горских народов и быстрое распространение и утверждение ислама на Северном Кавказе, особенно его суфитских форм, новых для региона и обеспечивших идеологическую основу для многолетнего вооруженного сопротивления и консолидации разрозненных племен и этнических групп горцев, ранее враждовавших между собой. Именно под знаменем ислама и с лозунгом газавата (войны с неверными) горское сопротивление возглавлял в 1834–1859 годах имам Шамиль, сумевший впервые обеспечить государственное объединение чеченцев, ингушей, аварцев и многих других народов Северного Кавказа.
В целом политизация религии может быть важным фактором усиления межэтнической подозрительности в ряде регионов России. Наиболее сложно развиваются отношения между политическими активистами, использующими православие, с одной стороны, и ислам – с другой. Взаимная подозрительность многих приверженцев обеих конфессий обусловлена как историей противоборств, так и многими современными политическими событиями. Об исламе большинство русского населения знает мало, и, к сожалению, неадекватность информации на эту тему усиливается. Афганская, а затем чеченские войны, а также постоянно тиражируемые в центральной прессе сообщения о радикальных исламских организациях ваххабитов, поддерживающих чеченских террористов, сформировали у многих русских отношение к исламистам как к опасному экстремистскому течению. В то же время в глазах исповедующих ислам православие выглядит непривлекательно, потому что это «доминирующая религия, поддерживаемая федеральной властью», и уже только этим ущемляющая интересы других религий.
Разумеется, в начале 2000-х годов и уровень сепаратизма, и накал межнациональных противоречий значительно ниже, чем они были в начале 1990-х. Однако следует иметь в виду, что общий спад национальных движений в России в основном был обусловлен игрой инерционных процессов. К середине 1990-х годов исчерпала себя инерция распада СССР. Наиболее активная часть национальных лидеров включилась в состав общероссийской бизнес-элиты или в систему органов управления разного уровня. Лидеры российских республик к этому времени перестали заигрывать с национальными движениями, рассматривая их как единственную опасность для удержания власти. Правящая элита в республиках качнулась в сторону союза с федеральной властью, а последняя сумела использовать договорный процесс для стабилизации политической ситуации в стране. Все это привело к тому, что и этнический сепаратизм, и межнациональная напряженность в России ослабли, но можно ли говорить, что страна застрахована от их нового подъема?
Я уже приводил примеры того, как недальновидные политические действия, не учитывающие тенденции этнополитических процессов, способны оживлять этнический сепаратизм. Существуют и другие факторы ухудшения этнополитической ситуации.
Перспективы сохранения целостности России многие аналитики связывают с особенностями ее этнического состава. Российская Федерация в отличие от СССР в целом достаточно однородна в этническом отношении: русские составляют свыше 80 % населения Федерации и численно преобладают в большинстве ее республик. Однако демографическая ситуация меняется, и уже более сорока лет доля русского и в целом славянского населения России сокращается, а удельный вес представителей народов, которые условно можно объединить в одну статистическую группу и определить как «исламские народы», быстро растет [174] . Особенно заметны перемены в этническом составе отдельных регионов.
Русские уже сегодня являются этническим меньшинством в подавляющем большинстве республик Северного Кавказа (за исключением Адыгеи). Процесс их оттока из этих республик начался еще в 1970-х годах, а вооруженные конфликты в регионе, и особенно чеченская война 1994–1996 годов, сделали процесс необратимым.
Об этом можно судить по продолжающемуся оттоку русских не только из Чечни, но и из большинства республик региона. Из Дагестана в 1997–1998 годах уезжало в год по 3–4 тыс. русского населения. Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария были республиками с отрицательным сальдо русских мигрантов при положительном сальдо миграции представителей титульной национальности, в Карачаево-Черкесии доля выбывших русских во много раз превосходила долю выбывших мигрантов титульной национальности [175] .
Похожая миграционная ситуация сложилась и в республиках Сибири: в Саха (Якутия), Туве и Бурятии. Но в Якутии и Бурятии главным стимулом миграции русских выступают преимущественно экономические проблемы: закрытие предприятий, где они работали, прекращение выплат северных надбавок к зарплате и лишение рабочих иных льгот, длительные невыплаты зарплат и др., тогда как в Туве отток русского населения был вызван не только неблагоприятной экономической ситуацией (прежде всего массовой безработицей), но и усложняющимися межэтническими отношениями. Только после межгруппового конфликта русских и тувинцев в 1990 году из Тувы выехало 10 тыс. русских.
В республиках Сибири русские сейчас в меньшинстве только в Туве, но их доля уменьшается также в Бурятии и Якутии.
В республиках Поволжья русские по переписи 1989 года составляли меньшинство в Чувашской Республике. В Башкортостане они составляли 42 % населения и были численно наибольшей группой, хотя уступали татарам и башкирам вместе взятым. Тенденция уменьшения доли русских в этой республике стала заметной уже по данным микропереписи 1994 года, и, судя по всему, нынешняя перепись укажет на утрату ими статуса даже относительно большой этнической группы. В Татарстане на протяжении 1990-х годов неуклонно сокращалась доля русского населения на фоне роста татарского, и перепись 2002 года после подсчета ее результатов, скорее всего, также укажет на то, что русские в этой республике могут составить менее половины населения.
Если прогнозы по поводу дальнейшего уменьшения доли русских на Северном Кавказе, в Поволжье и в Сибири действительно сбудутся, то уже в ближайшие годы русские будут составлять меньшинство на значительной части территории Российской Федерации, при этом как раз в тех зонах, где население так называемых титульных национальностей переживает период интенсивного роста этнического самосознания, сопровождающегося усилением их региональной самоидентификации.
На Северном Кавказе, особенно в Чечне, межэтническое напряжение проявляло себя уже с начала 1990-х годов, но две чеченские кампании обострили его до предела. К этому нужно добавить, что вторая чеченская война, которая по своей длительности, числу жертв и масштабам экономического ущерба превзошла первую, пока не привела (и вряд ли приведет) к усмирению чеченского сепаратизма, но уже обострила проблему разделенного лезгинского этноса в связи с ужесточением пограничного режима с Азербайджаном, а также проблему чеченцев-акинцев в Дагестане в связи с концентрацией войск в зоне расселения именно этой этнической группы. Таким образом, война в большей мере разрушает Федерацию, чем само существование мятежной республики. С началом второй чеченской войны стала расти солидарность с Чечней так называемых «лиц кавказской национальности», т. е. всех кавказцев, поскольку многие из них, включая представителей этнических групп, традиционно не ладивших с чеченцами, начали испытывать в городах России такое же давление, которое раньше испытывали чеченцы, так как для ставропольских или ростовских милиционеров «все они на одно лицо и все они потенциальные террористы».
В республиках Сибири, в Якутии, Туве и Бурятии, в ходе этносоциологических исследований 1990-х годов была зафиксирована высокая солидаризация по этническому принципу и более высокая, чем в других регионах (за исключением Северного Кавказа), «готовность к любым действиям во имя интересов своего народа». Например, у якутов чрезвычайно высоки показатели потребности в этнической консолидации (до 80 %), они также остро чувствуют ущемление своих прав по этническому принципу (до 20 %). Для сравнения: среди татар в Татарстане дискриминацию испытывают лишь 5 % опрошенных [176] . Все это дает основания говорить о высоком потенциале негативной этнической консолидации у якутов. Однако это вовсе не принималось во внимание федеральной властью, которая своими действиями, в том числе и упоминавшимся вмешательством в президентские выборы в начале 2002 года, лишь усугубляла этнополитическую ситуацию в регионе.
Вопреки представлениям о Татарстане и Башкортостане как республиках этнического неблагополучия, в них долгое время межэтнические отношения оставались достаточно благоприятными. Например, не более 5-13 % татар, башкир и русских в этих республиках ответили, что им «приходилось испытывать ущемление своих прав из-за национальности» [177] . Это намного более позитивные оценки, чем в среднем по стране, однако уже отмеченные действия федеральных властей, затрагивающие такие важнейшие национальные символы, как язык, способны изменить этнополитическую ситуацию в республиках к худшему.
Этнополитические аспекты модернистского проекта
Можно ли не раскачивать этнополитический маятник?
Описывая механизм колебания этнополитического маятника в постсоветской России, я говорил не о злом роке, не о воле судьбы, а об изменяющихся политических тенденциях, в немалой мере зависящих от конкретных политических и социально-экономических стратегий, выбираемых людьми. Следовательно, тенденции этнополитического развития нельзя считать предопределенными. Угроза нового цикла этнических конфликтов пока является лишь гипотетической, и, на мой взгляд, существуют возможности ее избежать. Нынешний рост этнических страхов и усиление влияния негативных стереотипов среди этнического большинства – это всего лишь массовые настроения, меняющиеся со временем в режиме колебания маятника. Такими настроениями всегда сопровождаются времена, наступающие после крутых политических перемен, – «периоды застоя». В такие периоды политические элиты предпочитают выстраивать бюрократические жестко иерархизированные конструкции и в том числе занимаются конструированием иерархии этнических обществ с главным народом на ее вершине.
Совсем иначе ведут себя власти в периоды социально-экономического подъема и усиления тенденций модернизации общества. В такие времена государственная политика менее идеологизирована и более прагматична. Властям нужна консолидация этнических общностей для совместного решения задач развития. Не случайно в период первых пятилеток Сталин использовал лозунг «дружба народов», а не «руководящий народ» или «старший брат». Нет нужды углубляться в историю, чтобы подтвердить этот тезис. В наши дни в тех регионах России, где наблюдается рост производства, его техническое перевооружение, происходит становление новых отраслей и в связи с этим возникает потребность в притоке рабочей силы, власти активно содействуют межэтническому сотрудничеству и противостоят этническому экстремизму. Примером могут служить Астраханская и Оренбургская области. И наоборот, в преимущественно аграрных областях, ориентированных на сохранение традиционной структуры производства, региональные власти активно эксплуатируют и подстегивают рост этнических стереотипов.
Что особенно важно, в условиях стабильного развития (в отличие от периодов «застоя») этническая идентификация менее актуальна, чем иные – гражданская, профессиональная, политическая и др. Само осознание этнических различий между «мы» и «они» в таких условиях не воспринимается как несправедливость и тем более не служит причиной для конфликтов.
В целом этнические страхи особенно велики в сферах далеких от бытовой повседневности рядового человека, в которых он мало разбирается, – это геополитика, международные дела, национальная безопасность. Здесь он доверяется экспертам, среди которых, к сожалению, сегодня преобладают люди, находящиеся в плену «теории заговоров». В бытовой сфере страхов меньше. Не случайно люди чаще видят в представителях других национальностей врагов государству, чем самим себе.
Развитие экономики, гражданского общества, становление федеративных отношений и местного самоуправления – все это, безусловно, может содействовать нормализации межэтнических отношений. Однако было бы глубочайшим заблуждением надеяться на то, что «невидимая рука рынка» или демократизация политики сами по себе приведут к решению межэтнических проблем.
В Америке расизм процветал до середины 1960-х, т. е. и в периоды экономического развития. Он настолько глубоко проник во все поры общества, что даже в столице страны, в Вашингтоне, в эти годы единственным местом, где черный и белый житель города могли столкнуться, был железнодорожный вокзал. Только туда людей с разным цветом кожи обязаны были пускать, во всех остальных местах действовала жесточайшая сегрегация. Но общество осознало опасность поляризации населения, особенно в условиях изменения соотношения между представителями разных рас, и за 20–30 лет буквально сотворило чудо. Сегодня количество смешанных браков между представителями разных рас в Америке растет; белые семьи усыновляют чернокожих детей, число представителей разных рас на высших государственных должностях увеличивается год от года. Но для того, чтобы произошли такие перемены в общественном сознании, понадобились огромные усилия властей и лидеров общественного мнения.
В России есть определенные предпосылки для оптимизации отношений между народами и культурами. У нас нет ярко выраженных классовых различий между народами, практически все этнические, расовые, конфессиональные группы (включая мигрантов) владеют русским языком в объеме, достаточном для бытового взаимопонимания, в обществе существует память о гармоничных межнациональных отношениях и даже идеализация определенных моделей этих отношений (модели «интернационализма» и «дружбы народов). Пусть в реальности эти отношения были далеки от идеала, но уже то обстоятельство, что в сознании многих людей есть представления о том, что народы могут жить в дружбе и мире, само по себе может содействовать развитию толерантности. Вместе с тем в России для преодоления расовых, этнических и религиозных фобий могут понадобиться несоизмеримо большие усилия, чем в Америке, хотя бы потому, что у нас нет ни полноценного рынка, ни настоящей демократии, ни традиций уважения к либеральным ценностям, без которых невозможно сформировать уважение к другим народам и культурам.
Еще важнее то, что идеи, с помощью которых в Америке и во многих других странах удалось в значительной мере погасить вспышки межкультурных конфликтов, в России не получили широкой поддержки даже в элитарных слоях. В тех самых, которые призваны вырабатывать программы (проекты) национального развития.
Этническая политика: модернистский проект
Сегодня, как и 150 лет назад, в России обсуждаются два конкурирующих между собой политико-идеологических проекта – традиционалистский и модернистский. Каждый из них явно или неявно предполагает в качестве составной части свою модель этнополитического устройства страны.
Традиционалистские проекты, основаны ли они на сталинской модели «старшего брата» и матрешке национально-территориальных образований или на имперской уваровской триаде («православие, самодержавие, народность»), представляют собой жестко иерархические конструкции. Подобные конструкции предполагают, во-первых, концентрацию власти на верху пирамиды; во-вторых, ту или иную форму сегрегации людей по этническому или религиозному признаку; в-третьих, устойчивость этнополитической системы достигается в них исключительно или преимущественно путем подавления и подчинения.
Этот принцип проявляется и в современной России, несмотря на то что политический режим в ней несоизмеримо более демократичен, чем все предыдущие в советский и досоветский периоды. Тем не менее федеральная власть выдвигает в качестве основного инструмента удержания Чечни в составе Федерации ту самую идею подчинения («она должна подчиниться нашим законам»), какую и в XIX веке выдвигали власти Российской империи в ответ на притязания «польских сепаратистов» на независимость. И реформа федеративных отношений также построена на принципах подавления региональных лидеров и административного понуждения их к подчинению. Таким образом, реформа развивается в традиционалистской парадигме, игнорируя ту часть мирового традиционного опыта, который подсказывает правителям, что необходимо по крайней мере сочетать кнут с пряниками.
Из всего предшествующего анализа достаточно определенно, на мой взгляд, проступает авторская позиция, которая сводится к признанию традиционалистского проекта утопичным хотя бы потому, что у него нет ресурсов для реализации и к нему в полной мере применимы слова Чаадаева, еще в XIX веке определившего традиционалистские взгляды, очень похожие на нынешние, как «ретроспективную утопию». Однако сама попытка навязать обществу этот утопический проект опасна, поскольку нарушает равновесие между этническими общностями и увеличивает отчужденность населения от власти.
В этом разделе мне хотелось бы обозначить основные особенности и преимущества модернистского проекта этнополитического развития. Главной особенностью такого проекта при всех возможных его вариациях является принцип добровольной, осознанной интеграции этнополитических акторов в рамках гражданской нации. Такая интеграция должна быть легитимизирована не только юридически, но и морально, а также привлекательна в сравнении с неинтегрированным способом жизни. Интеграция может быть привлекательной, если она повышает «жизненные шансы» (lifechances) людей и увеличивает совместные выгоды сообществ и при этом не допускает сегрегации людей по этническим, расовым или религиозным причинам. В этих целях модернистский проект этнополитической интеграции включает в себя элементы мультикультурализма и политической корректности, которые призваны исключить саму угрозу проявления насильственной ассимиляции, растворения малочисленных общностей в больших. Эти принципы предполагают расширение возможностей использования совместного культурного потенциала участников интеграционного процесса при сохранении и даже развитии, возрождении их регионального и культурного своеобразия.
В этой же связи чрезвычайно важен и третий принцип модернистского проекта этнополитической интеграции – принцип децентрализации власти и автономизации регионов. Все современные концепции интеграции предусматривают механизмы, не допускающие концентрации власти у центрального правительства в национальном государстве как за счет горизонтального распределения власти между различными ее ветвями, так и за счет вертикального распределения между центром и регионами. Доминирующей тенденцией мирового развития сейчас является процесс сосредоточения функций центрального правительства на решении узкого круга фундаментальных задач и передаче все большего объема полномочий из центра региональным органам власти и местному самоуправлению.
Эти общие принципы можно было бы дополнить рядом частных, вытекающих из общей идеи этнополитической интеграции [178] .
Принцип гражданской национальной самоорганизации. Он предусматривает создание условий, позволяющих представителям различных национальностей самостоятельно определять и реализовывать свои национально-культурные цели, защищать свои права и свободы, представлять и отстаивать через общегосударственный механизм власти свои интересы и развитие своей культуры, создавать свои политические институты, а также ассоциации, общества и другие организации гражданского общества в рамках действующего законодательства Российской Федерации и ее субъектов. Важнейшим условием свободной национальной самоорганизации народов России является расширение регионального суверенитета и местных полномочий, что делает институты власти более близкими и более чувствительными к запросам различных этнических групп, живущих в одном государстве. Вместе с тем должна быть повышена ответственность местных руководителей и одновременно снижена возможность переноса ими ответственности за свои ошибки на другие территориальные звенья управления. Это повышает уровень доверия во взаимоотношениях федерального центра и регионов и снижает вероятность возникновения на этой основе конфликтов, в том числе и этнополитических.
Принцип национального патернализма состоит в обязанности властей обеспечивать фактическое равенство, оказывая преимущественную поддержку наименее защищенным этническим группам, которые в силу их малочисленности, проживания в экстремальных экологических условиях или в результате некоторых исторических обстоятельств обладают меньшими по сравнению с остальным населением возможностями для самоорганизации, саморазвития и самозащиты. Прежде всего речь идет о так называемых «коренных малочисленных народах».
Западные ученые выработали более десятка концепций этнополитической интеграции как в масштабе национальных государств, так и в наднациональных системах типа Европейского сообщества [179] . Основные различия между этими концепциями в основном состоят в особенностях интерпретации авторами движущих сил и механизмов интеграции. Назову лишь некоторые наиболее фундаментальные концепции.
Зачинатель коммуникативной концепции Карл Дойч полагал, что рост объемов и увеличение разнообразия контактов, связей и обменов между группами больше, чем другие факторы, стимулируют их объединение как на международном, так и на национальном уровне [180] .
Нормативно-ценностная концепция, восходящая к М. Веберу, акцентирует основное внимание на акультурации групп, сближении их ценностей и выработке единых норм поведения.
Функциональная (или неофункциональная) концепция развивается многими современными исследователями, например Д. Митрени и Э. Гаазом, но основана на постулатах, которые заложили в 1920-1930-х годах Б. Малиновский и А. Редклиф-Браун и позднее развил Т. Парсонс. Функциональная концепция выводит основные предпосылки интеграции из места и роли этнополитических акторов в системе социального взаимодействия, а также из их функций, которые в решающей мере определяют интересы участников интеграции и их ценностные предпочтения в этом процессе.
Дискуссионные вопросы этнополитической интеграции
Концепции этнополитической интеграции при всем их различии не являются конкурирующими и дополняют друг друга в некоторых аспектах. Вместе с тем остается немало теоретических проблем интеграции, которые вызывают оживленные научные и политические дискуссии. Поэтому, предлагая модель этнополитической интеграции в качестве ключевого звена модернистского проекта, нам придется очертить хотя бы пунктиром проблемные, дискуссионные зоны этой концепции.
«Гражданская нация». Самым спорным является само определение нации. В науке уже несколько десятилетий ведется дискуссия о природе и сущности этого явления. Существует множество разновидностей теории нации, и даже сама классификация этих концепций весьма затруднительна, поэтому является предметом специальных исследований [181] . Многие известные авторы, видя малые сдвиги в сближении позиций специалистов в этом диспуте, предлагают вообще обходить это понятие. Так, Э. Хобсбаум, один из известных специалистов в области теории наций и национализма, предложил сделать это понятие предельно конвенциональным и называть нацией любую группу, претендующую на такое название [182] . По мнению В. Тишкова, «нация – это политический лозунг и средство мобилизации, а вовсе не научная категория», поэтому, по его мнению, «это понятие как таковое не имеет права на существование и должно быть исключено из языка науки» [183] . Впрочем, в той же книге (буквально на следующих страницах) и в последующих публикациях он активно использует понятие «нация», и особенно часто «гражданская нация», а также «многонародная нация» как наиболее адекватные ее формы.
Почему возникли такие трудности? Во-первых, в силу реальной сложности предмета, в котором переплелись этнические и гражданские свойства и функции. Во-вторых, по причине реального многообразия исторических моделей формирования наций, тогда как в головах некоторых ученых (не только российских) сохраняется однолинейное восприятие мира – «может быть только так, и не иначе». В-третьих, и это самая большая проблема, сам термин «нация» имеет разный смысл в языках разных народов мира, и эти различия исторически закрепились. Во французском и английском языках они связаны с гражданством людей (nationality), в русском и в некоторых других с этничностью. Когда американцы говорят «американская нация», то понимают под этим граждан, всех граждан Америки вне зависимости от их этнической принадлежности. В России никому и в голову не придет сказать «российская нация», зато часто говорят: «Ты к какой нации принадлежишь – к русской или к украинской (якутской, татарской и т. д.)?» Впрочем, эти различия обусловлены не только и не столько особенностями языка, сколько спецификой исторического развития. Как уже отмечалось, ни в Российской империи, ни в Советском Союзе гражданская трактовка нации не могла возникнуть и тем более прижиться. Да и в современной России на пути такого понимания стоит немало преград.
Помимо двух названных смыслов понятия нации – как гражданства и как этничности – в XX веке в политическом лексиконе возникло еще и третье – нация как синоним государства. Такой смысл заложен в терминах: Организация объединенных наций, Национальная армия, Совет национальной безопасности и др. Однако и в этом случае мы можем говорить о разных смыслах одного и того же термина. Для людей западной культуры, в которой приоритет нации по отношению к государству стал элементом культурной традиции, вполне естественна замена двух слов «государство-нация» (national-state) одним, предполагающим, что государство отражает интересы нации как общества. В России же такая замена приводит к прямо противоположным результатам: она позволяет государственному аппарату полагать, что он представляет нацию как государство.
Можно себе представить, какая путаница возникает в головах людей, если к этому еще добавить, что о нации толкуют представители разных наук и научных школ, у которых сложились свои традиции и свои представления о нации.
В силу разного понимания одних и тех же терминов часто возникают идеологические споры даже среди людей, которые, по сути, являются идейными единомышленниками, но говорят на разных научных и этнических языках. Например, А. Янов, человек, мысли которого мне чаще всего близки, спорит с западными учеными Р. Пайпсом, А. Туминез, Д. Дэнлопом (к этой же группе он причислил и Д. Хоскинга, который на самом деле, как говорится, «из другой оперы»), отмечающими, что в научном мире существует консенсус относительно следующих утверждений: во-первых, что исторически Россия никогда не была «государством-нацией», во-вторых, что создание такого государства ставит заслон на пути возвращения России в состояние империи [184] . Не буду приводить довольно длинных возражений на это российского историка, сопровождающихся историческими ссылками, скажу лишь, что они сводятся к следующей мысли: России нужна федерация, а вовсе не государство-нация [185] .
Думаю, эта полемика – результат недоразумения. Уверен, что и Янов поддержал бы отвергаемый им консенсус, если бы осознал, что все перечисленные им ученые трактуют термин «государство-нация» в гражданском смысле, как такое государственное устройство, в котором власть находится у граждан, а не у самодержца, и нация представляет собой ипостась гражданского общества. Вряд ли А. Янов станет спорить с тем, что демократического гражданского государства в России не было до 1991 года (сам же историк об этом и говорит, ставя знак равенства между авторитаризмом и самодержавием), а гражданское общество не сложилось и сегодня. Может возникнуть вопрос, а зачем нужна такая сложная конструкция, пишущаяся через дефис, если можно просто говорить о демократическом государстве, не создавая путаницы с использованием столь неоднозначно трактуемого термина «нация»? Не знаю, как для западных стран, но для новых неокрепших демократий такие упрощения были бы крайне нежелательными.
Мы уже говорили о том, что гражданская нация выполняет множество функций по отношению к государству. «Нация, – пишет Эмерсон, – стремится овладеть государством как политическим инструментом, с помощью которого она может защитить и утвердить себя…нация фактически стала тем, что придает легитимность государству. Если в основу государства заложен любой другой принцип, а не национальный, как это имеет место в каждой имперской системе, то его основы в век национализма немедленно ставятся под сомнение» [186] . Нация не только легитимизирует государство, но и формирует национальные интересы, которые должны переплавляться государством в политические стратегии. Главное же, что нация, как общество, объединенное единством гражданских ценностей, только одна и способна предотвратить перерождение демократического государства в тоталитарное.
Как известно, Гитлер пришел к власти демократическим путем, но, не встречая сопротивления гражданской нации, не сложившейся в то время в Германии, быстро превратил республику в рейх, а ее население в мобилизационное общество. После распада СССР многие новые независимые государства, например Туркмения и Белоруссия, приняли конституции, вполне соответствующие международным нормам, но совершенно не освоенные национальным сознанием и не опиравшиеся на национальную гражданскую идею, и это позволило вождю всех туркмен и батьке белорусского народа со временем перешить их под свой размер. России в этом отношении больше повезло: в заслугу Б. Ельцину можно поставить уже то, что он избирался по Конституции, а главное, ушел со своего поста конституционно, а В. Путину – что он объявил о своем намерении не пересматривать тот раздел Конституции, в котором определены сроки исполнения полномочий президента. Однако предложения о ревизии практически всего корпуса демократических преобразований раздаются из уст весьма высокопоставленных деятелей нашего демократического государства и часто встречают поддержку у значительной части населения. И до тех пор, пока демократия во всем своем объеме не станет нормой для общества, его основным национальным интересом, не будет и уверенности в том, что Россия в очередной раз не вернется назад, в империю, или не распадется. Поэтому для России двуглавая формула «государство-нация» важна не менее, чем двуглавый орел на ее гербе.
Возвращаясь к полемике, которую я комментировал, замечу, что федеративные государства, например Швейцария, США или Германия, в такой же мере являются государствами-нациями (т. е. не империями), как и унитарная Франция, разумеется, современная, а не та, которая была при императоре Наполеоне. Во всех упомянутых случаях понятие «нация» лишено этнического содержания, которое, скорее всего, подразумевал А. Янов, и уж конечно само это понятие не связано с этническим национализмом, против которого он выступает, а я его в этом решительно поддерживаю, как в целом, так и в частности, а именно в споре с Д. Хоскингом.
Впрочем, из цитируемого российским историком высказывания своего английского коллеги («Россия не государство-нация, а обрубок империи») позицию последнего понять трудно, поскольку метафора «обрубок империи» дает повод для различных ее толкований. Однако я знаком с позицией Д. Хоскинга не только по упомянутой статье, мы обменивались мнениями в Вашингтоне в 2001 году в ходе публичной дискуссии, посвященной итогам первого десятилетия постсоветской России. Хоскинг отстаивал весьма экзотическую для западной научной мысли позицию, не имеющую никакого отношения к консенсусу, упоминавшемуся Яновым. Смысл идеи Хоскинга в том, что русский этнический национализм (подчеркиваю – этнический) противостоит имперскому сознанию и одновременно способствует формированию государства-нации, поэтому нужно приветствовать нынешний рост национализма в России. Этот совершено умозрительный вывод английского историка противоречит фактам, в том числе и изложенным в данной работе, свидетельствующим, что ныне такой национализм является единственной опорой российских сил, сохраняющих имперское сознание, стремящихся к возрождению самодержавного устройства в стране, и уже поэтому он выступает основным барьером на пути формирования в России гражданской нации. Кроме того, великорусский национализм драматическим образом нарушает баланс этнических интересов и создает угрозу для целостности страны и, следовательно, для консолидации государства-нации.
Как видим, терминологические тонкости иногда просто необходимо учитывать в идеологических и политических дискуссиях, чтобы по крайней мере понимать друга. Научные дискуссии отличаются от идеологических тем, что в них стороны, как правило, хорошо понимают, о чем говорят их оппоненты, а длительность дискуссий свидетельствует чаще всего о сложности предмета обсуждения.
Например, даже сравнительно частный вопрос в дискуссии о соотношении этничности и гражданства в зарождении современных наций не имеет однозначной трактовки в научном сообществе. Одни исследователи (например, И. Горовиц и У Коннор) полагают, что нации и государства выросли из этнических сообществ, тогда как другие (Т. Неирн и Э. Геллнер), напротив, считают, что государства породили нации. История же показывает, что правы и те и другие, поскольку известны разные модели генезиса национальных государств. Одни нации создавались усилиями государств, которые силой стирали этнические и региональные перегородки внутри страны (это модель «от государства к нации»), другие – усилиями лидеров этнических общностей, разделенных государственными границами, и в этом случае именно этническая солидарность стимулировала процессы объединения неких территорий в новое единое государство и национальную консолидацию его граждан (модель «от общности к нации»).
Как всегда, ближе к истине те исследователи, которые предлагают синтетический подход, включающий в качестве комплиментарных, казалось бы, конкурирующие идеи. По мнению Э. Смита, позицию которого я во многом разделяю, каждая нация содержит в себе элементы как гражданско-территориальной, так и этнической (культурной) общности [187] . Более того, в разные периоды истории соотношение гражданских и этнических представлений о нации может варьировать. Даже во Франции, которая кажется воплощением гражданской концепции нации, еще сравнительно недавно идея примата этничности поддерживалась значительной частью политической элиты, например в период «дела Дрейфуса». Добавлю, что и в наше время в этой стране, власти которой, казалось бы, хотят забыть об этничности, вычеркнув ее не только из официальных документов, но даже из статистики, немалая часть общества поддерживает этнонационалиста Ле Пена [188] .
По мнению Э. Смита, гражданский подход к понятию «нация» редко бывает естественной идеологией всего общества. Даже в странах с развитыми демократическими традициями ее, как правило, отстаивают правительства, политические элиты и этническое большинство, как политически доминирующий слой населения. Меньшинствам же более присуща этническая трактовка нации, особенно когда возникает угроза самому существованию общности либо угроза утраты культурных символов, а также когда возникает ощущение насильственного удержания общности в составе государства.
В силу потенциальной конфликтности этнической (культурной) и гражданской концепций нации почти в любом государстве возникает необходимость поддержания национальной сплоченности, консолидации граждан, и эта задача является одним из важнейших элементов внутренней политики. В современном мире не только геноцид (т. е. целенаправленное истребление этнических общностей), но и их насильственная ассимиляция осуждается мировым сообществом и признается международным правом преступлением против человечности. Уже хотя бы по этой причине у государств, стремящихся не быть изгоями в мировом сообществе, фактически складываются более или менее сходные принципы поддержания национального мира.
Международное право, безусловно, исходит из принципа гражданской нации, поскольку закрепляет права на национальное самоопределение не за этническими, а за территориально-гражданскими общностями. Доктрины государств, в которых сложился режим, основанный на политическом плюрализме, также, в явной или неявной форме, трактуют понятие нации прежде всего как гражданского сообщества. Во всяком случае, в конституциях таких государств отмечается, что источником власти выступает весь полиэтнический народ данной страны, все граждане независимо от их расы, религии и этнической принадлежности. Ни одной этнической общности не предоставляется исключительное или преобладающее право контроля над ресурсами и территорией.
Признавая справедливость этих норм, хочу тем не менее заметить, что в рамках концепции этнополитической интеграции было бы неверно полностью отождествлять нацию с гражданством. На мой взгляд, нация – это самоопределяющаяся общность, основанная как на гражданстве, так и на моральной, культурно-ценностной сплоченности ее членов, что предполагает сознательное самоопределение индивида, его идентификацию с нацией. Минимальный уровень такой сплоченности подразумевает лояльность не только законам, но и моральным нормам и базовым ценностям общества. Еще Эрнест Ренан в знаменитой лекции «Что такое нация?», прочитанной в Сорбонне в 1812 году, отмечал, что «нация – это повседневный плебисцит», который жители страны проводят по отношению к государству, признавая или не признавая его действия справедливыми, отвечающими их интересам, поэтому имперские государства (Ренан говорил об Австрийской империи), несмотря на все их усилия, не смогли сплотить населяющие их народы в единую нацию [189] .
И в современном мире реальна ситуация, когда индивид или группа, оставаясь гражданами страны, не идентифицируют себя со сложившейся в ней нацией. Например, в некоторых демократических странах (Англия, Канада, некоторые штаты США) открыто действуют партии и организации, добивающиеся отделения некой территориальной культурно-специфичной общности от данного государства и реализующие право на национальную консолидацию в других государственно-политических условиях. Разумеется, речь идет о цивилизованных формах национального самоопределения посредствам выборов или референдумов. В тех случаях, когда большинство представителей некой этнотерриториальной общности настаивает на создании нового государства, могут оказаться нецелесообразными не только попытки их насильственного удержания в стране, но и меры, поощряющие их добровольную интеграцию в некое национальное сообщество. Скажем, палестинская автономия до сих пор признается мировым сообществом частью государства Израиль, а ее жители формально являются его гражданами. Однако, несомненно, большинство палестинцев не считает себя частью израильской нации, да и большинство израильтян не признает их таковыми. И правительство, и большая часть израильского общества согласились с возможностью выделения палестинской автономии в отдельное государство и выдвигают лишь одно условие для этого – обеспечение безопасности Израиля от нападения террористов с территории Палестины.
Не исключено (хотя и не обязательно), что подобным же образом могут развиваться события, связанные с проблемой Чечни, в Российской Федерации.
В тех случаях, когда противоречия между этнической и гражданской идентификацией не заходят так далеко, как в Израиле, а взаимоотношения между государством и этническими (конфессиональными и др.) общностями не отягощены многолетним вооруженным конфликтом, задачи поддержания, развития или формирования национальной консолидации на гражданской основе вполне решаемы. Такие задачи можно даже считать рутинными для многих государств, особенно для тех, в которых ядро этнических меньшинств сложилось не в результате их миграции, а вследствие предшествующей колонизации этнических территорий.
Как показывают исторический опыт и современная практика демократических государств, в качестве основного средства устранения или ослабления подобных конфликтов (особенно на латентных его стадиях) выступают не сила, не административное принуждение и даже не столько пропаганда и просвещение, сколько социально-экономические меры, повышающие привлекательность гражданской интеграции по сравнению с этническим изоляционизмом и сепаратизмом.
Чаще всего выделяются следующие преимущества интеграции для индивидов и общностей:
• рост экономических выгод и возможностей в результате возрастания экономических связей, кооперации, реализации совместных экономических программ;
• повышение уровня защищенности и безопасности (как от внешних, так и от внутренних угроз) на основе коллективных усилий за счет создания системы предупреждения, предотвращения и урегулирования этнополитических конфликтов, усиления роли и повышения эффективности деятельности общенациональной системы защиты прав человека;
• увеличение возможностей для социальной и территориальной мобильности людей и устранение барьеров для движения товаров, услуг, информации;
• возрастание возможностей для политической самореализации всех участников сообщества, прежде всего региональных элит, за счет сближения этнических элит, обеспечение их взаимодействия; формирование и развитие политических институтов для координации этнополитических процессов;
• повышение взаимного доверия всех участников интеграции и рост предсказуемости их поведения за счет сближения ценностей представителей разных национальностей и формирования общих норм жизнедеятельности в процессе роста значимости общегражданской идентичности.
Этнополитическая интеграция – это не состояние, а процесс, который необходимо постоянно поддерживать, прежде всего за счет расширения возможностей для самореализции индивидов и общностей.
Интеграция должна охватывать разные сферы жизнедеятельности людей и общества, при этом интеграция в одних сферах неизбежно стимулирует аналогичные тенденции в других. Так, социально-политическая интеграция активизирует интеграцию в ценностно-нормативной сфере, которая, в свою очередь, стимулирует развитие всего интеграционного процесса. Интеграция во внешней политике благотворно сказывается на интеграционных процессах во внутренней политике. Например, в Болгарии долго весьма болезненной оставалась проблема турецкого меньшинства, в Румынии – венгерского, а к Венгрии предъявляли претензии почти все ее соседи за ее, скажем так, «чрезмерно активный» подход к защите своих соотечественников за рубежом. Однако, когда эти государства поставили себе цель интегрироваться в Европейское сообщество, они, стремясь соответствовать обязательным нормам, принятым в сообществе, довольно быстро и успешно продвинулись в решении проблем национальных меньшинств в своих странах и в изменении политики по отношению к своим зарубежным соотечественникам.
Одним из требований, которое предъявляет ЕС к своим членам, является и мультикультурализм.
Мультикультурализм – это совсем «свежая» концепция, которая вошла в научный оборот лишь в конце 1980-х годов и уже в силу своей молодости пока не имеет серьезной теоретической основы. Сам этот термин крайне неопределенен, хотя и употребляется в последнее время чрезвычайно широко во многих странах мира [190] . Даже правительства тех стран, которые провозгласили мультикультурализм в качестве своей официальной политики (Канада и Австралия), существенно не прояснили специфические черты этого концепта. Там он используется сугубо инструментально: в Канаде – в качестве инструмента урегулирования отношений между франкофонами Квебека и англоязычным большинством остальных провинций, а в Австралии – для привлечения иммигрантов, поток которых к началу 1970-х годов сильно уменьшился, что повлекло за собой неблагоприятные последствия для экономической и демографической ситуации в стране. Тем не менее, при всей теоретической неопределенности этого концепта его популярность заложена в основном постулате, признающем самоценность культурного разнообразия страны (региона, всего мира) и принципиальную невозможность (недопустимость) ранжирования культур (в том числе этнических) по принципу «низшая – высшая», «главная – второстепенная» или «государствообразующая – прочие».
Опыт последних десятилетий доказал несостоятельность как советской, так и многих западных этнополитических доктрин, постулировавших стирание этнических различий и затухание этнического самосознания народов под воздействием индустриализации, урбанизации и глобализации. Напротив, этническое самосознание лишь обостряется в результате сопротивления указанным унификационным тенденциям. Вместе с тем оно возрастает также под влиянием демократизации общества, при увеличении возможности свободного волеизъявления граждан. Так, расширение в России возможностей свободной этнической самоидентификации обусловило появление новых этнических общностей, точнее, фиксируемых самоназваний (этнонимов) в период между последней советской переписью населения (1989) и первой российской (2002). Статистика фиксирует 176 этнонимов в России, но могла бы учесть и значительно большее их количество. Оказалось, что многие этнические общности, считавшиеся в советское время ассимилировавшимися с родственными народами, на самом деле сохраняют свою этническую самобытность и особое самосознание.
Этнические общности, как, впрочем, и любые другие, например социальные и культурные, конечно же нельзя отождествлять с биологическими организмами, однако они имеют свои внутренние механизмы функционирования. Это прежде всего коллективные представления, пусть даже во многом мифологизированные, а именно: историческая память как комплекс значимых исторических и культурных событий, воспринимаемых как символы истории народа; общая «историческая территория» или память о ней как о родине (прародине); один или несколько элементов общей культуры, чаще всего это язык и некоторые культурные традиции; та или иная мера этнической солидарности, которая может быть использована для политической мобилизации, и конечно же общее самоназвание, самое устойчивое в комплексе культурных свойств [191] .
Весь этот комплекс свойств (или их часть) обеспечивает возможность поддержания этнической самоидентификации (самоопределения) как индивида в группе, так и одной этнической общности по отношению к другим. Изменение характера отношений между группами ведет к изменению этнических свойств, выступающих в качестве маркеров этнических границ. Этнические свойства, безусловно, пластичны, и в предыдущих главах я подчеркивал неизбежность их исторических изменений. Вместе с тем я считаю сам феномен этничности весьма устойчивым и полагаю крайне маловероятной в обозримом будущем полную деэтнизацию как человека, так и человечества. То, что часто называют утратой этничности, на самом деле обычно является лишь сжатием поля культурных свойств либо переменой этнической самоидентификации, реже ее усложнением за счет формирования множественной этнической идентичности и чаще всего связано с относительной деактуализацией этничности по сравнению с другими формами идентификации, такими как гражданская, профессиональная, политическая и т. д. Однако и в этом случае какие-то элементы этничности сохраняются, хотя бы потому, что люди в своей повседневности мыслят и говорят на каком-либо этническом языке, а не на искусственном эсперанто. Язык же – это не только средство коммуникации, но и система смыслов, всегда имеющих и некую этническую окраску.
В современных условиях России можно говорить не только о высокой сохранности этнического самосознания, но и настоящем буме этнического самосознания. Одним из следствий его роста является политическая активизация этнических элит, увеличение числа общественных и политических организаций, инициативных групп, выдвигающих от имени народов политические требования и формулирующих политические лозунги или программы. Этот процесс развивается в России под воздействием как общемировых тенденций, так и ряда специфических обстоятельств. Из последних наиболее существенным является эффект цепной реакции, когда политизация этнических элит союзных республик бывшего СССР быстро перекинулась на элиты российских автономий, а затем распространилась и по другим этническим общностям.
В России этот процесс оценивается негативно не только властями, но и значительной частью экспертного сообщества. Почти как догма утвердились два взаимосвязанных представления: во-первых, что политизация этничности непременно ведет к политическому экстремизму, во-вторых, что место этническому своеобразию есть только в традиционной культуре, понимаемой крайне узко как создание ансамблей песни и пляски или проведение культурных фестивалей. Между тем попытки «затолкнуть» этническую активность только в сферу фольклора нигде в мире не увенчались успехом. Этничность нельзя отменить, а ее политизацию нельзя (опасно) запрещать. Вместо этого ее можно направить в цивилизованное русло. В большинстве демократических стран сложились этнические организации, которые отстаивают интересы своих членов и поддерживают на выборах те или иные партии или кандидатов в сенаторы, в губернаторы или в президенты. В Америке, например, стены офисов армянских, еврейских, мексиканских, итальянских, китайских и прочих организаций увешаны портретами их лидеров, пожимающих руки губернаторам, конгрессменам, сенаторам или даже президенту страны. И в подавляющем большинстве случаев политики сами ищут поддержки у таких организаций. Политизация этничности сама по себе не более опасна, чем появление профессиональных, конфессиональных, женских или молодежных организаций, ставящих перед собой некие политические задачи. Развитие каждой из них может привести к политическому экстремизму, если их активность направлена на доказательство своей исключительности и достижение неких преимущественных прав и привилегий. Однако эти же организации могут содействовать становлению и развитию гражданского общества, если сосредоточивают свою деятельность на решении общегражданских задач и развиваются в рамках демократических норм.
В этой связи полезно опираться на идеи политической корректности. Сам этот термин возник давно, во всяком случае задолго до появления концепции мультикультурализма, но сейчас по характеру основного использования может рассматриваться как частный случай этой доктрины. Под политкорректностью в рамках мультикультурного проекта понимают прежде всего систему моральных предписаний (иногда подкрепляемых некими институциональными нормами), во-первых, порицающих действия или высказывания, которые могут быть восприняты как психологически травмирующие представителями иных культур, во вторых, одобряющие действия, направленные на привлечение и вовлечение расовых, этнических и конфессиональных меньшинств в наиболее престижные сферы жизнедеятельности (политика, бизнес, искусство и др.).
Подчеркиваю, политическая корректность предполагает прежде всего опору на моральные культурные нормы, а не на правовые предписания. Никто, никакие законы не предписывали президенту Клинтону или президенту Бушу включать в свои администрации представителей разных рас, этнических и конфессиональных групп. Последние американские президенты добиваются этого, исходя из сложившейся к настоящему времени нормы политической культуры в Америке, а также из своих представлений о политической целесообразности. В нынешних условиях эффективно управлять страной может лишь администрация, отражающая культурное разнообразие общества. И несмотря на то, что проблему этнического представительства нельзя абсолютизировать и не стоит преувеличивать, президенты российских республик должны понимать, что в целях обеспечения благоприятного психологического климата в республиках и роста взаимного доверия между народами нельзя управлять республикой, не включая в ее руководство заметного числа русских, составляющих в некоторых из названных регионов численно наибольшую группу населения. Но одновременно и федеральной власти стоило бы расширить представительство разных народов России в аппарате федеральных ведомств. Примеры такого подхода демонстрируют не только западные страны, но и некоторые полиэтнические страны Востока, имеющие солидные традиции политической парламентской культуры. Показателен в этом отношении пример Индии, политическая элита которой (объединение правящей партии «Бхаратия джаната парти» и большинства оппозиционных партий, кроме левых сил) впервые в истории этой страны добилась избрания в качестве президента представителя исламского меньшинства Абдул Калама.
И в США, и в Индии политическая корректность и политическая целесообразность продиктовали необходимость добровольного самоограничения этнического большинства в целях поддержания и усиления интегративных процессов.
Для объяснения сути этого принципа сошлюсь на пример, который часто приводит в своих публикациях и публичных выступлениях В. Тишков. Ядром испанской гражданской нации и этническим большинством страны являются кастильцы, которые не только не требуют для себя каких-то преимущественных прав, не добиваются для себя автономии, предлагая ее меньшинствам (баскам, каталонцам и др.), но даже и от своего самоназвания отказались в пользу общегражданской, и в этом смысле национальной, интеграции. Подобный подход жизненно необходим и для России. Я далек от мысли предлагать русским забыть о своем самоназвании, да и нужды такой нет. Как уже отмечалось, рост русского этнического самосознания также можно было бы рассматривать как положительное явление, если бы оно не сопровождалось увеличением страхов и фобий, а главное, так называемым «эксклюзивным мышлением», выражающимся в одиозном лозунге «Россия для русских».
Неблагоприятное психологическое самочувствие этнического большинства, его неудовлетворенность, тревожность, ожидание угроз со стороны других народов в сочетании с активной эксплуатацией этих настроений влиятельными политическими силами является, на мой взгляд, главной из современных проблем этнической политики, которая проводится в России. Люди, называющие себя «защитниками русского народа», чаще всего как раз и заняты тем, что изощренно разжигают реальные и мнимые обиды этнического большинства страны. По сути, они занимаются формированием у большинства психологических комплексов, присущих обычно меньшинствам. Реальное оздоровление этнополитической обстановки в стране и улучшение психологического самочувствия русских людей может быть обеспечено не за счет создания неких институциональных условий для защиты большинства от меньшинств, а на пути формирования у большинства представлений о его роли в этнополитической интеграции общества, той интеграции, в которой большинство объективно заинтересовано в наибольшей мере, а также создания механизмов интеграции, в том числе создания климата доверия меньшинств к большинству. И здесь я хочу еще раз вернуться к идее «государствообразующего народа».
Неоднократно в этой книге я высказывал свое крайне негативное отношение к данной идее, поскольку она подразумевает юридическое закрепление за этнической общностью некоего особого статуса в государстве, как это предусмотрено в проекте Федерального закона «О русском народе». Такой подход противоречит самому духу Конституции страны и ее букве, а главное, сразу же, при одной лишь постановке вопроса вызывает рост подозрительности других народов. Вместе с тем я поддерживаю (об этом также не раз говорилось в книге) идею просвещения всего российского общества в духе осознания им объективно наибольшей роли этнического большинства в процессе гражданской интеграции народов России. Такая роль предполагает не присвоение этническому большинству особого статуса, как ордена или другой награды, а наоборот – осознанный и добровольный отказ представителей этнического большинства от части своих преимуществ.
Речь идет не только о том, что большинству стоит потесниться в институтах центральной власти, чтобы интегрировать во властную элиту представителей других этнических групп, но и о необходимости затратить некие усилия в освоении культуры братских народов. Так, в последние годы в России в национальных республиках уменьшается доля русских, которые владеют языком титульной национальности или хотят его освоить [192] . Это, наряду с сокращением количества газет и книг на национальных языках, национальных школ, создает у меньшинств ощущение возврата к советской политике недобровольной русификации. И хотя многие из отмеченных процессов имеют другую природу и вызваны прежде всего экономическими причинами (при общем сокращении тиражей всех газет и книгоиздания в стране больше всего пострадали пресса и книгоиздание на национальных языках, при общем свертывании сети школ – национальные школы, а миграционные процессы увеличили долю русских, недавно переселившихся в республики, не знакомых с их культурой и т. п.), однако и политические решения усугубляют эскалацию таких подозрений. Закон, навязывающий кириллицу в качестве графической основы всех языков народов России, в практическом отношении абсолютно не имеет смысла (русские, не знающие татарского языка, не смогут прочитать татарскую газету, даже написанную на кириллице), но, как уже отмечалось, резко ухудшил этнополитическую ситуацию в ряде республик и недобрым воспоминанием откладывается в исторической памяти.
Принцип самоограничения большинства предусматривает проведение такой политики, при которой федеральная власть требует от своих чиновников в республиках обязательного знания языка титульных народов и поощряет, стимулирует интерес русского населения республик к его изучению. Такая ориентация не только увеличивает доверие к большинству со стороны меньшинств, но и служит для них примером, побуждает к ответным действиям по самоограничению, необходимому для их аккультурации. Трудно ожидать, что иноэтнические мигранты первыми откажутся от привычных для них культурных традиций, если большинство не подаст им пример необходимого самоограничения.
В отечественной литературе и прессе о политике мультикультурализма и политкорректности пишут в основном в негативных тонах [193] . Такие публикации переполнены примерами ошибок и перегибов в осуществлении этих программ в США и Европе. Действительно, программа мультикультурализма первоначально развивалась как сугубо инструментальный и экспериментальный проект, т. е. методом проб, а следовательно, и ошибок. Как уже отмечалось, лишь недавно началось теоретическое осмысление таких программ, и можно не сомневаться, что это приведет к коррективам политической практики. Вместе с тем публикации в жанре описания «ошибок» и «вредного опыта» уже сейчас в значительной мере дезинформируют российских читателей, многие из которых и сами рады услышать что-то нехорошее про «них». Зачастую это форма самоутверждения: когда не удается самоутвердиться на основе своих достижений, то охотно принижают чужие.
В чем же проявляется неадекватность подобных аналитических материалов? Остановимся на этом подробнее.
Во-первых, описание «провалов» (во многом мнимых) политики мультикультурализма не сопровождается оценкой ее реальных успехов, а они весьма впечатляющи. Например, в США до начала осуществления этого проекта, направленного прежде всего на устранение расовых предрассудков, страна постоянно находилась под угрозой расовых волнений и бунтов, сопровождавшихся многочисленными жертвами и большими разрушениями. В Вашингтоне еще в 1960-е годы чуть ли не в двух-трех километрах от Белого дома в результате бунтов и поджогов выгорали целые кварталы жилых домов. Но вот уже почти 40 лет Америка не знает расовых беспорядков такого масштаба.
Во-вторых, авторы, описывающие негативные стороны политики мультикультурализма, даже не задумываются над тем, что эта концепция является лишь частью проекта этнополитической интеграции и выполняет в ней сравнительно скромную функцию, а именно обеспечивает климат доверия. Поэтому некоторые ее побочные следствия, такие как понижение интереса какой-то части меньшинств к аккультурации вследствие получения ряда льгот, компенсируются другими механизмами. Скажем, пожилые китайцы в чайна-таунах или пожилые евреи, выходцы из республик бывшего СССР, на Брайтон-бич могут сегодня прожить в своих замкнутых кварталах на пособия, не обучаясь английскому языку и не предпринимая попыток интегрироваться в американское общество. Однако статистика и наблюдения показывают, что молодежь, получившая в Америке образование и квалификацию, как правило, покидает эти районы и переселяется в более престижные и с меньшим уровнем традиционного социального контроля. Поэтому этнические районы и кварталы постоянно сжимаются. В Вашингтоне площадь однородных афро-американских кварталов уменьшилась в конце 1990-х годов в несколько раз. На Брайтоне остаются в основном старики или совсем недавние переселенцы. Быстро изменяется расовый и этнический состав нью-йоркского Гарлема. К тому же на него с разных сторон наступают кварталы престижной застройки. Этому способствуют рост цены на землю и сокращение государственных программ на социальные пособия меньшинствам (что стало особенно заметно с приходом к власти Дж. Буша), а также политика властей, стремящихся не допускать добровольной сегрегации людей.
Или другой пример: появление в 1980-х годах этнически или расово однородных учебных заведений, которые трудно признать позитивным явлением. Однако и этот процесс сильно затормозился и, возможно, даже пойдет вспять. Такие учебные заведения имеют низкие рейтинги, их выпускники не конкурентоспособны на рынке труда и по мере сжатия этнически и расово однородных районов получают все меньше возможностей для самореализации. Все это свидетельствует о том, что насос интеграции действует сильнее тех факторов, которые направлены на сохранение культурной замкнутости меньшинств. При этом важнейшую роль в сближении культур и ценностей членов общества выполняют механизмы демонстрационного эффекта и социальной мобильности, подталкивающие меньшинства к включению в жизнедеятельность открытого общества.
В России же замкнутость эмигрантских меньшинств, как уж отмечалось, возрастает, и вовсе не в результате добровольной сегрегации или сыплющихся на них государственных субсидий и других благ. Отмечаемый практически всеми социологическими исследованиями рост ксенофобии приводит к нарастанию самой обычной, отнюдь не «позитивной» дискриминации меньшинств. При этом у нас практически полностью отсутствуют механизмы компенсации социальных издержек этих негативных процессов. Федеральная миграционная служба, занимавшаяся абсорбцией мигрантов, ликвидирована. Милицейские органы, попечительству которых передана миграционная политика, выполняют свойственные им запретительно-ограничительные функции. Рынок жилья дорожает, трудности натурализации мигрантов всех национальностей включая русских увеличиваются. В результате положение мигрантов ухудшается, мигрантофобия быстро нарастает, а вероятность тех самых бунтов, от которых избавилась Америка, – повышается.
Ж. А. Зайончковская, сравнивая положение мигрантов в Америке и в России, отмечает, что даже самая обездоленная часть мигрантов в США (сезонные работники на сельскохозяйственных плантациях) имеет более приемлемые условия жизни, чем квалифицированные рабочие в Москве. Она пишет: «Я видела, как в Калифорнии живут рабочие, приехавшие из латиноамериканских стран. Это просто сарай на сваях, но с отдельным входом, эдакие конурки метров по двадцать, а под крышей стоит автомобиль, это как бы гараж. Так и у нас муниципалитеты должны строить дома гостиничного типа, общежития, сдавать их в аренду предприятиям. Но у нас человек не может нормально снять дешевое жилье, получить кров над головой. Допустим, троллейбусные парки Москвы, за которыми мы ведем мониторинг…в общежитии была одна койка на двух шоферов – один ездит, другой спит» [194] .
Участники семинара, на котором выступала Ж. Зайончковская, были единодушны в том, что при любых, даже самых жестких, ограничениях миграции в Россию в ближайшие годы ей не избежать нового притока из стран СНГ мигрантов в объеме до 500 тыс. человек в год, поскольку основной причиной миграции остается перепад в уровнях жизни между Россией и другими странами Содружества. Для нормального функционирования экономики требуется еще больший объем мигрантов – по мнению Зайончковской, свыше 600 тыс. в год при нынешнем уровне экономического развития и до миллиона в случае наращивания темпов роста производства. При этом неизбежно будет увеличиваться доля иноэтнических мигрантов. В 1990-х годах до 80 % мигрантов составляли русские, но постепенно демографические ресурсы этой категории исчерпываются, следовательно, в составе мигрантов будет увеличиваться доля представителей народов Кавказа и Средней Азии.
Понятно, что приток нескольких миллионов мигрантов в ближайшие годы может угрожать ростом межэтнических конфликтов и общим ухудшением социальной обстановки в стране, если власти, общество, включая, конечно, и представителей экспертного сообщества, не будут готовы к восприятию идей мультикультурализма и не выработают на его основе программы интеграции меньшинств в российское общество. Выступавший на упомянутом семинаре В. Мукомель отметил, что наибольший рост этнофобий отмечен в наименее урбанизированных областях Северного Кавказа (Ставропольский, Краснодарский края): «Происходит это не только потому, что эти регионы испытывали большой приток мигрантов. В последние годы приток иноэтничных мигрантов идет в другие регионы – в Поволжье, на юг Урала и на юг Западной Сибири. Но говорят больше об этих проблемах на Северном Кавказе именно потому, что здесь нет мультикультурных традиций» [195] .
Столь же неэффективна и далека от лучших мировых образцов и российская политика по отношению к иной категории этнических меньшинств – представителям так называемых титульных народов республик и автономных округов.
Децентрализация власти и автономизация регионов. Рост экономической, политической и административной самостоятельности регионов и ячеек местного самоуправления привел к тому, что на Западе все заметнее становится процесс взаимопроникновения, гибридизации двух основных и, как казалось ранее, взаимоисключающих форм государственного устройства: унитарной и федеративной. Точнее было бы сказать, что ныне в Западной Европе, провозгласившей принцип «Европа регионов», унитарных государств в классическом смысле этого понятия просто не осталось.
Сравним, например, Германию – федеративную республику и Испанию, которая формально является унитарной монархией (более точное определение, которое используют сами испанцы, – «парламентская монархия – государство автономий»). Фактически уровень федерализации Испании не ниже, чем Германии. Более того, система испанских автономий напоминает собой особый тип федераций – этнических (или этнолингвистических), подобных швейцарской. Автономии Испании не только имеют собственные законодательные органы и правительства, но и обладают правом использовать в качестве официального как испанский (на основе кастильского) язык, так и языки титульных национальностей регионов – баскский, каталонский, галисийский и другие, на которых говорит около 1/3 населения страны. Разумеется, каталонцы или баски живут не только в соответствующих регионах, так же как, например, в Российской Федерации татары живут не только в Татарстане, но, осознавая это, испанские политики и ученые-эксперты в отличие от своих российских коллег не ставят под сомнение необходимость предоставления права на сохранение этнокультурного своеобразия народам в местах их компактного проживания, справедливо полагая, что от этого выигрывают все представители данной этнической (как баски) или этнографической (как каталонцы) общности. Художественная литература и учебники, кинофильмы и компьютерные игры, издаваемые, производимые, скажем, в Бильбао на баскском языке или в Барселоне на каталонском, доступны представителям соответствующих групп по всей Испании. Точно так же как произведения татарской этнической культуры, созданные в Казани, доступны татарам России и всего мира. Элементы автономии (этнической) возникают практически всегда в местах компактного проживания групп, исторически сформировавшихся на данной территории (т. е. автохтонных, не иммигрантских групп). Сегодня такие автономии существуют во многих государствах Европы включая унитарную (не федеративную) Финляндию.
Характерно, что не только на Западе, но и во многих других странах трудно найти примеры того мистического ужаса перед этническими элементами в федеративных отношениях, который в последние годы становится все заметнее в России. Подобные настроения проявились и в ходе уже упоминавшихся ситуационных анализов в Фонде «Либеральная миссия». Некоторые из участников выражали следующие сомнения в целесообразности сохранения элементов этнической федерации в России: во-первых, по их мнению, этнические федерации поражаются сепаратизмом; во-вторых, приводят к асимметричности государственного устройства, поскольку республики обладают некоторыми правами, которых лишены края и области; в-третьих, затрудняют развитие гражданского общества; в-четвертых, вообще недостойны особого внимания, поскольку охватывают не более 12–15 % населения страны.
С большей частью этих аргументов я не согласен. Начну с проблемы сепаратизма, который, на мой взгляд, не имеет прямого отношения к типу государственного устройства и проявляется в унитарных государствах еще чаще, чем в федеративных. Так, за независимость боролись Польша в Российской империи и Эритрея в Эфиопии, сепаратизм прогрессирует в Шотландии и на Корсике, и во всех случаях мы говорим о территориях, которые не являются частями федеративных государств. Вместе с тем сепаратизм совершенно не заметен в современной Швейцарии – одной из старейших федераций в мире, субъекты которой (кантоны) выделены по этнолингвистическому принципу. Появление сепаратизма обусловлено большой совокупностью факторов, главным из которых, на мой взгляд, является накопление в исторической памяти народов травм, связанных с воспоминаниями или актуальными ощущениями насильственного характера удержания меньшинств в составе многонационального государства. Сепаратизм может принять форму насильственных действий («национально-освободительных» войн) при наличии в общности политических активистов, актуализирующих память об исторических обидах народа, формирующих программу действий «борцов за независимость». В унитарном государстве такие предпосылки практически всегда приводят к вооруженным конфликтам, а в федеративном повышение уровня автономии может частично или даже полностью погасить сепаратизм. Однако бывают ситуации, когда возможностей автономии уже недостаточно, для того чтобы остановить инерцию сепаратизма, так что федерализм не всегда способен воспрепятствовать развитию сепаратистских тенденций.
Вместе с тем не имеют никаких исторических оснований утверждения, что сам по себе федерализм (включая и такую его разновидность, как этнические федерации) провоцирует сепаратистские настроения. В то же время можно с уверенностью утверждать, что необоснованный отказ от федеративного устройства (скажем, произвольное упразднение автономии или понижение ее статуса сверху) решением только центрального правительства, во всех известных исторических случаях неизбежно приводил к вооруженным конфликтам. Самые известные примеры такого развития событий демонстрирует недавняя история Нагорного Карабаха, Южной Осетии, Косова. И в этом смысле популярные у некоторых партий, особенно у ЛДПР, идеи всеобщей губернизации страны не только беспочвенны по своему обоснованию, но и чрезвычайно опасны. Тотальная губернизация уже была в Российской истории, однако она не погасила недовольства этнических меньшинств на национальных окраинах империи. «Ибо, – как пишет историк, – Польша оставалась Польшей, Литва Литвой, назови ее хоть Виленской губернией» [196] .
Асимметричность нашей федерации, многих сегодня пугающая, на мой взгляд, не составляет реальной проблемы, поскольку для федераций такой принцип построения является скорее правилом, чем исключением. При этом асимметричными могут быть как этнические, так и сугубо территориальные федерации. Примером может служить ФРГ, в составе которой Бавария и Саксония имеют особый статус, получили права на самостоятельные международные действия и в своих конституциях именуются не землями, как другие субъекты федерации, а государствами [197] . Асимметричность такой федерации, как США, определяется не только наличием в ее составе свободно присоединившейся территории Пуэрто-Рико, но и особым статусом штата Луизиана, исторически сохранившим право на свободный выход из федерации (другие штаты подобным правом не обладают). В Канаде особый статус имеет не только франкоязычный Квебек, но англоязычный штат Онтарио. Эти и множество других примеров показывают, что асимметрия федерации сама по себе не ослабляет ее интегративных возможностей и зачастую позволяет снимать определенные противоречия между федерацией и ее отдельными регионами.
В чем же проявляются этнические аспекты федерализма в России? Суть их мы сможем понять, если проследим генезис таких специфических территориальных образований, как республики и округа. Они были созданы как механизм этнической, этнокультурной самозащиты определенной части этнических сообществ, а именно территориально локализованных групп этноса, сохранивших свои исторические ареалы и этнические границы, и эту функцию этнические автономии выполняют до сих пор. Уровень демографического воспроизводства одних и тех же этнических групп внутри республик, как правило, выше, чем за их пределами [198] . Что касается сохранения национального языка и культурных норм, то здесь преимущества национальных автономий не вызывают сомнений. И дело даже не в том, сколько денег выделяют власти республик, скажем, на национальные школы, вполне вероятно, что Оренбургская область выделяет на татарские школы больше денег в расчете на одного татарского жителя, чем Татарстан. Однако в силу многих обстоятельств, прежде всего концентрации носителей этнической культуры, сохранения элементов традиционной культурной среды, престижности национальной культуры и других факторов, реальная степень сохранности этнокультурных компонентов в республике, естественно, выше.
Для этнических общностей, проживающих за пределами автономий или не имеющих таковых вовсе, мировая практика и законодательство России предусматривают другие формы культурной самореализации – экстерриториальные культурные автономии. Они, как справедливо отмечает В. Тишков, не заменяют, а дополняют этнофедеративные отношения [199] . Тот факт, что лишь менее половины нерусских народов проживает на территории тех или иных форм автономий, не может поставить под сомнение саму необходимость сохранения сложившейся системы федеративных отношений. Да, это малая часть населения России, но одна из самых проблемных, а, как гласит закон Либиха, общая устойчивость системы определяется устойчивостью слабейшего ее звена. В этом смысле пример Чечни очень показателен.
Главное же, что в России уже есть территориально концентрированные группы, у них уже есть своя автономия, и всякий знает – терять то, что имеешь, значительно болезненнее, чем не получить того, что хочешь. Поэтому попытки радикальной смены принципов национально-государственного устройства, связанные с пересмотром Конституции и отменой предусмотренных ею таких форм административно-территориальных образований, как республики и автономные округа, чрезвычайно опасны. Негативные последствия таких реформ очевидны, а возможные выгоды весьма сомнительны. Мировой опыт показывает, что урегулировать противоречия между этническими автономиями и центральным правительством или между разными субъектами федерации легче не за счет усиления жесткости конструкции государственного устройства, а, наоборот, за счет повышения ее гибкости.
Это же демонстрирует и недавний опыт России. В период, который можно назвать инерцией распада СССР, распространившейся и на Российскую Федерацию, российские власти стали использовать договоры между центром и регионами как механизм согласования их интересов. Эта идея родилась спонтанно, и ее инициаторы, вероятно, даже не подозревали, что во многих странах, которые не зря называют себя федеративными, действуют некие похожие механизмы. Многие западные теоретики полагают даже, что федерализм – это не столько раз и навсегда установленный законом порядок распределения ответственности между центром и регионами, сколько механизм согласования интересов. Один из классиков канадского федерализма сенатор Юджин Форси говорит: «Канадский федерализм – это прежде всего дебаты» [200] . На том же принципе строятся взаимоотношения автономий и центра в Испании. Здесь главную роль в механизме согласования интересов играет Конституционный суд. И устойчивость швейцарской федерации сохраняется тоже благодаря действию системы механизмов согласования интересов федерации и кантонов.
Разумеется, канадские, испанские и швейцарские механизмы согласования интересов центра и субъектов федерации отличаются от тех, которые были изобретены при Ельцине, прежде всего тем, что упорядочены и формализованы. Ведь при Ельцине договоры, скорее, напоминали сговор одного барина, столичного, с другими, региональными, и со временем в России все больше стала ощущаться необходимость такого же, как в Западной Европе, демократического упорядочения форм взаимоотношений центра и регионов. Вместо этого систему согласования интересов просто разрушили в ходе строительства «вертикали власти». Однако требования реальной политики заставляют возвращаться к изобретениям времен Ельцина. Как ни критиковали представители администрации Путина идею договоров о разграничении полномочий между центром и регионами, им самим пришлось готовить подобный договор для урегулирования отношений с Чечней. Напомню, что и во времена Ельцина идея таких договоров родилась в подобной же ситуации – прежде всего для решения чеченской проблемы.
Этнические федерации – не идеальная форма государственного устройства. Главный их недостаток состоит в том, что в пределах национальных республик возможно воспроизведение неравных отношений между этническим большинством и меньшинствами. Однако, осознавая теоретическую возможность возникновения такой проблемы, следует все же конкретизировать зону ее вероятного проявления. Дело в том, что этнополитические ситуации в разных республиках сильно отличаются друг от друга. Справедливо отмечает В. Тишков: «В ряде республик (Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Хакасия) в силу разных причин представители титульной национальности никак не могут быть отнесены к разряду правящих. Руководство этих республик, а также состав правящих структур, в том числе и выборных, не носят моноэтнического характера и не построены по принципу этнической избирательности» [201] . Руководителями большинства этих республик являются русские, и в некоторых из них, например в Удмуртии и в Республике Алтай, недостаточно представлены как раз титульные национальности в составе республиканской политической элиты.
Далее, сам факт занятия высоких должностей представителями той или иной национальности не может служить основанием для утверждения, что эти люди действуют в интересах «своей» этнической группы. Даже в самых скандальных изданиях желтой прессы мне не встречались упоминания о том, что, скажем, Э. Россель отдает преимущества немцам, А. Тулеев – казахам, а Н. Федоров – чувашам. Вместе с тем, для того чтобы в принципе не допустить возможности формирования этнократических кланов, важна не столько пропорциональность представительства разных этнических групп в составе политической элиты, сколько относительная деактуализация этнических форм интеграции по сравнению с объединениями, создающимися на гражданской основе. И перспектив для этого в большинстве российских республик ничуть не меньше, чем в краях и областях. Во всяком случае, нынешний уровень развития гражданских институтов в Чувашии или в Татарии не ниже, чем в Краснодарском крае или в Ульяновской области.
В целом, распространенное ныне представление о том, что этническая форма федерации препятствует развитию гражданского общества, как правило, не подкрепляется серьезными аргументами и является обычным мифом. Многие проблемы этнических федераций просто мистифицированы экспертами, особенно теми, кто занимается подобными сюжетами походя, в перерыве между занятиями иными делами.
Впрочем, существует и историческая обусловленность того, что некая проблема обрастает мифами. Так, в начале прошлого века у многих мыслителей существовало убеждение, что монархия несовместима с демократией. Однако ныне исторический опыт показывает, что такие королевства, как Швеция или Дания, не уступают по уровню демократичности республикам, например Италии или Греции, и уж во всяком случае республике Туркмении. Во всех названных случаях монархия перестала быть реальным самодержавием (авторитарной властью) и сохраняется в основном как дань культурной традиции, как некая декоративная форма. В перспективе не исключено, что и нынешние содержательные различия между республиками, краями и областями в России сгладятся, останутся лишь сами эти названия как формальная культурная оболочка и одновременно как важный для живущих здесь народов символ сохранения культурной традиции.
Беру на себя смелость утверждать, что совершенствование федеративных отношений в России не требует радикальной ломки сложившихся форм. Необходимо лишь полнее адаптировать их для решения как этнокультурных, так и общегражданских задач развития российского общества. И подобный подход может быть реализован в модернистском проекте этнополитической интеграции. Думаю, что этот процесс должен развиваться поэтапно, а преобразования необходимо осуществлять как можно более деликатно, с учетом баланса интересов разных этнических общностей. В этом случае первая фаза интеграции могла бы состоять в достраивании каркаса единых связей и отношений в рамках федерации при сохранении нынешней специфики ее субъектов, а в последующем интеграционный процесс будет все больше перемещаться на внутриклеточный уровень, сосредоточиваясь на усилении гражданской самоорганизации региональных общностей.
Во всей совокупности этнополитических проблем России лишь «чеченская проблема» в настоящее время носит эксклюзивный характер и должна решаться исключительными методами, прежде всего политическими. Все прочие этнополитические проблемы могут быть урегулированы в рамках единой программы.
Этапы реализации интеграционного проекта
Слом привычных стереотипов общественного сознания и утверждение новых идей, таких как «добровольная национальная интеграция», «гражданская нация и мультикультурализм», – это сложный и длительный процесс для любой страны. Скорее всего, в России утверждение нового этнополитического мышления будет более длительным и сложным, чем на Западе, и потребует продолжительного времени. Впрочем, и в США ослабление расовых предрассудков заняло целую эпоху, и процесс этот происходил сложно, особенно на начальных этапах.
Что же произошло в Америке? Почему судьи, которые раньше спокойно взирали на вопиющие проявления сегрегации, сегодня строго карают даже намеки на расовую некорректность? Кто-то скажет, что все началось с демонстрации политической воли лидера страны, президента Дж. Кеннеди, который не побоялся обеспечить федеральную защиту конституционных прав представителей разных расовых групп. Именно при нем студента негра Джеймса Меридита сопровождал в университет отряд национальной гвардии. Однако Кеннеди пошел на это, твердо зная, что его действия получат поддержку избирателей самых многонаселенных районов Америки, прежде всего ее крупнейших индустриальных центров, мегаполисов. Так что же привело к росту толерантности белого протестантского большинства, большинства американцев?
Решающую роль в сломе негативных стереотипов массового сознания сыграли интеллектуалы – лидеры общественного мнения и, разумеется, стоявшие за ними финансовые круги, владеющие средствами массовой информации. Именно они, осознав опасность раскола общества, угрозу политической стабильности в государстве, объявили настоящую информационную войну расизму. Получается, что вначале интеллекуальная элита обеспечила культурно-ценностную перенастройку общества, затем властная элита закрепила этот процесс институционально-нормативными средствами, а массовые движения, институты гражданского общества превратили реформу в норму общественной жизни, когда она престала восприниматься как реформа, превратившись в естественный самоорганизующийся процесс модернизации общества. Указанная последовательность событий имеет, скорее всего, универсальный характер, во всяком случае для этнополитической сферы. Не случайно теоретики этнополитической интеграции обычно выделяют три ее основных этапа: «этап интеллектуалов» – начало интеграции, когда она поддерживается и продвигается преимущественно усилиями интеллектуальной элиты; «этап политиков » – вовлечение в интеграционные процессы политической элиты, осознающей, что ее действия будут признаны морально легитимными; «этап массовых движений» – широкая массовая поддержка идеи и практики интеграции [202] . На первом этапе основными являются интеллектуально-информационные ресурсы, на втором – институциональные, на третьем – ресурсы общественной активности, самоорганизации [203] .
Этап интеллектуалов
Он обычно начинается с моральной легитимизации национальной консолидации и конструирования образа «мы», т. е. с ответа на вопрос «кто мы и чего хотим?». Ныне суть этого вопроса в России связана с выбором между традиционалистским и модернистским проектом ее развития, а также с определением образа «конституирующего иного».
Образ «они» всегда предшествует образу «мы»», поэтому общность не может сплотиться без представления о конституирующем ее «ином», т. е. о внешних вызовах. Однако совсем необязательно, чтобы этот «иной» выступал в негативном образе, не нужно объединяться «против», можно объединятся «за», например за то, чтобы совместными усилиями занять более достойное место в мировом сообществе. В то же время в нынешних условиях, когда внешнеполитические вызовы беспокоят преимущественно элиту, а народ заботят в основном внутренние проблемы страны, решающее значение для гражданской интеграции и формирования гражданской нации имеет задача формирования образа «мы» во внутренней политике. И здесь главное – избавить этническое большинство от навязываемого ему образа «народа-страдальца», который все обижают, а власть должна защитить. Этническое большинство должно осознать, что в гражданском государстве «мы» большинства и есть власть, поэтому большинство не нуждается в чьей-то внешней защите и способно само защитить и себя, и тех, кто слабее «нас», а главное, в «наших» интересах проявить инициативу и возглавить процесс гражданской интеграции всех народов. В Советском Союзе «дружба народов», как ни привлекателен сам по себе этот лозунг, была не более чем кампанией властей, перемежавшейся с другими, более увлекательными программами, например по борьбе с «врагами народа». Реальная дружба, кооперация народов может утвердиться лишь на основе движения снизу.
Одной из частных, но важных задач моральной легитимизации национальной консолидации является утверждение ее базовых терминов. Прежде всего, в политическом лексиконе, а затем и в массовой речи должно закрепиться единое название общности. Маловероятно, что в нынешних условиях чеченцы, татары, якуты или другие народы России станут назвать себя русскими. На мой взгляд, в качестве общего названия гражданской общности больше подходит термин «россияне», который не связан с этнической спецификой, это полный аналог терминам «американцы» или «швейцарцы», да и термину «советские люди», который в быту не носил идеологической окраски и просто обозначал граждан одной страны. Президент Ельцин пытался внедрить название «россияне», постоянно используя его в своих выступлениях. Нынешние власти не используют этот термин, и он пока не прижился в обществе. Между тем утверждение единого названия было бы верным индикатором сдвигов в гражданской и культурной консолидации российского общества.
Эмоциональная поддержка интеграции. Важнейшей задачей политики интеграции должно стать содействие воспитанию этнической толерантности россиян. Не вызывает сомнений необходимость сконцентрировать интеллектуальные усилия государства и общества на противодействии идеологии этнической исключительности и враждебности по отношению к другим народам. Это чрезвычайно сложная задача, поскольку на стороне этнонационализма выступают укоренившиеся стереотипы массового сознания, легкая ранимость и возбудимость национальных чувств народа. Не случайно начальный этап национализма связан с эмоциональным «разогревом» этнического сообщества постоянными обращениями к историческим травмам и былым обидам. В тех случаях, когда представители государственных организаций втягиваются в подобную историческую перепалку, пытаются из благих побуждений заменить «плохую» историю «хорошей», противопоставить воспоминаниям о взаимных обидах историю «дружбы народов», эти попытки, как правило, терпят неудачу. Более эффективным технологическим приемом, противодействующим этническому размежеванию, является подведение черты под историей раздора и проведение эмоционально насыщенных актов, символизирующих закрепление национального примирения или национального согласия. Например, воздвигнутый в Испании памятник всем жертвам гражданской войны, стоявшим по разные стороны баррикад, имел огромное значение для процесса национального примирения в стране.
Также трудно переоценить ту роль, которую сыграли в моральной легитимизации идеи мультикультурализма и в преодолении расовой сегрегации в США кочующие из фильма в фильм образы позитивных героев – белого и чернокожего. Впоследствии «пантеон героев», созданных массовой культурой, расширился и сегодня включает «хороших парней» – китайцев, мексиканцев и др. Сходные приемы эмоциональной поддержки процессов этнополитической интеграции целесообразно использовать и в России.
Программное закрепление интеграции. Действенным инструментом достижения национального согласия является перевод акцентов в межнациональных отношениях с прошлого на настоящее и будущее. В этом смысле чрезвычайно важно привлекать интеллектуальные элиты, представляющие разные этнические общности, к разработке совместных договоров и программ общественного развития. Общепризнанным примером эффективности подобных соглашений стал знаменитый «пакт Монклоа», заложивший основу консолидации испанского общества после длительного периода диктатуры.
Интеллектуальная подготовка интеграции состоит также в разработке концепций, планов, системы показателей, законов и других нормативных документов, содействующих процессу межнационального сотрудничества на основе общегражданского единства.
Этап политиков
Формирование общероссийской политической элиты, включающей в себя представителей этнических элит народов России, является центральным звеном этнополитической интеграции. Основной инструмент этого процесса – инкорпорация этнических элит в федеральные органы власти. Речь идет вовсе не о выделении жестко закрепленных законом национальных квот или процентных норм (такая практика во всем мире доказала свою несостоятельность), а о развитии политической культуры, требующей учета многообразия этнической структуры общества при формировании органов власти. Разумеется, учет этнического фактора возможен только после определения деловых качеств претендентов.
Важным элементом в проведении политики этнополитической интеграции должна стать ротация кадров. При этом речь идет не только о «вертикальной» ротации, при которой способных чиновников из национальных регионов приглашают на работу в центр, но и о «горизонтальной». Перемещение федеральных чиновников из одних регионов на работу в другие должно стать не эпизодическим явлением, а общим правилом.
Формирование политических институтов. Этнополитическая интеграция предполагает как создание новых специализированных институтов, организующих и координирующих указанный процесс, так и совершенствование деятельности уже существующих.
Новым институтом могла бы стать, помимо Ассамблеи народов России, еще и федеральная служба раннего предупреждения и урегулирования конфликтов. В совершенствовании нуждается федеральная система защиты прав человека. Это совершенствование могло бы начаться с упорядочения функций многочисленных государственных организаций и служб федерального уровня, устранения дублирования в их деятельности и ее координация на основе единой программы. Требует радикального совершенствования система государственной поддержки развития национальной школы, высшего образования и национальных СМИ.
Распределение обязанностей и ответственности между различными звеньями управления . Сферой преимущественной ответственности федеральной власти является обеспечение интеграционных процессов, предотвращение и урегулирование конфликтов; протекционизм по отношению к этническим общностям и группам, не обладающим достаточными ресурсами для самосохранения, а также защита прав человека на всей территории России. Сохранение и развитие национальной самобытности народов – сфера преимущественной ответственности региональных властей, иных звеньев управления, а также общественных организаций. Федеральная власть призвана содействовать национально-культурному саморазвитию народов, обеспечивая прежде всего благоприятный политико-правовой климат и поощряя процессы этнополитической интеграции общества.
Этап массовых движений
Этнополитическая интеграция станет реальностью только в том случае, если будет подхвачена многочисленными институтами гражданского общества.
Важнейшей формой самоорганизации граждан в сфере национально-культурного развития и одновременно разновидностью общественного самоуправления является национально-культурная автономия (НКА) .
НКА может развиваться в двух основных формах: экстерриториальной (национальные ассоциации, союзы, общества) и территориальной (национальные районы, общины, землячества).
Первоначально в национально-культурной автономии видели в первую очередь форму удовлетворения культурных, духовных потребностей дисперсно расселенных этнических общностей. Однако в ряде случаев НКА может выступать как форма политического представительства и правовой защиты этнических меньшинств и коренных малочисленных народов.
В местах компактного расселения этнических общностей, особенно в сельской местности, национально-культурная автономия может совпадать с территорией, находящейся в ведении органов местного самоуправления . Этот уровень управления занимает промежуточное положение между государством и обществом, поскольку ежедневно и ежечасно соприкасается с населением, ощущая влияние общественных нужд и интересов. В силу своей двойственной, общественно-государственной природы местное самоуправление может иметь огромное значение в качестве субъекта организации взаимодействия государственных и общественных институтов в сфере национального развития.
Органы местного самоуправления могут играть особо важную роль в регионах с высокой мозаичностью этнического расселения, например в Дагестане; в республиках, где региональная власть нестабильна; в большинстве автономных округов, не справляющихся с задачей защиты прав и интересов коренных малочисленных народов.
Важную роль в развитии этнополитической интеграции общества призваны сыграть общественные организации и независимая пресса. Средства массовой информации должны также помочь обществу понять истинные причины возникновения межнациональных конфликтов. Однако ни в коем случае пресса не должна брать на себя роль суда, безапелляционно определяющего виновность одной из сторон конфликта. Подобные публикации не раз приводили к обострению межнациональных отношений.
Непременным условием успеха политической интеграции является открытость, ясность и последовательность государственной национальной политики, осторожность и постепенность в ее реализации. Политическая интеграция – это процесс, при котором федеральной власти необходимо постоянно завоевывать и заслуживать доверие региональных и национальных групп населения.
Заключение
С начала XIX века эпохи реформ и контрреформ в России сменяли друг друга с неизбежностью смены времен года и обозначали собой циклы исторического маятника. Всякий раз в периоды контрреформ предыдущая эпоха объявлялась «анархией», выстраивались телеологические проекты «особого пути развития России», западная модель модернизации признавалась несоответствующей народному духу России, а сам Запад – «загнивающим, умирающим». Один телеологический проект сменял другой: «Третий Рим», «Всеславянская империя», «Русское национальное царство», «Социализм в отдельно взятой стране» и т. п. В такие периоды усиливалась роль государственного аппарата, который в интересах выстраивания «самодержавной вертикали власти» в той или иной форме использовал ресурс мобилизации национального духа этнического большинства. В качестве мобилизационного проекта использовалась доктрина «официальной народности» при Николае I, законодательство о «черте оседлости» при Александре III, дополненное при Николае II организацией полицейскими структурами погромных движений, таких как «Союз русского народа» и «Черная сотня». Далее, уже в советское время, появились сталинские мобилизационные проекты «руководящего народа», с одной стороны, и «наказанных народов» – с другой. В эпоху брежневского застоя реализовывались неафишируемые проекты «государственного антисемитизма» и «русификации» меньшинств и прямо не связанный с этнической политикой, но сильно задевший многие этнические общности (особенно малочисленные) проект «ликвидации неперспективных селений».
Подобный же мобилизационный проект – сочетание вертикали власти с вертикалью этнических и конфессиональных общностей – предлагается и в современной России, пока как эскизный, не ставший еще основой государственной национальной политики. Но несмотря на то, что проект этот пока не завершен и осуществляется лишь частично, сам его образ оказывает негативное влияние на этнополитические процессы.
Неизбежным ответом на все подобные проекты становилось накопление обид в исторической памяти «обиженных народов». Этим во все времена пользовались внесистемные силы – от террористов-бомбистов и большевиков в прошлом до фундаменталистов всех мастей в наше время. Системный кризис общества, сопровождавшийся зачастую частичным или полным распадом империи, завершал собой каждый цикл раскачивания исторического маятника. Так было всегда, начиная с тех времен, когда явно обозначилась хроническая болезнь России – прерывистая модернизация и незавершенные, оборванные реформы.
Говорят, что в России модернизация догоняющая и верхушечная. А разве бывает другая модернизация? Всегда кто-то опережал, а кто-то запаздывал.
Большинство инноваций появлялись вначале в каких-то ограниченных частях мира, а затем распространялись через механизм «демонстрационного эффекта». Всегда были государства, достигшие наибольших успехов и подталкивающие остальной мир двигаться за ними, догонять, стремиться к обновлению, к модернизации: Древний Египет, затем Греция и Рим, Англия и Франция, теперь Америка. Однако «демонстрационный эффект» – лишь стимул для преобразований. Его восприятие может быть разным: Петр I воспринимал вызов времени как необходимость приспособить государственную организацию России к нормам современного ему мира, а Николай I видел в таких вызовах угрозу проникновения в Россию «революционной заразы». Защитная форма реакции на вызовы модернизации с тех пор преобладала в правящих кругах России.
То же самое можно сказать и о модернизации «сверху». В какой-то мере и она неизбежна: элитарные слои первыми рождают или осваивают инновации, а затем передают их в низы. Но, видимо, вероятность устойчивой модернизации как раз и зависит от того, в какой мере реформы воспринимаются народом как отвечающие его насущным интересам. Одной из особенностей большинства реформ в России было, на мой взгляд, то, что они почти сразу вызывали неудовлетворенность своей ограниченностью и противоречивостью. Реформы Александра II дали волю, но не дали земли; реформы Столыпина дали землю, но не дали гражданских прав; реформы Ельцина дали свободу, но не создали институциональных и культурно-ценностных условий для ее массового освоения. Нигде в мире не была столь незавидна судьба реформаторов, как в России.
Складывается такое ощущение, что России никогда не хватало терпения и воли, чтобы перевести череду реформ в русло плавной, поэтапной, рутинной и тщательной модернизации. Однако воля производна от целей: значимые цели усиливают решимость их достичь. Скажем, хотели венгры, поляки, чехи, эстонцы и многие другие «вернуться в Европу» – и перетерпели такую шоковую терапию в экономике, о которой в России никто и помыслить не мог.
В гражданском обществе цели вытекают из устоявшихся национальных (общественных) интересов, т. е. осознанных или ставших традицией и воспринимаемых как должное ценностных приоритетов, на основе которых формируются и политические стратегии. Если же гражданская нация не сложилась, как в России, и общество не формирует национальные интересы, то за него это делает государственный аппарат. Вот такие «национальные интересы» могут меняться с частотой смены аппарата. Население, не ставшее обществом-нацией, целиком зависит от корпоративных интересов аппарата или даже от личных пристрастий вождя. В современных российских условиях вероятность смены политических стратегий даже выше, чем в предыдущие времена, поскольку власть не опирается ни на общественные интересы, ни на государственную традицию, ни на династическую, ни на корпоративную. В таких условиях реформы и контрреформы могут чередоваться уже только из желания новой власти отличаться от предшествующей, или по причине большего чувства голода у новичков, или под влиянием новой политической моды, да мало ли чего еще.
Полная зависимость населения от власти определяет и преобладание у современных российских людей (от бомжей до известных экспертов) преимущественно конспирологического взгляда на политические процессы, когда они объясняются исключительно с позиций заговора олигархов или генералов, международного терроризма или Международного валютного фонда. Простейшая гражданская идея «зачем искать врагов, когда враг в нас самих» недолго оставалась популярной. Отношение к политике у современных россиян примерно такое же, как отношение к природе у людей античных времен – все определяется волей или интригами богов. Посмотрите на политологические объяснения любого значимого политического явления – от дела ЮКОСа до чеченской кампании – и вы увидите, что это типично гомеровский эпос: «Чего хочет Зевс? Подчиняются или не подчиняются олимпийцы его воле? Какую интригу затевает семья Геры?»
Нация, которая не самоопределилась в борьбе с империей, имеет худшие возможности для общественного самоопределения в условиях незавоеванного, невыстраданного и непонятого демократического государства. Специфика интересов нации по отношению к абсолютизму проступает намного заметнее, чем в условиях, когда кажется, что власть народная, когда аппарат не прибегает к методам тотального подавления общества, а реализует свои интересы в мягких современных формах «спора хозяйствующих субъектов», «диктатуры закона при проведении выборов», «избирательной борьбы с преступностью».
Трудно самоопределиться даже либеральной элите, которая сформировала свой концептуальный аппарат как оппозицию тоталитарным силам и крайне неуютно себя чувствует в условиях аппаратной демократии. Размыты критерии, с помощью которых формируется оценка тех или иных политических явлений. Вот разве что рынок, который приходилось отстаивать еще в борьбе с коммунистами, – с ним все ясно. Приватизация экономики – дело святое, и аппаратную деприватизацию либералы отвергают. А вот с федерализмом не все понятно, и реформа федеративных отношений, от которой за версту разит аппаратчиной, первоначально дружно поддерживалась либеральными силами, да и сейчас реализуется многими видными их представителями.
Даже само название части российских либералов («правые»), на мой взгляд, свидетельствует о неполной адекватности их политического самоопределения применительно к нынешним условиям. Оно было естественно для посттоталитарного времени, поскольку их «конституирующий иной», наследники советской империи, по традиции называли себя «левыми», что в далеком и забытом прошлом означало «революционеры, борцы с царизмом, антиимперские силы». Но вот ситуация изменилась, «красные», «белые», «коричневые», «левые» и «средние» – все стали государственниками, консерваторами, т. е. «правыми» в международном смысле этого слова (они хотят законсервировать авторитарную традицию, пусть хотя бы в форме аппаратной демократии). Кем же в этом случае должны быть либералы, защитники идей модернизма – революционерами, антигосударственниками, чужими «западниками»? На мой взгляд, сегодня они должны быть (не по названию, конечно, а по сути) гражданскими или либеральными националистами, как бы диковинно это ни звучало для российского слуха.
Еще одним фактором дезориентации современного общества выступает быстрый переход части интеллектуальной элиты, прежде всего либеральной, от догматического марксизма к постмодернизму, вульгаризированному в российских условиях. Постмодернизм вообще, а после перевода «с французского на нижегородский» особенно, лишает его носителей возможности сравнивать и оценивать политические события. В его контексте борьба за диктатуру и против диктатуры, критика ксенофобии и ее проповедь выглядят как равноценные явления. Противостоящая же нигилистическому взгляду на политические процессы концепция неомодернизма практически неизвестна даже читающей публике.
В условиях полной зависимости населения, не ставшего нацией, от политических богов и их интриг оно, как в свое время люди античных времен, переполняется страхами. Если во времена Ельцина эти страхи были в основном отнесены к непонятным новым силам, вроде почти легендарных олигархов, то ныне они преимущественно направлены на кажущихся понятными, но в действительности мифологизированных этнических «чужих». Перевод неудовлетворенности в страхи, этнизация социальной и политической проблематики привели к небывалому росту массовой ксенофобии, прежде всего этнических фобий.
В эпоху нынешней «стабилизации» межнациональные отношения в России преимущественно оцениваются как ухудшившиеся [204] . Такую оценку нельзя отнести к реакции только на некие управленческие решения конкретной администрации. Существует и инерция этнополитических процессов, которая проявляет себя в определенное время. Но можно ли утверждать, что появление предпосылок роста межэтнической напряженности и роста потенциала этнического сепаратизма лишь случайно совпали со сменой российского руководства? Думаю, что нет, поскольку новые власти еще более произвольно и неосмотрительно, чем прежние, вторгаются в сложную сферу межэтнических отношений, раскачивая этнополитический маятник. Можно предположить, что он уже качнулся или в ближайшее время можно ожидать новой волны протестной активизации этнических меньшинств.
История России последних двух веков показывает, что в застойные времена межнациональные противоречия редко выходят наружу в виде открытых конфликтов, в такие эпохи они накапливаются. Впрочем, в отдельных «горячих точках» и в застойные времена могут обозначаться будущие катаклизмы системных кризисов, и, скажем, многочисленные восстания в Польше и горцев на Кавказе в XIX веке служили таким же предвестником будущих системных потрясений, как чеченская война в современной России.
Значит ли это, что нынешнее поколение россиян неизбежно ожидает новый взрыв межэтнических конфликтов? Я пытался показать, что такой неизбежности нет. Избранные политические стратегии действительно определяют сравнительно жесткую взаимосвязь причин и следствий, логику событий, однако выбор самих стратегий зависит от людей. И сегодня в России существует возможность выбора разных сценариев, проектов общественного развития. Один из них, названный модернистским проектом, автор пытался представить читателям.
Кроме того, я хотел продемонстрировать свое решительное неприятие самого принципа исторического фатализма, и не только в его пессимистическом варианте ожидания худшего. Распространенная ныне в либеральных кругах оптимистическая версия фатализма: «несмотря ни на что, мы обречены жить в условиях модернизированного, процветающего общества» – мне кажется немногим лучше фатализма пессимистического. На что надежда? Молодежь сегодня впервые за многие годы наблюдений проявляет больший уровень ксенофобии, чем люди пожилого возраста. Урбанизация тоже не обнадеживает, поскольку уровень ксенофобии в малых и особенно в средних городах выше, чем в сельской местности. Оживающие ныне национальные движения выступают не под демократическими знаменами, как в былые времена, а больше склонны сочетать этнический национализм с религиозным фундаментализмом. Школа, средства массовой информации, массовая культура в меньшей мере, чем раньше, склоны нести в массы либеральные идеи. Церковь, особенно «государствообразующая», также не помощник в деле либерализации общества.
Чрезвычайно непродуктивно применять экстраполяционный подход по принципу «так было в прошлом, следовательно, так будет и в будущем» к этнополитической проблематике. Этнополитическая ситуация очень динамична, она быстро изменяется. Еще десять лет назад лозунг «Россия для русских» был совершенно немыслимым для большинства россиян, а сегодня он поддерживается более чем половиной опрошенных.
Часто слышу и такую фразу: «Русский народ (или татарский, якутский, тувинский и т. п.) по самой своей природе не склонен к национализму». Но эта фраза предполагает, что человек, ее произносящий, придерживается расового подхода к этничности, что он отождествляет этнические свойства с природными, незыблемыми, поэтому прогнозирует поведение или реакции другого человека или группы людей только на основании их национальной принадлежности: «этот народ на одни поступки способен, а на другие не способен». Однако именно с таких предрассудков и начинался фашизм.
Германия и особенно Австрия, где родился и сформировался как личность фюрер немецкого народа, в конце XIX века отличались высоким уровнем межэтнической толерантности. Австровенгерская империя была, безусловно, самой толерантной из континентальных империй Европы, с самым высоким уровнем интеграции представителей различных национальностей даже в состав имперской аристократии, не говоря уж об интеграции в предпринимательскую и интеллектуальную элиты. На немецкой культурной почве родились идеи и интернационализма, и автономий национально-культурных меньшинств, но за короткое время, буквально за исторический миг, немецкое общество и в Германии, и в Австрии в 1930-х годах превратилось в орду, переполненную этнорасовыми фобиями. Для этого потребовались лишь два условия: преобладание в массовом сознании этнорасового подхода к этничности и усилия первоначально сравнительно небольшой группы этнических предпринимателей, сумевшей переплавить недовольство социально-политической ситуацией в воинственный этнический национализм.
Я очень надеюсь, что Россия избежит такой участи, не просто надеюсь, но знаю, что в нашей стране существует множество факторов, препятствующих такому развитию событий. Пока попытки эксплуатации этнических фобий в целях широкой политической мобилизации масс успеха не имели в большинстве регионов России. Но, как уже отмечалось, экстраполяция – плохой инструмент для прогнозирования этнополитических процессов. Пока российское общество не сделало окончательный выбор между движением по пути формирования этнических, точнее, этнополитических, конкурирующих между собой наций и развитием единого гражданского общества, гражданской нации. Поэтому я советую всем желающим жить в российском модернизированном обществе запастись не только и не столько надеждами и терпением, сколько волей к противостоянию неблагоприятным тенденциям. Желательно при этом адекватно представлять, что происходит с нашим обществом и какими могут быть последствия не только очередных выборов в России, но и ее стратегического выбора. Вот я, например, пытался понять, как устроен этнополитический маятник, как сопряжены его колебания с волнами модернизации и традиционализма и каким может быть модернистский проект в условиях нарастания традиционалистских тенденций в сфере национальной политики. Этими размышлениями я и делюсь с вами.
.
Приложение
«Куда же мы от империи?» Материалы дискуссии
Евгений Ясин:
Дорогие друзья! Сегодня мы собрались не только по поводу завершения проекта Фонда «Либеральная миссия» «Национальная политика: либеральный проект» и издания книги Эмиля Паина «Между империей и нацией», но и для того, чтобы обсудить, что такое патриотизм в нашем сегодняшнем понимании. Есть ли у определенных групп людей или общественных организаций право называть себя патриотическими, подразумевая, что те, кто подобным образом себя не называет, не являются патриотами? Или же патриотизм – это интимное чувство, которое проявляется в делах и не терпит рекламы? В связи с этим возникает вопрос угрозы радикального национализма, способов ее оценки и реакции на эту угрозу.
Все эти проблемы имеют довольно глубокие корни, и идея исторической миссии России по спасению человечества в определенных кругах до сих пор не утратила актуальности. Все мы несколько шокированы тем, что националистические и популистские партии получили в Думе гораздо большее представительство, чем мы ожидали. Поэтому я хотел бы задать Вам вопрос: опасен ли умеренный национализм, который не декларирует ксенофобию, но склонен искать виноватых среди инородцев, или нет? Кроме того, в дискуссии хотелось бы затронуть вопросы, поставленные в книге Эмиля Паина: «русский вопрос» и национализм этнических меньшинств, связь национальных проблем с проблемами федерализма.
Эмиль Паин:
«Следует ясно сформулировать либеральную альтернативу имперскому проекту »
Хочу выразить свою благодарность организаторам нашей встречи за то, что поводом для нее выступила моя книжка. Это не исторический труд, в ней оценка «имперского» («вертикального») проекта и «национального» («горизонтального») проводится, прежде всего, на основе сравнения нынешней российской политики «усиления вертикали власти» с теоретически возможной и осуществляемой на практике во многих странах мира стратегией федерализации государства. Несмотря на актуальность тематики книги, я понимаю, что она будет употреблена так же, как используют топор при варке супа, но, тем не менее, мне приятен сам факт ее презентации в таком почтенном сообществе. Я и сам не считаю нужным сосредотачивать ваше внимание на моей книжке, но она может стать поводом для обсуждения одного из основного для современной России вопроса о ценностном и политическом самоопределении либерального движения: С кем вы «мастера культуры» – с теми, кто выступает за империю, т. е. за государство подданных, основанное на подавлении и подчинении, или за государство-нацию, т. е. за государство граждан , объединяемых взаимными интересами и самоорганизацией? И если вам не удается сплотиться «за», то, может быть, вы сплотитесь хотя бы «против»? Я имею в виду сплочение демократических и либеральных сил перед угрозой усиления идеологии имперского шовинизма. На мой взгляд, это более точное название опасности, которую сегодня чаще обозначают как национал-социализм. Даже на своей родине в 1920 году немецкий национал-социализм так назвал себя сам исключительно из соображений борьбы за избирателя в конкуренции со своими основными тогда оппонентами – социалистами и коммунистами. По сути же немецкий фашизм использовал социалистическую риторику только по отношению к расово чуждым группам – «еврейским банкирам-кровососам». Что касается «арийских», «чистокровных» бизнесменов, то их нацисты никогда не упрекали в эксплуатации народа.
Основой политической мобилизации в Германии была не столько социальная демагогия, сколько этнорасовая ксенофобия и болезненная амбициозность, выражаемая в формуле «Миссия германской арийской расы». Замечу, что в современной России почти две трети опрошенных видят «врагов государству» в представителях других народов, живущих на территории страны, при этом лозунг «Россия для русских» поддерживает около 60 % опрошенных.
В книге рассказано об эффекте маятника, т. е. о циклических изменениях политической активности, мобилизованности этнических общностей. Если в начале 1990-х годов основную активность проявляли этнические меньшинства, то сейчас настал период этнического большинства. Если этнонационализм меньшинств был антиимперским, то у русских он проимперский, ностальгический.
Его, скорее всего, опять сменит новый цикл роста активности меньшинств. Как правило, такой цикл заключает период существования имперских вертикальных проектов, но пока что до этого далеко. Мы не дошли до вершин роста русского этнического национализма. В политику приходят новые поколения, которые оказываются более ксенофобными, чем пожилые люди. Это, кстати, неординарное явление, потому что до того молодежь отличалась меньшей ксенофобией. Но самое главное не в этом.
Маховик русского этнонационализма раскручивается, потому что в этом заинтересовано огромное количество сил. Этого хотят так называемые «левые», не случайно именно они возглавляют национал-патриотическое движение, а сейчас породили новые, откровенно националистические силы. Этого желает и Кремль со всей своей «вертикалью власти». В последнее время от того же огонька хотят прикурить и некоторые правые с их лозунгом то ли «имперского либерализма», то ли «либерального империализма».
На мой взгляд, «либерально-имперский» проект является не более чем имитацией активности, пропагандистским ответом на временный спрос людей на идеологему «сильной руки». Спрос именно временный, поскольку все рассуждения о «ментальной предрасположенности русского народа к имперской державности» ни чем не подтверждается. От былого подданнического сознания остались лишь желания какой-то части людей, чтобы государство о них заботилось, но все меньше людей верит в такую возможность, и уж совсем редко проявляется желание прислуживать властям, быть «слугой царя». В России действует сложившийся еще в советское время принцип: «Если вы думаете, что вы нам платите, то считайте, что мы вам служим». Растет желание людей быть независимыми от правителей. И даже рост ксенофобии не может стать средством долговременной политической мобилизации в целях поддержки имперского проекта.
Последнее утверждение доказывается на примере второй чеченской кампании. Несмотря на сильный рост античеченских настроений, доля людей, поддерживающих идею усмирения Чечни любыми средствами, перманентно падает, начиная с 2001 года. Растет число людей, которые считают, что с чеченцами нужно договориться или же от них нужно отделиться, отгородиться.
Империи, хоть простые, хоть «либеральные», плохи тем, что, представляя собой слишком жесткие конструкции, непременно рассыпаются. Сегодня признаков распада России как будто бы не видно (да она и не империя пока), между тем латентные процессы этнополитической мобилизации разных групп этнических меньшинств нарастают в ответ на рост имперской насильственности властей.
Третий цикл раскачивания этнополитического маятника – «ответ меньшинств», о котором я говорил, – неизбежен. Вопрос лишь в том, будет ли он разрушительным, а это во многом зависит от национальной политики. В книге анализируются как потенциал роста этнического сепаратизма, так и новые угрозы, например политическая мобилизация слабо интегрированных слоев этнических мигрантов. Этот численно растущий слой населения все больше чувствует себя отверженным, и эти чувства все чаще эксплуатируются фундаменталистскими движениями. Если первый цикл подъема активности этнических меньшинств проходил под демократическими знаменами, то будущий третий цикл, скорее всего, пройдет под знаменами фундаментализма, и было бы самоубийственным для властей и ответственных политических сил разжигать этот костер еще сильнее.
Заканчивая свое выступление, хочу сказать, что игра в перехват лозунгов мне кажется контрпродуктивной. Куда полезнее было бы ясно сформулировать либеральную альтернативу имперскому проекту. Такая альтернатива объективно в интересах большинства населения. Попытка же каких-либо сил, не важно, как они себя именуют, привлечь на свою сторону электорат, потакая его страхам и болезненным амбициям, столь же аморальна, как и вербовка населения с помощью спаивания. К тому же это весьма опасная политика.Аркадий Попов (ведущий сотрудник Аналитической группы «Меркатор»):
«Мы должны двигаться не от империи – к нации, а от империи – к империи, от тоталитарной и беззаконной – к империи либеральной, правовой»
Книга Эмиля Паина называется «Между империей и нацией». Это название, как и предложенные для обсуждения вопросы, призвано создать определенное направление дискуссии, а именно: способна ли Россия уйти от своего имперского прошлого и, как некоторые считают, имперского настоящего и может ли она стать государством-нацией? Мне такая постановка проблемы кажется не вполне корректной. Я не вижу оснований империю противопоставлять нации в неэтническом понимании, на котором настаивает докладчик, нации как осознанному территориально-политическому единству граждан. Хотя бы потому, что империя также вполне способна дать такое единство.
Более того, именно империя как специфический способ устройства государства во многих смыслах лучше других вариантов государственного устройства к этому приспособлена. Империи бывали разные: плохие и хорошие, тоталитарные и либеральные. Но даже самые плохие из них несли в себе нечто исторически ценное – все они, так или иначе, работали на деэтнизацию человечества. Имперская интенция может быть кратко обозначена этим словом – «деэтнизация». Деэтнизация власти, морали, самосознания, национальной идентичности. Не уничтожение национальной идентичности вообще, а именно деэтнизация с выходом на более высокий уровень общечеловеческих ценностей.
Напомню, что среди жестких обвинений в адрес советской империи, наряду с обвинением в угнетении нерусских народов, было обвинение и в том, что она подавляла и собственно русское, разлагала русскую нацию, разрушала русское самосознание в этническом смысле. Такие мотивы, например, можно обнаружить у Солженицына. Он писал, что в лагере находил по этому поводу полное взаимопонимание с сидевшими там за национализм украинцами, армянами и т. д. Думаю, в том числе и поэтому Солженицын и является таким убежденным противником того, чтобы Россия оставалась империей, начинала заниматься делами земного шара. Как к этому относиться – вопрос другой. Я не готов спорить с тем, что русским или чеченцем быть хорошо, а россиянином плохо, шотландцем или сербом хорошо, а британцем или югославом – нелепое извращение, просто потому, что мои доводы воспринимались бы многими оппонентами как святотатство.
Этническая идентичность – такой же костыль для духа, как, например, для многих религия. Это средство психологической защиты, инструмент утешения. Здесь я позволю себе кратко изложить основные аргументы в пользу альтернативной постановки вопроса дискуссии: не от империи – к нации, а от империи – к империи, от тоталитарной и беззаконной империи – к империи либеральной, правовой.
Сначала об этимологии слова «империя». Здесь надо заметить, что для понимания смысла явлений этимология не всегда эффективна, но раз автор обсуждаемой книги уделил этому столько внимания, надо на это откликнуться. Слово «империя» происходит от латинского слова «imperium», что, как сообщают историки, в Древнем Риме означало не только императорскую власть, но и власть магистрата, республики, даже – власть вообще. В данном случае я цитирую статью Егорова «Проблемы титулатуры римских императоров» в «Вестнике древней истории», но об этом можно прочесть почти в любом хорошем словаре. Слово «император» тоже досталось нам в наследство от республики. Сперва это был лишь термин, обозначавший лицо, которому вверено военное командование, а также титул, который сами солдаты давали победоносному полководцу. Таким образом, в основе империи лежит политическая, в том числе – военная власть. А что лежит в основе всякого государства?
Кстати, если увлекаться этимологией, можно поинтересоваться, откуда происходит слово «государство». Первым самодержцем на Руси, который стал именоваться государем, был Иван III, оттуда и пошло русское государство, до этого было Великое княжество. Надо ли из-за этого отказываться от слова «государство» или от самой идеи государства? У слов своя судьба, у исторических явлений – своя.
Какие признаки следует включать в понятие «империя», а какие – нет? Таких признаков не должно быть много. Первое: империя – это государство. Второе: империя – это полиэтничное государство, причем с каждым этносом может связываться определенная история, ареал его исторического расселения и обитания, страна – не в политическом, а в культурно-географическом смысле. И третье: одна из этих стран (реже две, как в Австро-Венгрии) при образовании государства, т. е. исторически, является доминирующей; она именуется метрополией, все прочие именуются колониями. В чем конкретно выражается это доминирование, сохраняется ли оно после образования империи, как долго и в каких формах – это уже частности.
т. е. под империей имеет смысл понимать всего лишь государство, состоящее из метрополии и колоний. При этом самодержавие, милитаризм империи, национальное угнетение, эксплуатация одного этноса другим не являются атрибутивными признаками для империи. Что касается самодержавия, автократии, то, во-первых, очень многие империи не были монархиями или автократическими тираниями, а являлись или являются республиками. Иногда олигархическими, иногда – демократическими.
Термин «Голландская империя» полностью соответствует исторической реальности на тот период, когда Голландия, будучи республикой, формировалась и утверждалась как империя после освобождения от испанского владычества и до наполеоновских войн. Французская империя (вторая по величине после Британской) только начала свои колониальные захваты во времена монархии: Корсика была колонизована в XVIII веке, Алжир – в середине XIX века, но уже Тунис стал французской колонией в 1891 году, Марокко еще позже. Западная Африка, Экваториальная Африка, Мадагаскар – все эти территории, которые сейчас охватывают пятнадцать государств, стали французскими после 1870 года, когда во Франции уже прочно утвердилась республика. Французские завоевания в Китае начались в 1860-х годах, а завершились в 1870-1890-х. Сирия, Ливан стали французскими протекторатами после Первой мировой войны, когда Франция и Великобритания делили турецкое наследство. Аналогичная ситуация была в Древнем Риме с Пуническими войнами, завоеванием Испании, Сирии, Египта, войной с Митридатом.Более того, некоторые из монархий, являвшихся и являющихся империями, никак нельзя отнести к самодержавным монархиям. Классический пример – Британская империя. Уже после королевы Виктории ни о каких британских самодержцах говорить не приходится. Не похожа была на самодержавную монархию и Австро-Венгрия после 1866 года. Многие считают, что Российская империя после 1895 года не была вполне самодержавным государством, хотя это спорный вопрос. Сколь ни отвратителен был СССР, назвать послесталинский, послехрущевский режим самодержавным никак нельзя. Страной правил ЦК, в самом худшем случае Политбюро, но совершенно точно – не Брежнев. Разумеется, это была совсем не демократическая республика, а скорее – олигархическая.
Китай после Мао Цзе Дуна тоже нельзя назвать самодержавным государством. Наконец, многие республики, по исторической традиции империями не называвшиеся, на деле были типичными империями. К ним можно отнести Генуэзскую и Венецианскую республики, чьи владения распространялись далеко за пределы метрополии. Таковыми являлись и являются США – это государство формировалось так же, как и все другие империи, причем его территория расширялась уже после освобождения от британского господства за счет Мексики, в результате войны с Испанией за Филиппины и т. д. В Бразилии и Мексике тоже одно время были императоры. Центрально-африканский диктатор Бокасса провозглашал себя императором. Тем не менее, эти страны не были империями. Я понимаю, зачем автору книги понадобилось развивать идею атрибутивной самодержавности империи – для того чтобы проще было ее ругать.
Теперь о милитаризме. Многие убеждены, что все империи создавались огнем и мечом. В древности так, по-видимому, и было. В минувшем тысячелетии – как правило, но не всегда. Были и есть империи, созданные с минимумом насилия, а то и вовсе ненасильственные. Чем ближе к нашему времени, тем больше уверенности, что таким ненасильственным путем могут создаваться новые империи, а уже существующие будут и дальше эволюционировать по пути либерализации и минимизации насилия, как это, с некоторыми прискорбными флуктуациями, и происходит последнее столетие. Пример из наших дней – объединение Европы. Здесь, правда, возникает возражение, что Европейский союз – не империя именно потому, что он возник не насильственно, а на паритетных началах. Тогда я приведу другой пример – Германская империя Бисмарка, состоявшая из объединенных под крылом Пруссии германских королевств, вольных городов и прочих территорий. Бисмарк вел войны, но не против населения, а против конкурентов. Австро-прусскую, датско-прусскую войны население как раз поддерживало. Кстати, большую роль там играли либеральные партии. А колониальные захваты начались только через пятнадцать лет после этого.
Наконец, национальное угнетение. Говорят, что раз колонии в империи удерживаются без права выхода из нее в одностороннем порядке, значит, в сущность империи имманентно включено насилие. Это верно. Но всякая власть есть определенное насилие над теми, кто не готов исполнять ее законы. Более того, всякое право есть насилие, ибо оно обязывает кого-то к чему-то, как минимум – к соблюдению прав другого. И никого не удивляет, что никакое государство не поощряет сепаратизм вообще, ни этнический, ни клановый, ни земляческий, как, например, если Приморский край захочет выйти из состава Российской Федерации. Однако особенно болезненно воспринимается реакция на этнический сепаратизм, потому что она попирает право наций на самоопределение. У населения Приморья такого права нет, а у населения Чечни или Тувы – есть, потому что это уже не просто население, а «народ-нация».
Что представляет собой это право с точки зрения либерализма? Кто его субъект? Если речь идет о нации, народе, этносе, общине, то при чем тут либерализм? Ценности либерализма касаются свобод и прав личности, а не масс, какими бы словами эти массы ни называть. Поэтому давайте попытаемся сформулировать данное право применительно к человеку, индивиду. Как это будет звучать? Вот как: каждый человек, относящий себя к этническому меньшинству, имеет право провозгласить государственный суверенитет территории, на которой он проживает в границах, какие сочтет правильными. И никак иначе. Дальше полный теоретический и, увы, практический беспредел.
Что такое этнос, а значит – этнические меньшинства? Не знаем. То ли чеченцы-акинцы этнос, то ли часть чеченского этноса, то ли часть еще более объемного вайнахского этноса, то ли общедагестанского этноса, то ли общероссийского этноса. Как провести границы той территории, на которой можно провозгласить государство? Уже в соседнем доме, в соседней деревне, в соседнем районе наверняка окажется человек, даже много людей, которые вовсе не жаждут воспользоваться этим правом, потому что этносы перемешаны часто так, что разграничить их можно только кровью, потому что не все представители меньшинств настроены сепаратистски. Что получается? Кому-то дают новую государственность, у кого-то насильственно отбирают старую. Это либерализм?
В мире существует от шести до десяти тысяч этносов и только две с небольшим сотни государств. Их число сильно не увеличится. Подавляющее большинство этнических общин живут мозаично, их не отделить друг от друга. И совершенно точно подавляющее большинство представителей меньшинств этим правом физически не смогут воспользоваться. Сколько преимуществ получат от сепаратизма одни, столько горечи и унижения получат другие. Отсюда следует, что право наций на самоопределение, в попрании которого упрекают, как правило, прежде всего империи, – это не право, а привилегия. Не может считаться правом заведомо неуниверсализуемая свобода.
Позволю себе процитировать категорический императив Канта: «Поступай так, чтобы правило твоего поведения могло стать всеобщим законом». Все, что под этот императив не подходит, строго говоря, аморально, преступно, ибо плодит ненависть, зависть и кровь. Империя отрицает и блокирует эту привилегию. В случае, если этот блок пытаются пробить, империя карает. И карает так, как государство, если это правовое государство, карает преступников. Наказывать надо, по возможности, гуманно, а еще лучше – не доводить дело до насилия и предотвращать сепаратизм на ранних стадиях, но это уже вопрос, с одной стороны, искусства политиков, а с другой – здравомыслия и ответственности интеллектуалов, и прежде всего – либералов.
Виктор Кувалдин (руководитель Центра политологических программ Горбачев-фонда):
«Разговор о движении от империи к нации не только пустой, но и контрпродуктивный»
Моя точка зрения гораздо ближе к точке зрения господина Попова, чем к точке зрения Эмиля Паина. Я считаю разговор о движении от империи к нации не только пустым, но и контрпродуктивным. Прежде всего потому, что это ни в коей мере не академический поиск. Это две идеологемы, которые родились в условиях очень острой политической борьбы в бывшем Советском Союзе в конце 1980-х годов. Безусловно, Ельцин не мог сказать, что он блокируется с прибалтийскими и грузинскими националистами потому, что так ему было быстрее и легче пройти в Кремль. Соответственно, была найдена формулировка, что движение будет идти от империи к демократической России.
Здесь очень много говорилось о том, насколько обманчив сам по себе термин «империя». Я думаю, что к бывшему Советскому Союзу это относится втройне. Действительно, СССР был особой империей, у которой не было никаких заморских территорий, которая была по своему типу гораздо ближе к таким континентальным империям, как Оттоманская империя или Австро-Венгрия. Принципиально важно то, что Советский Союз был таким государственным образованием, которое, так или иначе, смогло пройти процесс модернизации в ХХ веке и обеспечило формирование тех наций, на базе которых и были образованы самостоятельные постсоветские государства. Поэтому сам по себе такой конструкт ничего не дает в теоретическом плане. Понятно, что это идеологическое прикрытие, которое поначалу обосновывалось потребностями политической борьбы. В 1990-е годы оно обосновывалось тем, что нужно было как-то уйти от упреков за издержки перехода к рынку. В качестве пугала было избрано советское прошлое, хотя в нем и горбачевский период, где тоже было движение и к рынку, и к политической демократии. Причем, если взять целый ряд показателей, например свободные выборы, то сейчас очевидно, что наиболее свободными они у нас были в 1989–1991 годах.
Столь же малопродуктивной мне представляется идея национального государства. У нас огромные трудности с переводом мировых понятий на русский язык. Это особая проблема и одна из причин наших бед. Все-таки в английском языке nation state – это не национальное государство, а нечто другое, это нация-государство. Здесь справедливо говорилось о том, что, строго говоря, не существует никаких национальных государств и, скорее всего, не будет. И здесь дело не столько в том, что создается Европейский союз, а, скорее, в том, что даже элементы, которые образуют ЕС, все меньше и меньше подходят под разряд национальных государств. Там появляются огромные этнические и религиозные меньшинства. Это очень большая проблема для ЕС. Они не могут оставаться демократическими государствами, оставаясь на позиции государства национального.
Эмиль Паин не зря упомянул принятый во Франции закон, запрещающий ученикам носить в школе символы принадлежности к той или иной религии. Но все сказанное им в отношении Франции в некоторой степени касается и других европейских стран, где образуются такие огромные этнические анклавы. Я думаю, это очень большая проблема и для Соединенных Штатов. У меня серьезные сомнения, что знаменитый американский плавильный котел способен переплавить испаноязычных американцев, потому что их слишком много, они слишком компактны, за ними стоит большой и мощный культурный пласт. Более того, за ними стоит Латинская Америка, которая по своему весу и основным компонентам ничуть не меньше, чем англоязычная основа страны. Мне представляется, что этот разговор, даже если убрать политический подтекст, малосодержателен и малоперспективен.
Поэтому лучше всего уйти от этой формулы, модели перехода. Нужно прийти к попытке построить демократическое государство, рыночную экономику и открытое общество, исходя из того, что у нас имеется. Я думаю, что в этом смысле наши стартовые позиции ничуть не хуже, чем у других стран. Надо присмотреться к тем странам, которые стартовали в еще более трудных начальных условиях и, тем не менее, решали эти сложнейшие задачи модернизации, исходя из того, что имели. Я думаю, что здесь самый интересный пример – Индия, с ее этническим и религиозным составом, традициями. Если мы присмотримся к этому без идеологических предубеждений и подумаем, как нам, исходя из существующих обстоятельств, построить демократическое общество и правовое государство в России, то, мне кажется, это будет более верный путь.Анатолий Адамишин (вице-президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества):
«Сторонники особого пути России сознательно смешивают понятия „цивилизационный выбор“ и „национальная самобытность“»
Национальный вопрос является частью более широкого вопроса: какое общество мы строим и как позиционируем себя на международной арене? Не так давно мне казалось, что Россия уже сделала свой цивилизационный выбор. Но сейчас опять начинаются разговоры об ее самобытности, о третьем пути. Меня это сильно беспокоит, потому что, на мой взгляд, от этих разговоров – всего шаг до самоизоляции. Япония, Китай, Индия – это не полуазиатские, а азиатские страны, но, тем не менее, они заимствуют у западной цивилизации не что-то маргинальное, а нечто существенное, что определяет эту западную цивилизацию, и успешно адаптируют заимствования к своим условиям. Не здесь ли секрет успеха этих стран? И не в этом ли неудача тех стран, которые не желают замечать, что западная цивилизация, при всех ее недостатках, многовековым опытом показала наилучшие результаты не только с точки зрения благосостояния государств, но и с точки зрения создания оптимальных условий для развития личности?
Мне кажется, что сторонники особого пути России сознательно смешивают понятия «цивилизационный выбор» и «национальная самобытность». Выбор кардинального пути движения не есть перечеркивание национальных особенностей. Китайцы используют очень многое из западного опыта, но остаются до мозга костей китайцами. Точно так же, как есть европейская цивилизация и есть одновременно ее итальянская, французская, немецкая и прочие и прочие составляющие. Я хочу процитировать Достоевского, который одним из первых осознал это различие между общим и частным: «К немцу надо особенно привыкать. С непривычки его весьма трудно выносить в больших массах». Или: «Рассудка француз не имеет. А и иметь его почел бы за величайшее для себя несчастье». Достоевский смело отмечал эти национальные своеобразия отдельных составляющих Европы и, вместе с тем, очень высоко ставил Европу в целом: «Все, что есть в нас от развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, все оттуда, все от Европы».
Как решаются сейчас в Европе национальные проблемы? Примерно так же, как мы пытались решить их в Советском Союзе, создавая новую форму общности – советский народ. Мы не смогли решить эту задачу, более того, уничтожаем то, что еще осталось положительного. Но мы не преуспели именно потому, что у нас не было тех компонентов, которые составляют основу для решения национального вопроса, а именно: рыночной экономики, демократии, гражданского общества. Франция и Германия десятки лет воевали между собой. Почему же сейчас они не имеют друг к другу территориальных претензий? Потому, что французу и немцу не столь важно, какой национальный флаг развивается в Эльзасе до тех пор, пока условия их жизни экономически, политически и граждански более или менее одинаковы, а границы открыты. Это и есть наш путь. Он долог и тяжек.
Еще раз процитирую Достоевского: «А трудов мы не любим, по одному шагу шагать нет привычки. Лучше одним шагом перелететь до цели». Секрет же заключается в кропотливом повседневном труде, направленном, прежде всего, на развитие рыночной экономики и построение подлинного демократического общества, где укрепление единства сочеталось бы с защитой многообразия. В этом случае национальные проблемы поблекнут на фоне равных возможностей для всех. Готового образца сообщества такого типа не существует. Но, при всей специфике, движение выбрано правильно. А рецепты типа «Россия для русских», «Россия как русское православное государство», «либеральная империя» и прочее – это возврат к прошлому. Мы потеряли Советский Союз. Хотим ли мы потерять и Россию?Владимир Илюшенко (председатель дискуссионного политического клуба интеллигенции «Московская трибуна»):
«Имперский или неоимперский национализм прежде всего является идеологией российской бюрократии»
В современном общественном сознании патриотизм намертво сцепляется с национализмом. Они никак не разделены, их путают, подменяют одно понятие другим. Националисты называют себя патриотами, и с этим все, в том числе СМИ, соглашаются. Националистам это, естественно, удобно. На самом деле это прикрытие, потому что их патриотизм является не проявлением любви к Родине, а проявлением ненависти к другим. Это наука ненависти, если вспомнить известную публицистическую статью Шолохова, популярную во время войны. Это наука ненависти к вестернизации, к Америке, к пятой колонне, будто бы процветающей и правящей у нас. Причем к этой пятой колонне по желанию можно отнести кого угодно – демократов, либералов, инородцев, инакомыслящих, инаковерующих, т. е., по выражению Рогозина, «общечеловеков». Враги – это нерусские. Хотя и русские в любой момент могут попасть в категорию врагов, если они не согласны с националистами.
Патриотизм – это нормальное человеческое чувство, которое абсолютно не нуждается в оправдании. Другое дело, когда патриотизм идеологизируется и становится оружием в руках националистов из интеллигенции, которую называют почвенной или традиционалистской. Существует отчетливый критерий, который позволяет отличить патриотизм от национализма. Патриотизм – это любовь к своему народу, к своей Родине, национализм – это ненависть к другому народу или народам. Язык патриотизма – язык любви. Язык национализма – язык вражды. Я уже говорил тут о части интеллигенции, которая берет на вооружение все эти вещи, но нужно сказать, что этот имперский или неоимперский национализм, прежде всего, является идеологией российской бюрократии.
Есть ли право у человека называть себя патриотом? Конечно, есть. Но, как правило, люди, говорящие, что они патриоты, таковыми не являются. Есть ли угроза радикального национализма? Разумеется, есть. Во-первых, он существует как феномен, во-вторых, его яркие представители прошли в Думу в большом количестве. Если же говорить о либеральной империи, мне представляется, что это очередная утопия, за которой стоит попытка соединить либерализм с патриотическим державничеством. Раньше мечтали о социализме с человеческим лицом, сейчас – об империализме с человеческим лицом. Я думаю, что ничего из этого не выйдет. Мне вообще кажется, что заигрывание с массовыми фобиями (а это именно тот случай) достаточно опасно.Сергей Дубинин (заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России»):
«Нельзя уступать националистам право называть себя патриотами»
Существует ясный критерий оценки как реальной политики, так и теоретических политологических построений – приоритет экономических и политических прав личности, человека, гражданские права населения. Если политическая практика или теоретические рассуждения строятся на иерархическом подчинении каким-то высшим интересам, то такие построения чреваты подменой понятий, что часто происходило в нашей отечественной истории, за интересы нации и государства выдаются сугубо личные интересы стоящей у власти правящей касты. Не элиты страны в широком смысле слова, а именно узкой группы правителей.
Это не означает, что понятия «национальные интересы» не существует и что к ним можно относиться как к чему-то второстепенному. Пренебрежение к данной теме, собственно говоря, и привело к захвату националистами таких понятий как «патриотизм», «государственные интересы России».
Нельзя уступать националистам право называть себя патриотами. Это мы, люди с либеральными убеждениями, являемся патриотами России. И это надо заявлять открыть и четко. Либеральная экономика и либеральная политика – единственный путь обеспечить долговременные стратегические интересы России. С этих позиций я могу позитивно оценить лозунг «либеральной империи».
Как всегда штудии на историческую тему обслуживают интересы сиюминутной политики. Те, кто превозносят имперскую историю России, и те, кто ее проклинают, чаще всего мало интересуются историей как таковой. Важны выводы, применимые к сегодняшней злободневности.
Существует старинная схема развития, согласно которой от государств-империй, где все подданные расставлены по местам на иерархической лестнице, в течение XIX и в начале ХХ века вся Европа переходила к национальным государствам, основанным на принципах гражданского общества. И это считается явным историческим прогрессом. Использование термина «империя» в период Третьего рейха, претензии фашистской диктатуры на возрождение Римской империи, Советский Союз при Сталине, имевший все черты тоталитарной империи, оцениваются как простой возврат к прежнему.
Это совершенно не соответствует реальности. К сожалению, национальные государства, наследники подданнической системы старых империй, оказались в ХХ веке неустойчивыми. И именно в них (Италия, Германия) после достаточно длительного периода развития демократии или же после краткого демократического эксперимента (Россия, Китай), рождаются тоталитарные диктатуры.
Если они не сразу строятся на националистической основе, то вскоре этот элемент становится весьма заметным в политике тоталитарных империй ХХ века.
К сожалению, «право наций на самоопределение» без каких-либо ограничений способно перерождаться в жесткое националистическое угнетение всех инородцев. И это не связано с историческими древними империями, это порождение национальных государств, которые не смогли последовательно осуществить принципы гражданского общества.
Именно это и является сегодня реальной опасностью для России. Парадоксальным образом некоторые черты старинных империй XIX века могут дать примеры политических механизмов, обеспечивающих сотрудничество элит разного национального происхождения в едином государстве. И в Российской империи и в Австро-Венгерской империи господствующее в их иерархии национальное большинство проявляло гибкость и терпимость, включая инонациональную элиту в правящий класс.Марк Урнов (президент Фонда «Экспертиза», председатель правления Центра политических технологий):
«Либералы должны научиться работать в меньшинстве, без иллюзий, что, стань мы вдруг патриотами и империалистами, сразу же получим поддержку народа»
Обращаю ваше внимание на такую закономерность. Когда в обществе постепенно уменьшается политическая свобода, интеллектуалы начинают обсуждать философские проблемы. Но пока мы обсуждаем нюансы таких глубоких терминов, как «цивилизационный сдвиг» или «империя», они уже используются для абсолютно банальных вещей. Называть себя патриотом безвкусно, стилистически отвратительно. Используется это для того, чтобы поиграть на темных чувствах населения и получить его поддержку. Но значение этих слов – «патриотизм», «государственничество» – очевидно. Менее очевиден термин «империя».
Однако давайте отвлечемся от философии и посмотрим на проблему проще. Какие эмоции будит слово «империя» в массовом сознании? Противопоставление «мы – они», причем пафосное и агрессивное. Типичный встроенный компенсаторный механизм комплекса неполноценности человека, который не удовлетворен своим положением. Сталин эксплуатировал это блестяще – самый последний советский гражданин лучше любого западного. Понятно, что в силу сложившихся семантических полей и прочих культурных особенностей, если вы начинаете играть со словом «империя», неизбежно поднимается пласт нацификации этого понятия, национальной исключительности и т. д. Зачем представители правящей элиты занимаются этим, абсолютно понятно. Это дает возможность говорить о власти как о чем-то святом, дает возможность сплотить нацию вокруг вождей и создает возможность для их довольно комфортного существования. Потому что святому, окруженному врагами, прощаются любые ошибки.
А еще при национализации понятия «империя» можно перераспределять собственность, брать у одних, «неполноценных», и отдавать другим, т. е. – своим. Не надо рассчитывать, что либерал, заигрывающий таким образом с массой, ей понравится. Имеет смысл осознать, что мы на очень долгое время остаемся в меньшинстве, и честно защищать свои позиции и свои ценности, не упаковывая их в разного рода одеяния, которые к ним не подходят. Не надо становиться актером, который играет несвойственную ему роль. Максимум, что мы можем сейчас сделать, это быть честными сами с собой и с тем населением, которое есть, последовательно формируя представления о том, что такое ценность личной свободы, что такое уважение к личности. Такая стратегия должна дать положительные результаты. Пусть не теперь – через поколение. Сейчас либералы должны научиться работать в меньшинстве, без иллюзий, что, стань мы вдруг патриотами и империалистами, сразу получим поддержку народа.Андрей Пионтковский (директор Центра стратегических исследований РАН):
«Появление термина „либеральная империя “ – неудачный электоральный ход»
Марк Урнов отметил одну особенность наших собраний: по мере усекновения в стране свободы все больше философствуют. Я заметил другое. Все больше подтверждается мысль Достоевского о всемирной отзывчивости русского человека. Мы все беспокоимся о том, что плавильный котел США неправильно плавит, падает доллар, в Ираке американцы увязли, и вообще их корова, наверное, скоро сдохнет. Видимо, это тоже относится к тем компенсаторным механизмам, о которых говорил Марк Урнов.
Что касается темы нашего сегодняшнего обсуждения, то термин «империя» явно использовался сегодня в двух смыслах.
Во-первых – это способ правления внутри Российской Федерации. Во-вторых – это некая проекция во вне, идея, охватившая весь российский политический класс, от Рогозина до Чубайса, идея доминирования на постсоветском пространстве, восстановления в той или иной форме российско-советской империи. Я буду говорить в основном о втором прочтении этого термина, потому что, на мой взгляд, это актуальнейшая внешнеполитическая проблема.
Прошедшее десятилетие Россия была занята борьбой против расширения НАТО и утверждением российских интересов на Балканах. Правда, за эти десять лет никто ни разу не удосужился сформулировать, в чем состоят эти интересы. Теперь с окончанием этой фазы деятельности почти все оперативное пространство нашей внешней политики ограничивается постсоветским, и здесь мы будем проявлять наибольшую активность. Боюсь, что при сохранении своих сегодняшних установок наша внешняя политика обречена на еще одно, гораздо более серьезное поражение. Если в борьбе против расширения НАТО речь шла о совершенно фантомных вопросах, типа, вступит ли Словения или Эстония в НАТО, то сейчас речь идет об отношении к нам наших ближайших соседей.
Как было правильно сказано, происходящее на наших глазах является третьей инкарнацией русской власти. И эта русская власть требует некоей экспансии во вне. Естественно, ощущается болезненный комплекс потери империи. Мне кажется, поможет историческое сравнение. Россия не первый раз теряет империю. Она теряла ее в 1917 году. В 1920 году, вышедшая из гражданской войны, совершенно обессиленная Россия в течение нескольких месяцев без видимых усилий с блеском восстановила свою империю и на Кавказе, и в Средней Азии, хотя там ей противостояла Великобритания с традиционными интересами в этих регионах. Почему это произошло и почему этого не произойдет никоим образом сегодня? Потому что тогда голодная 11-я армия несла на своих штыках коммунистическую идею социальной справедливости и освобождения трудящихся. Идея была ложной, реализация ее оказалась преступной, но в то время ей поверили и поддержали десятки миллионов людей на том же Кавказе и в Центральной Азии. Пусть это даже было не большинство, достаточно было поддержки активного меньшинства.
Прав был Андрей Амальрик, предсказавший распад Советского Союза и еще в 1960 году написавший, что как принятие христианства на триста лет продлило жизнь Римской империи, так принятие коммунизма на десятилетия продлило жизнь Российской империи. Потому что коммунизм был имперообразующей религией, и когда эта религия умерла, Советский Союз пал. Сегодня мы не можем предложить нашим соседям никакой идеи, кроме разговоров о нашем величии, о нашей исторической миссии, о предназначении нести цивилизацию в евразийские пространства и т. д. Обо всем этом мы прекрасно можем разговаривать на семинарах, но убедить в этом украинцев, грузин, молдаван, кого угодно – совершенно невозможно, поскольку им это не нужно.
Большой ошибкой нашей внешней политики, могущей привести нас к серьезному поражению, является выбор, который мы в той или иной форме навязываем странам бывшего советского пространства: или Россия, или Запад. Это требование мы фактически предъявляем Грузии и Украине. Наши соседи будут вежливо нас выслушивать, но, в конце концов, выберут Запад. Мы называем одного за другим лидеров, появляющихся на постсоветском пространстве, проамериканскими или еще более проамериканскими, как мы сейчас называем Саакашвили, и ждем каких-то пророссийских лидеров, которым, по сути дела, неоткуда взяться. Кто был более пророссийским лидером, чем президент Молдавии Воронин, этнический русский, коммунист? Сейчас он тоже окажется проамериканским. Может быть, если все лидеры оказываются проамериканскими и мы теряем свои позиции на постсоветском пространстве, проблема в нас, а лидеры просто прогрузинские, проукраинские и промолдавские?
Выбор «Россия или Запад» является совершенно шизофреническим. Я вспоминаю последнюю сцену недавней встречи Путина с Пауэллом. Несмотря на все нарастающие разногласия, все говорили о том, что у нас глубочайшее стратегическое партнерство, что мы друзья. Теперь представьте, что те же формулировки используют грузинский, украинский, любой другой лидер на встрече с американскими руководителями. Наша пресса сразу бы подняла истерику: началось бегство соседей на Запад. Такой подход приведет нас только к изоляции на постсоветском пространстве, к нарастающей враждебности к России. В какой бы форме это не предлагалось. Бесконечные доклады господ Затулина и Миграняна, которые предлагают дестабилизироваить ситуацию на Кавказе и в Средней Азии с использованием русского и русскоязычного населения для усиления там российских позиций или идеи так называемой либеральной империи – все это отнюдь не способствует укреплению позиций России.
Я думаю, что термин «либеральная империя» нам стоит забыть, слишком много мы о нем говорим. Появление этого термина, на мой взгляд, было неудачным электоральным ходом. «Союз правых сил», раз в четыре года испытывая некую державно-патриотическую недостаточность, должен каждый раз прозвучать какими-нибудь державно-патриотическими лозунгами. Четыре года назад лозунг был другим: русская армия возрождается в Чечне, и каждый, кто думает иначе, – предатель. Сейчас, когда каждому ясно, что российская армия четыре года в Чечне разлагалась, я думаю, господин Чубайс постесняется повторить эту свою формулу вслух. Я также думаю, что он забудет о своей либеральной империи.Вячеслав Никонов (президент фонда «Политика»):
«Для России справедлива идея неизбежности трансформации имперского государства в государство-нацию»
В последние годы межнациональные отношения развиваются противоречиво. С одной стороны, межнациональные противоречия в нашей стране находятся на наименьшем уровне за все время существования России как самостоятельного государства. С другой стороны, и здесь абсолютно правильно об этом говорили, налицо рост этнического национализма, русского в первую очередь, что отражает очень опасную тенденцию, которой, безусловно, надо противостоять. Единственное, что в этой ситуации утешает, это то, что в других местах ситуация еще хуже. Сейчас Европа вообще переживает острый приступ национализма.В Германии по этой теме было проведено исследование, я сегодня видел его результат. До 20 % опрошенных избирателей так или иначе разделяют ценности нацизма. Во Франции люди голосуют за Ле Пена, он выходит во второй тур президентских выборов. В Австрии националисты у власти. Мы видим, что происходит в Голландии, в Норвегии. Про Восточную Европу и посткоммунистическое пространство я вообще не говорю. У нас еще относительно благополучная ситуация. Но это не значит, что проблему национализма можно игнорировать.
Для России справедлива идея неизбежности трансформации имперского государства, основанного на принципе подданства, в государство-нацию, построенное на принципе осознанного территориально-политического единства. История Нового времени – это история создания государств-наций. В Западной Европе этот процесс начался в XVIII веке, продолжился в XIX веке. В Центральной Европе этот процесс осуществился в начале ХХ века, а в Восточной Европе – в конце ХХ века. Распад СССР, создание России и других государств на развалинах СССР – это процесс создания государств-наций, продолжение того процесса, который в Европе уже давно закончился, а в других частях земного шара еще зачастую не начался. Россия впервые стала государством-нацией. Причем государством именно этническим. Никогда русские не были большинством в стране. Сейчас в России оказалось русских больше, чем во Франции французов. Это совершенно новая реальность, и пока этот новый и важный факт нового российского государства и как следствие новой российской идентичности просто еще не осознан.
Но движется ли современная Россия к «третьей империи», которая унаследует традиции российской и советской империй? Все постимперские страны наследуют традиции империи. Британская империя существовала, и сейчас ясно, что Великобритания наследует ее традиции. Франция наследует традиции французской империи. Вообще, генетический код нации меняется не слишком быстро.
Возможны ли «либеральная империя» и «либеральный империализм»? Да, возможны. Большинство колоний в ХХ веке принадлежало либеральным демократиям. В начале XXI века практически все оставшиеся в мире колонии принадлежат либеральным демократиям. А если сейчас под колониализмом и созданием либеральных колоний считать осуществление финансово-экономической, информационной экспансии, то, конечно, эта экспансия осуществляется демократическими, либеральными странами, если, конечно, считать Америку Буша или современную Японию либеральными странами.
Какой тип нации может сложиться в России: гражданский, при котором полиэтническое и мультикультурное гражданское общество овладевает государством, или этнический? Вообще-то полиэтнические и мультикультурные государства существуют только в Новом свете. В Европе, в Старом свете пока еще существуют этнические государства, которые стараются выйти за эти этнические рамки, перейти к стадии создания постэтнических государств. Но это пока попытка, которая не принесла окончательного результата. Перспектив этого эксперимента мы еще не знаем. Европейский союз может превратиться в Соединенные Штаты Европы, но с тем же успехом может и развалиться через какое-то время, особенно сейчас, когда он включил в себя десять государств, большинство из которых настроены гораздо более националистически, чем ядро ЕС. Мне кажется, Россия будет на этом этапе развиваться по этнической формуле. Потому что это единственная основа, на которой складывается национальное государство.
И последнее. Если говорить о формуле соотношения патриотизма и национализма, то мне больше всего нравится высказывание Альбера Камю: «Я слишком люблю свою родину, чтобы быть националистом». Что касается патриотизма, то в практическом, политическом плане я бы, наверное, сформулировал его так: это признание национальных интересов своей страны приоритетными по отношению к национальным интересам других государств. Именно так понимают патриотизм элиты, правящий политический класс любой демократической страны.
Анатолий Чубайс (председатель правления РАO «ЕЭС России»):
«Корни идеи либеральной империи – в самом российском либерализме»
Для меня честь выступать в такой профессиональной аудитории. В сегодняшнем обсуждении я попробую зафиксировать три основных момента. Первый – содержательный, идеологический, выражающий суть. Второй – политический. И третий, я бы сказал, реальный. Сейчас я хотел бы отойти от идеологии и политики и сказать два слова о том, как я понимаю абстрактный лозунг либерального империализма в реальности.
Попробуем поговорить не о терминах, а о сути вопроса. На эту тему у меня есть двадцатистраничная работа, и я хотел бы, чтобы вы с ней ознакомились. В этой работе речь идет о том, что концепция либеральной империи не может в себя включать и что она должна в себя включать.
Концепция либеральной империи не допускает захвата территорий, нарушения принципа территориальной целостности, нарушения национального законодательства по отношению к соседям. Зато эта концепция включает в себя, во-первых, агрессивную экспансию бизнеса за пределы страны, поддержанную государственной политикой; во-вторых – поддержку государственной политикой русской культуры и русского языка за рубежом и в России; в-третьих – поддержку принципов прав человека и принципов демократии за пределами российской территории. В этом смысле я никогда не соглашусь с тем, что ценности свободы, прав человека, частной собственности исключают патриотизм и государственность. Для меня это абсолютно органичные вещи. Собственно, отсюда и произрастает все то, о чем я и хотел бы сказать.
Я задумываюсь над тем, почему у большинства выступающих здесь сам термин «империя» автоматически воспринимается с негативной коннотацией. Каковы гносеологические корни этого явления? По-моему, они довольно просты. Дело в том, что история всего демократического движения, противостоявшего советской власти и коммунистической идеологии, органично включала в себя и противостояние имперской составляющей советской идеологии. Это естественным образом привело к тому, что в нашей сегодняшней жизни, в совершенно других, изменившихся условиях мы унаследовали и эту компоненту. Отсюда возникает вопрос: не пора ли нам пересмотреть свои взгляды?
Не очень хорошо, когда сама терминология вопроса находится на уровне фразы «против имперско-шовинистического сознания», как сказал Эмиль Абрамович Паин. Это напоминает мне первый съезд Советов с его лозунгом «против агрессивно-послушного большинства». Только это было в прошлом веке.
Я не поддерживаю тезис о том, что новая империя должна быть столь же ужасной и чудовищной, как две предыдущие – российская и советская. Вообще существование двух империй свидетельствует о том, что у этого явления фундаментальные географические, этнические, исторические, национальные корни, уходящие далеко за пределы первого съезда Советов. Эти корни ведут к Пушкину, написавшему в 1830 году известное стихотворение «Клеветникам России», к декабристам. Больших империалистов, чем они, вряд ли можно найти, почитайте работы Пестеля. Корни идеи либеральной империи – в самом российском либерализме. В этом смысле я, действительно, стою на том, что попытка выработки для нашей страны самозамкнутой, автаркичной стратегии развития неизбежно будет означать потерю целостности России.
Мы живем в конкурентной среде. Если мы хотим просто отгородиться от внешнего мира и закладываем это в стратегию развития своей страны, мы должны быть готовы к тому, что внешний мир сам придет к нам. Я считаю, что за последние двенадцать лет российский либерализм прошел совершенно фантастический путь. Десять лет назад это было ругательное слово, сегодня это идеология, поддерживаемая значительной частью элиты. И я глубоко убежден, что будущее российского либерализма абсолютно предопределено его способностью резко расширять видение, отказываться от собственных идеологических шор, впитывать, акцептовать в себя все то, что сегодня просится быть акцептованным и воспринятым. Это то, что касается содержательной идеологической стороны разговора о либеральном империализме.
Теперь, что касается политической стороны дела. В моем понимании события, произошедшие в декабре 2003 года, означают качественный сдвиг в политической структуре России. По сути дела, из очевидного двухмерного политического пространства «от левых к правым», мы вышли в трехмерное пространство за счет появления блока «Родина», который сумел акцептовать запрос, утерянный нами. Именно в этом базовая причина их успеха, за которым стоят целые социальные группы, в том числе малый и средний бизнес, средний класс. Такое понимание ситуации означает, что если мы всерьез говорим о нашей политической стратегии, о задаче преодоления поражения, то никакого иного пути в политическом пространстве не существует, кроме того, чтобы вернуть сделанное нами, вернуть то, что нам принадлежит. Нам нужно отнять у наших оппонентов лозунги патриотизма, государственности, страшно сказать, державности, и еще страшнее сказать – империализма. Если мы справимся с этой задачей, у нас есть шанс в 2007 году восстановить наши законные права в политическом пространстве. Я не вижу никакой иной стратегии, кроме этой. Миллионы граждан страны, я уж не говорю о российских элитах, должны снова получить представительство в Государственной думе.
Здесь прозвучала мысль о том, что если либерал поддержан народом, то он не либерал. Но если либерал не поддержан народом, то он вообще никому не нужен. Тогда надо двигаться куда-то в сторону диссидентства, правозащиты – очень почетная и значимая функция. Много раз в своей жизни я слышал, что частная собственность и либеральная макроэкономическая политика в России невозможны. Но Россия 12 лет жила строго в соответствии с либеральными принципами, ничего кроме либеральной идеологии не управляло отечественной экономикой в течение всех прошедших 12 лет (с коротким перерывом на премьерство Примакова). Именно в этом для меня залог ответа на тот же самый вопрос в политическом пространстве. Именно поэтому я считаю, что единственная стратегия победы 2007 года основана на либеральной идеологии. Таков политический анализ ситуации.
И, наконец, последнее. Давайте обсудим, что происходит в реальности. Я поделюсь с вами своим пониманием происходящего в бывшей советской Средней Азии, на пространстве пяти государств – Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Там идут совершенно потрясающие процессы, наблюдается полное перераспределение позиций и доминирующих ролей. Глубоко проведенные казахстанские реформы создают сегодня ситуацию, при которой казахстанский бизнес шаг за шагом подавляет и захватывает наиболее значимые базовые сектора экономики и в Узбекистане, и в Киргизии, и в Таджикистане, практически на всем среднеазиатском пространстве.
Недавно я был в Киргизии. Там есть привилегированный санаторий ЦК КПСС, в городке Чолпон-Ота, замечательное место на берегу Иссык-Куля. Я спросил у работницы, в состоянии ли киргизы платить за услуги этого санатория? И услышал в ответ, что киргизы в этот санаторий не ездят, все места заняты казахами. И это при том, что стоимость номера – от двухсот до пятисот долларов в сутки. Казахи бронируют номера на год вперед, прилетают на уик-энды на собственных вертолетах… Это частный пример. Могу добавить, что наша прямая конкуренция с казахстанским бизнесом привела к тому, что казахстанский бизнес последовательно захватывает некую российскую компанию под названием РАО «ЕЭС России». Единственный из бизнесов СНГ, который пришел в Россию, привел свой капитал и приобрел пакеты акций в целом ряде региональных энергосистем и сейчас находится с нами в жестком диалоге, это казахстанский бизнес. У них темпы роста ВВП 10–12 %, пенсионный возраст 65 лет, частная собственность 100 %, частная собственность на землю 100 % и т. д. Через десять лет без разрешения казахов мы в Средней Азии не сможем сделать и шага. Вот что там происходит. Если мы будем зевать, значит и в России будет точно такая же ситуация.
Я мог бы привести ряд примеров из нашей собственной практики в соседних государствах. В той же самой Грузии на старте нас встречали массовые демонстрации и большой гроб с надписью «Независимость Грузии». Сегодня президент, руководители парламента и правительства благодарят нас за то, что мы пришли в Грузию, за нашу работу там – работу российской компании. И это происходит в Грузии, где очень сложная история (в том числе новейшая) отношений с Россией. В Армении в студенческой аудитории в пятьсот человек при произнесении лозунга «Россия – либеральная империя» была массовая овация. Нам нельзя терять этот потенциал. Мало того, если вам не нравится либеральная империя с центром в России, вы получите либеральную империю с центром в Казахстане. Выбирайте, уважаемые коллеги, единомышленники, демократы и либералы. Это к вопросу о реалиях, в которых мы сегодня живем.
Завершая разговор, я хочу сделать вывод о том, что идеологически концепция либеральной империи есть не что иное, как абсолютно органичный продукт развития демократической и либеральной идеологии в России в XXI веке. Политически это единственное позиционирование, которое способно привести нас к победе в 2007 году. Наши социально-экономические реалии таковы, что победа идеологии либерального империализма необратима, неотвратима и неизбежна. Спасибо за внимание.Игорь Яковенко (культуролог, социолог):
«Эволюция российского национализма может прийти к некоторым вполне цивилизованным формам, которые могут быть адекватны гражданской нации»
О проблеме патриотизма и национализма говорить достаточно трудно, потому что сами эти понятия теоретически плохо разработаны и не освоены, в том числе экспертным сознанием. На сегодняшний день это что-то синкретическое. При этом патриотизм, вещь положительная, хорошая, а национализм – вещь амбивалентная, и даже, скорее, негативная. Совершенно верно, русские либералы Струве или Милюков были империалистами. Сама по себе либеральная идея вполне сопрягается с идеей имперской. Надо только помнить о том, что национализм не есть метафизически ставшее явление. Это развивающийся историко-культурный феномен.
Если на рубеже XIX–XX веков в России был имперский национализм, то в зрелую советскую эпоху, по крайней мере в политической жизни, можно фиксировать национально-большевистскую интенцию. Если сегодня мы можем говорить о некоторых тенденциях такого русского, имперски реставраторского национализма, то из этого никак не следует с необходимостью, что русский национализм, как развивающееся явление, обязательно будет имперским, реставраторским и будет не в ладах со временем. Самое главное, что сегодня (и последние двенадцать лет) переживает Россия – это расхождение между субъективным и объективным. Россия переживает осознание и примирение с объективной реальностью. Как выясняется, президент Казахстана выражает казахские интересы, а не российские. Эти вещи надо осознать.
Мы не можем попасть в первый мир по ряду объективных обстоятельств, мы к этому сегодня не способны. А в третьем мире мы быть не хотим. Я убежден, что по мере осознания реальности, по мере изживания мифов, некоторого изменения самой ментальности, обретения умения мыслить в парадигме интересов, будет меняться и содержание национализма. Эволюция российского национализма может прийти к некоторым вполне цивилизованным формам, которые могут быть адекватны гражданской нации и тому государству, которое будет формироваться в естественной ситуации. В этом смысле патриотизм как позитивное нечто и национализм как нечто онтологически опасное не противопоставлены. И то обстоятельство, что некоторые так называемые патриоты или имперские реставраторы приклеивают себе ярлык патриотов, а либералы в этой парадигме выглядят безнациональными космополитами, лишь момент политической борьбы и идеологизации.
Сама по себе либеральная идея вполне соединяется с национальной при всех их внутренних различиях, и национализм сам по себе тоже развивается. Есть ситуации, когда возникает национальное сознание как таковое, понимание своих границ, своих интересов, своих пределов, осознание, что другие также имеют свои интересы, свои права, свои границы. В таких условиях формируется нормальный и естественный национализм. Я не думаю, что его надо обозначать термином «либеральная империя». Важно, что национализм не является принципиально опасной вещью, с ним надо работать, как с развивающимся живым феноменом.Владимир Мукомель (директор Центра этнополитических и региональных исследований):
«Ни одного из факторов, определяющих „либеральную империю“, на постсоветском пространстве я не вижу»
Идея «либеральной империи» вызывает отторжение с эстетической и сущностной точки зрения. С эстетической точки зрения для меня, например, неприемлемо представить, что пока мы здесь сидим, преподаватели провинциальных вузов выдают в качестве дипломных тем, скажем, такую тему, как «Империализм как высшая стадия либерализма».
Что касается сущности вопроса, то здесь много говорилось о том, что такое империя. Что же такое «либеральная империя»? Мне сложно представить эдакого бронтозавра, но, насколько я понимаю, этот бронтозавр должен стоять на четырех столпах, на четырех лапах. Во-первых, это экономическая мощь, во-вторых, это специфическая система управления с опорой на коллаборационистов, в-третьих, это обязательность колониальной территории и наличие колонистов-соотечественников, в-четвертых, это сила или ее демонстрация. Оглядываясь на постсоветское пространство, мне трудно представить, что эти столпы существуют.
Анатолий Борисович Чубайс поднял очень важную тему, когда он говорил о «либеральной империи». Позитивная часть содержательной стороны этого термина сводилась к проблеме соотечественников, и это очень важный компонент его позиции. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что поддержка соотечественников, бизнеса, русского языка, культуры необходима, но не менее важно обеспечивать адекватную политику и внутри России по отношению к национальным меньшинствам. Говоря о положении русскоязычного населения на Украине, нужно одновременно думать об обеспечении прав украинцев в России.Виктор Полтерович (член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института РАН):
«Основная задача – построение гражданского общества, а не какой-то империи»
Я совсем не специалист по вопросам, которые здесь обсуждаются. Я экономист, но экономика сейчас агрессивная наука. Она занимается многими вещами, в том числе и проблемой, связанной с влиянием демократии на экономический рост. Это дает мне некоторое право кое-что сказать по обсуждаемой проблеме.
Либеральные ценности – личная свобода, свобода передвижения, частная собственность – не единственные ценности, которые надо защищать, не единственные потребности, которые надо удовлетворять. О потребности в предмете гордости, о праве гордиться своей страной и своей нацией тоже надо думать. И если некоторые люди больше ценят свободу, а другие более склонны к патриотизму, это реальность, с которой надо считаться. Если мы хотим организовать справедливое общество, мы должны думать и о тех, и о других.
В связи с этим возникает вопрос, почему потерпел неудачу тот проект создания справедливого общества, который был задуман в конце 1980-х годов и осуществлялся в 1990-е годы? Весь разговор, который здесь происходит, как раз свидетельствует о том, что общество не удовлетворено результатами этого проекта. Я бы назвал здесь две главные причины, две иллюзии, которые существовали в тот период.
Первая иллюзия: достаточно ввести правильные законы, и общество быстро изменится. Вторая иллюзия: демократия и рынок всегда поддерживают друг друга. Выяснилось, что это не так. Имеется довольно много эмпирических работ с использованием эконометрики, которые показывают, что уровень демократии и уровень благосостояния отнюдь не связаны друг с другом монотонной зависимостью. Чтобы демократия была эффективной, нужно гражданское общество. Нет такой дилеммы: государство или рынок. В действительности и рынок, и демократия могут работать только в том случае, если в обществе развиты институты регулирования и саморегулирования, если государство может передать часть своих полномочий институтам гражданского общества. А институты гражданского общества зависят от состояния массовой культуры и не строятся в одночасье, они требуют значительных капиталовложений. Поэтому, если мы принимаем эту точку зрения, то основной задачей оказывается построение гражданского общества, а ни какой-то империи.
Слова – не пустой звук. Если мы начинаем строить империю, пусть даже либеральную, мы неизбежно придем к опасности и, может быть, к реализации тоталитаризма или авторитаризма, и будем проходить тот же самый неудачный цикл, ставший причиной неудовлетворенности народных масс тем, что мы не можем дать им ни свободы, ни благосостояния. Я думаю, что мы должны поставить перед собой задачу построения гражданского общества, в котором и те, кто больше всего любит свободу, и те, кто предпочитают быть патриотами, могли бы реализовать свои устремления и потребности.Лев Пономарев (директор общероссийского движения «За права человека»):
«Наши „империалисты“ занялись внешними проблемами, не имея представления, что делать с внутренними»
Я являюсь последовательным сторонником Эмиля Паина и хочу поблагодарить его за четкую формулировку своих тезисов. Я не очень понял, что имел в виду Анатолий Чубайс, когда говорил про
Чечню. Хотелось бы узнать четко, как он относится к своей фразе по возрождению российской армии в Чечне, многие ждут от него ясного ответа на этот вопрос.
Я должен поздравить Анатолия Борисовича с тем, что он, с моей точки зрения, пропел гимн «путинизму». Он озвучил политику нынешнего российского государства. Власти агрессивно ведут себя вне российских границ, пытаясь внедряться на Кавказ, в Среднюю Азию. А что предполагается под «либеральной империей» внутри страны? Как правило, наши «империалисты» проще решают внешние проблемы и не имеют представления, что делать с проблемами внутренними. В связи с этим мне кажется, что либерализм должен быть активным в защите прав и свобод граждан внутри России. Это возможно и необходимо. Здесь надо сосредоточивать наши усилия, об этом надо говорить «на круглых столах».
Хочу напомнить, что Россия с приходом Путина к власти вступила в новый период своей истории, у нас появились политические заключенные как некий класс. Если раньше при Ельцине так называемые «шпионские процессы» были связаны в основном с инициативой офицеров ФСБ, которым нужны были очередные звездочки на погонах, то сейчас политические заключенные появились в рядах гражданского общества, в том числе среди предпринимателей – это Ходорковский и другие люди, связанные с ЮКОСом. Здесь же можно вспомнить правозащитника Юрия Самодурова, который подвергается сейчас уголовному преследованию. Можно назвать довольно широкий класс активистов гражданского общества, которых власти преследуют по политическим мотивам, и надо думать о том, что делать в этих условиях и каким образом демократы и либералы будут объединяться и защищать завоевания последних лет.Отто Лацис (журналист, заместитель главного редактора газеты «Русский курьер»):
«Что мерещится людям, для которых имперская идея – это всего лишь ностальгический миф?»
Марк Урнов сформулировал нашу задачу скромно: находясь в меньшинстве, быть честными перед собой и думать о следующих поколениях. Для людей моего возраста это звучит привлекательно, потому что легко выполнимо. Но вопрос, что нам делать, кроме того, что быть честными перед собой, никуда не исчезает. Будучи честным перед собой, я бы сказал, что на последних выборах мы все-таки уступили «Родине» не только идею державности, о чем говорил Анатолий Чубайс. Я думаю, что «Родина» приобрела не то, что потеряли люди либеральных взглядов. Этот блок жульнически отхватил кусок далеко не либеральной державности электората КПРФ, не более того. Не нам его возвращать, но нам надо об этом очень серьезно подумать.
Когда замышлялся блок «Родина», чтобы уменьшить силу КПРФ как первой, до прошлых выборов, силы в Думе, ему прочили 3–4 %, а «Родина» получила 9 %. Людей с национал-социалистическими взглядами, очевидно, большинство и в электорате ЛДПР, и в упоминавшихся уже двенадцати партиях совсем черной окраски. Так что нам приходится завидовать немцам, у которых только 20 % разделяют идеи нацизма. Я не берусь делать прогнозы, я попытаюсь нарисовать один из вариантов, который может реализоваться.
Экономическое и социальное положение в стране на протяжении всей путинской эпохи уникально легко и благоприятно для власти. Такого везения не было ни при Горбачеве, ни при Брежневе. Но при малейшем осложнении на улицы может выйти и толпа, и тогда окажется, что мы будем рады установлению полицейского государства, которое сможет обеспечить порядок и защиту. Я с интересом прослушал все научные рассуждения о том, какой была российская и советская империи, какие вообще бывают империи, но все это совершенно не важно. Существенно другое: что мерещится людям, для которых имперская идея – это всего лишь ностальгический миф? Они напридумывают себе таких, каких им хочется, снов под слова о либеральной или о любой другой империи, и наши научные объяснения при этом не будут иметь никакого значения. Настоящее значение приобретет эта ксенофобская толпа.
Вряд ли, конечно, государство позволит этой толпе взять власть, толпа и не может быть властью, но на этом фоне власть будет установлена такая, что мало никому не покажется. Всерьез надо бояться именно этого, и, для того чтобы этому противостоять, недостаточно просто думать о внуках, надо серьезно думать о ближайшем будущем.Сергей Митрохин (заместитель председателя партии «Яблоко»):
«Сегодня бюрократия управляет националистическими настроениями для достижения собственных целей»
По вопросам, которые поставлены в повестку дня, я выскажусь с учетом того, что уже было сказано. В первую очередь по названию дискуссии: «Патриотизм и национализм». Тут важен союз – не «или», а именно «и». О патриотизме и национализме здесь говорят как явлениях одного порядка, мне кажется, что это не вполне правильно. Я бы начал с ответа на вопрос, какой тип нации может сложиться в России – гражданский или государство подданных. Отталкиваясь от этого вопроса, можно перейти к понятиям «патриотизм» и «национализм». С моей точки зрения, сейчас в России складывается государство подданных, и об этом во многом свидетельствуют результаты прошедших выборов.
Сообщество равных и свободных граждан, объединенных общими идеями, целями и, что самое главное, готовых взять ответственность за их реализацию, ответственность за страну, называется гражданским типом нации. Именно из такого понятия нации и вытекает цивилизованный гражданский патриотизм. Ответственность за страну – это и личная ответственность гражданина, и, следовательно, ответственность власти перед гражданином, и готовность гражданина контролировать эту власть, бороться за свои политические права. Такой тип патриотизма в свое время сложился в античности, в Древней Греции, в Древнем Риме, потом этот же тип патриотизма воспроизводился во всех демократических революциях и привел к становлению современных демократических государств.
Что касается национализма, то опять-таки я бы считал, что ключевым здесь является понятие ответственности. Национализм – это течение, предполагающее, что граждане слагают с себя ответственность и перекладывают ее на вождя или на государство, на некую ведущую силу. Именно поэтому власть националистических вождей является абсолютной и непререкаемой.
Если обратиться к результатам парламентских выборов, то совершенно очевидно, что партии, которые шли на них именно с лозунгами гражданского патриотизма, которые исходили из того, что есть гражданская часть населения, готовая к такому типу взаимоотношений друг с другом и с властью, потерпели фиаско, потому что таких людей оказалось исключительно мало. Остальная часть населения продемонстрировала подданническую психологию, в чем выразился успех партии власти и националистов. Психология складывания с себя ответственности, перенесение ее на вождя характерна для таких партий и блоков как ЛДПР и «Родина». Этот особый тип патриотизма называется у нас национал-патриотизмом.
Здесь совершенно правильно говорилось о роли элиты, о роли бюрократии во всем этом процессе. Если речь идет о гражданской нации, то, естественно, элита и бюрократия несут ответственность перед населением, ставят перед ним некие национальные задачи, формулируют национальные ценности и ведут страну по определенному пути, в том числе по пути формирования гражданской нации. В подданническом государстве происходят совсем другие процессы. Бюрократия преследует исключительно свои собственные цели. Именно это происходит сейчас, когда фактически психология российской бюрократии представляет собой психологию руководства закрытого акционерного общества, взявшего страну в концессию на восемь лет, а потом это АО будет решать, как дальше продлевать эту концессию. И здесь правы те, кто говорит, что на фоне угрозы агрессивного национализма бюрократия даже в чем-то выигрывает, потому что она не идет на поводу у этих настроений, не становится инструментом их реализации, она заинтересована в том, чтобы эти настроения регулировать.
У нас был термин «управляемая демократия», но он как-то не прижился. То, что появилось сейчас, – это «управляемый национализм». Сегодня бюрократия управляет националистическими настроениями для достижения собственных целей.
Теперь я бы хотел отреагировать на термин «либеральная империя». Он мне кажется совершенно несостоятельным, в первую очередь, с научной точки зрения, потому что, если государство не захватывает территории, не нарушает суверенитета других стран, оно не может называться империей. Термин «либеральная империя» абсолютно несостоятельный даже с логической точки зрения, но он несет определенную опасность. Когда Чубайс говорит о том, что нужен агрессивный бизнес в странах СНГ, тут возникает опасность впасть в соблазн территориальной экспансии. Экспансия во вне означает отсутствие решений внутренних проблем. И, кстати, эта опасность уже в России реализовалась, когда вместо того, чтобы бороться за свободу внутри страны, те, кто хотел свободы, просто бежали в иноземные края, где ее никто не нарушал, и там проявляли свое свободолюбие. Почему бы, например, российскому бизнесу для начала не проявить агрессивность по отношению к собственному государству, которое его сейчас давит и не дает ему развиваться?Если взять «либеральный империализм» за идеологию, то он представляет определенную угрозу для национальных меньшинств. Сам термин нагружен негативными аллюзиями, и это в первую очередь может сказаться на межнациональных отношениях внутри страны. Что касается стран СНГ, то такая идеология будет их раздражать и отталкивать о нас. Вместо интеграции постсоветского пространства будет происходить дезинтеграция.
Я не соглашусь с озвученной здесь, в том числе Анатолием Чубайсом, оценкой причин успеха блока «Родина». Говорилось, что «Родина» победила именно за счет патриотических лозунгов. Ничего подобного. Патриотизм был у них на втором плане, на первый план они выдвинули социальный проект: пресловутая природная рента, отнять и поделить. Отсюда вытекает очень важная мысль, что либералам и демократам нельзя искать перспективу в державности, потому что на этой сцене очень много актеров, которые гораздо лучше исполняют свои роли. Что же касается социальной проблематики, то здесь существует очень большое пространство, потому что интеллектуально в вопросах социальной политики гораздо легче выиграть у коммунистов и у того же самого Глазьева, у которого она носит откровенно популистский характер. Поскольку мы на этих выборах убедились, что ценности демократии, прав человека мало кого интересуют, даже по опросам социологов они стоят на 25 месте в числе приоритетов населения, мы должны понять, что эти ценности могут выиграть, только если они будут приложением к какому-нибудь привлекательному социальному проекту.
Лев Гудков (социолог, сотрудник Аналитического центра Юрия Левады):
«Русский национализм держится на пустом самоутверждении, поскольку, кроме войны, нам гордиться нечем»
Меня крайне возмутило выступление Анатолия Борисовича Чубайса. Я приведу некоторые данные социологических исследований, отчасти подтверждающих то, что сказал сейчас Сергей Митрохин. В 1993 году электораты партий резко различались по уровню ксенофобии. Самый низкий уровень ксенофобии и агрессивного шовинизма был у «Демократического выбора России», потом эта тенденция частично перешла к «Нашему Дому России». Сегодня различий по ксенофобии в электоратах нет.
Среди множества видов национализма выделяются два. Один мобилизационный, рвущийся к власти, провозглашающий идеалы и прочее. И второй – защитный, ностальгирующий по большой державе, компенсаторный национализм, который мы имеем. Попытки эксплуатировать эти настроения представителями либерального фланга совершенно ошибочны, что и показали эти выборы. Приведу примеры роста ксенофобии.
«Должны ли русские пользоваться преимущественными правами на ответственные посты?» – количество положительно ответивших на этот вопрос увеличилось с 1999 года с 31 % до 59 %. 60 % опрошенных считают, что русские должны пользоваться преимуществами при назначении на ответственные руководящие посты. Антипатию к мигрантам сегодня разделяют 68 %. И, наконец, о внешнеполитическом аспекте. «Есть ли у России враги?» – число положительно ответивших на этот вопрос с 13 % в 1989 году выросло до 77 % сегодня. Русский национализм держится на пустом самоутверждении, поскольку, кроме войны, нам гордиться нечем. В националистической риторике нет никаких политических различий, никаких ресурсов. Они просто исчерпаны.Леонид Гозман (член правления РАО «ЕЭС России», председатель креативного совета «Союза правых сил»):
«Не нравится „либеральная империя“ – придумайте что-то другое»
Не то страшно, что столько народу проголосовало за «Родину» (кстати, появление родинок на теле – канцерогенный признак). В конце концов, в любой стране есть люди, сенситивные к примитивно-националистическим лозунгам. Сторонники глубоких идей типа «Германия для немцев» или «Россия для русских» есть везде. Плохо другое. Когда во Франции Ле Пен вышел во второй тур, это обеспечило фантастическую поддержку Шираку – общество ужаснулось и сплотилось против экстремистов. И манифестацию против погромов там в свое время возглавил президент страны. А у нас все спокойно, даже убийство таджикской девочки – практическое воплощение национал-социалистических идей – прошло как заурядное происшествие, ни манифестаций, ни готовности сплотиться против общего врага. Фашистам не нужно абсолютное большинство, им нужно большинство среди активной части населения. Но это большинство хочет, помимо всего прочего, гордится своей страной – нормальное желание, хочет видеть перспективу, выходящую за рамки духоподъемного лозунга «Догнать Португалию!». И эти основания для гордости и чувство перспективы дадим либо мы, либо деятели типа Рогозина и Баркашова. Не нравится «либеральная империя» – придумайте что-то другое. Или они за нас придумают, и тогда мало не покажется.Денис Драгунский (научный руководитель Института национального проекта «Общественный договор», главный редактор журнала «Космополис»):
«Сами идеи империи и нации согражданства не совсем актуальны»
Как генералы готовятся к прошлым войнам, так политики сейчас готовятся к прошлому веку. Мне кажется, что сами идеи империи и нации согражданства не совсем актуальны. Нам следовало бы специально собраться и осознать, что мы сейчас живем в какой-то другой реальности, в постгосударственной или негосударственной. Потому что в стране существует огромное количество действующих лиц: армия, спецслужбы, крупный бизнес, наркотрафикеры, армсмаглеры и другие, у которых обращается огромное количество денег, которые обладают огромным политическим влиянием, которые, наконец, отняли у государства монополию на насильственное принуждение.
Мы живем в негосударственной реальности. В связи с этим интересно было бы подумать, как будут развиваться дальше отношения в стране, в том числе и межнациональные отношения, в тех условиях, когда о государстве говорить уже поздно. Можно выдвинуть лозунг «Восстановим государство!», но, мне кажется, что общество стало уже столь дифференцированным и механизмы альтернативных норм зашли настолько далеко, что сейчас мы уже проскочили этот этап. Я не хочу сказать, что мы впереди планеты всей, но вот об этом парагосударственном существовании и парагосударственном измерении национального вопроса стоило бы поговорить.Евгений Ясин:
Я благодарю всех выступавших за интересную дискуссию. Мы представляем слой общества, который не принадлежит к среднему классу, а относится, скорее, к старому понятию «интеллигенция», «интеллектуалы», которые большей частью тяготеют к либеральным взглядам. И принципиальный вопрос заключается в том, что в сложившейся ситуации должны делать мы, либералы, являющиеся патриотами своей страны, желающие видеть Россию страной свободных людей.
Сегодня совершенно ясно, что только одних экономических реформ мало, проблема уже находится не в этой области. Мне кажется, что мы должны искать ответ на этот главный вопрос. Я полагаю, что в широкой аудитории ответы на эти вопросы не найти. Они приходят тогда, когда люди, посетив одну, вторую, третью дискуссию, остаются наедине с самими собой, начинают думать и к ним приходят новые идеи. Потом люди делятся ими с коллегами, так начинается распространение новых, свежих идей. Но, мне кажется, что Марк Урнов прав, укоренение либеральных ценностей в массовом сознании – это история долгая, и мы должны настроиться на перспективу. Я полагаю, что для нас это теперь категорический императив. Надо объединяться. Нас слишком мало, для того чтобы тратить силы на драки между собой [205] .
Дискуссия состоялась 5 февраля 2004 г.Эмиль Паин «Либеральная империя», или Казус «морской свинки»
Нужно признать, что обсуждения моей книги не получилось (большая часть выступавших ее просто не читало), да и в целом заседание за «круглым столом», семинар напоминал не столько дискуссию, сколько серию сольных концертных выступлений, монологов людей, которые плохо слышат друг друга. И все же «круглый стол» был, на мой взгляд, интересным, прежде всего, как отражение состояния духа и сознания нынешнего либерального сообщества России.
Начну с констатации того, что даже известные эксперты, причисляющие себя к цеху политологов, говорят на разных языках и уже поэтому с трудом понимают друг друга. Например. Виктор Кувалдин полагает, что антиномия империя – нация «…это ни в коей мере не академический поиск. Это две идеологемы, которые родились в условиях очень острой политической борьбы в бывшем Советском Союзе в конце 1980-х годов». Такое заявление мне показалось удивительным, поскольку не только историк Вячеслав Никонов, но и экономист Сергей Дубинин осведомлены о том, что «существует старинная схема развития, согласно которой от государств-империй, где все подданные расставлены по местам на иерархической лестнице, в течение XIX и в начале ХХ века вся Европа переходила к национальным государствам, основанным на принципах гражданского общества». Действительно, эта теоретическая схема не просто давно известна, но и до сих пор является превалирующей в теориях модернизации, политического транзита и в политических теориях нации. В этих теориях, соответственно и в моей книге, понятия «империя» и «нация» используются как социологические категории, как идеальные типы, во многом очищенные от исторической конкретики. По сути дела, речь идет о сравнении двух моделей, в названиях которых термины «имперский» и «национальный» имеют вспомогательное назначение и могут быть заменены, на другие, скажем, «вертикальный» и «горизонтальный» проекты организации жизни полиэтнических сообществ. Несколько лет назад Алексей Кара-Мурза удлинил диаду имперское – национальное, и превратил ее в треугольник этнократическое общество – имперское общество – национальное общество. Этнократическое общество основано на власти крови, имперское – на подданничестве, а национальное предстает демократическим государством с гражданским обществом. Он хорошо показал, что империя традиционна и архаична только по отношению к нациям, а в отношении к этнократическим обществам может рассматриваться как передовая форма социума.
Люди незнакомые с этой научной традицией могут, как говориться, «изобрести велосипед». Например, Аркадий Попов определяет имперскую интенцию одним словом – «деэтнизация», что верно, но только и нация в современном ее понимании – это надэтническая общность, поэтому различия между двумя проектами лежат вовсе не в их отношении к этничности, а в разном характере взаимоотношений всего полиэтнического (или, как у нас в Конституции сказано, «многонационального») народа и власти. При этом «имперский проект» вертикальной организации многонационального, полиэтнического сообщества основан на неравноправных отношениях между метрополией и колониями, между главным народом (в лучшем случае «старшим братом») и прочими, а также на насилии, тогда как «национальный проект» предусматривает горизонтальную организацию полиэтнического сообщества, основанную на равноправии. Здесь нет метрополии и колоний, нет главных и второстепенных народов и культур. Вот эти различия принципиально важны не только для автора книги и теоретиков политического транзита, но и для международного права, определяющего империю как государство с неравноправным положением населения метрополий и колоний и осуждающего колониализм, тогда как для А. Попова вопрос о доминировании метрополии над колонией – «это уже частности».
Далее, имперский принцип подразумевает насилие: территории и народы захватываются силой, но что еще важнее, насильно удерживаются, а национальный – основан на принципе «заинтересованной интеграции», т. е. субъекты объединяются и функционируют, прежде всего, на основе взаимного интереса. А. Попов в ответ говорит, что всякая власть подразумевает легитимное насилие. Это верно, однако в имперских государствах и власть, и законы, и насилие навязаны подданным , особенно населению колоний, тогда как в национальных обществах сами граждане формируют власть, определяют законы, а следовательно форму и меру насилия. Как отмечал один из виднейших теоретиков гражданской теории нации К. Дейч еще в 1950-х годах, нация – это общество, овладевшее государством, превратившее его в инструмент реализации своих общественных (т. е. национальных) интересов. На мой взгляд, Россия сегодня дальше от такого типа нации, чем была еще пять-шесть лет назад, и уровень влияния общества на государство продолжает уменьшаться.
О чем действительно спорили на встрече под названием «Обсуждение книги Паина», так это о лозунге А. Чубайса: «Вперед, к либеральной империи». Помимо самого Анатолия Борисовича, его поддержали еще несколько участников описываемого интеллектуального перформанса, но, как мне представляется, по разным причинам. С. Дубинин, как член правления РАО «ЕЭС», т. е. из корпоративной солидарности со своим шефом. В. Кувалдин – по причине давней антипатии к Б. Ельцину, который, по его мнению, использовал антиимперские лозунги для борьбы с Горбачевым, А. Попов, некогда мой давний сотрудник и соавтор, по причине растущей подозрительности к самодеятельным массовым движениям вообще и к так к называемы «национальным» – в особенности. Отсюда и его надежда на «мудрых правителей» и «хорошие империи».
Не стану спорить о том, были или не были в истории «хорошие» империи, хотя описанные А. Поповым благостные картинки жизни Второй германской империи, равно как и распространенные ныне лубочные картинки, идеализирующие жизнь империи Российской, не отличаются исторической точностью и строгостью.
Вместе с тем, какими бы ни были империи в прошлом, мала вероятность появления «хороших» империй в нынешнее время. Классические империи, для которых этнический национализм был не характерен, исчерпали свой ресурс еще в XIX веке, и в XX им на смену пришли такие мутанты, соединяющие имперские и этнократические черты, как германская «третья империя». И, к сожалению, в случае появления третьей империи в России (две уже были) велика вероятность развития ее отнюдь не по либеральному, а по фашистскому образцу, о чем я говорил и в книге, и во введении к круглому столу. При этом я совершенно не согласен с Вячеславом Никоновым в том, что в других странах (он приводил только европейские) доля людей, разделяющих нацистские лозунги выше, чем в России. «У нас, – говорит Никонов, – еще относительно благополучная ситуация», однако даже приводимые им материалы социологических исследований по Германии эту успокоительную мысль не подтверждают, показывая, что там указанная категория в трое ниже, чем в России. Наша страна сегодня по уровню ксенофобии опережает и Францию. Здесь показатели этнической ненависти были в несколько раз ниже, чем у нас сейчас, даже в период наивысшей популярности ультраправого политика Жан-Мари Ле Пена. Существенно и то, как отметил Л. Гозман, что, «когда во Франции Ле Пен вышел во второй тур, это обеспечило фантастическую поддержку Шираку – общество ужаснулось и сплотилось против экстремистов. И манифестацию против погромов там в свое время возглавил президент страны. А у нас все спокойно, даже убийство таджикской девочки – практическое воплощение национал-социалистических идей – прошло как заурядное происшествие». К тому же в России темпы роста ксенофобии и организованных экстремистских групп беспрецедентно высокие. Эта ксенофобия, а также неосоветские геополитические амбиции, как показывают социологические исследования бывшего ВЦИОМ, являются пока единственным инструментом политической мобилизации масс (прежде всего, этнического большинства), и его, на мой взгляд, все чаще будут использовать как политики, так и национал-патриотический бизнес.
Вообще, у В. Никонова проявилась особая позиция по главному вопросу дискуссии: он один из немногих, кто исходит из идей классического модернизма о «…неизбежности трансформации имперского государства, основанного на принципе подданства, в государство-нацию, построенного на принципе осознанного территориально-политического единства. История Нового времени – это история создания государств-наций». В то же время он допускает возможность существования «либеральных империй» и «либерального империализма» на том основании, что «большинство колоний в ХХ веке принадлежало либеральным демократиям. В начале XXI века практически все оставшиеся в мире колонии принадлежат либеральным демократиям. А если сейчас под колониализмом и созданием либеральных колоний считать осуществление финансовой, экономической, информационной экспансии, то, конечно, эта экспансия осуществляется демократическими, либеральными странами…».
Логика рассуждения, прямо скажем, незатейливая: если назвали человека «хорошим», то он останется таким, даже если совершает дурные поступки, определили страну как либеральную, следовательно, и ее политика во всех случаях будет либеральной. У меня же другое представление на этот счет. Либерализм пока еще отнюдь не победил в мире, и даже наиболее развитые страны понемногу осваивают либерализм, по мере выдавливания из себя империализма, поэтому либерализм медленно и неравномерно осваивается в разных сферах политики даже тех стран, которых принято называть либеральными. Скажем, во Франции времен Де Голля внутренняя политика была более либеральной, чем внешняя, но и ее нельзя оценить однозначно. Так, колониальную войну в Алжире трудно назвать либеральной политикой, в отличие от политики периода предоставления независимости этой стране.
Неравномерность, фрагментарность проникновения либеральных идей проявляется и на личностном уровне. Например, уже упомянутый политик Ле Пен потому и называется правым, что безусловно выступает за свободу частного предпринимательства, за невмешательство государства в экономку, т. е. за экономический либерализм, но в политике он выступает не просто за усиление государственного вмешательства, но и за применение жесточайших полицейских, карательных мер против выходцев из арабских стран и других иноэтнических мигрантов. Крайне правые во всем мире сочетают в себе экономический либерализм с проявлениями расовых, религиозных и этнических фобий.
Российские «средне правые» пока не проявляют такого уровня ксенофобии, как западные «крайне правые». Вместе с тем, многие из них явственно демонстрируют фрагментарность своих либеральных воззрений, ограниченных только сферой экономики, и Анатолий Борисович Чубайс, на мой взгляд, яркий пример такого усеченного, экономоцентрического либерализма. Любопытно, что в комментируемой дискуссии он обосновывал целесообразность возрождения империи (хорошей, «либеральной») ее укорененностью в российской истории: «Вообще существование двух империй, – говорит А. Чубайс, – свидетельствует о том, что у этого явления фундаментальные географические, этнические, исторические, национальные корни». Ну что ж, корни у русского империализма действительно глубоки, но все же они явно короче корней российского крепостничества, которому как минимум десять веков, тогда как империя в России просуществовала не более трех веков. Однако давние традиции крепостничества не мешают А. Чубайсу утверждать в той самой статье, в которой он впервые упомянул о «либеральной империи» (Независимая газета. 2003. 1 октября), что «совсем нелепо выглядят наши „патриоты“, когда говорят, что предпринимательство и частная собственность – не русское дело». Но если это так (уж с этой мыслью Чубайса я совершенно согласен), то по почему же национальная традиция должна помешать смене имперского типа государства на национально-гражданское? Строго говоря, и Чубайс не возражает против такой трансформации. Он сам пишет (все в той же своей знаковой статье про «Миссию России» и «либеральную империю») о том, что «вся новейшая история – это история перехода», признает, что еще в 50-е годы, в Советском Союзе начал рушиться остов имперского устройства – вертикаль власти. Уже тогда, как справедливо пишет А. Чубайс, «отношения вертикального подчинения в административной системе начали заменяться отношениями торга начальника и подчиненного. Все ограничения (лимиты, инструкции, фонды, законы) становятся предметом торговли, но не обычной, а бюрократической. Эти рыночные соглашения еще не опосредованы деньгами, но «солдаты партии» уже начали превращаться в «торговцев партии». Так в чем же должен состоять современный российский империализм по Чубайсу? Оказывается, всего лишь в государственной поддержке экспансии бизнеса за пределы страны и в такой же поддержке русской культуры и русского языка за рубежом. Помилуйте, но что здесь имперского? Маленькая Венгрия активней большинства других стран в Европе защищает и поддерживает своих соотечественников и их язык, культуру за рубежом, и никто не называет такую политику имперской. Борьба бизнеса за мировые рынки сбыта, в том числе и с опорой на помощь своего национального государства, тоже обычная практика, не имеющая ничего общего с империализмом, до тех пор пока бизнес не просит власти подержать его силой. На мой взгляд, принципиально неверно распространенное у нас отождествление глобализации и империализма. У этих внешне сходных явлений разная природа. Империализм основан на прямом, насильственном захвате территории, а самое главное – на политике насильственного их удержания. Глобализация же не захватывает территории силой, она распространяет свое влияние, предлагая новации: включитесь в наш Интернет, возьмите наши инвестиции, приобщайтесь к нашим культурным ценностям; возьмите или откажитесь – у вас есть право выбора. Называть такую политику империализмом – это примерно то же самое, что отождествлять галерного раба с наемным рабочим.
Анатолий Борисович никак не аргументировал причину, по какой он называет вполне невинные, я бы сказал рутинные, задачи государственной политики в качестве империалистических и, одновременно, либеральных. Ситуация напоминает казус «морской свинки», которая, как известно, совсем не морская и вовсе не свинка.
Обычно страны действительно проводящие захватническую имперскую политику, всячески стараются откреститься от такого ее определения. В случае с лозунгом А. Чубайса мы, пожалуй, впервые сталкиваемся ситуацией, когда политик сам навешивает на выдвигаемые им, вполне респектабельные цели заведомо негативный ярлык империализма. Но в том то и дело, что для Чубайса в данном случае хлесткий термин важнее его сути, поскольку именно с помощью терминологии мнимого империализма правый политик хочет перехватить популярные лозунги у истинных имперско-шовинистических сил. Он и сам об этом говорит: «Нам нужно отнять у наших оппонентов лозунги патриотизма, государственности, страшно сказать, державности, и еще страшнее сказать – империализма. Если мы справимся с этой задачей, у нас есть шанс в 2007 году восстановить наши законные права в политическом пространстве». Речь идет о возвращении СПС в Государственную думу.
Признаюсь, и я был бы не против того, чтобы СПС вернулась в Думу и заняла бы там достойное место, однако, на мой взгляд, предлагаемая А. Чубайсом стратегия и в этом отношении не верная. Я вижу в ней, по крайне мере, четыре основных недостатка.
Первый недостаток: социальная неорганичность – те социальные группы, которые «за империю», терпеть не могут либерализм и особенно политиков, имена которых его символизируют, и наоборот, люди либерального мировоззрения и слышать не могут про империализм. Поэтому этот лозунг для либеральных партий не годится: «чужой» электорат он не привлечет, а «свой» уже отпугивает.
Второй недостаток: перехват лозунга – это признак слабости . В идеологическом споре, когда одна из сторон перенимает слова и термины другой, – это вернейший признак проявления слабости. Во время «холодной войны» западные аналитики и пропагандисты специально подсчитывали, какая из сторон больше заимствует слов из лексикона противника. Понятно, на чьей стороне было преимущество в войне слов. Вот и сейчас, если либералы говорят об «империи» или «соборности» как о либеральных ценностях, то дела их плохи. В книге я привожу примеры цитирования высказываний наших правых политиков известным публицистом имперского направления (он и сам себя так именует, и русский народ называет «имперским») Владимира Бондаренко, который, не скрывая злорадства, смакует высказывания Анатолий Чубайса, расценивая их именно как проявления слабости. «Этот „ великий " поворот чубайсов и третьяковых, черномырдиных и путиных, – пишет он в газете „Завтра“, – напрямую связан с мощнейшим давлением русского народа. Они под воздействием русского концентрированного биополя. Кто из них погибнет, а кто останется, не так и важно. Но главное, самой России уже не свернуть с нового мессианского пути». Думаю, комментарии излишни.
Третий недостаток: этот проект неосуществим в принципе. Во внешней политике либеральная упаковка не устраняет дурного запаха имперской насильственности. К тому же негативный смысл слов «империализм» и «колониализм» закрепился не только в обыденной речи и языке науки, но и в актах международного права, поэтому любые попытки легитимизировать эти термины и предать им респектабельность обречены на неудачу. Не случайно и на Западе такие попытки носят единичный характер, зачастую предпринимаются для эпатажа публики, для демонстрации нонконформизма. Да и смешно сегодня России претендовать на роль экспортера или миссионера либерализма. Этого ресурса нам и самим не хватает, и с каждым днем все больше.
Четвертый недостаток: для раскручивания лозунга «либеральной империи» не нужны ни А. Чубайс, ни СПС, с этой задачей легче справиться В. Путину и «Единой России».
В заключении скажу, что «обсуждение книги» лишь подтвердило правильность моего решения изменить ее название. Вместо названия «От империи к нации» я написал «Между.». Мы действительно между , уже потому, что даже лучшие умы, светочи «либеральной» мысли и лидеры «либеральной» общественности не могут договориться о том, куда же звать страну: к империи? к нации? или…
Отто Лацис Оксюморон и бомба [206]
«Круглый стол» на тему «Патриотизм и национализм» в фонде «Либеральная миссия», у Евгения Ясина, был в четверг вечером, а взрыв в метро произошел в пятницу утром. Хочется сказать, что взрыв поставил точку в дискуссии, но это было бы неправдой. Никакой точки нет – разве что точка с запятой.
На «круглом столе» проходила презентация книги политолога Эмиля Паина «Между империей и нацией». Но участники дискуссии не придерживались строго объявленной темы. Говорили о том же, о чем говорят нынче на всех подобных собраниях: как дальше жить будем. А конкретная интрига данного мероприятия заключалась в том, что присутствовал Анатолий Чубайс, и собравшиеся – все как один люди либерального образа мыслей – набросились на Чубайса за его лозунг «либеральной империи».
Чубайс отвечал не так энергично, как он это умеет. Может быть, мешало, что на сей раз пришлось отбиваться от критиков из своего лагеря, а может – ощущал, что избрал не лучший план защиты. Чубайс сказал: он полагает, что блок «Родина» преуспел благодаря присвоению идей державности и патриотизма, а либералам теперь предстоит перехватить и вернуть себе эти лозунги. Либеральная окраска имперской идеи по Чубайсу исключает милитаризм, агрессивность, подавление прав народов. Но она же включает агрессивную экспансию бизнеса, защиту русского языка за пределами России. Можно догадаться, что подразумевал глава РАО «ЕЭС»: Россия может и должна вернуть себе положение естественного центра притяжения на постсоветском пространстве, выступая под знаменем либерализма, а не насилия, как было в прошлых империях – царской и советской.
Наиболее резко ответил на это обозреватель «Новой газеты» Андрей Пионтковский. Россия, сказал он, не первый раз теряет империю, но в прошлом удавалось ее вернуть. Однако опыт 1920 года не повторится. Тогда Красная армия несла на штыках идею освобождения угнетенных народов (они же не знали, что их обманут). Сегодня мы не можем предложить соседям ничего, кроме разговоров о былом величии. Россия не будет доминировать на постсоветском пространстве.
Известный «яблочник» Сергей Митрохин добавил, что термин «империя» нагружен негативными аналогиями, будет провоцировать нерусских. Он также высказался против экспансии бизнеса, ибо экспансия вовне – это отказ от защиты прав внутри страны. Почему бы российскому бизнесу не проявить агрессивность в отстаивании своих прав перед лицом своего собственного все подавляющего государства?
Но за всем этим стояло другое, невысказанное, что Чубайс обозначил лишь ссылкой на декабрьские выборы: они перевели российскую политику из двухмерного пространства (правые – левые) в трехмерное, что напрямую связывается с успехом блока «Родина». Тут напрашивается возражение: думское пространство стало, скорее, одномерным. Но важнее другое. Ограничившись намеком, Чубайс не поставил на обсуждение вопрос, вытекающий из ситуации: как должны вести себя либеральные политики, когда избиратели оказали поддержку агрессивному национализму? Не следует ли, попросту говоря, либералам рассматривать «путинизм» и «Единую Россию» как естественную опору в противостоянии с самыми темными политическими силами? Наверняка многие «политтехнологи» хотели бы повернуть разговор именно в эту сторону. Но желающих обсуждать такой поворот темы за «круглым столом» в «Либеральной миссии» не нашлось.
Эмиль Паин напомнил пример из истории: гитлеровский Третий рейх был мутантом, объединившим в себе и империю, и этнократию. Этот горький опыт заставляет очень серьезно отнестись к уникальной ситуации в сегодняшней России: молодежь больше заражена ксенофобией, чем старшее поколение, от этого огонька готовы прикурить и левые, и правящий слой, и некоторые либералы.
Опять говорят о самобытности, о третьем пути, косимся на Азию, продолжил тему бывший замминистра иностранных дел СССР Анатолий Адамишин. Но Япония, Китай, Индия (не полуазиатские, как Россия, а чисто азиатские страны) много заимствуют от западной цивилизации, и в этом секрет их успеха. Западная цивилизация создает наилучшие условия для развития личности. Не лучше ли российскому орлу повернуть на Запад и вторую голову?
Правозащитник Владимир Илюшенко говорил о том, что можно прочитать на заборах при подъезде к Москве: «За родину, за Глазьева», «Россия для русских» (тут же свастика), «Азеры, вон из России». Ни в политической практике, ни в СМИ сегодня не разделяются национализм и патриотизм. Их патриотизм – с пеной у рта, это не любовь к родине, а ненависть к другим. И русские могут попасть в категорию врагов, если с «нашими» не согласны.
«Либеральная империя» – оксюморон (соединение противоположных по смыслу понятий). Вбрасывать в общественное сознание такие невнятные лозунги – значит заигрывать с массовыми фобиями, это опасно.
Правозащитник Лев Пономарев напомнил, что либерализм должен активно защищать права людей. А что делают нынешние сторонники имперской идеи, российское чиновничество? У нас опять есть политзаключенные, возродилось преследование по политическим мотивам.
Политолог Марк Урнов полагает, что либерал не понравится тем, кто проголосовал против него на декабрьских выборах, пока не перестанет быть либералом. «Единственное, что мы можем сейчас сделать, – сказал Марк Урнов, – это тихо и спокойно… («Застрелиться!» – раздался из зала голос Чубайса.)…защищать свои ценности, зная, что мы надолго останемся в меньшинстве».
Такой вариант стратегии привлек не всех. Многие искали возможность расширить взаимопонимание между либеральными политиками и избирателями. Сергей Митрохин высказал убеждение, что «Родина» преуспела не за счет лозунга патриотизма. На первом плане у нее был социальный проект: отберем и поделим природную ренту. Либералы должны понять, что ценности прав человека могут быть привлекательны только в приложении к социальному проекту.
Социолог Лев Гудков сказал: опросы населения показывают, что различия между сторонниками разных партий в уровне ксенофобии исчезли. Уровень ксенофобии среди избирателей СПС и «Яблока» даже выше, чем у избирателей «Родины». Эксплуатировать эти настроения в политике бесполезно. В этой риторике ресурса для либералов нет. Денис Драгунский вообще считает, что вопрос о том, будет ли у нас империя или нация сограждан, не актуален. Живем в чем-то постгосударственном.
Вот так и поговорили. Больше всего обсуждали, какие империи были, какие бывают и могут быть. Было сказано много интересного и правильного с точки зрения науки, но к проекту либеральной империи все это отношения не имеет. Политический лозунг, брошенное яркое слово живет собственной жизнью, независимо от дальнейших пояснений самого автора лозунга. Слово «империя» будет принимать в головах миллионов позитивную окраску лишь в свете ностальгии по былому величию и благополучию (опять-таки совершенно несущественно, было ли на самом деле это величие и благополучие). Ностальгический миф дремлет, пока государство без труда находит деньги для ликвидации очагов социальной напряженности. Но случись серьезный кризис – и мы увидим на улицах не единицы, как сейчас, а многие тысячи людей, готовых бить морду всякому, чья морда не понравится. И тогда добропорядочные граждане готовы будут благословить полицейское государство – лишь бы не страшно было на улицу выйти.
А наутро после «круглого стола» был взрыв в метро – от этого продолжения дискуссии уже не уйти. И в пятницу вечером на «Свободе слова» у Савика Шустера один лидер «Родины» уже требовал полицейского государства, употребляя для этого эвфемизм «чрезвычайное положение», а другой призывал вооружить «крепких мужиков», которые будут «разбираться» без закона и государства. И уже генерал Анатолий Куликов, бывший министр внутренних дел, принужден был их вразумлять и утихомиривать – не потому, что он большой демократ, а потому, что профессионал и, значит, способен отличить реальность от безумия. Куликов объяснял, что для введения чрезвычайного положения по всей России потребовалось бы больше постовых, чем всего есть народу в нашей стране.
Дай-то Бог, чтобы безумие не стало реальностью.
Примечания
1
Обсуждение этого проекта см.: .
2
Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ 16 мая 2003 г.// Российская газета. 2003. 17 мая ().
3
См.: Филюшкин А. Начало Российской империи (к постановке проблемы) // Новая имперская история России и Евразии: Сб. работ в честь С. Беккера. М.: НЛО (в печати).
4
См.: Западники и националисты: возможен ли диалог? Материалы дискуссии. М.: ОГИ, 2003.
5
См.: Общественное мнение-2002: По материалам исследований 1989–2002 гг. М.: ВЦИОМ, 2002. С. 42.
6
Используемые мной термины условны – это аналитические конструкты, не претендующие на универсальность и тем более на применение в законодательстве. Под этническим большинством понимаются русские, за исключением тех, которые в некоторых республиках России фактически представляют собой этническое меньшинство. Термин «этнические меньшинства» в данной работе не совпадает с принятым в международном праве термином «национальные меньшинства» и применяется для обозначения не только диаспоральных групп, но и так называемых «титульных народов» (титульный – т. е. давший свое название) республик и национальных округов России.
7
Более подробно классификацию и анализ различных точек зрения на указанную тему см.: Цирель С. Русские европейцы между «казаться» и «быть» // .
8
Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, 1992. P. 7.
9
Автор и сам писал о трудностях реализации некоторых ее положений в Российской Федерации. См.: Национальные меньшинства: Правовые основы и практика обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в субъектах юга Российской Федерации / Под. ред. В. Мукомеля. М.: Центр этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ), 2003. С. 8.
10
См.: Правда. 1945. 25 мая.
11
См., например, обзор концепций на эту тему: Mukomel V., Payin E . The Causes and Demographic-Social Consequences of Interethnic and Regional Conflicts in the post-Soviet Union // In the Population Under Duress: The Geodemography of Post-Soviet Russia / Ed. by George J. Demko, Grigory loffe, Zhanna Zayonchkovskaya. Westviev Press, 1999.P. 177–183.
12
Янов А.Л. Патриотизм и национализм в России, 1825–1921. М: ИКЦ «Академкнига», 2002. С. 121–122.
13
См.: Русские: Этносоциологические очерки / Под ред. Ю.В. Арутюняна и др. М., 1992. С. 418–421.
14
См.: Речь И.В. Сталина на встрече с командующими фронтами 25 мая 1945 года // Правда. 1945. 25 мая.
15
См.: Русские… С. 418.
16
См.: Там же. С. 415.
17
Human Development Report’ 2000: Russian Federation. Moscow: UNDP, 2001. P. 84.
18
См., например, выступления депутатов Государственной думы на парламентских слушаниях о проекте федерального закона «О русском народе» 25 мая 2001 года: Информационно-аналитический бюллетень Государственной думы. 2001. № 30.
19
См. подробнее: Паин Э. Становление государственной независимости и национальная консолидация России: проблемы, тенденции, альтернативы // Мир России. 1995. № 5. С. 66. См.: Общественное мнение-2002… С. 19.
20
Бондаренко В . Указ. соч.
21
По материалам исследовательских проектов, выполненных под руководством Л.М. Дробижевой, «Посткоммунистический национализм, этническая идентичность и регулирование конфликтов» (1993–1996) и «Социальное неравенство этнических групп и проблемы интеграции в Российской Федерации» (1999–2001).
22
См.: Общественное мнение-2002… С. 128.
23
Исследования проводились в 55 регионах России в 2001–2003 годах в рамках финансируемого Фондом Дж. Д. и К.Т. Макартуров проекта, предусматривающего мониторинг правового регулирования и практики реализации прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Основные результаты первого этапа исследования опубликованы в книге: Национальные меньшинства.
24
Тарасов А . Погромы уже начались: 30 тысяч бритоголовых проводят санацию наших городов // Общая газета. 2001. 29 марта – 4 апреля; Он же. Бритоголовые: Новая профашистская субкультура в России // Дружба народов. 2000. № 2.
25
Он же. Наци-скины в современной России // Аналитический доклад Московского Бюро по правам человека. М., 2004.
26
По данным начальника отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом УБОП МВД полковника Виталия Митькина.
27
Тарасов А . Указ. соч.
28
Центр этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ), 2003. Наша классификация в основном основывается на материалах обследованных ЦЭПРИ областей юга России и в меньшей мере затрагивает центральные районы.
29
Кубанская пресса лидирует по числу националистических высказываний ().
30
Там же.
31
Политические и социально-экономические итоги 2001 года / Администрация Астраханской области. Астрахань, 2002. С. 37.
32
Данные опроса ВЦИОМ (Экспресс-7, 26–29 июля 2002 года).
33
См.: Русские… С.418.
34
Такой точки зрения придерживались специалисты Института социологии РАН и Института этнологии РАН на семинаре «Осознают ли себя русские единой этнической общностью? Существует ли „русская проблема“?», который состоялся в Фонде «Либеральная миссия» 30 января 2003 года (см.: . asp?Num=305).
35
См.: Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Аспект-пресс, 1996.
36
Договор об общественном согласии. М., 1994.
37
Политические партии Татарстана (-tat.html).
38
См.: Дубнов В., Рыбкин И. Мы живем в режиме спецоперации // Новое время. 2003. № 5. С. 15.
39
Thomas W.L., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. N.Y.: Knopf, 1918. P. 79.
40
Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации 2000 года. Москва, Кремль, 8 июля 2000 года.
41
Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации 2001 года. Москва, Кремль, 3 апреля 2001 года.
42
Мир за неделю. 2000. № 17 (перепечатка из газеты «Вечерний клуб»).
43
См. политический комментарий агентства «Никколо М» ().
44
См.: Атаку на правительство поддержат полпреды // АПН. 2003. 14 мая.
45
См.: Ключевский К. 40 объектов федерации вместо 7 федеральных округов (= 31550000000012595).
46
Граник И. Дырка от округа // Коммерсант. 2004. 12 марта.
47
Волостригов П. Нас превращают в бутафорию // Коммерсант. 2004. 12 марта.
48
Там же.
49
Граник И. Указ. соч.
50
Коновалов В. Губернаторы перегораживают страну // Известия. 1998. 22 сент.
51
Программа «Гость дня» на радиостанции «Эхо Москвы» 2 сентября 1998 года.
52
Программа «Герой дня» на телеканале НТВ 3 сентября 1998 года.
53
«Интерфакс», Москва, 9 сентября 1998 года.
54
Интервью на радиостанции «Эхо Москвы» 28 сентября 1998 года.
55
Программа «Новости» на телеканале REN-TB 6 сентября 1998 года.
56
РИА «Новости», Москва, 23 сентября 1998 года.
57
Программа «Большие деньги» на телеканале НТВ 29 сентября 1998 года.
58
ТАСС: Новости властных структур России от 23 сентября 1998 года.
59
См.: Общественное мнение-2002. С.43.
60
Цит. по: Цуканова Л. Очищение рядов // Новое время. 2000. 5 ноября ().
61
См.: Дробижева Л.М., Паин Э.А. Особенности этнополитических процессов и этнической политики в современной России // Политические и экономические преобразования в России и Украине / Отв. ред. В. Смирнов. М.: Три квадрата, 2003. С. 254–257.
62
Такая мысль была высказана в теледебатах между В. Жириновским и Б. Надеждиным «О Законе о русском языке как государственном» (см.: ).
63
Севастьянов А. Нужен ли нам закон «О русском народе»? ().
64
См.: Аналитический бюллетень Института стран СНГ. 2001. № 30.
65
Митрополит Кирилл: «Россия – православная, а не „многоконфессиональная“ страна» // Радонеж. 2002. № 8. См. также: Верховский А. Беспокойное соседство: Русская Православная Церковь и путинское государство // Россия Путина: Пристрастный взгляд. М.: Центр «Панорама», 2003. С. 79–134.
66
См.: Георгий Полтавченко высказался за усиление роли традиционных конфессий в жизни России // News.Ru. 2003. 26 февраля ().
67
Там же.
68
Кеворкова Н. Церковные иерархи за преподавание теологии // Gazeta.Ru. 2002. 11 окт. (= novosti&id=19050000000003188).
69
Там же.
70
Владимир Путин: Россия встречает свой праздник сплоченной страной // РИА «Новости». 2003. 12 июня (http.).
71
Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ / Под ред. B.C. Малахова и В.А. Тишкова. М., 2002. С. 129.
72
Большую часть социологических материалов ВЦИОМ, на которых во многом основывается эта работа, мне любезно предоставил Л. Гудков, которому я выражаю свою искреннюю благодарность.
73
См.: Гудков Л. Указ. соч. С. 130.
74
В их числе были В. Исаков от партии «Российское единство», М. Астафьев, лидер Конституционно-демократической партии – Партии народной свободы (КДП – ПНС), С. Бабурин и Н. Павлов – Российский общенациональный союз (РОС), И. Константинов – Российское христианско-демократическое движение (РХДД). См.: Коргунюк Ю. Современная российская многопартийность // Полит. Ру ().
75
Там же.
76
Зюганов Г. Драма власти. М.: Палея, 1994. С. 22.
77
См.: Станкевич С. Явление державы // Российская газета. 1992. 23 июня.
78
Опрос ВЦИОМ «Омнибус 93-1».
79
Подробнее см.: Паин Э. Становление государственной независимости… С. 65.
80
Филиппова Е.И. Проблемы адаптации русских беженцев в российском селе // Миграционные процессы после распада СССР / Под ред. Дж. Азраэла и Ж. Зайончковской. М., 1994.
81
Витковская Г. Вынужденная миграция и мигрантофобия // Нетерпимость в России: старые и новые фобии / Под ред. Г. Витковской и А. Малашенко. М.: Московский Центр Карнеги, 1999. С. 152.
82
Зюганов Г. Указ. соч. С. 202.
83
Жириновский В. Что мы предлагаем: Предвыборная программа ЛДПР // Юридическая газета. 1993. № 40–46.
84
Из «Кодекса чести» партии «Русское национальное единство» // Русский порядок. 1993. 19 дек.
85
См.: Гудков Л. Указ. соч. С. 25–33; Он же. Комплекс «жертвы»: особенности массового восприятия россиянами себя как этнонациональной общности // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1999. № 3. С. 47–60.
86
Лапин Н.И. Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России: Аналитический доклад. М., 2002. С. 39, 41, 43.
87
См., например, материалы дискуссии «Модернистский проект: спрос и предложение», состоявшейся 1 октября 2002 года ().
88
Левада Ю. Общественное мнение в год кризисного перелома: смена парадигмы // Сегодня. 1994. 17 мая.
89
Там же.
90
Подробнее о сущности, определении и критике примордиализма см.: Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997. С. 48–52.
91
См.: Шнилерман В. О новом и старом расизме в современной России // Вестник Института Кеннона в России. М., 2002. Вып. 1. С. 77–80.
92
Аннинский Л. «Взаимоупор»: Вечно невозможный диалог // Западники и националисты… С. 225.
93
Бондаренко В. Народ Вседержитель // Завтра. 2000. № 1(318).
94
Ethnic Groups and Boundaries / Ed. by F. Barth. Bergen, 1969.
95
См., например: Токарев С.А. История зарубежной этнографии: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1978.
96
Бондаренко В. Указ. соч.
97
Опрос ВЦИОМ Экспресс-7 (26–29 июля 2002 года).
98
Там же.
99
См.: Левада Ю.А. От мнений к пониманию. М.: Библиотека Московской школы политических исследований, 2000. С. 442.
100
См.: Кутковец Т., Клямкин И. Нормальные люди в ненормальной стране (. asp?Num=257).
101
См.: Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей: Доклад к 4-й Международной научной конференции «Модернизация экономики России: социальный аспект», Москва, 2–4 апреля 2003 года. М., 2003. С. 37, 45, 49–50.
102
Malinowski В. A Scientific Theory of Culture. N.Y., 1960.
103
См., например: Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Academia, 1995.
104
Brass P. Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison. NewDelhi, 1991.
105
Бондаренко В. Указ. соч.
106
См. подробнее: Шнилерман В.А.Националистический миф: основные характеристики // Славяноведение. 1995. № 6.
107
Уткин А. В России недостает западного человека // Западники и националисты… С. 108.
108
О росте популярности образа империи в современной русской литературе и в искусстве см.: Ланин Б. О современной русской антиутопии // Вестник Института Кеннона в России. 2003. Вып. 3. С. 78; Славникова О. Я люблю тебя, империя // Знамя. 2000. № 12.
109
Ципко А. Вопрос о власти в России не решен ().
110
См.: Чеснокова В. // Западники и националисты… С. 66.
111
Янов А. Отделим овец от козлищ // Там же. С. 353.
112
См.: Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
113
Здесь и далее речь будет идти только об этническом национализме, за исключением случаев, когда автор специально оговаривает, что имеет в виду гражданский национализм.
114
Гудков Л. Русский неотрадиционализм и сопротивление переменам. С. 132–133.
115
Там же. С. 133.
116
Marciniak W. Rozgrabione Imperium: Upadek Zwiazku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej.Krakow, 2001. S. 510.
117
Бондаренко В. Указ. соч.
118
Чеснокова В. // Западники и националисты… С. 53, 62.
119
Леонтьев М. Наша страна – самостоятельный проект // Роcсiя. 2003. 31 марта.
120
Приводятся данные, полученные в ходе реализации исследовательского проекта «Этнические и административные границы: факторы стабильности и конфликтности», 1993–1999. Руководитель и автор проекта Л.М. Дробижева.
121
См.: Гудков Л. Указ. соч. С. 132.
122
Общественное мнение-2002… С. 20.
123
Чикин В., Проханов А. От Патриотического Информбюро // Завтра. 1997. 11 февр. ().
124
См.: Дубин Б. Запад для внутреннего потребления // Космополис. 2003. № 1(3). С. 137.
125
Там же. С. 150.
126
См.: Гудков Л. Указ. соч. С. 133.
127
Малинова О. Европа как конституирующий иной России: Доклад на научно-практической конференции «Россия и Европейский союз», Калининград, 4–6 июля 2003 года.
128
Дискин И. Что такое традиционное общество // Роcсiя. 2003. 31 марта.
129
Цит. по: Бондаренко В. Указ. соч.
130
Там же.
131
См.: Гудков Л. Указ. соч. С. 141.
132
Там же.
133
См., например: Антисемитизм, ксенофобия и религиозная нетерпимость в российских регионах. М.: Объединение комитетов в защиту евреев в бывшем СССР, 2002.
134
Опрос ВЦИОМ Мониторинг (11 ноября 2002 года).
135
См.: Аверкин С., Бессарабова А., Литвинов А., Миронова Г., Семенова Е. Есть ли «кавказская крыша» у рынков? // Комсомольская правда. 2001. 24 окт.
136
См.: Восточно-Сибирская правда (Иркутск). 2001. 8 сент.
137
См.: Паин Э.А. Этнические особенности контрабанды наркотиков: мифы и реальность // Этнопанорама. 2003. № 1/2. С. 76–88.
138
«Ксенофобии и религиозному экстремизму необходимо поставить непреодолимые преграды», – об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями федераций еврейских общин РФ в Кремле. Информация «Страны. Ru» от 20 марта 2002 года (-n1.html).
139
См.: Карпенко О. Языковые игры с «гостями с юга»: «кавказцы» в российской демократической прессе 1997–1999 гг. // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ.
140
См.: Там же. С. 190.
141
Тишков В.А. Этнология и политика. М.: Наука, 2001. С. 131.
142
Александров Ю. Дикое поле // Новое время. 2003. 16 марта.
143
Опрос ВЦИОМ Экспресс-7 (26–29 июля 2002 года).
144
Кутковец Т., Клямкин И. Указ. соч.
145
Ясин Е.Г. Указ. соч. С. 70.
146
См.: Гудков Л.Д. Динамика этнофобий в России последнего десятилетия. Доклад на конференции «Национальные меньшинства в Российской Федерации», Москва, 2–3 июня 2003 года.
147
Чечня и мир: существует ли план окончания войны? Круглый стол в редакции «Новое время» // Новое время. 2002. 25 авг.
148
Россикова А.Е. Путешествие по центральной части горной Чечни // Записки Кавказского отдела Императорского российского географического общества. Тифлис, 1896. Кн. 8.
149
Опрос ВЦИОМ Экспресс-7 (26–29 июля 2002 года).
150
Общественное мнение-2002… С. 108–109.
151
Шурыгин В. Звезды генерала Квашнина // Завтра. 1999. 13 июля ().
152
Общественное мнение-2002… С. 42.
153
Штомка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 179.
154
Там же. С. 184.
155
Там же. С. 178.
156
Общественное мнение-2002… С. 45.
157
Ясин Е.Г. Указ. соч. С. 12.
158
См.: Дубин Б. Указ. соч. С. 141. См. также: Tismaneanu V. Fantasies of Salvation: Democracy, Nationalism and Mith in Post-Communist Europe.Princeton, 1998.
159
Калашникова М. Путин хочет иметь сильную власть, как в Татарстане: Президент Минтимер Шаймиев предлагает альтернативу институту полпредов // Независимая газета. 2000. 2 дек.
160
См.: Говорящий ночной голова: лосей на переправе не меняют? // Кандидат. Ру. 2003.11 марта ().
161
Сухова С. Надо быть осторожнее в реформе госвласти. Губернаторы надеются, что президентские полпреды – это ненадолго // Сегодня. 2000. 25 ноября.
162
Там же.
163
Общественность Карелии выступила против перехода на кириллицу // Известия. Ru 2002. 11 дек.
164
См.: Татарская азбука: кириллица или латиница? Дискуссии вышли на новую стадию // TatNews.Ru. 2003. 12 янв.
165
См.: Дубин Б.В. Православие в социальном контексте // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. 1996. № 6.
166
См.: Мусина Р. Ислам и межэтнические отношения в современном Татарстане // Иман нуры. 1996. № 4.
167
Сравнительные данные о распространении ислама в регионах России см.: Малашенко А. Исламское возрождение в современной России. М.: Московский Центр Карнеги. 1998.
168
Ходжаева Е.К., Шумилова Е.А. Возрождение религии и рост этнической идентичности татарской молодежи в Республике Татарстан // Проект «Процесс исламизации в Республике Татарстан: влияние на социальную стабильность и формирование новых идентичностей молодежи» под руководством Г.М. Мансуровой, 2000–2001 (рукопись).
169
См., например, указанные выше работы Л. Дробижевой и А.Малашенко.
170
См.: Национальные меньшинства: Правовые основы и практика обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам в субъектах Юга Российской Федерации. С. 58–60.
171
См.: Севастьянов М., Черненко Д. Героин нашего времени // Тверская, 13. 2002. 24 янв.
172
См.: Китайская мафия в Москве // Оренбургские губернские ведомости. 2001. 28 авг.
173
Макаров А. Кто придет на смену генералам? // Современная мысль / Исламский конгресс России ().
174
См.: Богоявленский Д. Этнический состав населения России // Население и общество. 1999. № 41.
175
Демографический ежегодник России. М., 1999. С. 366–371.
176
Янов А.Л. Патриотизм и национализм в России… С. 122.
177
См. примеч. 175.
178
Эти принципы еще в 1994 году я предлагал включить в первое послание президента Федеральному собранию, и в сокращенном варианте они были в него включены.
179
Наиболее удачный их обзор см.: Кортунов О. Вступ до Етнополiтологii. Киiв: Крок, 1999. С. 217–227.
180
Deutsch К. Political Community at the International Level: Problems of Definition and Measurement. N.Y., 1954.
181
См., например, обзор таких теорий: Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках. М.: РГГУ, 1999.
182
Hobsawm E. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambrige, 1990. P. 17.
183
Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности. М.: Русский мир, 1997. С. 85.
184
Янов А. Отделим овец от козлищ // Западники и националисты. С. 365–367.
185
Там же. С. 368.
186
Emerson R. From Empire to Nation: The Rise of Self Assertion of Asian and African Peoples. Cambridge: Harvard University Press, 1960. P. 96.
187
Smith A. Theories of Nationalism. London, 1986. P. 149.
188
Этническая политика Франции уникальна. В этой стране не признается существование этнических общностей – есть только граждане, и в этом смысле все – французы. Франция единственная из стран ЕС не подписала рамочную конвенцию Совета Европы «О защите национальных меньшинств», как, впрочем, и другие международные документы по этой проблеме, поскольку-де во Франции нет национальных меньшинств. Однако эта позиция не спасает страну ни от корсиканского сепаратизма, который все чаще переходит к террористическим методам борьбы, ни от образования моноэтнических или монорасовых анклавов, населенных мигрантами, ни от многомиллионной (самой высокой в Западной Европе) поддержки избирателями националистических партий.
189
Renan E. Qu’est-ce qu’une Nation? Discours et conferences. Paris, 1987.
190
См., например: Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ.
191
Smith A. Op. cit.
192
См.: Дробижева Л.М., Паин Э.А. Указ. соч. С. 242.
193
Малахов В. Зачем России мультикультурализм? // Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ… С. 129.
194
Из стенограммы выступления Ж.А. Зайончковской на семинаре Фонда «Либеральная миссия» «Миграционная политика в контексте национальных проблем», Москва, 20 февраля 2003 года.
195
Из стенограммы выступления В.И. Мукомеля на семинаре Фонда «Либеральная миссия» «Миграционная политика в контексте национальных проблем», Москва, 20 февраля 2003 года.
196
Янов А.Л. Патриотизм и национализм в России… С. 122.
197
Подробнее см.: Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003. С. 148.
198
См.: Белозеров B.C. Формирование диаспор Северного Кавказа // Вопросы географии и геоэкологии. Ставрополь, 1999. С. 42.
199
См.: Тишков В.А. Этнология и политика. С. 45–46.
200
Цит. по: Тишков В.А. Рго et Contra этнического федерализма в России // Федерализм в России. Казань, 2001. С. 24–25.
201
Он же. Этнология и политика. С. 151.
202
Deutsch К. Analysis of International Relations. N.Y., 1968. P. 195–200.
203
Многие из мероприятий, которые мы в аналитических целях отнесли к разным этапам, на практике могут осуществляться параллельно, поэтому понятие «этап» используется нами с определенной долей условности. Вместе с тем соблюдение общей последовательности выделенных стадий процесса интеграции необходимо. Идея интеграции может быть легко дискредитирована без достаточной подготовки проводимых мероприятий, особенно при имитации активности.
204
См. пресс-выпуск ВЦИОМ от 30 января 2001 года (№ 3).
205
На этом закончилось «обсуждение» моей книги. Тогда я не успел прокомментировать многие спорные высказывания и делаю это сейчас специально для ее второго издания. Кроме того, я привожу комментарий Отто Лациса, опубликованный в газете «Русский курьер» по итогам того же «круглого стол» ( примеч. Э. А. Паина ).
206
Впервые: Русский курьер. 2004. 9 февраля.




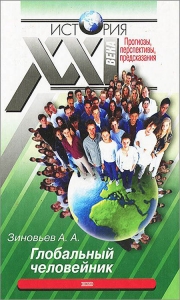
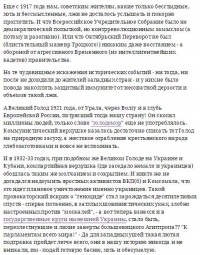
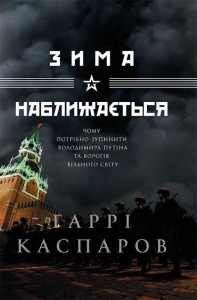
Комментарии к книге «Между империей и нацией. Модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России», Эмиль Абрамович Паин
Всего 0 комментариев