Василий Ярославович Голованов
Каспийская книга. Приглашение к путешествию
Новое литературное обозрение
Москва
2015
УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6
Василий Ярославович Голованов
Каспийская книга. Приглашение к путешествию. / Василий Ярославович Голованов. — М.: Новое литературное обозрение, 2015.
Василий Голованов — автор парадоксальных литературных исследований — книг «Нестор Махно», «К развалинам Чевенгура», «Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий» — на этот раз приглашает читателя в каспийское пространство. Путешествие вокруг Каспия — это не только погружение в экзотические ландшафты Апшерона, горного Дагестана, иранской Туркмении и каньонов Усть-Юрта. Автор не ограничивает себя рамками тревелога и осознанно идет навстречу острой проблематике времени. Мигранты, нефть, террор и большая политика... Но главное, что волнует автора, — это проблема понимания. «Наше единство в том, что мы разные», — заявляет он, возвращаясь из очередного «путешествия с открытым сердцем». Поэзия, нежная память азербайджанского селения Гала, разговоры с паломниками и дагестанскими фундаменталистами, настоящее Ирана, искренность, дружба и любовь — вот материя, из которой Василий Голованов строит общую «вселенную смыслов». Его незримыми постоянными спутниками в книге являются Ницше и Хлебников, Руми и Шри Ауробиндо, Станислав Гроф и Василий Налимов
ISBN 978-5-4448-0356-1
© В. Голованов, текст, фотографии, 2015
© ООО «Новое литературное обозрение», 2015
Содержание
То, о чем мы ведем речь, никогда не будет найдено посредством поиска, и однако только ищущий находит это.
Баязид Бистами
Моей жене Ольге
миг внутренней свободы когда разум открыт и явлена бескрайняя вселенная а душа вольна скитаться, смятенная и смущенная в поисках здесь и там наставников и друзей
Джим Моррисон
ЧАСТЬ I ШЯРГ, ВЕТЕР С ВОСТОКА
I. ТРАНС-АЭРО
Сейчас я появлюсь. Эскалатор, выходящий в здание Павелецкого вокзала, начинает складываться, превращаясь в плоскую ленту, на которой каждый, вынырнувший из глубин метро, становится хорошо различим. Эта лента, похожая на беговую дорожку — начало бесконечного пути, который мне предстоит пройти. По совести говоря, уже давно я не переживал той пустоты неизвестности, с которой начинается любое путешествие, прежде чем обрастет обстоятельствами, в которых я со временем обживусь и даже буду чувствовать себя комфортно. И пока, в этот момент начала, у меня в голове творится такой шурум-бурум, что развязавшийся шнурок, который хлещет меня по ботинку, я воспринимаю, как лунатик. Привычные детали интерьера метро выглядят незнакомыми. Мозг притуплен. Шагаю к выходу, мельком взглянув на толпу возле касс метро, которую образуют люди, только что приехавшие на разных поездах из других городов. Чтобы войти в Москву, им всем надо купить билеты на метро, а работает только одна касса. Горечь заброшенности в большом городе видна на их лицах. Не хотел бы я оказаться на их месте в очереди со всеми их сумками, баулами, детьми и небритыми подбородками.
Я тороплюсь вырваться из родного города, из привычного себя, почти вслепую тычусь, отыскивая путь вовне, в мир. Когда-то, уже давно, я надумал, намечтал, нашагал себе Остров — далекий северный остров Колгуев в Баренцевом море, — который стал моим духовным убежищем во внезапно изменившемся и, как казалось, зашатавшемся мире. История этого странствования, затянувшегося на десять лет, подробно описана. Теперь я болен снова. И сильнее. Ни мой остров, ни мой дом — в общем, хорошо обжитый, уютный и вполне пригодный для творчества домик под елями — больше не могут служить мне убежищем. Я чувствую, стрем нарастает. В мире что-то серьезно сбоит. И сам я плохо приспособлен к этому миру. Поэтому новое путешествие, в отличие от того, первого и удавшегося — это не попытка улизнуть от кошмара реальности, чтобы обрести силы и поэзию за пределами привычного, а попытка взглянуть реальности в лицо. Войти в мир без иллюзий. Но и без страха понять: что в действительности происходит? Составить о происходящем собственное суждение. Вот, пожалуй, и все предварительное объяснение. Что я обнаружу и каковым будет это суждение — бессмысленно даже гадать. По-прежнему, как герой русской народной сказки, я отправляюсь в путь с неизменным напутствием: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что…
Миновав турникеты, выхожу на отдельный перрон, где, готовый к отправлению, стоит стремительных обводов красный аэроэкспресс. Выбираю удобное кресло по ходу поезда. Достаю очки. Когда тебе сорок девять, так или иначе приходится считаться с собственной близорукостью, даже в том случае, если не хочется мириться с возрастом и молодость все еще бунтует в тебе. Спроси´те: а зачем она еще бунтует? И я отвечу: я, видимо, так и не сумел найти другой метафоры Пути, кроме путешествия. Почему же тогда я искал метафору, а не Путь? Может быть, именно для того, чтобы задать себе этот вопрос я, в конечном счете, и затеял все это. Но сначала мне очень нужна была молодость, мальчишество и даже определенная степень душевной незрелости, почемучества, любопытства, авантюризма. Нужно было запихать себя в невыносимую ситуацию, чтобы родились сущностные вопросы и ответы. Я ценю истины, рожденные испытанием. Кто-то для уяснения картины происходящего довольствуется свежей газетой за утренним кофе, но… я не хочу сказать, что ответ, который я получу в результате путешествия, будет лучше или полнее газетного: просто он лежит… ну, в совершенно другом измерении. В поле личного опыта. Очень, по предощущению, важного, если уж я в очередной раз решился на алхимическое претворение пространства в слово. Каспиана. Политика тут не при чем, хотя именно политики первыми обратили внимание на прикаспийский регион: с тех пор, как тут были обнаружены запасы нефти и газа, превосходящие по объему все месторождения стран Персидского залива, здесь с новой остротой и с новым безумием началась «Большая игра», ставками в которой являются ресурсы. Я отчетливо ощущаю, как сгущается вокруг Каспия поле невероятного напряжения, и если мир заиграется в свою «Большую игру», это пространство просто разорвет на куски. К чертовой матери!
Что может единичный человек противопоставить этому? Можно, например, вообразить себе пространство путешествия как модель мира. Мира, который почти уже стал единым целым, но в последние секунды перед этим спасительным единением как раз проходит фазу предельного разделения, отчуждения, вражды по крови, по вере, по узким своекорыстным интересам. В таком случае моя задача — в очередной раз, как астронавт, высадиться на поверхность незнакомой планеты, обнаружить ее обитателей, установить контакт, научиться разбирать запахи и цвет, фактуру живого и шероховатость минералов, нащупать входные порты иных ценностных систем (ислама) и согласовать их с портами моего компьютера, на жестком диске которого записана ценностная информация иного порядка. А в идеале нужно просто неторопливо впитывать впечатления, вести разговоры, дружить, жить — чтобы, в конце концов, подняться до какого-то неупрощенного, неполитического видения ситуации. Ведь, скорее всего, она складывается из бесчисленного количества разных факторов, разных судеб, разных представлений о будущем, которые мы, не приблизившись к ним, не прикоснувшись к ним, не в силах ни вообразить, ни определить. Путешествие нужно для знания мелочей. Это знание и есть свобода собственного суждения о мире. Я от души хотел бы, чтобы у этой книги был не один автор, а несколько: русский, европеец, американец, иранец, дагестанец, туркмен, казах. Тогда мы увидели бы прикаспийское пространство с разных сторон, изнутри разных авторских и языковых картин мира. Тогда всем вместе нам, возможно, и удалось бы разжать кольцо цепенящего бесплодного напряжения, присущего современной «внутренней жизни», и совершить духовный прорыв во всечеловечество…
Порой мне кажется, что у одного меня просто не достанет сил на такой тур. И мужества. Которое в 49 лет уже ни у кого не займешь. И все же делать нечего: выбор сделан, поезд тронулся, путешествие началось…
Все, чем я располагаю: название гостиницы, где для меня забронирован номер, и несколько телефонов принимающей стороны. Двойное подчеркивание: Алла. Это секретарь редакции журнала «Баку» в Москве. Этот журнал издается под патронажем фонда Гейдара Алиева, а значит, и всей президентской семьи. Алла разрулит любую ситуацию, если у меня будут трудности на местности. Еще одна запись: Эмиль Халилов, журнал «YOL» — он хороший фотограф, журналист, путешественник и просто интересный человек.
Меня интересуют:
Джазмен Вагиф Мустафа-заде.
Гобустан (!)
Ширванская степь.
Гирканский заповедник.
Нефтяные поля на Апшероне. Не стоит показывать, что ты стремишься их увидеть. Это не поощряется.
Экспресс мягко набрал скорость.
Я смотрел в окно на давно знакомый привокзальный пейзаж, на слегка просевший грязный снег. Минут через десять по вагону прошли контролеры и прокомпостировали мой билет. Еще через десять минут появились проводницы в фирменной одежде и предложили с передвижного лотка свежие газеты, шампанское и шоколад.
Прекрасно помню времена, когда в аэропорт «Домодедово» ходила обычная электричка, громыхающая, как бронепоезд и, к тому же, останавливающаяся на всех станциях. После поворота на аэропорт (платформа «Космос») в вагонах появлялись цыганки и назойливо предлагали погадать. Люди со слабыми нервами перед полетом старались задобрить этих ленивых, но вздорных пифий кто «синенькой» (5 рублей), кто «красненькой» (10 рублей).
Теперь телевизоры под потолком вагона показывали фильм о красоте Земли — где-то в синих водах Тихого океана медлительно плавали гигантские морские черепахи. Выходит, все так изменилось за 19 лет. Миг во времени истории.
За этот миг минула целая эпоха.
Внешне все изменилось даже к лучшему. Но перелицовка фасада, оболочки — она сопровождалась невидимой внутренней катастрофой. Вот, как будто коммунистический порядок рухнул — и стало «все дозволено». Почти по Достоевскому: «Если Бога нет, то все дозволено». Но Бога не было. По крайней мере, для большинства. Что же тогда? Почему распад Союза повлек за собой такое невероятное человеческое крушение? Люди утратили веру в справедливость? Но и справедливости тоже не было. Не было справедливости, а вера в правду — была. И было представление, что человеку надо жить «по правде». Тут уж поверьте мне на слово. А вот чего люди решительно себе не представляли — так это насколько через какие-нибудь десять лет всем на эту правду будет наплевать.
Это не простилось.
Надо додумать эту мысль, прояснить.
Но не сейчас.
Сейчас настроиться на дорогу, успокоиться, поглядеть в окно, что ли. Снег. Серый кирпич гаражей, выстроенных вдоль железной дороги. Вороны в голых ветках тополей… Нет, не то…
Последнее яркое воспоминание минувшего утра: моя подруга, Ольга, перед уходом на работу. Я только что вышел из ванной, почистив зубы.
— Послушай, — говорю я вместо прощания. — Сегодня первый день весны…
В ответ она улыбается, но как-то немного рассеянно, и с этой рассеянной, почти извиняющейся улыбкой вдруг горячо обнимает меня. И когда я в ответ прижимаю ее к себе, тыкается носом мне в подмышку, словно на все время разлуки хочет сохранить себе мой запах. Потом, помедлив секунду, говорит:
— Удачи тебе…
И, закрыв дверь, внезапно оставляет меня одного.
Что ж, мне бы тоже не хотелось растерять свою решимость. История эта не вчера началась и не завтра, конечно, закончится. И что ждет меня впереди — я не знаю. Слишком многое поставлено на карту. И от этой поездки зависит, состоятся ли другие, способные наконец завершить давно начатое дело. Попытку понять этот новый, сорвавшийся с катушек, сумасшедший мир. Не так-то просто решиться на это. Мои привычки и предпочтения давно сложились. И, возможно, путешествие, которое я начинаю, закончится таким сдвигом сознания, что мне несдобровать. Но иногда неудержимо тянет подобраться к самому краю и выглянуть за… Что там — любовь или смерть? Я не знаю. Или шанс по-новому понять себя и мир? Тоже не знаю. Я не подвергаю читателя риску. Я честно ставлю опыт на себе. Сейчас, когда наш аэроэкспресс приближается к аэропорту назначения, мне остается сделать только одну существенную оговорку: не я герой этого повествования, но я — автор.
Не буду расписывать современный аэропорт во всем его величии: это место, где особенно остро осознаешь огромность и безличность, почти физиологичность процесса всемирного перемещения людей. Когда тебя просвечивают на досмотре и заставляют вынимать ремень из штанов, как арестанта, подозреваемого в намерении совершить побег, вместе с тобою десятки мужчин вынимают ремни, десятки женщин снимают туфельки и все равно летят, разлетаются отсюда, как пух в разные страны. Сотни или тысячи людей сидят в пластиковых креслах или, стоя у окна, глазеют на взлетное поле. Сотни или тысячи пережевывают сосиски, пьют кофе, разыскивают туалет, стоят в очередях, покупают батарейки, анальгин, газеты, поднимаются или спускаются по эскалаторам, кормят детей и подтирают им попки, улыбаются, разговаривают, спят. Еще сотни от нечего делать слоняются по бутикам, разглядывая бессмысленные сувениры, покупая наборы подарочной косметики или выпивку.
Отсюда двадцать пять лет назад начались мои странствия. Тогда аэропорт «Домодедово» не был международным. В нем не было и признака шика. И удобств, если уж на то пошло, тоже не было. Я простудил здесь зуб, ожидая посадки на рейс Москва — Петропавловск-Камчатский в недостроенном павильоне, пахнущем сырым цементом. Помню острый приступ малодушия, когда в очереди на посадку я разглядел на загорелой руке своего попутчика похабную морскую татуировку. Я поглядел в его веселые, беспощадные глаза и понял, что стоит мне оторваться от земли — и ничего привычного вокруг не останется. Кругом будут чужие люди, незнакомые и, может быть, опасные обстоятельства. «…Я научу тебя есть змей…» — была первая фраза, которую я расслышал в автобусе Петропавловска. Странная фраза. На Камчатке нет змей…
Современная глобализация сгладила различия между странами и континентами, по крайней мере в облике аэропортов. Я отыскал рейс на Баку на табло «departure» и направился к стойкам регистрации. Возле них уже собралась очередь. Что-то в ней было не то. Что-то привлекло мое внимание. Да! Все люди в очереди были в черном. Моя зеленая зимняя куртка, смешавшись с этой чернотой, тоже как будто поблекла и совершенно затерялась в мощном преобладании черного. При этом, разглядывая людей, я заметил, что одинаковый цвет костюмов нисколько не смущает их, а в некотором смысле и успокаивает. Черные пальто, шубы, шляпы, кепки, куртки, рубахи, платки и, конечно, черные ботинки с острыми носами казались общим признаком, по которому эти люди группируются вместе. Каждый чужой, вроде меня, на черном фоне был отлично различим: я потом разглядел-таки одно или два цветных пятна, затертых, как и я, в черное, но, как и я, носители цвета были чужаками с российскими паспортами. Второе, что отличало эту очередь: она была тяжела. Количество багажа на тележках было почти невероятно. Представив себе, как медленно будет ползти эта толстая гусеница, я решительно двинулся к пустующей секции бизнес-класса, по-свойски улыбнувшись девушке за стойкой:
— Раз уж вы немного заскучали, давайте проверим, что выпало этому паспорту? — вкладывая максимум обаяния в каждое произносимое слово, сказал я, облокотившись на стойку.
— Но у вас билет эконом-класса, — сухо сказала девушка, щелкнув клавиатурой компьютера.
— Но что мешает нам прямо сейчас оформить его? — улыбнулся я.
— Я обслуживаю только бизнес-класс.
Что-то не сработало. Что-то оказалось ошибочным в моем понимании мира. Что-то устарело. Когда-то девушкам хватало улыбки, чтобы открыться навстречу. Теперь улыбка ничего не значила. Порядок восторжествовал.
Обидно было, что люди в очереди видели, как я провалился.
И мне ничего не оставалось, как пристроиться в хвост последним. И постепенно… Очередь облекла и повлекла меня за собою, убаюкивая мягким говором с характерным акцентом. Потом в русскую речь стали все чаще вкрапляться тюркские слова, женщины снимали шубы и прятали их в чемоданы, приготовляясь к бакинской весне, мужчины смеялись, обнажая золотые зубы и демонстрируя дорогие перстни, тележки двигались, чемоданы уносило лентой транспортера, и не прошло пятнадцати минут, как я получил свой билет, чтоб уж теперь на полном основании пуститься в неизвестность.
Ну а дальше — как положено. Взлет — посадка. И четыре часа между ними.
Одним из самых удивительных приключений, которые случались со мной в жизни, стала поездка в дельту Волги в сентябре 1999 года. Представляете себе, что такое дельта Волги? Это джунгли, сквозь которые можно пробираться только на лодке по душным протокам и заросшим тиной ерикам, это бескрайняя птичья страна, разместившаяся на жалких островках суши, поглощенных растительностью. Солнце, жара: розовые, похожие на девичьи груди нераспустившиеся бутоны лотоса и сонные полуденные колоды разломившихся вековечных ив с вывалившимися наружу высохшими осиными сотами. Жесткий шорох камышовых зарослей, обугленные молнией деревья, бесконечно разнообразный мир бликов и отражений, оттенков голубого и зеленого, переливающихся в жидком зеркале воды, звездная бездна, удвоенная все тем же неподвижно струящимся зеркалом, удары ветра с большой воды и, наконец, сквозь тростниковые крепи открывающийся глазам бесконечный, распаханный ветром желтоватый простор «степного моря», Каспия.
Не знаю почему, но дикий, нетронутый человеком простор необычайно волнует и возбуждает меня. Там, в дельте, я почувствовал, как дохнуло на меня жаром далеких пустынь, в которых упокоены развалины городов, разрушенных еще Александром и Чингиз-ханом. Мгновенная галлюцинация — запах лотоса, показавшийся запахом розы — вобрала в себя всю поэзию Персии. Старая кошма на постели старика-сторожа брандвахты 1 напомнила о рубищах дервишей-суфиев… Короче, меня понесло.
Я едва заставил себя вернуться в Москву.
В свое время одной поездки на Соловки хватило, чтобы пережить довольно-таки бурный десятилетний роман с Севером, результатом которого стало мое дитя — книга «Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий». В 1999 году она была уже написана, но не была еще издана, лишь в журналах удалось напечатать несколько отрывков. Я был свободен для новой любви, открыт для восприятия новых смыслов…
Тогда еще нашествие не началось. Тогда Средняя Азия — именно в силу отпадения ее от России — впервые начинала тревожить ум, как серьезная загадка. Судьбы Улугбека 2 или Ибн-Сины 3 казались изящными и драматическими арабесками в духе Борхеса. Всю зиму 1999–2000 я просидел в библиотеке, прихватывая то одну, то другую книгу по истории или географии Средней Азии, с восторгом и смутной тревогой ощущая, как пучится и нарастает Каспийское пространство, пронизывая и связывая в единый исторический ком не только собственно прикаспийские области, но целые регионы, порядочно отдаленные друг от друга: Бухару и Герат, Индию и Кавказ, Месопотамию и Хазарию, с которыми Каспиана оказывалась крепко сплетенной торговыми и культурными связями, движениями мысли и духа и, повторюсь, обстоятельствами общей истории, большинству из нас совершенно неведомой. Хотя и не менее напряженной, чем история Европы, которую мы изучали в школе и в университете и куда отдельным курсом, но в нерасторжимой взаимосвязи, была вплетена история России.
Когда я сбежал на Север, на свой остров, среднеазиатские республики еще были частью СССР. И хотя эта часть всегда казалась мне странноватой, я бы не осмелился тогда утверждать, что в гораздо большей степени, чем Стране Советов, эти страны принадлежат грандиозной матрице исламского мира, раскинувшегося от Мавераннахра 4 до Магриба 5. Я с ужасом понимал, что мой метод «вживания» в пространство, который неплохо зарекомендовал себя на Севере, нелегко будет применить на такой огромной территории. Там был небольшой остров, как будто специально предназначенный для того, чтобы спрятаться на нем от всех перипетий новейшей истории. А здесь… Хитросплетенные, как арабская каллиграфия, лабиринты древних и средневековых хроник и настоящее «море огня» сиюминутного исторического времени…
Это пугало меня. Но важнее оказалось не это. Помню миг — это был воистину миг, уверяю! — когда в моей голове сложились слова: «Тотальная география Каспийского моря».
Я понял, что это название книги.
Будущей моей книги.
И все!
С этого момента я уже не ведал покоя.
Вы спросите, почему «тотальная»? Потому что мне хотелось сложить вокруг Каспия три разных мира: Россию, буддийскую Калмыкию и мир ислама, облекающий Каспий со стороны Кавказа, Персии и Средней Азии. Хотелось диалога культур, религий, пространств. Необходимость такого разговора уже тогда, через 10 лет после распада Союза, чувствовалась очень остро. Внутри России всегда было много Востока, и в этом смысле молчание, непонимание и незнание друг друга — оно оборачивалось какой-то коррозией, разъедающей общество изнутри.
Я всласть посидел в библиотеке, выстраивая хронологии государств и сводя их воедино, выкладывал исторические пасьянсы и анализировал ходы в «Большой игре», которую вели Россия и Англия в XIX веке за преобладание на Востоке. Я проваливался в такие бездны истории войн, мистики и поэзии, о которых никогда не подозревал. В какой-то момент я буквально начал захлебываться прочитанным, и каждая книга утягивала меня еще глубже на дно, пока спасительная мысль не пришла мне в голову: если я не хочу, чтобы «тотальная география» оказалась устрашающей по объему компиляцией, достаточно намека на эту тотальность. Но что было абсолютно необходимо — так это самому совершить путешествие вокруг Каспия. Без этого книги не могло получиться. Случайно мне предложили командировку в Азербайджан от журнала «Баку». Это был знак. Настала пора отправляться в путь. Что не отменяло обязательного выстраивания исторического хронотопа, изучения Корана и знания царей, воителей, ученых, поэтов и святых Востока, которые тоже ведь должны были стать частью текста, частью моей аргументации…
В Азии с конца 80‐х годов творилось черт знает что. Войны и перевороты в Киргизии и Таджикистане, всегда чреватая погромами и свежей кровью напряженность разноплеменной Ферганской долины Узбекистана, каменное молчание Туркмении — все это не прибавляло мне оптимизма. Мне удалась только одна попытка прорваться к своей Азии: я съездил в Казахстан, на полуостров Мангышлак, откуда вернулся, совершенно завороженный каспийским пространством. Текст, который я привез, был несколько раз переписан и в конце концов напечатан, но даже в лучшем своем качестве он представлял собою лишь вдохновенный гимн, который можно было бы предпослать энциклопедии осадочных пород. Окаменевшие кораллы и глинистые сланцы; известняки, выветренные, словно знаменитые китайские шары из резной кости; горы из белого мрамора, лезвия кремня в осохшем русле горного потока, охристая, лиловая и красная поверхность земли, написанная смелыми, яркими мазками, как на полотне художника-авангардиста — все это вызывало мой неподдельный восторг, который и удалось выразить. А хотелось передать что-то Сен-Жон Персовское:
Распахнуты двери в пески, распахнуты двери в изгнанье,
Ключи у людей с маяка, и живая звезда растоптана на пороге:
Хозяин, оставьте мне ваш хрустальный дом в барханах…
Лето, сухое, как гипсовый слепок, вострит свои копья о наши раны,
Я выбираю погост времен года, прибрежную пустошь,
На дюнах мира восходит дымом дух Божий… 6
Поездка была слишком коротка, главное осталось недоговоренным и непроговоренным. Была еще одна, полная весны и любви поездка с Ольгой в Бухару и Самарканд. Это была отдельная красивая музыкальная тема, отголоски которой наверняка прозвучат еще в этом повествовании, но тогда в музыку диссонансом вторглись грозные звуки.
Настал момент, когда метрополия захотела, как о страшном сне, позабыть о своих бывших колониях, которые сама же когда-то завоевала. И тут произошло то, что происходит во всем мире: колонии попёрли в метрополию.
Помню как однажды, на излете 90‐х, в перелеске возле Переделкино ранним весенним утром я застал людей, спавших кру´гом на голой земле, сгрудив в центр круга малышей. На них были полосатые ватные халаты, а от ночной сырости их закрывал кусок толстого полиэтилена, теперь, к утру, покрывшийся изнутри испариной их живого дыхания. То были таджики, бежавшие с родины от межплеменной резни.
Еще помню, как возвращался с Мангышлака и в московском аэропорту мое внимание привлекли люди: они стояли, скованные страхом, перед окошком паспортного контроля. Страх происходил от того, что их могут разъединить, оттащить одного от всех остальных. Никто ни слова не говорил по-русски. Только вербовщики, которые привезли их из родных кишлаков, обещая работу и деньги. Они думали, что вернутся. Все думали, что вернутся. Но большинство осталось навсегда.
Еще воспоминание: перрон вокзала в Саратове. И какие-то маленькие, коренастые, жилистые мужички тащат зашитые крест-накрест кривой цыганской иглой огромные серые тюки в багажный вагон поезда на Москву. Я еще удивился несоразмерности этих тюков росту и силам мужчинок, но выбирать им, по-видимому, не приходилось: они бежали в Москву, как Африка бежит в Париж, а Индия и Пакистан — в Лондон. И там, в этих тюках, было все имущество неведомого мне племени, все его богатство, которое стерегли закутанные в платки женщины, со всех сторон обсевшие оставленные на платформе баулы. Теперь я каждый день встречаю в метро маленьких жилистых мужчин этого племени…
Возможно, большинство москвичей не было бы против, если бы приезжие, занимая нижние этажи социальной лестницы, обеспечили бы дешевой рабочей силой строительный бум в столице, уборку улиц и павильонов гипермаркетов, обслуживание посетителей в сети недорогих ресторанов «Му-Му», торговлю в палатках и другие надобности большого города и остались бы при этом незаметными. Если бы их не было видно, мы ведь не сказали бы и слова против, не так ли? Но так не бывает. Приехавшие с Востока не были, как легко догадаться, Сократами. Их привлекала работа, которой у них на родине не было и, значит, деньги. Деньги — прежде всего. Когда советская империя рухнула, а наши министры и генералы бросились растаскивать ее добро, иноземцы вслед за ними присоединились к грабежу. А как же иначе? Их, правда, не допустили к самому главному — ресурсам, но во многих областях они обставили русских. Я не хотел бы слишком углубляться в эту тему, потому что, честно говоря, для меня рассуждения такого рода травматичны. Я ненавижу слова «мы», «они» и все рассуждения о бедах, якобы «ими» причиненных. Все это покрывала наша власть. Наши чиновники. Наши законы. И первое мое убеждение заключается как раз в том, что «мы» ни в чем не оказались выше «их». «Мы» не проявили ни ума, ни чести, ни благородства, в разной степени присущих цивилизованным народам. «Мы», вернее, наши чиновники, продавали, брали взятки, разрешали «им» то, что запрещено законом. В своей мерзости «мы» и «они» оказались, увы, равнозначны.
«Они», как могли, обустроились на обломках истории государства российского. Кто лучше, кто хуже. Одни стали дорожными рабочими и дворниками, другие — таксистами, третьи — продавцами ворованных мобильников, четвертые — воротилами большого бизнеса, хозяевами рынков, монополистами цен. Разумеется, не все «понаехавшие» устроились отлично. Миллионы приезжих, как и большинство россиян, не знают ничего, кроме беспросветного и очень низко оплачиваемого труда, который питает их семьи где-то там, где умерла последняя надежда хоть как-то обустроить жизнь. Им просто некуда бежать, кроме России. Не на что надеяться, кроме России — даже в том виде, в каком она существует сейчас. Так есть, и с этим ничего не поделаешь. Мне нелегко принимать «как есть» действительность, с которой я ежедневно соприкасаюсь. Для этого нужны крепкие нервы и чистая душа. А именно душу труднее всего сохранить в чистоте: с усталостью приходит раздражение, и тогда сердце и мозг начинают продуцировать чувства и мысли, которых можно только стыдиться. И нужно время, чтобы очиститься… Как нужно мужество, чтобы начать разговор. Настоящая трагедия в том, что, оказавшись вместе в одном городе, мы продолжаем жить как бы в параллельных мирах, даже не разговаривая друг с другом. Общение сведено к нулю. Я не знаю, что думает обо мне рабочий-таджик, живущий среди труб отопления в подвале в ста метрах от моего домика. И когда на рынке продавец-азербайджанец грубо надувает меня, исполняя волю своего хозяина, все происходит молча. Я знаю, что сколько бы я ни спорил с ним — он не снизит цену, иначе он будет уволен. И он это знает. Я не знаю, что думают и что делают в Москве ребята с Северного Кавказа, которых я ежедневно встречаю на платформе электрички. Каждый день они направляются из пригорода на Киевский вокзал. У них сильные мышцы, открытый смех варваров, уверенных в своем праве на этот город и восхитительная грация диких животных. Не знаю — студенты они или бандиты. Но я ведь не подошел, не спросил: послушайте, джигиты, давайте поговорим. Расскажите, что вы думаете о нашей с вами жизненной ситуации? Чем вы занимаетесь? Почему уехали со своей родины? И что нам делать, чтобы в городе, где когда-то родился я, а теперь уже родились ваши, джигиты, дети — все устроилось все-таки по-человечески? Давайте позовем таджика, давайте позовем азербайджанца, аварца позовем, табасаранца — мы ведь никогда не собирались вместе, хотя живем бок о бок, никогда не пытались понять друг друга… И все наши представления друг о друге — это домыслы. Химеры, рожденные в немоте и темноте сознания. Чтобы они развеялись, нам нужно немногое: сесть и начать спокойно говорить. На то мы и люди. На то нам и дан язык…
О, наивная вера в слово! Скажи еще: «в начале было Слово». В начале было насилие, потом было насилие, насилие на этой земле не прекращалось никогда… Но если я, к примеру, не хочу участвовать в насилии? Я обращаюсь все-таки к слову. Еще одна — может быть, тщетная — попытка. Но скажите на милость, какой есть у меня выбор? Каким вообще может быть выбор, если свобода, в конце концов, осуществляется только на уровне индивидуального сознания?! Не существует свободы помимо сознания.
Вот я и реализую свою свободу, пытаясь начать этот разговор.
Все остальное, в сущности, неважно. За исключением задания редакции: написать о наскальных рисунках Гобустана. Потому что Гобустан — это действительно круто.
Вы слышали когда-нибудь про Гобустан?
Ну, или хотя бы интересовались наскальными рисунками?
Поверьте, это — одна из самых занимательных вещей в мире.
Ибо тут мы имеем дело с очень сложными — и, как правило, непонятными — потоками мифологического сознания. Австралийские аборигены до сих пор живут в реальности мифа, начало которого они называют «временем сновидений», и до сих пор общаются с магической реальностью с помощью рисунков.
Гобустан — это место, где найдено около 6 тысяч наскальных изображений глубокой древности. Есть рисунки, которым не меньше 25 тысяч лет.
А вышло вот как. Два фотографа, которых пригласил журнал «Баку», издающийся в Москве для представительства, поехали на разведку в Азербайджан, чтобы поснимать что-нибудь интересное. Их привезли на Гобустан, и их вставило… Но они не стали торопиться. Дело было в ноябре. Они обдумали, как лучше выставить свет, чтобы волшебство этой наскальной росписи было явлено читателю действительно как чудо. Снимали ночью, с пятью или шестью подсветками и огромной желтой луной в небе. Когда они привезли съемку, в редакции ахнули. Оставалось только одно: написать к этим снимкам текст. Долго искали автора. Безуспешно. И тут в редакцию зашла одна моя знакомая и кстати вспомнила обо мне: вы, говорит, ему позвоните. Он из таких. Он напишет.
А дело в том…
Прости, читатель, я все время ухожу от существа дела.
Когда в одно десятилетие мигом схлопываются совершенно разные культуры и разные уровни этих культур, это очень болезненно. Ибо «каждый народ говорит на своем языке о добре и зле; этого языка не понимает сосед. Свой язык изобрел он в обычаях и правах», — так говорил Заратустра Ницше 7. И тут он прав, его Заратустра. Именно так и случилось, когда русский мир, который вообще лет триста считал себя отдельным материком, вдруг накрыло волной ислама.
Ждали мы этого? Не ждали, разумеется. Что мы знали об исламе? Примерно то же, что рыночные торговцы знают о Льве Толстом. В массе. Но я-то сорок девять лет прожил рефлексивно, книжки, значит, почитывал: я-то что-то должен знать о мире ислама? Ну, должен. Тогда — какие поэты этого мира вдохновительны для меня? Какие герои близки? Желанны ли мне женщины мира сего? И какие слова, принадлежащие к языкам неевропейского происхождения, известны мне в этом птичьем перещелкивании десятков наречий, наполнивших мой город?
Ну, как человек с гуманитарным образованием, я мог бы назвать несколько имен, если угодно. Мистическая поэзия Джалал ад-Дина Руми 8 равно радует мое сердце, как и легкие четверостишия одинокого и печального скептика, Омара Хайяма 9. И перечень тюркских слов, так или иначе вживленных в русский язык и топонимику, был бы довольно обширен. Но ведь этого мало. Я не жил на Востоке, и я не знаю, чем сладок Восток, в чем он праведен, а в чем прав. Я пережил глубокое увлечение суфизмом, читая европейских авторов — Аннемари Шиммель 10 и немногочисленные переведенные на русский труды Анри Корбена 11. Образ В. В. Бартольда (1869–1930) — классического русского ученого-востоковеда — пленил меня не только полнейшей отрешенностью, в которой, благодаря Востоку, может укрыться человек, даже переживший в пору творческой зрелости большевистскую революцию, но и глубочайшим знанием и пониманием мусульманской культуры, которая приютила его, перекроила весь его внутренний мир, всю внутреннюю географию, и подарила ему сокровища, погрузившись в которые он стал неуязвимым в самые омраченные годы нашей истории. Так что если говорить начистоту, то не только раздражение наплывом пришельцев, столь объяснимое в большом городе, предопределило мой полет в стареньком «Боинге», но и тайна самого Востока. Не беда, что она была явлена мне в отражениях европейской учености. Тем даже лучше. Ибо это доказывает, что путешествие в поле общих смыслов все-таки возможно. И только оно целительно, когда разные культуры вдруг так опасно сжимает время Истории. А коль уж страх чужого и неизвестного коснулся тебя — вставай и иди навстречу ему. В пространства и ландшафты, где эти, столь разные, культуры Востока выросли, где остались их корни и люди корней.
Вспоминаю декабрь 2010 года, когда подспудно копившееся взаимное отчуждение вдруг взорвалось драками молодежи на национальной почве. Одного парня убили. Такого Москва еще не знала. Фронт национальных конфликтов, который всегда проходил где-то далеко, в Чечне или в Узбекистане, неожиданно обозначился прямо в столице, грозя превратить ее в настоящий ад… Московские парни с одной стороны и ребята из Азии и с Кавказа решили помериться силами на одной из центральных площадей столицы… Как жить тебе, несчастный обыватель, если Москва будет превращена в поле боя?! Десятки тысяч молодых людей готовились к сражению. И было ощущение, что правительство не знает, на кого ему опереться, как быть… Зато драться хотели все: приезжие, чувствующие себя обманутыми в этом городе, недовольные тем жалким куском жизни, который им тут бросили. Да и молодежь севера и востока Москвы, парни с Дубровки и Свиблово, точно так же брошенные на произвол судьбы, отшатнувшиеся от безвольно брюзжащих отцов, верящие только в силу, в кайф, в секс и в то, что право жить берется так же просто, как магазин на темной улице. Им хотелось драться, потому что ненависть, не знающую исхода, проще всего вложить в удар ножом или железной арматурой. Общество охватил страх…
Я был на площади Киевского вокзала 15 декабря, когда на ней должно было состояться побоище. Накануне не мог заснуть всю ночь. Не понимал, что делать… Стал придумывать речь… Я был уверен, что стоит мне сказать слово о примирении, как меня просто убьют — но не боялся этого. Когда утром приехал на площадь, она вся была заставлена тяжелыми военными грузовиками и автобусами; был один бронетранспортер и, конечно, спецназ — какой-то немыслимый центурион в черном пластиковом облачении, который позволял толпе издалека и с трепетом разглядывать себя… Да, с виду такой внушал обывателю страх и уверенность, что «ничего не случится». Но все было, конечно, не так просто. Внутри молодежи, внутри национальных диаспор за какие-то 24 часа было принято решение: не превращать Москву в поле боя… И все мы с благодарностью должны сказать друг другу спасибо за то, что побоище не состоялось…
Думаю, каждый, у кого не атрофировался еще мозг, чувствует грозную тектонику истории, мелкую тряску, предвещающую начало колоссального сдвига, ни масштабов, ни последствий которого мы не можем себе даже представить. Может быть, Россия будет стерта с исторической карты, как стерта была Югославия. Меня тошнит от предчувствия свежей крови. Потому что Косово — оно не рядом даже, оно теперь внутри. И не в нашей воле избавиться от него. Вместе с народами бывшей империи нам суждено изжить общую судьбу до конца: вместе спастись или вместе погибнуть. Я погибаю и спасаюсь каждый день, выныривая из человеческого водоворота Москвы. Чтобы не погибнуть окончательно, у меня есть только один шанс — моя книга.
Дрожь смертного ужаса проходит по всему миру.
Хотя пока что — это всего-навсего тихая катастрофа, вызванная всеми возможными кризисами сразу. В мире больше нельзя жить, исповедуя «уют и комфорт», потому что весь мир связан и эта связанность — давно не метафора, она ощутима, она страшна, за комфортом от нее не скроешься, сам комфорт под угрозой, в него — уже не только через телевизор — ломятся повстанцы, террористы, беженцы и славная американская солдатня, способная разорить любую страну как муравейник. Мы все давно понимаем, что в мире что-то не так. И нам надо что-то срочно менять в наших собственных представлениях о нем. Но что? Я еще не нашел ответ для себя. Чтобы найти, мне надо пересечь границу цивилизаций, границу сознаний. Пройти насквозь эти иначе сознающие пространства, подняться над, очистить дух и через мрак сердец, спящих беспробудным сном, узреть долгожданный Свет…
Прости меня, читатель, я слышу шумящую кровь в ушах толп, красный ветер у них в головах. Ледоход времени, треск пространства.
Я начинаю свой поход в наихудших для предприятий такого рода условиях.
Я отправляюсь на поиски собратьев по духу в далекие земли. Во все времена человеческой истории, даже самые темные, отыскивались мудрецы и святые. Они знали друг о друге, даже если время их земной жизни разделяли века. Они продолжали неслышимый диалог, не давая роду человеческому захлебнуться в собственном дерьме. Они верили в божественное предназначение человека. Без них любая история была бы только мрачным перечнем бесчестий и кровопролитий. Но с ними прошлое обретает другой смысл, превращаясь в тайную историю духа, света и радости…
Прости меня, господи! Со смутными мыслями улетал я в Азербайджан.
Прости и ты меня, читатель.
II. ЛИЦО В ТЕМНОТЕ
Экранчики телевизоров старого «Боинга» «Азербайджанских авиалиний», похожие на экраны лэп-топов начала компьютерной эры, неожиданно погасли. Самолет начал снижаться. За время полета я успел пролистать очередной номер журнала «Azerbaidjan airlines», который пронзил меня холодным алмазным сиянием стерильного мира богатых людей. Отложив журнал, я огляделся и заметил девушку. Распущенные каштановые волосы, чуть акцентированный тюркский разрез глаз… Лицо скорее тонкое, чем красивое: слепок отрешенности и приглушенной чувственности. Читала Мураками, втиснув в уши наушнички с какою-то музычкой…
Мысль о знакомстве, возникни она, была бы слишком банальной. И все же эта девушка необъяснимо притягивала меня. Но так же необъяснимо и настораживала. Чем? По первому впечатлению какой-то бесплотностью, «ломкостью» тела: она как будто не могла сидеть, не «сломавшись» в двух-трех местах, как кукла, оставленная в кресле наигравшимся ребенком. Потом по проходу провезли тележку с напитками, она взяла бокал красного вина и, едва пригубив его, вдруг стала не просто ломкая, а знаете, как на коробках пишут: fragile. Хрупкая. Одно неверное движение, одно слово — и она может разбиться на тысячи острых осколков… Я не думал знакомиться с ней, и все же не знаю, чего я больше испугался: сломать чужую хрупкость — или быть пронзенным и израненным этой хрупкостью, так опасно соединенной с приглушенной страстью…
Чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется что-то менять в своей жизни: она ведь непросто и не без ошибок строилась и только теперь более или менее сложилась сообразно моим представлениям о свободе, о творчестве и о любви. И все равно в каждом моем путешествии есть миг соскальзывания в пустоту, выпадения из самого себя, внезапно-острого переживания себя листком, оторвавшимся от ветки, игрушкой ветра, случайных обстоятельств, мимолетных встреч, когда, кажется, все возможно. Это всего лишь опьянение временем, внезапно отворившимся во все стороны, как в юности, эйфория, красивый автомобиль без тормозов, поездка на котором не сулит ничего, кроме катастрофы. И все равно — он обязательно случается, этот миг, когда ты с ужасом и одновременно с восторгом в сердце заглядываешь в какую-то иную вероятность собственной жизни. Как в пропасть. Один пронзающий миг.
Потом в иллюминаторе самолета мелькнула темная синяя гладь воды — Каспий.
Потом куски желто-серой, безжизненной суши.
Потом облака-облака, какие-то крыши внизу, тысячи крыш — и самолет садится на посадочную полосу аэропорта Гейдара Алиева в нескольких километрах от Баку.
Первое впечатление в аэропорту: я бестолково тычусь туда-сюда в поисках окошка, где проплачивается виза.
— Сначала сюда, — по-русски приглашает меня местный пограничник в форме цвета морской волны к окошку паспортного контроля.
— Здравствуйте, — отзывается на мое приветствие второй пограничник в кабинке, бросает на меня короткий взгляд и метит мой паспорт простым лиловым штампом.
— А виза? — как дурак, спрашиваю я, все еще не понимая. Он вдруг осознает, что настал момент для высказывания. Не так-то часто пограничнику в капсуле паспорт-контроля выпадает возможность высказаться. И он не упускает ее. Вкладывая в свое послание весь пафос, который он может донести до дурака-чужеземца и, одновременно, всю гордость за себя и за свою страну, он громко и радостно выпаливает:
— Гражданам России в Азербайджане виза не нужна!!!
Меня мигом выплюнуло в какой-то коридор, а оттуда — сразу за двери, где поджидают прибывших родственники и таксисты. Я прохожу мимо незнакомых лиц и фигур, думая увидеть что-нибудь вроде наспех сделанного плаката с моей фамилией или, на худой конец, услышать звонок мобильного, но тут вдруг кто-то тянет меня за рукав:
— Василий?
— Да.
— Я вас сразу узнал. Я — Азер, шофер машины.
— Азер… Здравствуйте… А как вы меня узнали?
— Я ваших всегда узнаю…
— Так… Куда нам? Да у вас тепло… Дайте-ка я зимнюю куртку сниму…
Мы вышли на воздух. Было градусов семь-восемь тепла. Никакого снега. Машина была припаркована под эстакадой: уютная Toyota Previa. Я снял куртку и удобно расположился на кожаном сиденье. Настроение поползло вверх. Все, в общем, складывалось.
— Ничего не забыли? — спросил Азер.
— У меня только рюкзак и сумка…
— Тогда поехали.
Помню, было косое вечернее солнце, дорога сухая, по сторонам — длиннющий, вообще, как будто, нигде даже не прерывающийся от аэропорта до самого города желтоватый забор, имитирующий крепостную стену: за ним скрывались те тысячи крыш, которые я видел с самолета. Зелень еще не проклюнулась. Лишь сосны качали темной хвоей, да в одном месте круглилась жесткой, почти черной листвой роща оливковых деревьев.
— Ее скоро не будет. Беженцы срубят, — проследил за моим взглядом Азер.
Я впервые услышал слово «беженцы», но не обратил на него особого внимания. Но оливы мне стало жаль:
— Срубят рощу на дрова?
— Нет, просто срубят. Поселок будут строить. Зачем на Апшероне дрова?
Я не сразу понял, что дрова и все, что горит, здесь заменяет нефть.
Азер разговаривал спокойно, уверенно. На вид ему было лет сорок пять: плотный синий свитер без воротника и серая джинсовая куртка облекали спортивное тело. Позже я узнал, что каждое утро Азер делает пробежку до бассейна, плавает, успевает завезти на работу жену своего начальника и еще переделать кучу дел — в общем, ведет спартанский образ жизни. Но тогда бросилась в глаза только непринужденная уверенность, с которой он вел машину и выражение естественного спокойствия на лице. Даже дорожная полиция, которая свирепствовала на дороге, казалось, не замечает его.
— Нас не тормознут? Пристегнуться?
— Можешь пристегнуться. Но не тормознут.
— Почему?
— Они же знают, чья это машина.
— А чья это машина?
— Сейчас это машина фонда Гейдара Алиева, но совсем недавно на ней ездила первая леди страны, жена президента Ильхама Алиева… Так что им не стоит связываться с такой машиной…
Потом мы въехали в город. Сразу делалось ясно, что это город большой. Но была в нем одна странность: как будто он весь почти был заново перестроен…
Не доезжая гостиницы Азер предложил поужинать. Мы свернули с проспекта и въехали на задворки больницы нефтяников. По разбитой улице брели люди. Вывески не было. Несколько оббитых ступенек подъезда, стеклянные двери, второй этаж. Все убранство ресторана составляли тростниковые циновки на стенах и сделанные из таких же циновок кабинки.
— Если хочешь прийти поужинать с женщиной — заказываешь кабинку, — сказал Азер.
Я огляделся: в зале были одни мужчины.
Азер заговорил с одним из официантов по-азербайджански.
Он заказал традиционный бакинский ужин: люля-кебаб, огурцы-помидоры, зелень. Официант знал его, тут же принес лаваш и чай в маленьких, красиво ограненных стеклянных стаканчиках — армудах. К нему прилагалась горстка крепкого колотого сахара, который составляет здесь, в Баку, непременную часть чаепития. По-хорошему чай следует пить вприкуску. Прекрасный пережиток времен не столь отдаленных, как и щипчики для сахара…
Первый нефтяной бум Баку пережил в конце XIX века. И тогда на месте города старого, еще совсем азиатского, с верблюдами и глинобитными стенами, был воздвигнут совершенно другой город — с особняками в стиле модерн и рококо, с трамваями, городскими садами, оркестрами в них и, разумеется, павильонами, где чистая публика того времени и изобрела этот, не лишенный своеобразного изящества, способ чаепития с колотым сахаром вприкуску. Так вот: способ уцелел. А город — куда-то исчез. Я надеялся как раз на то, что в Баку будет много дореволюционного модерна, который так пленяет меня — любителя старинных фотографий, ценителя булыжных мостовых, трамвайных депо, старых парков и деревянных киосков для чтения… Но как раз ничего такого нам на пути не встретилось. Со своими прямыми проспектами, запруженными огромными дорогущими джипами, «мерсами» и «вольво», город выглядел несколько одномерным.
Нам принесли кебаб. По-бакински следует произносить кябаб, говор здесь очень мягок. Даже нежен, как сам этот ароматный кябаб, сделанный из курдючного мяса овец и буквально тающий во рту. Свежие помидоры, пряная киндза, эстрагон и базилик увенчали наше скромное пиршество.
Когда мы вышли на улицу, уже стемнело.
Теперь мы ехали по главному приморскому променаду Баку — проспекту Нефтяников — одну сторону которого занимали только что отстроенные, шикарные здания этажей в двадцать, а другую — приморский бульвар, ощетинившийся метелками пальм. Мелькнул знакомый и сильно изменившийся в масштабе, очень небольшой в сравнении с набухшим телом города древний силуэт Девичьей башни.
Через минуту Азер свернул с трассы, мы проехали на бульвар к самому морю и внезапно остановились у шлагбаума с вывеской Yaxt Club. Вдаль, в море, уходил пирс. У этого пирса — несколько дорогих яхт. Одна, самая большая, принадлежала президенту, Ильхаму Алиеву. Похожая была у незабвенного Туркменбашы.
В конце пирса было небольшое здание, собранное, как будто, из нескольких блоков: барабан, чемодан и двухэтажное. В холле, выдержанном в морской тематике, стояли две большие модели английских фрегатов. На Каспии никогда не было иного военного флота, кроме российского, но модели таких размеров делают, видимо, только в Англии. Номеров было всего с десяток. Я открыл свой: вот это да! Давненько мне не доводилось жить в таком номере! Я отдернул занавески, распахнул балконную дверь. В сумерках еще видно было море. Серое, с россыпью портовых огней вдали. Долго же я добирался сюда со своей «Тотальной географией…»
— Завтра во сколько за тобой заехать? — спросил Азер. Во время ужина мы незаметно перешли на «ты».
— Часов в десять.
— Какие планы?
— Город. Первый день — город. Я здесь в первый раз… Надо войти… Хотя бы общее представление…
— Закажи завтрак на полдесятого.
Я остаюсь один.
На миг меня прожигает острое чувство заброшенности, как будто я отстегнул свою систему жизнеобеспечения от космического корабля и на несколько часов остался один в космосе.
Потом обменник, курс доллара. За сто долларов мне дают восемьдесят манатов. Манат, следовательно, стоит столько же, сколько евро. Он обеспечен сырой нефтью, как евро — европейской культурой.
Выходит, то и другое равноценно на весах мирового рынка.
Когда я вышел из обменника, накрапывал редкий дождь. Было безлюдно. Сбоку тянулась крепостная стена. Вокруг из земли, будто из иллюминаторов, вырывался свет. Лампы подсветки. Деревья. Это, значит, я в саду… Внезапно до меня доходит: я в Комендантском саду у стен Старого города — Ичери Шехер. Мне повезло… Не торопясь, постепенно входя во вкус и в конце концов смакуя каждый шаг по асфальту (после зимы и снежной каши под ногами!), я направился к воротам. Удивительно все же, как безлюдно вокруг. Отвык от такого ощущения. В Москве так уже не бывает…
Было еще совсем не поздно: наверно, часов десять. Ни плана города, ни карты у меня не было. Чтобы не заблудиться в узких улочках Ичери Шехер, я вошел в ворота и, выбрав самую широкую и прямую улицу, пошел по ней. Свет редких фонарей и настенных ламп, стилизованных под нефтяные светильники-чирахи, ложился на булыжники мостовой то серебряной, то золотистой паутиной. Кое-где в окнах горел свет. Здесь жилье явно было элитным, дорогим. Пару раз я видел вывески сувенирных магазинов. Вывеску отеля. Старый город был комфортно обустроен и напоминал скорее хорошо спланированный туристический объект, чем настоящий восточный город — глухие, темные, ночные, шершавые, саманные, густо заселенные людьми лабиринты старой Бухары. Здесь же все было несколько нарочито. Вынесенные наружу кондиционеры сильно портили ощущение подлинности старины. Потом я увидел черный провал, боковой проход, уходящий в темноту, и немедленно шагнул туда. Ощущения опасности не было. Я чувствовал это очень хорошо: тем вечером город был ко мне благорасположен. В конце темного прохода оказался двор, завешанный веревками, на которых сушилось белье. Измазанная известкой стена сохранила с советских времен надпись «лепка». Нарисованная на стене стрелка указывала в глубь двора. Там был когда-то кружок лепки для детей. Теперь его и в помине нет, конечно.
В канализационных трубах, выведенных прямо на стену, булькала вода. Высоко в небе, зацепившись за ветку дерева, болтался кусок полиэтилена, отражая то красный, то зеленый отблески. Жизнь была близко, жизнь готова была проявиться, пробиться наружу, ко мне: скрипнула затворяемая дверь, за окном послышался женский голос… Я постоял в углу двора. Никто так и не появился. Я настроил аппарат на режим ночной съемки и сделал первый кадр. Вернул режим просмотра, чтобы увидеть, что я снял, и вздрогнул: в темном правом углу кадра стояла девушка. Та девушка из самолета. Я быстро оглянулся: никого не было. Ни вздоха. Ни дуновения. Посветил голубоватым экраном дисплея туда, в темный угол. Свет лунными дольками отразился в кошачьих глазах, кошка шмыгнула куда-то и растворилась в темноте. Я сделал несколько шагов, прозвучавших неестественно громко. Двор был замкнут, девушке некуда было бы отступить, разве в проем приоткрытой двери за ее спиной…
— Эй! — позвал я.
Ни шороха в ответ. Я уже согласен был быть пронзенным и израненным ее хрупкостью, я сам готов был разбить ее вдребезги, только бы она проступила еще раз из темноты.
В конце концов, мы могли бы просто выпить по рюмке текилы в этом городе без откликов…
Внезапно приоткрытая дверь подъезда со страшным треском отворилась, и двое мужчин, стремясь опередить друг друга, по ступеням крыльца бросились прямо на меня.
— Туто´но! Туто´но! 12 — вскричал один из них, сворачивая в темный закоулок в тот миг, когда я уже приготовился быть сбитым с ног или получить удар ножом. Их шаги звонким эхом отдавались в темном ущелье проулка, как конские копыта.
Я не успел испугаться. Просто понял, что мне лучше отсюда уйти. Если там и была девушка, то она ждала не меня. А если меня, то тем хуже.
Я вернулся к свету и оказался на небольшой площади с часами, где улица разветвлялась на два рукава. Покуда я размышлял, каким путем следовать, мое внимание привлекла железная решетка на воротах, ведущих в сад старой усадьбы. Так строили только в начале XIX века. Значит, архитектурная перепланировка Старого города началась уже давно. Если бы у меня с собой был путеводитель, я бы смог прочитать, что стою возле усадьбы Гусейн-Кули, последнего правителя Бакинского ханства. Этот хан был незаурядным человеком. Когда в 1806 году Павел Цицианов, грузинский князь на русской службе, с небольшим отрядом осадил Баку, он предложил хану Гусейну сдать крепость. К тому времени Азербайджан давно утратил самостоятельность и был лишь захолустной провинцией Персидской державы, разделенной на ханства для удобства управления. Так вот, Гусейн-Кули хан согласился сдать крепость. Когда Цицианов подъехал к воротам Старого города, Гусейн-Кули выехал ему навстречу. В момент, когда хан передавал Цицианову ключи от крепости, один из приближенных хана выстрелил в князя из пистолета. Смерть настигла Цицианова в момент торжества. Лишенный предводителя, русский отряд бросился прочь, а Гусейн-Кули хан в знак одержанной победы послал голову Цицианова в подарок персидскому шаху 13. Восток есть Восток — так можно было бы истолковать ответ горячего бакинского хана посланцу холодной империи Российской. И этот ответ… черт возьми… Он стоит того, чтобы над ним поразмыслить…
По-прежнему накрапывал дождь. Окошко на первом этаже дома справа было освещено тусклым белым светом. Я подошел и заглянул внутрь. Ковровая мастерская! Старинные, громоздкие деревянные станки для производства ковров, клубки ниток… Дверь оказалась незапертой. Внутри мастерской была пожилая женщина.
— Салам алейкум, бабушка, — сказал я.
— Здравствуй, — отвечала она по-русски.
— Можно к вам?
— Заходи, — согласилась она и, разглядев меня, спросила: — Откуда?
— Из Москвы. Увидел в окно — мастерская. Я такое производство впервые вижу…
— Убыточное, — уточнила бабушка.
— Но я сфотографирую?
— Конечно, фотографируй…
Город, как по волшебству, вдруг открылся сразу, без труда. А главное язык, русский язык — он работал. Я скажу больше: ему были рады. А ведь могли бы и забыть за 19 лет. Или просто не отвечать — из принципа. Могло быть много хуже, как в том дворе: когда сердце бьется, бьется в предчувствии встречи, а в результате ни-че-го не происходит и ты убираешься, так и не поняв, упустил ли ты шанс, подброшенный Судьбой, или просто благополучно избежал неизвестной опасности.
Рабочий день давно кончился. «Бабушка» была уборщицей. Я походил среди старых станков с деревянными рамами, на которые были натянуты крепкие белые нити основы. Цветные шерстяные нитки лежали на деревянных скамейках в клубочках. Иногда эти клубки были размотаны и цвета перемешивались, составляя какой-то неподвластный ни одному мастеру сиюминутный узор. Я подумал о ткачихах — должно быть, они такие же женщины, как эта бабушка — простые, терпеливые. Ткут ковры, негромко переговариваясь о чем-то, прихлебывая чай, заедая кусочком пахлавы. Ковер — это исламская мандала, символическая модель мира, в которой нет ни одного случайного элемента, а все эти элементы, в свою очередь, собраны в космический порядок…
На скамейке среди клубочков цветных ниток лежали старинные ножницы. И впечатление было, что все это очень настоящее, живое, — и эти нитки, которые пушились на кончиках, как овечья шерсть, и большие тяжелые ножницы, и деревянные рамы станков, в которые были вкручены черные головастые винтики. Некоторые носили на своих круглых головках следы нетерпения — по ним явно били молотком — и эти вмятинки делали время почти осязаемым.
Потом в мастерскую кто-то вошел. Из-за станков я увидел мужчину.
Они поговорили с бабушкой по-азербайджански. «Из Москвы», — сказала она, удостоверяя мое право ходить и фотографировать. Но я, сделав несколько снимков, уже собрался уходить.
— Подставку под чайник купить не хочешь? — спросила напоследок бабушка, протягивая мне крошечный коврик размером 15 на 15 сантиметров.
— Сколько?
— Двенадцать манат, — сказала бабушка.
— Ого! — присвистнул я.
Ссыпал ей в руку горсть мелочи.
— Больше нет, — улыбнулся я, желая отблагодарить бабушку за гостеприимство.
Бабушка тоже улыбнулась. И мужчина, в свою очередь, улыбнулся мне, как давнему и хорошему знакомому.
В этом тоже был Восток — ничего не поделаешь.
Я вышел из Ичери Шехер как раз возле Девичьей башни. Темная, почти черная башня эта — самый древний символ Баку. В ней удивительно соединяются свойственная древним постройкам массивность и в той же мере присущее им загадочное изящество. Никто не знает, сколько ей лет. Археологические раскопы, окружающие ее и давно уже превратившиеся в самостоятельные музеи, обнажают толщи такой древности, что нелепо даже говорить о точной дате ее постройки. Во всяком случае, ширваншах Ахситан I (1160–1196), имя которого куфическими буквами 14 начертано на ее стенах, лишь поновил древнюю кладку башни, которая изначально была воздвигнута как колоссальный храм и форпост огнепоклонников задолго до ислама и до христианства. Как оборонительное сооружение, своего рода форт у стен Ичери Шехер, башня может вместить в себя 200 воинов, способных выдерживать многомесячную осаду. И в то же время эта суровая твердыня есть средоточие любовного мифа Баку. Легенда о шахе, который влюбился в собственную дочь и, преступно домогаясь ее взаимности, заточил ее в башне, с крыши которой она, не выдержав позора, бросилась вниз — лишь самый расхожий из мифов, окружающих башню. Другой, гораздо более поэтичный — о дочери шаха и о рыбаке, который приходил к ней прямо по морю (море тогда подступало к самой башне) и поднимался к возлюбленной по сброшенной вниз веревке… Казалось бы, им нужно лишь наслаждаться любовью и верить в то, что черные дни их разлуки пройдут. Но шах был хитер. Он сеял сомнения в сердце дочери. Он говорил: «Простой рыбак не может любить шахскую дочь, ибо никогда не постичь ему тайной красоты ее души. Не тела, а души. И вовсе не ты нужна ему, а мое царство!»
А к рыбаку подходили специально подосланные люди из простонародья и говорили: «Брось! Может ли шахская дочь любить тебя? Она лишь тешится тобой и забудет тебя ради богатого жениха, как только освободится…» Но рыбак не слушал их, он верил в свою любовь и в любовь своей возлюбленной, и эта вера помогала ему доходить по волнам до самой башни. Однажды он пришел и увидел, что его возлюбленная грустна. «Вправду ли любишь ты меня?» — спросила шахская дочь, измученная намеками отца. «Мне трудно доказать любовь свою в твоей темнице, — сказал рыбак. — Но однажды все изменится и мне нечего будет бояться». — «Так он и вправду хочет царства…» — подумала шахская дочь, вспоминая слова отца, и испугалась того, что подумала. Но рыбак ничего не заметил. Как и прежде, он спустился по веревке вниз и прямо по морю пошел прочь. «Нет, он не любит меня, иначе бы не ушел так скоро!» — подумала шахская дочь, и как только ее вера перестала поддерживать рыбака, он оступился в воду. Он понял, что возлюбленная не с ним в эту минуту, и страх потерять ее проник в самое его сердце. И едва проник туда этот страх, море разверзлось под ним, как бездна, и сомкнулось над его головой. Он утонул, а шахская дочь, поняв все, что случилось, бросилась вслед за ним с крыши башни…
Суфийская мудрость гласит: «Если любовь горит в этом сердце, значит, она горит и в том».
А если она дрогнула в одном из сердец?
Любой размен или усталость чувства — это провал, с первого шага по колено в море, а со второго — готово! Уже на дне…
Я не хотел бы морализировать на эту тему. Давайте просто представим, что рыбак не утонул. Он нашел себе рыбачку и обрел счастье с нею… А шахская дочь в один прекрасный день дождалась прекрасного принца, который влюбился в нее и взял в свой гарем любимой женой… Ни в том, ни в другом нет ничего страшного, и я не знаю, почему этот благоразумный финал не годится для притчи, но, видно, потому, что такая любовь не целит, не хранит, не пьянит по-настоящему, не прорастает в будущее: притчи про нее не слагают.
Я вспомнил ту девушку в темном дворе.
Если она оказалась на моем пути, то, видно, не для того, чтобы предложить бегло прописанный вариант бакинской love story.
Но для чего тогда?
Сидя у стен Девичьей башни на влажной скамейке, я вскрыл пачку сигарет Sobranie и закурил.
Рядом было несколько скульптур. Одна изображала тюркского воина на диком верблюде… Тюрки пришли сюда тысячу лет назад, после арабов, которые явились в VII веке как вестники новой веры — ислама. А до этого? Тут жили лезги, каспии, албаны… Кто были эти албаны? Поди знай. Во времена походов Александра территория Азербайджана входила в состав древней Мидии, подвассальной Персидской империи. Но кому и о чем это говорит? Нужна ссылка. Разъясняющие ссылки к моей книге грозят самопроизвольно разрастись в самостоятельное повествование. Точно знаю, что Кавказская Албания была христианской страной. И что огнепоклонники-зороастрийцы распяли апостола Варфоломея как раз у стен этой башни, прежде чем до них дошел смысл его проповеди. Потом их жестоко наказали воины ислама. Христиане, по Корану, были «людьми книги», и книга эта рассказывала об общих святых и пророках — Мусе, Исе, то бишь о Моисее и Иисусе… Христиан никто не преследовал: с них поначалу просто брали налог. А вот зороастрийцев, несмотря на наличие у них «Авесты» — писания, по древности сравнимого с книгами Ветхого Завета, — преследовали жестоко, еще более рьяно, чем язычников 15. Первоначально ислам был принят на завоеванных арабами территориях лишь правителями и их окружением. Христианство просуществовало здесь еще долго. Но в какой-то момент стало не до тонкостей. Знаете, как это бывает? Историческое время вдруг прямо из тихой живописной заводи обрывается вниз кипящим потоком. Приходят монголы Чингиз-хана, «человека тысячелетия». И дважды дотла разоряют страну. В 1225‐м и в 1231‐м. И надо как-то договориться с ними, потому что это — беспредел. Нужно, чтоб они оставили своих наместников, брали, как люди, дань… Тут не до христиан уже было…
Азербайджан — одна из немногих стран мусульманского мира, где прокламируется светскость и веротерпимость… Удастся ли этот эксперимент? Надолго ли он? Восток есть Восток. Нефть есть нефть. Большая игра — это безжалостная политика. И с любой терпимостью может быть покончено так же, как с армянами в 1990‐м…
Трудно поверить, что на улицах этого прекрасного города группы погромщиков ходили из дома в дом, из квартала в квартал, сбрасывая людей с балконов, убивая ножами, чтоб насладиться дрожью агонизирующего тела, судорогой смертного страха, звериным воплем человека, обращенного в клубок огня, запахом горелого человечьего мяса и паленых волос…
Через девять дней, когда погром был закончен, появились бронетранспортеры, солдаты. Бессмысленный горбачёвский прием… Им приказали — они сделали — проехались. Сто тридцать трупов, весь Баку в трауре, женщины задыхаются от слез, лица погибших в траурных рамках, горы цветов. «Русские, армяне, евреи — вон из Азербайджана!» И что? Слава богу, прошло двадцать лет, и я сижу здесь на скамейке на краешке забвения, которое, я знаю, тонко… Мне только кажется, будто всего этого не было… И тем не менее отсутствие чувства опасности в этот ночной час — оно совершенно неподдельно… И я благодарен за это городу. За забвение… Прощение? Но мы ведь не покаялись в содеянном. Значит, и не можем быть прощены…
Стало холодно. Я встал и пошел к гостинице через бульвар. Несмотря на раннюю весну, он казался уже живым и любовно ухоженным: розовые кусты на клумбе были заботливо присыпаны опилками, некоторые деревья, явно редких и изнеженных пород, были обернуты мешковиной. Главный променад по-над морем находился в стадии последней отделки: часть его была уже выложена светлой, в серый песочек, керамической плиткой, но кое-где работы еще не были завершены и плитка в специальных контейнерах дожидалась утра, когда придут рабочие. Две-три фигурки в спортивных костюмах пробежали мимо, да компания молодежи — две девушки впереди, трое парней сзади — оживленно смеясь, но упрямо держась порознь — проследовала в сторону морского вокзала. Было слышно, как за спиной хлопает огромный, отяжелевший от сырости триколор Азербайджана. В небе над городом, словно мечи каких-то фантастических трансформеров, скрещивались лучи синего, красного, зеленого и фиолетового цветов: это прожектора освещали телевизионную башню. Баку по-детски обожает игру огней. Здесь даже большинство фонтанов — с яркой цветной подсветкой.
Перед сном я взял фотоаппарат и просмотрел отснятые кадры. Первый: тот самый двор, чуть смазанный. И ее лицо в темноте. Она смотрела прямо в объектив, как будто знала, что я приду, знала, что сфотографирую. Невероятно.
Я почувствовал вдруг, что объяснение необходимо. Не объяснение этому факту, а объяснение с ней, с этой девушкой.
Скорее всего, слова не нужны.
Есть правды слишком горькие или слишком нежные, чтобы о них говорить. Достаточно взгляда, чтобы почувствовать другое естество, незнакомую мне женственность. Чтобы узнать этот город, эту страну, нужна женщина. Лучше всего — есть такие психологические тренинги — было бы сесть напротив нее, соединить ладони и посмотреть друг другу в глаза. Почему-то, когда в разговоре участвуют руки, плоть, пульс, перебегающий из ладони в ладонь, кажется, что видишь человека насквозь, чувствуешь его, как самого себя, чувствуешь себя одним существом с ним…
Но ничего не состоялось. Меня не оставляло ощущение, что я прозевал самое главное. Что? Что нужно было сделать, чтобы она не исчезла? Я не знаю. Не понимаю…
Мозг начал подавать ощутимые сигналы тревоги.
— Слушай, что ты сигналишь? — сказал внутренний голос. — Ведь я знаю об этом не больше, чем любой другой. Ты хочешь сказать, что штучки такого рода не подразумевались, когда ты решился влезть во все это? Неправда. Когда ты отправляешься в дорогу, все подразумевается по умолчанию…
Дело не в любовном приключении. То, к чему меня приглашали, было не любовным приключением и не флиртом.
Это было приглашение войти.
И я отказался.
Меня подбросило в постели. «Так, вот оно что?» — «А ты только догадался…» — «Да, представь себе». — «Ты, как всегда, поберег себя: зашел к бабушке, снял пару кадров». — «А что, надо было лезть на рожон?» — «Да, представь себе, надо было…»
Внутри разверзлась жуткая тишина. — «И что же теперь: все потеряно?» — «Откуда я знаю? Может быть, и все». — «Не бывает так, чтоб все… Шанс остается…» — «Смотри не упусти». — «Может, подскажешь — как?»
Сна не было ни в одном глазу.
Пора было честно встать, заварить чай, включить компьютер и отвлечься работой.
Например, посмотреть, как эта тема выглядела, когда еще была вполне безопасной. «Тотальная география Каспийского моря» — так ведь, кажется, все это называлось? Ну, вот вам «Тотальная география» 16. Когда-то я полагал, что эта глава станет первой главой моей книги. Потом структура её усложнилась, эссе, написанные в библиотеке, пришлось отделить от путевого дневника и книга разломилась надвое. Ее можно читать подряд, но можно время от времени нырять в повествование совсем иного стиля: из первой части книги сразу во вторую. Можно прочитывать сноски, которые есть еще одна размерность этой книги, но можно и не читать, поскольку они тормозят чтение. Каждый волен выбирать свой стиль путешествия в ландшафте собранных здесь текстов. В любом случае, в этой книге не скажешь всего, не меняя регистры и тональности повествования. Но как первая часть немногого стоит без второй, так и вторая теряет половину своих достоинств без первой. Поэтому, дорогой читатель, если тебя хоть сколько-нибудь увлек мой рассказ, загляни в дальние главы, забреди в далекие провинции — и ты вместе со мной окажешься там, где, может быть, и не надеялся побывать… А пока что — моя первая ночь в Баку. Я еще ничего не понимаю о Востоке. Просто курю, приоткрыв балконную дверь, и не могу заснуть…
III. НЕВСТРЕЧА
Ночью меня все-таки продуло. В носоглотке чувствовалась какая-то кислая, еще неявная боль. За окном был серый день без признаков солнца. Серое море, серые силуэты портовых кранов и такие же серые коробки небоскребов за портом.
День тронулся вперед на малых оборотах. Азер опоздал на пятнадцать минут, завозил детей своего шефа в детский сад. Мы поехали в город и для начала осмотрели памятники времен первого нефтяного бума, которые мне грезились вчера и которые правительство решило-таки сохранить: немецкую кирху, превращенную в зал органной музыки, Национальный музей истории, занимающий целый квартал в стиле модерн, филармонию, Музей искусств и, наконец, особняки вроде «Дворца счастья» или «дома Хаджинского», которые во всем их архитектурном излишестве, рожденном к жизни избытком провинциальной фантазии первых нефтяных магнатов, теперь представляли собой, как и все прочие здания начала XX века, лишь экзотические вставки в дорогой монолит нового города. Весомо выглядели советские монструозы — Президентский дворец, Совет министров и здание парламента — придавленное, впрочем, гигантской стройкой. Будущее здание гостиницы «Flame Towers» («Башни огня»), призванной увенчать своим силуэтом город, возводилось с завидным знанием сопромата — оно буквально разламывалось на три куска, вернее, по замыслу, раскрывалось как бутон цветка тремя колоссальными лепестками. Лепестки должны были быть окрашены в цвета национального флага. Рядом с будущей гостиницей и парламент, и мечеть неподалеку от входа в парк Кирова казались просто игрушечными.
Мы припарковали машину.
И какого черта понесло нас в парк Кирова?
Я-то думал, это просто старый парк, который чудом уцелел здесь, на верхних ярусах города, несколько запущенных аллей, чуть оттаявший запах субтропиков, остановившиеся карусели, железная дорога для детей, обзорная площадка…
И вдруг мы очутились на кладбище.
— Что это? — спросил я Азера.
— Аллея шахидов.
— В каком смысле «шахидов»?
— Мучеников за веру, погибших за веру.
— На Карабахской войне?
— Да.
Все здесь вывернуто наизнанку17 18.
Я почувствовал, как холодные капли дождя стекают у меня по виску.
Черные мраморные постаменты. На них во всех портретных подробностях были изображены убитые: в основном молодые мужчины. Симпатичные. Усатые. Таким бы жить да жить… По дате рождения большинство могли быть моими братьями. Но по числу прожитых лет я оказался значительно старше. Им было по тридцать. Мне — почти пятьдесят.
Пуля ударила мне в живот, и я минуту стоял не двигаясь, чувствуя, как острой болью приживается внутри ее беспощадная твердь, а из входного отверстия в теле безвольно выходит наружу сила жизни.
Я ничего не думал, ничего не ощущал.
Потом стал подниматься по лестнице, цепляясь за цементные перила.
Помню, было дерево, и по веткам его уже прыгали, пересвистываясь, птицы.
Мы оказались на смотровой площадке и смотрели сверху на город. Здесь валялись окурки, пахло мочой. Фуникулер не работал.
Город был виден как на ладони: и трилистник строящейся гостиницы, и синяя арматурная конструкция будущего центра «отца нации», Гейдара Алиева, явно предполагающая современную, нелинейную геометрию будущего здания, и подробные мелкие кубики Ичери Шехер, и даже мой Yaxt Club. Море во весь горизонт: неопределенно-синего, скорее даже серого цвета. Капли дождя опять брызнули в лицо. Я вытер их ладонью — получилось, будто вытираю слезу. Твердь пули в животе мешала дышать. Я стоял, опершись на парапет, едва удерживая вертикальное положение.
— Забросили парк Кирова, — по-своему истолковал мое молчание Азер. — А раньше сколько было народу! Сколько раз мы сидели в этом ресторане!
Рядом со смотровой было разбитое здание без окон и дверей, с облупившейся со стен штукатуркой.
— В этом ресторане?
— Ну да. Никак не вспомню, как он назывался… Не могу вспомнить, представляешь… Всегда в нем сидели…
— Послушай, — сказал я. — А почему ночью так мало людей в городе? Такие дома вдоль всего проспекта — и никого…
— А ты посмотри вечером на эти дома.
— Что?
— Просто: посмотри вечером на эти дома…
Мы тронулись с площадки, обходя обнесенные невысокими парковыми оградками участки, на которых, видимо, до того, как парк был заброшен, выращивалась рассада или саженцы деревьев. Здесь и сейчас было тихо, уютно, как будто мы попали в какой-то сельский уголок, который не ведает иных забот, кроме заботы садовода: где-то еще стояли грабли, где-то лопата. Высокая жестяная голубятня, в которой, правда, не было ни одного голубя, венчала этот идиллический пейзаж. Потом снова поднялись к центральной аллее, но на этот раз очутились перед памятником английским солдатам, погибшим здесь в 1918–1919 годах. «Those Honoured Here Died in the Service of their Country and Lie Buried in Azerbaijan» 19. Ну, Англия-то, по крайней мере, знала, чего хочет: эти солдаты пали, чтобы бакинская нефть не досталась ни Бакинской коммуне, ни объединенным силам тогдашней «армии ислама» и турок, которые мечтали вырезать комиссаров. Судьбу нефтяных приисков решали дни. Здесь, в Баку, тогда побывал английский разведчик, капитан Тиг-Джонс 20. Он оценил ситуацию правильно. Он понял, что нельзя терять ни минуты. Англичане держали тогда войска в недалекой Персии и сумели захватить контроль над нефтью прежде, чем это сделали активисты национального движения, руководимые неутолимым чувством мести по отношению к армянам, три месяца возглавлявшим коммуну в Азербайджане…
Вновь это повторилось спустя семьдесят лет. Помните митинги, демонстрации, «народные фронты», все эти речи, в которых неясно, что — идеализм высокой пробы, а что — провокация? Горбачёв испугался: он не знал, что делать с неуправляемыми процессами истории. Кто-то, оставшийся в тени, имел свой взгляд на неуправляемые исторические процессы. Кто-то, глядящий вперед, взял их в свои руки. Явилась неумолимая воля. Возможно, последняя резня армян в Азербайджане имеет и такой подтекст: «Армяне не должны иметь касательства к нашим нефтяным запасам». Не должно повториться ошибки начала века. А лучше вообще снять эту застарелую проблему… Раз и навсегда.
Заточки делали прямо в цехах заводов. Потом грузовики доставляли по нужным адресам молодчиков и выпивку, чтоб «завести» толпу… В таких делах всегда все неясно, все передернуто, концы в воду, в страшных персонажах с уголовным прошлым угадываются фигуры провокаторов…
Армянам не забыть Сумгаит (1988). Азербайджанцы клянутся хранить вечную память о Ходжалы (1992). Всего несколько лет — и все! Не было злодейства, которое не было бы совершено одними людьми против других людей только потому, что у них другой язык, другая кровь и другая вера. Страдания невинных жертв и с той, и с другой стороны столь чудовищны, что их нельзя ни описать, ни искупить. Просто читая об этом, чувствуешь себя больным, будто вдруг сталкиваешься с настоящим злом. Злом, как оно есть.
В столкновении вихрей этого зла не может быть ни правых, ни виноватых. Не может быть правды как таковой…
Если бы на аллее шахидов вдруг встретились Христос и Мухаммад — о чем бы они говорили? Нет, они не были сентиментальными пацифистами, эти двое. И что такое мир людей, знали они слишком хорошо и судили о нем сурово. Но пафос… Они бы отринули его, как ложь… Они не задержались бы здесь…
Я бы тоже ушел отсюда, но что мне сказать о непреходящем чувстве сиротства на аллее, где погребены братья мои по человеческой доле? Сиротство зябкое, военное, с пулей в животе, с чувством, что пред лицом братьев моих я сам умираю…
Братья, не верьте.
Не верьте тем, кто говорит, что ваша смерть была угодна Богу. Не смерть угодна Богу, а милость. У Господа хватит любви на всех, но если ты, брат, погиб в одной из самых страшных войн, какие бывают в истории — а именно в войне этнической — это не то же самое, что кончина святого. Кто-то, может, и был тут святой; кто-то, может, спасал население мирной деревушки во время налета чужих бородатых боевиков. А кто-то сам участвовал в этнической «зачистке» и сам был бородатым и чужим. Прости меня, брат. Ведь ты хотел, чтобы я сказал правду? Я скажу: «…Если бы пожелал твой Господь, то Он сделал бы людей народом единым. А они не перестают разногласить, кроме тех, кого помиловал твой Господь» 21.
Тебя, брат, Он, выходит, не помиловал. Он предназначил тебя не себе, а истории. Она призвала вас, она вложила в ваши сердца ослепляющий огнь и ярость, заставив взять в руки оружие, вы послужили идеальной смазкой, когда история захотела чуть-чуть шевельнуть своими старыми суставами… Кровь для старушки-истории! Что ж, ваши жизни не пропали даром: история принесла свои плоды… Может быть, они оказались горькими. Или мелкими. Может быть, вы вообще мечтали о чем-то другом. Но не о пуле же? Вы не ошиблись, вы просто сделали свой выбор, он оказался человеческим, слишком человеческим. Я убежден, где-то по ту сторону фронта, с той стороны зеркала, есть такое же кладбище, переполненное такими же красивыми парнями, связанными и, можно сказать, породненными с вами узами кровной ненависти, за которую они тоже заплатили жизнью. Выиграл ли кто-нибудь в результате? Сомневаюсь… Проиграл?
В каком-то смысле проиграли все.
На аллее шахидов было так пусто, что на миг показалось, что это кладбище забвения, что аллея никому не нужна, кроме безутешных вдов и матерей. Разумеется, здесь все не так по большим национальным праздникам, когда под сенью национального флага…
Капля дождя снова попала в лицо, и я опять размазал ее по щеке.
— Как ты? — спросил Азер, впервые внимательно заглянув мне в лицо.
— Ничего, — сказал я. — Только я не был готов к этой встрече… с ними…
— Может быть, хочешь пообедать? — предложил он.
Внизу старые краны нефтяного порта, который в недалеком будущем подлежал сносу, заскрипели так, будто приоткрывались адские ворота.
— Пора ехать отсюда.
Мы сели в машину.
— А война… — спросил я, стыдясь своей неосведомленности. — Она кончилась?
— Нет, покуда армяне занимают Карабах 22…
— Но военные действия… Они больше не ведутся?
— Слава богу, не ведутся. Я вообще не понимаю, как это все произошло. С нашими армянами мы жили душа в душу! — неожиданно эмоционально отреагировал Азер. — Из-за этой проклятой войны половина Азербайджана спустилась в Баку. Беженцы! Прошло уже двадцать лет, а они все еще беженцы! У них льготы на жилье, на работу, у них — пособия. Баку больше нет с тех пор, как здесь каждый второй — беженец. Ни работу найти, ничего… Деревня…
Азер произнес свою тираду о беженцах с накопившимся чувством раздражения. В Москве такие интонации можно услышать, когда говорят о «понаехавших».
Мы ехали по грязной улице вдоль железной дороги. Тут клубилась толпа народу, будто рядом была барахолка.
— Здесь рынок?
— Да.
— Давай остановимся, я пить хочу.
— Вино пить хочешь?
— Нет, лучше гранатовый сок…
Прямо у входа в грязный, тесный, со всех сторон обнесенный бетонными заборами рынок два парня металлическим прессом величиной в полведра вручную давили гранаты. Я залпом выпил один стакан, потом второй. Будто красный сок граната сродни был крови, которой я почти истек там, на аллее шахидов. Силы вернулись ко мне.
— Больше ничего не будешь брать?
Мы прошлись по рядам, на которых великолепными грудами лежала роскошная, с розовым отливом, курага, ядра очищенных маслянистых орехов, красные, с синими прожилками, огромные, как сердце, помидоры, россыпи желтого и дымчато-сизого изюма, молодые овечьи сыры, похожие на выпеленутых из мутной плаценты зародышей…
Я заглянул в пролом забора, за которым оказался рыбный ряд, как вдруг два женских глаза, как рыболовные крючки, поймали мой взгляд. Темные, цыганские глаза азартно блеснули. Обладательница этих глаз, курчавая и дикая красотка, повелительно крикнула:
— Иди сюда!
В руках у нее переливались медью чешуи два карпа.
Я рассмеялся и махнул рукой: уж чего-чего, а на цыганские штучки меня не поймаешь!
Базар галдел за спиной, когда мы вернулись к машине.
Улица, по которой мы ехали, называлась Завокзальная. Прилепившиеся друг к другу лавчонки по продаже снеди, автозапчастей и стройматериалов, дыры в бетонном заборе — через пути напрямик к вокзалу, гудки тепловозов, несколько крошечных закусочных и этот рынок напротив…
Я догадался, что совсем недавно так выглядели все окраины Баку. Теперь столица независимого Азербайджана срочно избавлялась от этой порчи: и хотя чувствовалась явная нарочитость в том, как город, будто надоевший грим, стирает с себя все признаки «советскости», нельзя было не согласиться и с тем, что все это — из знакомого и в прошлом, может быть, даже любимого, но только уже очень старого фильма, который невозможно смотреть до бесконечности…
Последний оплот советского градостроительства мы увидели около дорожной развязки, напротив помпезного отеля «Эксельсьор» и будущего центра Гейдара Алиева. Это была почерневшая от времени пятиэтажка. Она была так всесторонне обжита, так изношена, закопчена и устрашающа во всей своей голой нищете пред лицом творений гораздо более пафосных, что было непонятно только одно: как она здесь уцелела?
— Все дело в том, что эта пятиэтажка занята беженцами, — не без яда сказал Азер. — И они не уйдут отсюда, пока каждой семье не отвалят денег на отдельную квартиру, понимаешь?
Он притормозил.
Обвешанная со всех сторон помятыми телевизионными «тарелками», пропитанная какими-то помоями, вылитыми из окон, почти черная, пятиэтажка напоминала допотопный корабль, внезапно появившийся в приличном порту и угрожающий всем остальным эпидемией холеры на борту. Повсюду вокруг пятиэтажки сидели на корточках люди. Нужно прожить в Азербайджане чуть больше, чем неполные двадцать четыре часа, чтобы понять, что нефть — в том количестве, в котором она добывается сейчас в республике — может обеспечить каждому хотя бы прожиточный минимум. И любой человек, имеющий статус беженца — правда, не у всех он есть — получает пособие в 600 манатов (или 600 евро). Нефти хватает на то, чтобы богатые были богатыми, а бедняки были освобождены от труда. И вот они сидят вокруг своей пятиэтажки, похожей на чумной карантин, и ждут, когда она станет настолько безобразной, что правительство не выдержит и выкупит ее у них за круглую сумму, для того чтобы снести. Чем безобразнее будет их дом посреди новой столицы, дом, покрытый латками, через которые сочится человеческий гной, тем большую цену можно назвать, продавая его. Целыми днями они сидят на корточках, курят сигареты и сплевывают на землю…
Они — подлинные жертвы Карабахской войны, ее инвалиды. Тем более те, кто ушел в «беженцы» добровольно. Таких немало. Человеку, добровольно отказавшемуся от сокровища, от мира, которым был дом, сад или виноградник деда, ради того, чтобы променять их на статус беженца, променять труд на попрошайничество, терять уже нечего…
Но ведь я не за тем сюда ехал, не за тем…
Я опускаю руку в пакет с курагой и киш-мишем, купленными на рынке, набираю горсть и протягиваю Азеру:
— Хочешь?
IV. ВСТРЕЧА
Небо чуть приподнялось, дождик больше не пробрызгивал. Мы прошлись по ровной площадке, огороженной балюстрадой, с которой открывался вид на бесконечный, продолжающийся во все стороны, до самого моря вдали, мир крыш. Море в этом пейзаже выглядело каким-то условным элементом вроде театрального задника.
— Слушай, — сказал Азер, — Чего ты все-таки хочешь?
— Понимаешь, — сказал я, — когда я приезжаю в незнакомый город, я всегда иду на рынок, в книжный магазин и в местный храм. Но в мечети я чувствую себя неловко. Ты сказал, тут пир 23. Мне эту аллею шахидов с себя стряхнуть хочется…
— Правильно, — сказал Азер. — Место подходящее… Тут тебя встряхнут!
Я обернулся. Внутри площади была еще одна выгородка, за которой почему-то стояла миниатюрная нефтяная «качалка», гоняющая по замкнутому циклу воду, и мавзолей, обрамленный кипарисами и небольшими деревцами вроде вишен, которые еще не цвели, но уже пробудились к жизни, тлеющей под красноватой корою и готовой вырваться, выстрелить кипенным белым цветом из набухших почек.
Место это на окраине Баку называлось пир Хасан — в честь захоронения суфийского учителя, умершего в XVI веке. Но центром паломничества оно стало из-за одного странно завершившегося разговора, который состоялся между знаменитым мудрецом Абу-Турабом и не менее, чем он, известным в Азербайджане человеком — Гаджи Зейналабдином Тагиевым.
Путешествуя, невольно поглощаешь самые разные сведения в количествах, опасных для любого сочинения, будь то даже обычный путевой дневник. Но мы ведь продолжаем наше исследование действительности. А Тагиев — слишком яркая фигура, чтобы в таком деле обойти его стороной. В нем выявился подлинный гений азербайджанского народа, гений жизненного обустройства и небывалых начинаний: достаточно сказать, что до революции 1917‐го Тагиев был одним из самых богатых бакинских нефтепромышленников. Родился он так давно, что нам попросту трудно представить себе это время — в 1823 году, в семье башмачника. А умер уже после революции. Взлет его совпал с началом первого нефтяного бума. Его прежняя жизнь, полная неустанных трудов, которые позволили ему, сыну ремесленника, выбиться в люди, была буквально взорвана. Ему было уже за пятьдесят, он был владельцем нескольких мануфактурных лавок, небольшого керосинового завода и участка арендованной земли неподалеку от Баку, когда в 1878 году на этом участке ударил нефтяной фонтан. Ба-бах! Тогда еще цена на нефтеносные участки была невысока, он прикупил 30 десятин 24 нефтеносной земли — и началась феерия. В буквальном смысле слова — новая жизнь. Он неожиданно стал очень богат. Причем чем невероятнее становилось его богатство, тем шире расточалась его щедрость. Всю жизнь он осуществлял грандиозный план преображения своей родины в просвещенный и процветающий край. Как бывший каменщик, он начал со строительства. Говорят, Тагиев хотел построить в Баку 100 домов, но успел только девяносто девять. Он открыл в городе первую в исламском мире школу для девочек. Для этого ему пришлось задобрить щедрыми дарами императрицу Александру Федоровну (жену царя Николая II) и отправить своих посланников, духовных лиц в Мекку и Медину, чтобы добиться от тогдашних имамов разрешения на школу. Когда в школу пришли первые 20 учениц, это был подлинный переворот в сознании народа! Очень быстро выяснилось, что школе не хватает преподавателей — и он открыл двухгодичные курсы для учителей. В 1915 году в Баку было уже пять женских школ. Тагиев тратил на просвещение в Азербайджане в несколько раз больше, чем государство! Ежегодно он отправлял 20 талантливых юношей на учебу в разные университеты мира. Основал на Апшероне две школы земледелия и садоводства… Простое перечисление сделанного им не влезает в строку, норовит расшириться все новыми и новыми подробностями… Первый городской драматический театр, первый трамвай на конной тяге, первый в городе водопровод… Даже первый автомобиль был у Тагиева — а уж потом у Ротшильда. В голод 1892 года он наполнил зерном хлебные амбары и когда спекулянты подняли цены на хлеб, за свой счет кормил народ. Он добился перевода Корана на азербайджанский язык, собрал библиотеку русской и мировой классики, при этом всю жизнь оставаясь неграмотным! Кроме того, он поддерживал несколько школ в Персии, исламскую газету в Индии, был председателем армянского, еврейского, мусульманского и русского обществ в Баку. И вот, когда слава его как мецената была в зените, а богатство воистину не знало пределов — помимо нефтепромыслов, казну Тагиева щедро пополняла выстроенная им грандиозная ткацкая фабрика и рыбные промыслы на Каспии от Махачкалы до Баку — и состоялся памятный разговор Тагиева с Абу-Турабом.
Абу-Тураб — ученый богослов, настоятель одной из крупнейших мечетей в Баку, просветитель — был старым другом Гаджи Зейналабдина Тагиева. Он даже отдал в его школу для девочек свою дочь, хотя многие духовные лица, не одобрявшие эмансипации, упрекали его за это. Разговоры по душам не были редкостью между друзьями. И однажды Ахунд мирза Абу-Тураб сказал своему другу, миллионеру Тагиеву, что тот, возможно, чрезмерное значение придает своей материальной, светской деятельности, невольно упуская из поля зрения Аллаха. «На что ты будешь опираться, если все, что ты имеешь, однажды исчезнет у тебя?» — спросил Абу-Тураб. Миллионер Тагиев два часа поутру посвящал слушанию газет на русском, азербайджанском и арабском языках, чтобы быть в курсе мировых событий. Но при этом он был и глубоко верующим человеком. Однако вопрос друга прозвучал так неожиданно, что Тагиев был поставлен в тупик: «Что значит «исчезнет?» — с удивлением спросил он. — Слава Аллаху, видящему, милосердному, все это богатство по воле Господа пришло ко мне в руки — так куда же оно денется? Дворец в Баку, особняк в Москве, два имения в Персии, рыбацкие шхуны, грузовые суда, нефтяные вышки, английские ткацкие станки — все то, что крутится, движется, работает, питает страну, поддерживает просвещение, — куда оно может «исчезнуть»?
Абу-Тураб промолчал. Он умер в 1910 году, перед смертью попросив похоронить его подле могилы святого Хасана, которого считал образцом совершенного человека.
Прошло десять лет. В 1920‐м большевики, практически не встречая сопротивления, овладели Азербайджаном. Председатель Совнаркома красного Азербайджана Нариман Нариманов когда-то выучился на деньги Тагиева. Поэтому он не стал его никуда вызывать, приехал к нему сам. Он сказал по хорошему: уважаемый отец, Гаджи, пожалуйста, выберите себе дом, где вы будете жить, остальное все равно придется отдать… Все отдать…
Тагиев попросил дачу в Мардакянах. Революция страшно прокатилась по его семье: один из сыновей, будучи офицером «Дикой дивизии» 25, неудачно сыграл в «русскую рулетку» и разнес себе голову выстрелом в висок, другой сошел с ума… Все рушилось. Благодаря удивительному здоровью Тагиев прожил 101 год и перед смертью велел похоронить его у ног своего друга, Ахунда Тураба:
— Ибо ноготь его ноги знал то, что я не мог себе даже вообразить…
Вот в каком драматическом месте мы оказались. Здесь была поставлена последняя точка в разговоре двух старых друзей. Правда, Тагиева похоронили не «в ногах» у Ахунда Тураба, а неподалеку. Когда комплекс пира Хасан приводили в порядок, над могилой Тагиева возвели купол на изящных высоких колоннах. Рядом стоял бронзовый бюст…
Однако мне нужно было не это.
Мы прошли по дорожке в глубь территории: там было здание с колоннадой, назначение которого я не запомнил, а напротив — два невысоких мавзолея. Возможно, один из них и был возведен над могилой святого Хасана, потому что Азер мне потом несколько раз повторил, что это очень «сильный» пир. И действительно, там со мной стали происходить воистину странные вещи…
Нам пришлось подождать: внутри были какие-то женщины, их одежда висела у входа, потом они вышли. Азер зашел внутрь, о чем-то поговорил и через минуту позвал меня:
— Иди. Только куртку сними, свитер… Оставь снаружи.
Я снял одежду, спустился по ступенькам в небольшое низкое помещение, в центре которого стояло надгробие из известняка. Справа сидела женщина в черном платке, в пестром, но темном платье.
— Подойди, — позвала она приветливо. — Садись. Расстегни рубаху, закатай рукава…
Я посмотрел в ее глаза — они были синими и казались глубокими, внимательными… Страха не было. И в следующий миг я поплыл… Не знаю, как она это сделала, но я сразу ощутил, что я уже не здесь. Тлеющими палочками она легонько прижгла мне запястья, руки на сгибах локтей, живот, две точки на лбу, одну на шее, потом на спине и колени. Потом попросила три раза обойти вокруг пира, закрытого в это время блестящей материей. Я как заговоренный прошел первый круг. На втором круге она пошла вслед за мной, подняв над моей головой какое-то покрывало. На третьем круге остановила меня и попросила обнять это надгробие… Все это время она гладила меня каким-то твердым предметом (или это был ее твердый, как железо, палец?!) вдоль позвоночника. После этого я, как мне казалось, подошел к надгробию с другой стороны: там покрывала были откинуты, и оно уже не казалось сделанным из белого извеcтняка, скорее, оно было из майолики. В цветной глазури были сквозные отверстия, куда надо было вставить пальцы обеих рук и загадать желание. Я стал было просовывать пальцы — но они не слушались меня. Неожиданно я почувствовал прикосновение рук к этим непослушным пальцам — это были руки женские, горячие, легкие — и кисти мои словно ожили под этими руками, и пальцы сами вошли в дырки…
— Проси, — сказал голос, в то время как руки… Я все время чувствовал эти руки… Не думал, что они у нее такие нежные…
Я не знал точно, о чем просить, мне только хотелось, чтобы меня покинуло чувство сиротства, пронзившее меня на аллее шахидов, чтобы затянувшаяся невстреча с городом обернулась, наконец, встречей, чтобы эта земля открылась мне, приняла меня, ответила мне, как угодно мне ответила, но только не оставалась бесчувственной, немой…
Я не произносил вслух этих слов, но едва успел все это подумать, как испытал невообразимое облегчение — как будто кто-то сказал: да, да, это будет тебе, будет…
И душа успокоилась.
Я стал приходить в себя, обернулся — и увидел женщину. Уже другую. Она была в синем платке, повязанном так, что видны были только часть носа и глаза. Эти глаза я узнал сразу: темные, с тюркским разрезом. Это была она, девушка из самолета! Похоже, она заметила изумление узнавания в моих глазах, потому что ее ладонь и пальцы охватили мой затылок и подтолкнули меня к выходу.
— Иди, иди, — сказал ее голос.
Потом я смотрел, как режут барана. Баран лежал со связанными ногами на белом кафельном полу. У него была чистая шерсть, белая, меченая синей краской. Рядом на белом кафеле лежали блестящие, чистые, без единой капли крови, внутренности другого барана, зарезанного, видимо, раньше. Потом из подсобки вышел мужчина, слегка небритый, в несвежей, хотя и белой, в синюю полоску, рубахе и серых джинсах. Он взял два ножа и наточил их друг об друга. Потом присел, аккуратно положил голову барана в кафельный желоб, почти ласково взял его за шею одной рукой, а другой одним движением перерезал ему горло. Рана распахнулась: в алом зеве разреза видна была трубка пищевода и кровь, короткими пульсациями брызгающая из перерезанной артерии в белый кафельный желоб. Мужчина некоторое время удерживал барана, как бы унимая его смертную дрожь, но потом сердце барана перестало выбрызгивать струйки крови, мужчина выпрямился, развязал барану путы на ногах, потом в два счета снял с него шкуру, вынул внутренности, отрезал голову, голяшки ног и подвесил освежеванную тушу на крюк.
— Что это было, Азер? — спросил я, когда мы тронулись обратно.
— Это был правильный баран, правильно зарезанный мусульманином. Чистая пища, «халал».
— Что?
— Исполненный обет, услышанная молитва — не остаются без ритуальной трапезы.
— Нет, я вообще не о том. Ты видел, как я вел себя в этом пире?
— Ну да.
— Почему у меня ощущение, что я обходил два разные надгробия: одно было из известняка, цельное, белое, второе — цветное, с дырками, куда я просовывал пальцы?
— Так и было: сначала в пире Хасан, а потом в этом, втором… Там какая-то святая лежит, сейидка 26. Ты там пальцы-то и просовывал…
— Пальцы помню… Не помню, как переходил из пира в пир. Там женщина была — другая, да? В синем платке? Молодая?
— Что, понравилась? — рассмеялся Азер.
— Да я не про то…
— Про то, про то, — опять усмехнулся Азер.
V. ЭМИЛЬ
С Эмилем мы встретились недалеко от гостинцы, на бульваре под Флагом. Я прождал лишние пять или семь минут, влажное полотнище флага грохотало над моей головой, ветер дул одновременно со всех сторон, и я подумал, что это бакинское тепло ранней весны — оно обманчиво и коварно, я не переставал чувствовать себя простуженным, а завтра предстояло ехать далеко за город — на Гобустан. А потом он появился, и я сразу угадал его — высокий, лет тридцати пяти, правильные, почти неестественно тонкие черты лица, черные, проницательные, ясные глаза, волосы, явственно более длинные, чем предписано местной негласной традицией, приятный негромкий голос…
Мы познакомились. Я объяснил, что меня интересует Гобустан — ведь он наверняка не раз бывал там.
— Съемку по Гобустану можно посмотреть в редакции, — согласился Эмиль. — Но я предлагаю сначала совершить небольшую экскурсию по Старому городу. Вы там уже были?
— Вчера ночью немного погулял, но с удовольствием…
Мы отлично прошлись. Ичери Шехер жил обычной жизнью туристического центра. Но Эмиль, не обращая внимания на ковровые магазины и лавки торговцев антиквариатом, показал мне свой город с пристрастием коренного бакинца. Наибольшее впечатление на меня произвел дворец ширваншахов — правителей средневекового государства Ширван, в 1501 году павшего под ударами неотвратимого шаха Исмаила Сефеви 27. Дворец представлял собой небольшой, но очень крепко связанный архитектурный комплекс из светло-желтого известняка. Выстроенный в два этажа, он не казался особенно роскошным. Правда, покрытые некогда небесной глазурью купола дворца и мечети пострадали во время бомбардировки города русской эскадрой в 1806‐м, а позднее, когда во дворце разместился русский гарнизон и арсенал, внутренние его покои были перестроены, из двадцати пяти комнат верхнего этажа было сделано шестнадцать и от отделки ничего, естественно, не сохранилось.
Сотрудница музея, которая вызвалась провести экскурсию, была пожилой и доброй женщиной, никакого упрека ни за две дыры, проделанные русскими ядрами в куполах, ни за то, что дворец был отдан на постой солдатам, она не вкладывала в свои слова. Просто такой была память народа. И правда о том, как создавалась Империя — чего мы, изучавшие историю при социализме, естественно, знать не могли.
Хотя, в общем, следовало бы. Резиденция ширваншахов была выстроена Халилл Улахом I (1417–1465), окончательно перенесшим столицу из цветущей, но сейсмически невероятно опасной Шемахи на неподвижный известняк Апшерона, в Баку. Дворец — воистину драгоценный, как принято теперь говорить, артефакт, сохранившийся от почти 700‐летней истории Ширвана — средневекового государства, существовавшего на территории нынешнего Азербайджана. Исключительная ценность дворца понятна: бурный конец Ширвана в схватке с шахом Исмаилом, гибель на поле боя последнего ширваншаха Фарруха Ясара (1465–1501), взятие персами Баку, уничтожение всего архива рукописей, запечатлевших историю Ширвана, разграбление и разрушение цитадели Бугурт, сокровищницы ширваншахов в предгорьях Большого Кавказа, и, наконец, фатальная гибель от очередного землетрясения старой столицы — Шемахи — все это в какие-нибудь двадцать лет стерло память о древнем Ширване 28. Главным свидетельством о нем остался дворец, полный загадок. Потайные комнаты и подземные ходы, система акустических «телефонов», связывающих этажи и отдельные помещения; мавзолей суфия, громадный банный комплекс, семейная усыпальница и тихие садики с бассейнами, где плавают медлительные золотые рыбки, которые своим безмолвным присутствием не могут помешать ни беседе, ни размышлениям — вот какое сложное, многоуровневое и многофункциональное устройство венчало собой архитектурный ансамбль Старого города. Наиболее загадочным во дворце оказалось помещение, которое обычно называют диван-ханэ (зал для совещания советников и министров ширваншаха). Но есть и другое мнение: что это не зал, а мавзолей, который возводил для себя последний властелин Ширвана Фаррух Ясар. Но поскольку постройка не довершена (непроработанными остались некоторые детали резьбы), а тело несчастного ширваншаха не было даже найдено на поле боя, гипотезу нечем подкрепить. А непосредственно под мавзолеем находятся тайные подземелья, а в них — исцеляющие от нехватки материнского молока священные колодцы…
Дворец скрывал тайну зодчего, имя которого можно прочесть, поймав в зеркало фриз главного портала, глядя на который обычным взглядом, можно прочесть лишь имя правящего шаха и каноническое изречение о Судном дне. Свое имя архитектор начертал в зеркальном отражении: Мемар-Али. Эта загадка так и не была разгадана до ХХ века, когда появились ясные, не металлические зеркала…
Дворец-загадка… Эмиль знал, куда привести гостя…
Исподволь я наблюдал за ним.
Аристократизм — вот слово, которое непроизвольно рождалось из этих наблюдений. Достоинство. Осанка: голову свою Эмиль нес высоко. Негромкая, но выразительная, без единой неправильности, русская речь, изысканная вежливость и в то же время некоторая отстраненность, как будто, прогуливая меня по территории дворца, Эмиль не переставал думать о чем-то своем.
Начало уже смеркаться, когда музей стали закрывать и мы отправились в редакцию. Она размещалась в глубине Старого города, в каком-то глухом дворе, вход в который Эмиль отпер своим ключом. Во дворе лежала огромная сломанная ветром ветвь старого дерева.
— Март — самый ветреный месяц в Баку, — сказал Эмиль. — Слышишь, как воет ветер?
Я взглянул вверх. Мы стояли на дне двора, как на дне колодца. Я разглядел наверху какую-то обмазанную глиной и укрытую полиэтиленом лачугу, никак не вписывающуюся в парадный ансамбль Ичери Шехер, но, очевидно, оставшуюся со времен какой-то принципиально иной достоверности этого места. На снимках начала ХХ века Старый город похож на Бухару — глинобитные мазанки, лепящиеся одна к другой, как соты насекомых…
В редакции никого не оказалось. Это, похоже, вполне устраивало Эмиля. В этот поздний час он здесь чувствовал себя хозяином.
— Показать тебе что-нибудь? — видимо, мои фотографические опыты во время нашей экскурсии не ускользнули от его внимания, и он, в некотором смысле, теперь предлагал мне разделить с ним радость своего творчества. Папки в компьютере лопались одна за одной, открывая настоящие россыпи сокровищ.
— Это Средняя Азия. Остатки построек времен Хорезма. Я взял такси на целый день и попросил отвезти меня в пустыню, где они стоят до сих пор… Дождался вечера. Снимал на закате…
Я медленно — и, надо заметить, третий раз за один день — погружался в измененное состояние сознания. Снимки, которые я видел, особым образом резонировали во мне. Мне казалось, я всю жизнь хотел увидеть как раз это…
— А это Тибет. Просто горы. Я люблю горы.
Потом была серия абстракций: снимков грязевых вулканов. Такой вулкан, который может быть совсем маленьким, не выбрасывает ничего, кроме воды, пара и жидкой красноватой или серой глины. Но края кратера или дыхальца могут обрасти какой-то невообразимой перламутровой пылью или желтыми, как живые цветы, серными наростами. Русло грязевого потока может быть изысканно-серым, почти голубым, и если оно пролегает по терракотовой подложке, а в воде, выплюнутой вулканом из маленького кратера, отражается розовый отблеск заката — то это такое совершенное творение мастера-природы, что мы впали в своего рода транс, рассматривая фотографии. По-настоящему Эмиль знал красоту камня. Магию минеральной жизни. Оторваться было невозможно, это было настоящее колдовство…
— Где это снято? — спросил я.
— Недалеко, — он разворачивал мою карту, — здесь… Вот. Впрочем, карта так себе. Можем посмотреть космическую съемку.
Поисковик Google немедленно выдал местность в нужном масштабе.
— А вот, кстати, Гобустан, — словно вспомнил о чем-то Эмиль. — То место, куда вы поедете завтра…
— Ну-ка, ну-ка…
— Наскальные рисунки есть повсеместно, но в основном они в трех местах: вот здесь, на холме под горой Джингир, основная группа — на Беюк-даше, там их обнаружили, и контора заповедника тоже там, и есть еще множество интересных на Кичикдаге, если только вы туда доберетесь… Учти, это большие расстояния, несколько десятков километров…
— Так, а вот это что? — ткнул я в экран, заметив какие-то складки рельефа, необъяснимым образом стягивающиеся в одну точку.
— Это тоже грязевой вулкан. Их тут два, видишь? Эти высокие — метров по четыреста — Кягниздаг и Турагай…
На время я словно оглох. Карта приковала меня к себе: если, например, двигаться отсюда… Или отсюда…
— Послушай, — сказал я. — А если добраться до края вот этого плато, где мы будем — то далеко до ближайшего вулкана?
— Понимаешь, — сказал Эмиль, — там надо проделать один небольшой трюк.
— Какой трюк?
— Надо свернуть с шоссе на нижнюю дорогу, которая ведет в каменоломни. Там, кстати, есть несколько интересных камней, на которых скалолазы тренируются… Когда я там тренировался, надо было дойти до поворота, где дорога начинает подниматься вверх… Там тоже сумасшедшие камни… И вот от поворота до вершины вулкана — уже близко. Спустился — поднялся. Час — туда, час — обратно.
— Час — туда, час — обратно…
Больше я уже ничего не помнил. Мы вышли из редакции, когда на дне нашего двора стояла тьма, хоть глаз выколи. Только где-то на полпути к небу трепетала на ветру и теплилась каким-то первобытным светом лачуга наверху.
Эмиль запер ворота. Ему надо было ехать домой в какой-то дальний микрорайон.
— Ну что, пока? — сказал он.
— Еще увидимся, — убежденно ответил я.
VI. ЗАБЕГАЛОВКА
Оставшись один, я понял, что голоден. Где ближайшее к гостинце кафе, я так и не успел узнать и, отправившись наугад, вновь вышел на проспект Нефтяников. Слева было светло, там высились красивые дома, образующие фасад города с моря. Справа сразу за перекрестком сгущалась тьма, в которую были вкраплены красноватые и зеленые огни жалких вывесок. Я повернул налево. Довольно быстро я достиг первого дома, но в роскошном цокольном этаже не было ничего, кроме бутика дорогой одежды от Burberry. В следующем доме был такой же роскошный бутик обуви и изделий из кожи Sergio Rossi. Я тупо остановился у витрины, уставившись на красивые красные туфли, но тут же привлек внимание секьюрити: охранник бесстрастным взглядом отсканировал мою куртку, рюкзак и джинсы и, не говоря ни слова, исчез за прозрачными дверями. Это несколько отрезвило меня. Я поглядел сквозь витрину внутрь магазина: там не было ни одного человека. Более того, я опять оказался на улице совершенно один. Прохожие, недавно справа и слева обтекавшие меня, куда-то исчезли. Оглядываясь, я поднял взгляд выше и заметил, что в доме с бутиком Burberry нет ни одного освещенного окна. Я посмотрел на соседний дом — то же самое: двадцать два этажа темноты. О, черт! Весь этот роскошный парад домов, выходящих фасадом на море, необитаем! При этом все дома были искусно сверху донизу подсвечены укрепленными на их стенах цветными прожекторами. Игры света и теней, темных провалов и ярких поверхностей создавали полную иллюзию жизни этих домов. И, однако, я брел по необитаемому городу…
Пришлось повернуть назад. Довольно скоро на моем пути опять стали попадаться редкие прохожие, я опять стал причастен к жизни людей, а не бутиков, и так, следуя за людьми, я вступил в темную, освещенную только всплесками фар несущихся автомобилей, часть проспекта Нефтяников. Первая вывеска на азербайджанском языке, еле тлевшая в темноте, привела меня к низкой полуподвальной норе, в которой размещался ночной магазинчик, где продавались пиво, вода, шоколад, какие-то печенья, орешки и прочая несъедобная еда международного производства.
Вторая вывеска, неприятно и нервно мигающая красными вспышками, скрывала за собой теплый пар, запах съестного и несколько столиков. За ними расположилось шесть или семь одетых в немодные кожаные куртки мужчин, которые, неторопливо разговаривая, пили пиво, курили и играли в карты. Мой приход несколько сбил их с размеренного ритма их занятий, они явно были здешними завсегдатаями и не ждали пришельцев со стороны. Но голод — не тетка, я увидел незанятый столик и устремился к нему. Меню на азербайджанском языке ничего мне не сообщило, поэтому, когда подошла хозяйка — довольно еще молодая, но сильно расплывшаяся женщина, по-свойски распоряжавшаяся среди своих посетителей в халате и черных колготках с дырками, — я обратился к ней по-русски:
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, — отвечала она любезно, хотя чувство любопытства явно пересиливало в ней все остальные эмоции.
Несомненная удача: русский она, по крайней мере, понимала.
— Что-нибудь поужинать… Люля-кебаб, зелень, лаваш, чай…
— Люля-кебаб нет, шашлык… — произнесла она, не без труда подбирая забытые русские слова.
— Ну и отлично. Шашлык, огурцы-помидоры — есть?
— Ест.
— Зелень, чай, лимон…
Она записала что-то на бумажке и удалилась за портьеру, отделявшую зал от кухни.
Я же, не в силах более удерживать внутри то, что было пережито за этот день, достал тетрадь и, примостив ее на уголке стола, чтобы она не слишком бросалась в глаза, принялся записывать… Про аллею шахидов, про пир Хасан, про Эмиля, дворец ширваншахов, эти дома без огней…
Я очнулся, когда голос хозяйки над моей головой произнес:
— Вы пишете? — глаза ее выражали неподдельное изумление.
— Да, пишу.
— А зачем? — в ее глазах пылал огонь любопытства, когда она ставила передо мной тарелку с двумя палочками шашлыка.
— Я первый раз в Баку, много впечатлений, вот и записываю, — честно сказал я.
— А вы русский? — спросила она, не в силах оторвать от меня взгляд.
Я понял, что в этот момент не она одна смотрит на меня, и хотя в кафе по-прежнему стояла тишина, я чувствовал, что карты отброшены и главная игра происходит сейчас между нами.
— Конечно, русский.
— Из России?
— Из Москвы.
Эта короткая фраза решила дело: в глазах хозяйки отобразилась подлинная признательность, как будто, если бы я сказал, что приехал из Пскова или из Орла, я не удовлетворил бы ее ожиданий. Компания за моей спиной тоже зашевелилась с чувством несравненного облегчения, карты были заново перетасованы и вброшены в игру, хозяйка принесла с кухни недостающие блюда моего меню, но уходить не собиралась.
Она отодвинула дальний стул, стоявший в торце стола, поставила на него колено и поинтересовалась:
— Вкусно?
— Да, очень вкусно! — я был голоден как волк, шашлык был из хорошей баранины, и в моих словах не было ни капли притворства.
Не меняя интонации, она вдруг сообщила:
— А я — беженка из Карабаха. Все здесь — беженцы… Я собрала немного денег, чтобы открыть это кафе. Оно называется «Айгюн» — в честь моей дочери…
Мне показалось, что сидящие сзади слушают ее.
Так вот чем объяснялся странный, «немодный» стиль одежды этих немолодых мужчин! Они — беженцы. Скорее всего, даже не из городов, а из сел, обычные крестьяне, ставшие здесь, в Баку, дорожными рабочими или копателями канав… В этом пугающе-роскошном городе они обрели маленькое пристанище, вполне соответствующее их представлениям о сердечности и о комфорте… Немного пива, немного дешевой еды, разговоры с хозяйкой — что еще надо вчерашнему крестьянину, чтобы провести вечер?
Когда-то они работали на земле, любили свои дома, свои яблоневые сады, орехи, плоды труда своего, плоды вещественные, круглые, ароматные. Они любили то, что любят все крестьяне и что так трудно объяснить горожанину: запах навоза, слегка запревшей соломы, овчин, солярки и конского пота… Они не хотели никуда уезжать, не хотели обогащаться, война прогнала их из их рая. Карабах — значит по-азербайджански «Черный сад». Во время своих походов в Персию и Грузию именно в Карабахе любил проводить время в царских охотах Тимур Тамерлан. Черный сад. Утраченная родина… Что мы знаем об этом? Что мы знаем об этих людях, коротающих вечерок в плохонькой забегаловке, носящей нежное имя маленькой девочки Айгюн? Сюда ведь ни один бакинец не зайдет, тут сплошь черный народ, деревенщина, никто в городе их не любит, доброго слова о них не скажет. Да и я-то забрел сюда случайно…
— Сколько я должен? — спросил я, торопясь свернуть эту неожиданно-бурно окрашенную эмоциями трапезу.
— Четыре маната.
В три раза дешевле самого дешевого захода в турецкий fast food.
— Спасибо, — сказал я, отсчитывая пять.
— А завтра вы придете? — с чувством спросила хозяйка.
— Обязательно, — сказал я. — Только оставьте для меня кебаб.
— До свидания…
На улице был туман. Сырой холод сразу вцепился в горло и стал драть его, как проглоченная газета. Я добрел до Yaxt Club’a Первое, что я увидел в холле на журнальном столике, был туристический справочник: «Гобустан». Я забрал его в номер и перелистал: «Государственный историко-художественный заповедник…», включен в список международного наследия ЮНЕСКО…
…На территории Гобустана находят раковины-каури, которые водятся в Красном море, за две тысячи километров отсюда…
Любой специалист по древнему миру скажет вам, что мир этот был связан не менее отчетливыми связями, чем мир современный. Просто мы не понимаем мотивов, которые двигали древними миграциями и торговлей. Ракушки служили эквивалентом денег. А Гобустан? Это был какой-то мощный сакральный центр? Центр паломничества? Откуда мы знаем, что нет?
Перед сном вышел на балкон. Туман такой, что не то что города — моря под балконом не видно. Холодно. Если я заболею — это будет просто малодушие…
VII. ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Не заболел. В десять мы с Азером уже пробивались в пробке из города на юг. Два-три поворота, трасса теплопровода над дорогой, откуда-то вклинившиеся в автомобильный поток тяжелые грузовики — и вот уже всякие понятия о городе утратили смысл: кварталы центра, который остался у нас позади, да и вообще любые дома выше пяти этажей — все исчезло и сменились хаосом маленьких частных домиков, рассыпавшихся вокруг, насколько хватало глаз. Разобраться в планировке этого немыслимого и невероятного по размерам пригорода можно было бы только с помощью космической фотосъемки. Участки лепились друг к другу, производя впечатление бесконечно делящихся клеток, которым неведома любая более сложная форма организации и движения, нежели скрупулезное заполнение горизонтали.
— Что это, Азер? — спросил я.
— А это современный Баку, — ответил он не без сарказма. — Когда люди спустились с гор, они построили себе свой город — вот этот. Раньше Баку был нормальной столицей с населением в два миллиона человек. А теперь здесь живет, наверно, полстраны 29. Никто этого точно не знает и не может знать. Это — дурдом…
— Знаешь, я видел вчера эти дома на набережной. Почему в них никто не живет?
— Откуда я знаю? Роскошные дома — но, наверно, квартиры в них слишком дороги…
— Не хватает богатых людей?
— Богатые люди есть, наш президент, в отличие от вашего, запретил вывозить капитал за границу. Сказал — делайте что хотите — но здесь. Но психология людей изменилась. Они не хотят жить в квартирах. Предпочитают индивидуальные дома. Есть целый квартал, я тебе как-нибудь покажу, называется Санта-Барбара…
Мы миновали последнюю пригородную развязку. Дорожная полиция, окатив нас свирепыми взглядами, тем не менее пропустила машину, продолжая «разбираться» с теми, кого остановила раньше.
— Или вот эти, — вдруг без всякого перехода сказал Азер. — Нас они пропустили, потому что знают машину. Но любого, кто едет за нами, они остановят и сдерут с него 20 манатов — нарушил он правила или нет. Так здесь все устроено! А попадешься ты им или нет — это рулетка… Главное у нас — быть начальником…
Под пологом серых туч блеснуло море.
Дорога шла теперь все время вдоль моря на юг.
Бесприютный морской берег весь был разворочен гусеницами бульдозеров: здесь недавно закончилась стройка. Несколько высоких домов, с темно-серыми, будто из прессованного шлака, стенами были выстроены в центре огромного жирного пятна, проступающего на поверхности земли. Понятно: застройщик купил дешевый участок на нефтяном болоте. Но кто же станет здесь жить? Запах нефти чувствовался даже из машины… Рядом на склоне холма неутомимо кивали своими верблюжьими головами старенькие нефтяные «качалки», а вдали, на металлических платформах в море, высилось несколько буровых установок посовременнее.
Андрей Платонов назвал Каспий «степным морем». Как-то в Казахстане на нетронутом человеком берегу мне удалось поймать этот образ, уместив в объектив фотоаппарата желтую дюну, несколько пучков выжженной до серебристого цвета травы, жесткий ком перекати-поля, белую кромку пляжа — весь жар, всю сухость пропеченной солнцем земли, удивительным образом контрастирующую с зеленоватой чашей моря и прохладой голубого неба… Вот будто и вправду брел по степи и вдруг за очередным увалом мне открылось не море суши, над которым парят лишь терпеливые орлы — а заключенное в чашу песка сверкающее, драгоценное, переливчато играющее искрами чудо воды…
Но здесь… Мы ехали по совершенно убитому берегу. Было ощущение, что людям тут никогда не приходило в голову, что морской берег может быть использован для неги, купания или отдыха… Свалки, кладбища, выгоревшие заросли камыша и опять — свалки кирпича, автомобильных покрышек, демонтированных металлических конструкций…
Я пораженно молчал.
Вдоль шоссе промелькнуло несколько неухоженных, непрочно еще вросших в землю, без единого деревца поселков, в которых без труда угадывались новостройки беженцев, бензозаправка, автомастерские «tokar-slesar», громадный, похожий на самолетный ангар, крытый рынок в пустой степи, ржавые рельсы, опять группа буровых в море и, наконец, Сангычалыкский нефтяной терминал: целый город громадных труб, сверкающих свежей жестью, обнесенный заборами, сторожевыми вышками и колючей проволокой. Отсюда начинается нефтепровод до берега Черного моря, до Батуми, где принимают нефть неутомимые танкеры. Отсюда путь нефти до продажи совсем короток. На этой трубе держится все благополучие республики: перелицованный фасад Баку, бутики дорогой одежды, роскошные пустые дома, пособия беженцев, обилие товаров в магазинах, потоки дорогих автомобилей на улицах, курс местной валюты, вес Азербайджана на международной арене…
Потом мы свернули с шоссе на боковую дорогу и минут через двадцать оказались… как бы это получше объяснить? Дорога заканчивалась парковочной площадкой. А сразу вслед за этой площадкой начиналась… девственная Земля. Как только ты сходил с асфальта, начиналась девственная Земля, полная запахов, ветра, журчащей весенней воды, низкого рваного неба, которое волокло свои тучи по спинам бесконечно встающих до самого горизонта горбатых холмов… Как будто всего того, о чем я только что рассказывал, вообще не было. Мы вышли, закрыли машину и сделали шаг за.
Слева от нас высился острый, похожий на длинный узкий зазубренный каменный нож, останец горы Джингирдаг. Зеленовато-серая глина, которая слагала его, включала в себя косо врезанные слои известняка, которые, неравномерно разрушаясь, образовывали навалы глыб у подножия. Прямо перед нами был покрытый крупными камнями холм, поросший по расселинам жестким кустарником с длинными острыми шипами. Его голые ветки казались железными. Перепрыгивая с камня на камень, я добрался до вершины холма и обозрел всю окрестность: за холмом, вихрясь водоворотами и волоча стебли сухой травы, несся сильный мутный поток. За рекой открывалась долина, на которой было еще два или три холма, заваленных камнями. Задник этой картины составляла наполовину разрушенная водой стена из желтого глинистого сланца, испещренная какими-то шрамами и потеками… Память просигналила, что где-то я уже видел все это: сыпучие склоны, зеленоватые глины, глины желтые, розовые… Ну, разумеется! В пятистах километрах отсюда, на другом берегу Каспия, в Казахстане, на Мангышлаке, у горы Шеркала: та же палитра шелудивых глин, те же испещренные медлительной работой воды толщи осадочных пород…
Я перепрыгнул с камня на камень и тут увидел изображения. Это была та самая группа горных козлов‐архаров, снятых когда-то фотографами, с которых и началась вся эта история. Никогда бы не сказал, что они сделали свой снимок в ста метрах от автомобильной площадки — настолько он выглядел загадочным, далеким от всего привычного… Я поглядел по сторонам: вот еще архары, свастика, женский символ — треугольник, обращенный вершиной вниз — целый иконостас символов. Бык, вернее, тур — с огромными, изогнутыми рогами. Чуть дальше — нападающий лев или леопард… Холм был невелик и поначалу казалось, что изображений на нем немного, но они отыскивались почти на каждом камне. Вечностью повеяло на меня. Это было потрясающе… Контуры, выбитые древним художником или магом, были абсолютно совершенны… Красная охра, втертая в камень двадцать пять тысяч лет назад, еще не выцвела…
Дальше, как всегда бывает в таких случаях, меня понесло, я достал фотоаппарат и просто ушел в камни. Сколько времени я пробыл в этом состоянии, не знаю. В самом конце, обходя вершину холма, я обнаружил и гвал-даш, «камень-бубен»: довольно большой, больше метра длиной, камень, установленный на трех маленьких, с детский кулачок, камешках-подпорках. Если постучать по нему другим камнем, он издает странный звук, похожий на слабый звон колокола. Звон литой бронзы.
Внезапная догадка: здесь, значит, сидел жрец, который и управлял всей церемонией…
А другие, принимавшие участие в ритуале, располагались вокруг, возле камней… Как место для архаических таинств холм выглядел убедительн.
Отношения людей с камнями непросты. Существует ряд обычаев у разных народов, охраняющих сакральность, «святость» камня. У одних женщины не имеют право подходить к священным камням. У других камни-останцы или отдельные скальные выходы почитаются как дети матери-Земли, которые еще связаны с ее телом и заинтересованы в получении пищи — крови и мяса жертвенных животных. Камни и скалы причудливой формы от начала времен были своеобразными культовыми центрами.
Азер, видя мое потрясение, не скрывая удовольствия, прохаживался меж камней, разглядывая петроглифы. Но он не знал, что пожар в моей груди запылал не на шутку.
— Слушай, — сказал я, когда мы наконец облазали весь бугор. — А теперь давай на тот берег.
— Зачем?
— Как «зачем»? Мы что, ехали сюда только для того, чтобы покрутиться в ста метрах от стоянки?
Азер промолчал и с грустью посмотрел на свои тонкие ботинки.
Судя по «причесанной», вытянутой в одном направлении сухой траве, долина еще неделю назад была целиком залита паводком, да и сейчас на той стороне было мокровато.
— Азик, пойдешь ве´рхом, по дороге, ничего с тобой не будет…
— Ладно, — сказал он. — Разберемся. Только прыгай ты первый.
Речка, которую предстояло перепрыгнуть, летом пересыхает так, что в ее русле не остается ни капли воды. В это трудно было поверить, потому что сейчас вода перла с такой силой, что то и дело вскипала пеной. Из глубины долины, из-под желтой стены, из изумительной, волшебной тишины, в которой уши человека, как уши зверя, слышат каждый дальний звук, долетали тихие всплески — так бывает, когда вода подмывает берег. Где-то сбоку, как водяная свистулька, пробулькнула и перелетела с места на место какая-то птичка. Ей отозвалась другая… Я выбрал островок посреди потока, прыгнул на него и вторым прыжком перескочил на тот берег. Не знаю, как прыгал Азер, но когда я выбрался, он уже стоял рядом.
— Хорошо ты прыгнул, там как раз норы этих змей… Забыл, как по-русски они называются… Наверно, не проснулись еще…
Я видел норы, но принял их за мышиные.
Ну, а дальше мы пошли… Постепенно Джингирдаг своим зубцом скрыл от нас автомобиль, и мы очутились в диком просторе… Никогда ни один город не способен принести мне столько радости, сколько приносит это ощущение отъединенности от цивилизации и долгожданной встречи с Землей, с ее стихиями… А тут были еще петроглифы: мы отыскали несколько изображений человечков, похожих на астронавтов в шлемах, оленя с раскидистыми рогами, рогатых людей, солярные символы. Один камень целиком был отдан древним Венерам. Но если бы меня тогда спросили, что в самом деле больше всего волнует и притягивает меня, я бы ответил: всплески под желтой стеной. Я должен туда дойти и увидеть, как это совершается. Просто сидеть и просто смотреть.
Всего на несколько дней в году — ну, например, на двадцать из трехсот шестидесяти пяти — вода приходит сюда, чтобы усовершенствовать свое творение. Она создала эту страну: страну балок и холмов, протачивая глубокие долины, огранивая зеленоватый зубец Джингирдага и делая дальние холмы похожими на спины утопающих в синем тумане китов. Миллионы лет, с тех пор как дно древнего моря Тетис поднялось и стало берегом моря Каспийского, вода, которая приходит на двадцать дней в году, как великий художник, пробует снова и снова. Творение продолжается. Вот на это я хотел посмотреть.
Когда я добрался до желтой стены, кроссовки были насквозь мокрые.
Берег тут был очень низок и до сих пор подтоплен, зато противоположный вставал стеной — собственно, в эту желтую глиняную стену река и била со всей своей мощью, желая смести ее и разрушить, но добиваясь каждую весну только того, что в реку оседало несколько подмытых пластов, а стена все больше напоминала гигантский полукруглый амфитеатр. Каждый раз, когда кусок глины оседал в воду, раздавался негромкий всплеск. Некоторое время я молча стоял у реки. Сфотографировать то, что я видел, было невозможно, рассказать об этом каким-то иным, более занятным, чем тут изложено, образом у меня не получается. И все же я испытал необыкновенное чувство, будто присутствовал при сотворении мира.
Хлюпая кроссовками, я выбрался к Азеру и выжал свои носки.
— Ну что, обратно? — с надеждой спросил он.
Но я еще не исчерпал вдохновения, которое вдохнул в меня этот простор.
— Знаешь, — сказал я, — дойдем до конца долины. Там есть еще бугор, посмотрим и его.
— Ну ладно, — сказал Азер. — Только потом возвращаемся. У меня там кофе есть, бутерброды…
Потом мы еще раз перепрыгнули ту же реку, чтобы не следовать ее извивистому течению. Справа стал виден вулкан Турагай, слева — Кягниздаг. До подошвы того и другого оставалось еще километра три.
Простор с каждым новым шагом всасывал меня, я ничего не мог с собой поделать, хотя вокруг не было ничего такого, ничего подчеркнуто красивого. Просто земля без малейшего следа человеческого присутствия: ни окурка, ни банки из-под кока-колы, ни горелой спички, наконец… Как давно и безвозвратно я был лишен этого в Москве! Я стосковался, я опивался пространством и пьянел до тех пор, пока боль в горле, наконец, не вернула меня к действительности. Я остановился. На том берегу открылась еще одна долина. По ней бродили маленькие коровы и, находя молодые побеги растущей пучками травы, щипали ее черными, сильными, как руки, губами. Под ногами по-прежнему хлюпала вода.
Дальше идти не имело смысла.
Дождь мелко просеивался сквозь небесное сито.
Больше о первой попытке глубокого проникновения в Гобустан сказать нечего. Разумеется, мы вернулись к машине, выпили горячий кофе, закусили бутербродами, радуясь теперь, что у нас есть такие блага цивилизации, как термос, колбаса и автомобильная печка.
Странное все-таки существо — человек.
— Знаешь, — сказал Азер не то удивленно, не то с уважением, — так много я не ходил уже, наверно, год.
— Ты — водитель, я — пешеход, — отшутился я.
На обратной дороге возле домов, выстроенных на нефтяном болоте, я все-таки не удержался и спросил:
— Скажи, а кто согласится жить в этих домах? Тут так несет нефтью…
— Да уж, я бы ни за что не согласился.
— А может, стоило отдать эти дома беженцам? Они бы согласились?
— Они бы, может, и согласились, но что значит — отдать? Это частная собственность…
Как быстро вернулись мы в безумный мир!
Баку встретил нас скрежетом и клаксонами вечерней пробки.
Когда под вечер я заглянул в кафе «Айгюн», компания в немодных черных куртках сдавала карты.
— Салам алейкум, — поприветствовал я собравшихся.
— Алейкум ассалам, — ответили они дружно.
— Здравствуйте, — отдельно улыбнулась мне хозяйка.
— Люля-кебаб для меня оставили?
— Конечно, оставили. Садитесь на ваше место.
Карты пошли в игру. Мужчины задымили дешевыми сигаретами и, не чокаясь, выпили пива.
VIII. ДРУГ
Матовая серость за окном. Отдергиваю занавески, различаю тонкую штриховку мороси, сквозь которую едва проступают стрелы портовых кранов вдали, и чувствую почти неудержимое желание снова нырнуть под одеяло. И тем не менее отступать некуда: план, который окончательно вызрел вчера, а зародился еще в редакции Эмиля, план, рожденный утонченной геологической эстетикой, мог быть исполнен только сегодня, какая бы погода ни была. На Гобустане я разойдусь, а там уж…
В десять, исполнив свой утренний развоз, появился Азер. Я поспешно уложил в рюкзак фотоаппарат, карту, немного еды и бутылку с водой. Макеты английских фрегатов в холле гостиницы приветствовали наш выход в неизвестность, подняв все флаги и паруса.
Мы ехали той же дорогой, что и вчера, но из-за дождя бесприютная долина у моря и крашеные железнодорожным суриком старые товарные вагоны, брошенные на путях, казались фрагментами какого-то пронзительно-грустного фильма. Безысходно-грустного, как «Красная пустыня» Антониони. Может быть, даже это были кадры, не включенные в фильм, вырезанные при монтаже, случайно уцелевшие в виде такой вот покадровой нарезки: желтые пучки прошлогодней травы, стрелки ржавых рельсов, мокрые вагоны с шифрами железнодорожных маркировок на бортах…
Погода и в самом деле была отменно плоха: вся долина, которую мы исходили вчера, была закрыта тенью зацепившейся за Джингирдаг тучи. Тяжелое небо волочилось прямо по земле. Лишь впереди на юге видна была яркая голубая полоса.
Вскоре мы доехали до поворота на Беюк-даш, по асфальту быстро взлетели на средний ярус горы, к домику заповедника. Дождь перестал. Было очень красиво. Тихо. Меж беспорядочно рассыпанных, черных, обросших лишайником камней то здесь, то там виднелись покрытые мелкими цветами колючие ветки какого-то кустарника. Пересвистывались птицы. Наконец-то пахнуло весной: пробудившейся землей, травкой, пригретой блуждающим по земле солнечным лучом, и этими цветами. Не скажу, чтобы это был изысканный или сильный аромат — просто ни с чем не сравнимый свежий запах раскрывшегося цветка… Неожиданно я ощутил какой-то невероятный покой. За ним последовало ощущение, что кто-то смотрит мне в спину. Изображения были здесь. Прямо на въезде, на высокой скале было выбито десять однотипных человеческих фигур с расставленными руками и подсогнутыми коленями. Кто эти люди? Танцоры, как упорно утверждают туристические путеводители? Тогда объясните, что они делают здесь, на самом виду? Ведь они оказались здесь, на виду, не случайно, не так ли? Художник — или художники — изобразившие их, стремились, чтобы всякий, восходящий на гору, в первую очередь столкнулся взглядом именно с ними. Тогда, быть может, перед нами — мифические первопредки тех, кто оставил свою небывалую летопись на этих камнях? Или это коллективная трансовая пляска, в которой все участники, войдя в измененное состояние сознания, соединялись со священной реальностью? Загадка…
В конторе заповедника не оказалось ни одной книги, посвященной петроглифам Гобустана. Сувениры выглядели жалкими. Не было пока и проводника. В ожидании мы решили сходить к римскому камню, «подписанному» легионерами императора Домициана: он лежал внизу, у подножия горы, словно римляне не решились внести свое слово в древнее сакральное пространство наверху. Камень мы отыскали быстро по крепкой железной клетке, в которую тот был заключен. Дело было вот в чем: администрация заповедника заключила договор с одним итальянским реставратором, который взялся поработать над этим камнем по новаторской методике. Он методически, сантиметр за сантиметром, очистил поверхность камня от вросшего в него лишайника и получил почти идеального белого цвета глыбу известняка, на которой хорошо читались буквы:
IMPDOMITIANO
CAESARE AVG
GERMANIC
LIVUS
MAXIMUS/
LEC XII FUL [MINATO].
Это означало, что сию надпись оставил Ливус Максимус, командир центурии XII «молниеносного» легиона императора Домициана, прозванного Германиком. Прозвище «Германик» Домициан получил после победы над хаттами в Германии в 84 году нашей эры. Через двенадцать лет он был убит в результате заговора сената. Германик был явно недооценен современниками. Как император он сделал для Рима не так уж и мало. Вопрос: а нужны ли еще были Риму мало-мальски одаренные цезари? До катастрофического распада империи оставалось еще четыреста лет, но страшные предзнаменования конца и разложения явились раньше, уже при Калигуле и Нероне 30.
Двенадцатый молниеносный легион стоял в Каппадокии, на территории нынешней Турции и Сирии, а когорта Ливуса Максимуса выполняла, видимо, разведывательные функции, исследуя опасности, которые могли обрушиться на империю в лице каких-нибудь новых варваров, а также возможности дальнейшего — к тому времени уже чрезмерного и опасного — расширения ее на восток.
Вот отрезок времени и ракурс, под которым стоило рассматривать достопочтенный камень. Но черт возьми! Камень, который итальянский мастер-реставратор обработал особым закрепляющим раствором, был как новый, надпись была как новая, отчего ощущение времени и тайны совершенно исчезало. Перед нами был освежеванный камень в железной клетке — и все.
Разочарованно покачивая головами, мы вернулись в заповедник. Проводник уже ждал нас. Вслед за ним мы тронулись по дощатому настилу в глубь времени. Мужик он был простоватый и по-русски изъяснялся неважно, но маршрут знал хорошо. Так мы и пошли — от одной группы изображений к другой.
Петроглифы Гобустана обнаружили в 1939 году, когда на горе Беюк-даш стали добывать камень для строительства Баку. Рисунки показали ученым. Первым — уже после войны — ими занялся старейший археолог республики Исхак Джафарзаде, который, приступив к изучению наскальных изображений, буквально погрузился в сказку… Изданная им в 1973 году монография насчитывает описания 3500 рисунков, а сегодня их обнаружено более 6000! И теперь ученых больше всего волнует вопрос: о чем рассказывают эти петроглифы? Потому что только во времена вульгарного материализма советской поры можно было трактовать наскальные изображения Гобустана как «реалистичные» изображения бытовых сцен, охоты, рыболовства, а также, в огромном количестве, разных животных. Дело не в реализме. Мы имеем дело не просто с собранием прекрасных рисунков. Большая часть их объединена мифом — своеобразным «вещим сном» древнего человека о себе самом, об окружающем его мире, о вселенной, о жизни и смерти… Волшебный миф был самой ранней формой человеческого мышления, что объяснялось, в частности, физиологически — доминированием у древних людей «правополушарного» (художественного, образного) мышления в отличие от нашего левополушарного (рационального, логического). Поэтому плато Джингирдага, конечно, целиком принадлежало сакральной географии.
На жилых стоянках вокруг горы обнаружено огромное количество костей джейрана и других животных, которые служили главными источниками пищи. Но не они запечатлены в древних рисунках. Доминируют изображения быков, коз, маралов, змей и черепах, то есть, тотемных предков, от которых люди вели свой род, которым поклонялись. Некоторые животные (волк, лев) могли заслуживать особого поклонения, как «хозяева зверей», без «разрешения» которых охота не могла быть удачной. Представления о своенравных охотничьих божествах сохраняются в мифологических сюжетах об охотниках, которые, не угадав, кто перед ними, начинают преследовать «хозяина зверей» и погибают. Эти сюжеты разыгрывались на весенних празднествах, где исполнялись также хоровые песни и коллективные пляски… Мы прошли за нашим проводником сквозь толщу времени и сотни изображений к «солнечным ладьям». В свое время они сокрушили сердце знаменитого путешественника Тура Хейердала своей похожестью на изображения викингов. Правда, в петроглифической традиции «солнечные ладьи» чаще всего обозначают не реальные лодки или корабли с «солнечной символикой» на носу, а ладьи смерти, которые вслед за солнцем следуют в ночь — страну мертвых, увозя в подземный мир невероятное для обычной лодки количество гребцов…
Когда мы вышли из пещеры Ана-Зага («Пещера-мать»), которая была смысловым центром всего комплекса наскальных изображений (пещера — лоно — плодородие — рождение — возрождение), небо поднялось и в высверленных в камне емкостях, наполнившихся дождевой водой, стояло солнце…
Солнце лопнуло и в моей голове, сердце, казалось, гонит по венам чистый восторг.
Я давно рвался в Гобустан, скачивал из интернета какие-то материалы…
То, что мы увидели, превзошло все мои ожидания. Но кто скажет, что мы видели в действительности?
Возможно, изображения Гобустана проще будет интерпретировать, если рассматривать территорию заповедника как развалины исполинского собора. На стенах которого рисунками было запечатлено «священное писание» обитавшего здесь народа — сохранившееся теперь в обломках, фрагментах. Завалы исполинских каменных глыб, которые мы условно называем «пещерами», непригодны для жилья, зато представляют собой идеальную среду для проявления священной реальности в виде рисунков.
Что же явлено в священной реальности мифа?
Разумеется, самое главное. Космогония (устройство вселенной), место в ней солнца, луны, звезд, земли и человека на этой земле. Рисунки должны запечатлеть великий коловорот жизни — тему рождения и смерти, плодородия, связанных с ним образов мужского и женского, земли (матери) и неба (отца)… Но главными фигурами древнего пантеона были все же предки. Культ предков, утверждая в сознании племени идею непрерывности кровно-родственных связей, гарантировал преемственность традиций и стабильность первобытного сообщества. Цепочка, которую составляли предшественники — отцы, деды, прадеды — тянулась в глубь веков, связывая живых с мифическими первопредками, возведенными в ранг божеств — сверхъестественных учредителей обрядов и запретов, выполняемых членами группы.
Мифы о странствиях и приключениях тотемических предков составляют как бы либретто священных драматических церемоний, в которых воспроизводятся эти мифы, — писал Мирча Элиаде в своем исследовании архаических верований. Так что реалистичность зооморфных изображений не должна вводить нас в заблуждение. Это не просто животные. Вот, например, на камне изображен олень. Олени нередко встречаются на скалах. Но не как вожделенный охотничий трофей и даже не как тотемный знак. В древней индоевропейской традиции олени, особенно с раскидистыми, ветвистыми рогами, символизировали космос, вселенную. Бык, как и олень, может быть связан с космосом, но он прежде всего воплощает мощное мужское начало. Некоторые петроглифы древних тюрок в Сибири изображают «священный брак» между женщиной и быком — носителем мужской силы. Не случайно, думаю, четко прорисованный силуэт быка присутствует на камне, где изображены «восемь красавиц» Гобустана — восемь великолепно стилизованных женских фигур с крутыми бедрами и тонкими талиями. Но кто они? Богатые украшения говорят об их царственном или даже божественном происхождении, литая стать — о воплощении женской силы, а луки за спиной заставляют вспомнить об амазонках. Кстати, фигуры «красавиц» словно нарочно убраны подальше от глаз непосвященных; они спрятаны в объемистой полости под завалом камней. Что здесь происходило? Кому здесь поклонялись? Кто? Мужчины? Женщины? Те и другие вместе? Что они делали? Приносили жертвы? Простирались ниц? Совокуплялись?
Увы — несмотря на горы литературы по толкованию мифов и великолепных мастеров этого жанра, главное в древних мифах остается загадочным… В благоприятном случае в своем подходе к мифу нам удается лишь правильно задать вопрос. Кто вот, к примеру, те мужчины, изображенные на камне под номером двадцать девять? О том, что это охотники и воины, говорят их мускулистые ноги и широкие плечи, луки в руках. Но, во‐первых, на этой плоскости не два изображения, а четырнадцать, стоит приглядеться. Почему у одного из мужчин рога на голове? И почему другой, тоже рогатый, держится за свой член? И, во‐вторых, что это за зигзагообразные линии, которые, зародившись над головою одного из охотников, пронизывают его тело? Если это дождь, то означает ли это, что древний художник просто-напросто изобразил собратьев по племени, возвращающихся после неудачной (без дичи) охоты в плохую погоду? Или принципиально иное: человек, бредущий в потоке дождя — не кто иной, как заклинатель погоды, только что вызвавший дождь со своим верным помощником? Или зигзаги — символ измененного состояния сознания или, например, транса, в котором пребывают эти двое?
Нам нелегко понимать своих предков. Поэтому, увидев, скажем, изображение кабана, преследуемого собаками, мы можем, конечно, порадоваться «реалистичности» этого изображения, но может оказаться и так, что в этом рисунке, в этом «кадре» мифа (ни начала, ни конца которого мы не знаем) схвачен некий кульминационный момент, когда вождь или царь, превращенный за нарушение табу в вепря, тщетно пытается уйти от расплаты, преследуемый демонами мести и правосудия. Вот ведь как может обернуться дело. И вопросам не будет конца. Скажем: верно ли, что пробитое в камне отверстие предназначено для привязывания скота? Не много ли скотине чести? Или это каменное кольцо выдалбливалось специально для жертвенного животного? А может быть, эта дырка — инструмент космической оптики (что нередко встречалось у древних)? Или просто священная дыра — Пустота, мать всего сущего? Но это уже философия в камне — а уровень обобщений такого рода, похоже, и не подозревался теми толкователями изображений (а их большинство), которые предлагают видеть в петроглифах Гобустана некую принципиальную naivety…
Мы вернулись с маршрутной тропы заповедника и расположились на лавочках для отдыха неподалеку от домика дирекции. Азер достал из кабины сверток с провизией. Термос с кофе, бутерброды и особенно домашние пирожки с различной и по-домашнему вкусной начинкой — в своем изобилии, несомненно, ставили метафорическую точку в конце нашего маршрута.
Съев один бутерброд, я забросил в рот горсть орехов с курагой, запил глотком воды из бутылки и демонстративно сунул ее в наружный карман рюкзака, показывая, что для меня трапеза закончена.
— Почему закусываешь так легко? — удивленно спросил Азер. — Есть пирожки, колбаса…
— Спасибо, — уклончиво отвечал я. — Но ходить лучше налегке…
Луч солнца, проглянувший с поднявшегося неба, окончательно утвердил меня в решимости довести свой безумный план до конца.
— Ходить?
— Ну да, — как можно непринужденнее отозвался я. — Видишь ту дорогу внизу? Доедем по ней до края плато, там еще посмотрим…
— А она проезжая?
— Должна быть проезжая. Она ведет наверх, в каменоломни. Раньше там добывали камень. Половина Баку была построена из него…
В это время верхний ярус горы, о котором вел я речь, внезапно стало затягивать туманом. Вот он только еще закурился над темнеющим гребнем, а вот уж стек вниз дымящимися клубами, скрадывая не только гребень, но и нагромождения каменных глыб под ним, и куст осыпанного розоватыми цветами кустарника.
Упало несколько капель дождя.
Я не успел даже испугаться, что дождь испортит мне все дело, порыв ветра сорвал присевшее на вершине облако и, скомкав, унес в сторону моря. Стало почти ясно.
— Ну что, поехали? — скорее поманил, нежели спросил я Азера. Надо было успеть до темноты.
Мы спустились от заповедника асфальтовой дорогой и свернули на грунтовку. Дорога была вполне набитая, лишь в одном месте машине пришлось немного «поплавать» в свежем выносе глины, но вскоре она вновь прихватила колесами землю. Все было в точности так, как рассказал Эмиль: слева было несколько громадных скальных обломков, на которых летом проходили соревнования по скалолазанию, справа… Не помню уже, что было справа, видимо камни, в Гобустане камни везде, они рассыпаны до самого моря и даже там, на отдельно лежащих камнях, есть знаки и рисунки. И тем не менее что было справа, я не помню. Выходит, неизбежное объяснение с Азером тяготило меня. Наконец дорога стала задираться вверх: мы доехали до поворота на серпантин.
— Останови, — сказал я.
— Здесь?
— Да, здесь останови, — твердо сказал я, ничего не объясняя. — И не на дороге, а где-нибудь в сторонке…
Азер остановил машину, сдал назад, поставив ее на аккуратный коврик зеленой травы у дороги и огляделся по сторонам, не понимая, что привлекло мое внимание. Я вылез наружу. С площадки, которая, по сути, была крайней северной оконечностью плато Беюк-даш, во всю ширь открывался вид на страну вспученностей. Предмет моего вожделения, грязевой вулкан Кягниздаг — вблизи пугающе огромный при всей своей скромной высоте (397 м) — закрывал весь вид на север. На запад его отроги тянулись до идеального купола другого грязевого вулкана — Турагай — который на этот раз явлен был нам в желтоватом предвечернем свете. Время поджимало.
Я внимательно оглядел склоны вулкана, чтобы понять, как мне подниматься. Вблизи они оказались изрезанными глубокими глинистыми балками, угодив в лабиринт которых, я неизбежно потеряю и время, и силы, если вообще смогу подняться по скользкой глине. Но вот, впрочем… Почти идеальная, чуть взявшаяся зеленой травкой «спина», которая вела почти от самого подножия вулкана до самой почти вершины. Я два раза говорю «почти», потому что начало этого склона я не мог увидеть раньше, чем спущусь вниз. А наверху… Наверху вулкана все непонятным образом менялось… Издалека я не мог рассмотреть, в чем там именно дело, но похоже было, что мне придется действовать по обстановке. Но ничего. Как сказал Эмиль: час — туда, час — обратно…
— Знаешь, Азер, — сказал я, чувствуя, что самое главное теперь — все быстро выложить ему и пускаться в путь, пока он не принялся меня отговаривать. — Сейчас я уйду. На два часа. Я должен сходить на этот вулкан, — я сделал жест в сторону Кягниздага. — Это грязевой вулкан. Неопасный. Еще вчера я решил подняться на него. Но мы были слишком далеко. Сейчас это займет не так уж много времени. Не отговаривай меня. Можешь попить кофе. Можешь лечь поспать. Через два часа я вернусь…
Какое-то мгновение в глазах Азера стояло непонимание, граничащее с ужасом. Но уже в следующее мгновение, к моему большому удивлению, он произнес:
— Я пойду с тобой…
— Ты понимаешь, это моя идея, — повторил я. — Ты можешь спокойно оставаться тут.
— Нет, — сказал он с необъяснимой решимостью. — Дай только я переставлю машину.
Я хочу, чтобы вы поняли: Азер был шофером. Обычным водилой. Он не был ни моим другом, ни любителем лазать по горам. Он не обязан был вместе со мной искать приключения на свою голову. Но он сказал: «я пойду с тобой». И я сразу почувствовал, что мне стало легче.
Когда он переставил машину, мы начали спускаться меж камней и цветущего кустарника.
— Послушай, — сказал Азер, который не воспринял наше вчерашнее приключение как предупреждение и вновь оказался в любимых легких ботиночках, малоподходящих для горных приключений. — Но если мы упремся во что-нибудь такое… Если там, внизу, обрыв — мы не пойдем?
— Давай не принимать необратимых решений, — милостиво согласился я, окрыленный тем, что, как бы то ни было, нас двое. — В случае чего мы просто вернемся назад.
— Вот и хорошо, — сказал Азер и замолчал.
Я прыгал с камня на камень, пытаясь найти тропинку, которая на обратном пути привела бы нас назад к машине. Тропинки не было, но временами мне удавалось обнаружить проходы среди завалов камней, а заодно и запомнить некоторые камни, как ориентиры.
— Отара, — вдруг без выражения сказал Азер. — Видишь?
Я посмотрел на гору. Нет, я не видел. Чуть подернутые зеленой травкой склоны. Бурые разрезы балок. Пожалуй, чтобы попасть на выбранную мною «спину», придется сначала войти в ближайшую балку, а потом уже — если Бог даст — выкарабкиваться из нее на склон.
— А где эта отара? — спросил я. — Так далеко я не вижу. Мы будем подниматься вот здесь, по этому склону. А она?
— Идет прямо навстречу нам, как раз по этому склону. Овцы — как белые точки. Видишь?
— Нет, — сказал я. — Я близорукий. Просто очки не ношу.
В это время порыв ветра донес до меня собачий лай.
— Собака, — констатировал Азер. Потом, послушав, добавил: «Две».
Я похолодел.
Сторожевые псы.
Страшные косматые кавказцы, которым пастухи даже мяса не дают, кормят мучным взваром — называется по-азербайджански «ял» — чтоб не привыкли к крови и не порезали ненароком половину стада и самого хозяина.
Если бы Азер не продолжал спускаться, я бы остановился. А может быть, повернул бы назад. Скрывать нечего: есть породы собак, которых я действительно боюсь. Это туркменские безухие овчарки и кавказцы — полудикие сторожа стад.
В это время мое ухо различило человеческий голос.
— Там люди! — попытался утешить себя я.
— Один человек. Кричит собакам. Видишь собаку?
— Нет.
— Во‐он. Белая. Она уже нас заметила.
Не скажу, что все это ободрило меня, но Азер не выказывал ни малейших признаков страха, и я, загипнотизированный его героизмом, следовал за ним.
Мы давно уже спустились с плато Беюк-Даш и теперь действительно, чтобы вылезти на склон, ведущий к вершине вулкана, по которому на нас надвигалась отара, вынуждены были войти в глубокую балку с голыми склонами из серой и бурой глины. На ходу Азер подобрал с земли острый камень, взвесил в руке, подобрал другой.
— Ты тоже возьми.
Я послушно поднял камень, похожий на первобытное рубило.
Липкое дно балки. Липкие от пота руки, сжимающие камень.
— Если она бросится, — сказал Азер, — закрой рукой горло и подставь ей локоть. И когда она укусит — не вырывай! Иначе порвешь себе вены, я тебя даже до машины не дотащу. Просто бей ей камнем в ухо. Или в нос. Пока она не отвалится. После этого она уже к тебе не подойдет…
— Знаешь, — попросил я, — если что — станем спина к спине. Я боюсь собак. А ты?
— А я почему-то не верю, что мне суждено умереть из-за какой-то собаки, — беспечно сказал Азер. — Что-нибудь другое, но только не это. И собак я не боюсь.
Почему-то эти слова в последний миг поддержали меня.
Почему я написал «в последний миг»? Да потому, что мы прошли по балке до конца и теперь нам надлежало вскарабкаться туда, где нас поджидали псы.
Как мы карабкались, я не помню. Помню, что когда мы очутились на склоне, у нас было время, чтобы несколько раз притопнуть ногами и обить с обуви килограммы налипшей на ноги глины. Ну, может, две секунды. А потом появился пес.
На наше счастье, это оказался не дикий кавказец, заросший вонючей шерстью, которую даже волки не могут прокусить — давятся. Пес был меньше и гораздо красивее — густая, но не слишком длинная белая шерсть в рыжих и черных пятнах, упругая грация движений. Он остановился на верху седловинки, посмотрел на нас и без рыка, без лая молча бросился. Мы прижались друг к другу — спина к спине. А дальше началось! Пес кругами носился вокруг нас, осаживая грозным и частым лаем и, скаля пасть, обнажал белые, блестящие, как ножи, зубы. Потом он отошел и остановился метрах в двух. Под блестящей, холеной шкурой бугрились молодо играющие мышцы, шерсть на холке то опадала, то снова вставала дыбом. Потом он зарычал и гавкнул на меня, и хотя я не выпустил из руки камень, жуткая слабость окатила меня. Задние лапы пса стали нервно отшвыривать назад комья земли.
— Черт, сейчас бросится… — с легким оттенком досады произнес Азер. — Я твой страх спиной чувствую…
Проклятие: бросится на меня.
Я уже слышал вдалеке голос человека.
Речь шла о том, чтобы выиграть секунду, долю секунды.
И тогда я представил себе ручку школьного реостата и усилием воли немного двинул ее, уменьшив напряжение тока в сети моих нервов. Не знаю, как это удалось.
И дальше все стало происходить так же быстро, только в другую сторону — откуда-то появился дед на ишачке: он не спеша трусил в нашу сторону, одетый в какое-то подобие зимнего пальто, брючный костюм, короткие резиновые сапоги и шапку-ушанку. Рядом с ним с лаем бежала вторая собака. Здоровая рябая сука с черными отвислыми сосцами.
— Ту не бойтесь, — ободряюще закричал чабан по-русски. — Эту бойтесь… Она — дура!
Не успел он произнести эти слова, как сука обнажила желтые клыки и зарычала, как гиена, всем своим диким и дурным видом давая понять, что она за себя не ручается.
Потом Азер сказал:
— Пожми ему руку. Быстрее, пожми ему руку…
И я затряс красную от холода, жесткую ладонь старика, всем своим видом, всей невероятной мимикой лица моего выражая дружество и симпатию, на которые только способен один человек по отношению к другому.
Увидев рукопожатие хозяина с пришельцами, собаки стали решительно терять к нам интерес и перестали щериться.
— А какой сейчас месяц? — снова по-русски спросил старик, обнажая простодушную золотую улыбку, в которую, видимо, были вбуханы все заработанные им за жизнь деньги.
— Март, — выдавил из себя я.
— Уже март?
— Да, четвертое марта.
Старик (впрочем, подозреваю, он был не слишком-то старше меня, просто жизнь на горах вместе с овцами раньше состарила его) покивал головой.
— А водичка у вас нет?
Я вспомнил про свой рюкзак.
— Есть, есть, конечно, есть водичка…
Собаки легли, положив головы на лапы.
Чабан сделал аккуратный, бережный глоток и вернул бутылку мне.
Потом я поснимал его так и этак и в довершение показал ему снимок, который показался мне удачнее других.
— Ай, маладец! — вскрикнул старик и, не слезая с ишачка, обнял меня.
Собаки завиляли хвостами.
А потом они ушли. Вниз. Овцы, собаки, все.
И мы остались одни на склоне.
И дальше никаких опасностей не было. Только глина. Мы карабкались вверх, прилипая к ней, как мухи. Чтобы не увязнуть глубоко, надо было наступать в центр кустика горной полыни или, на худой конец, на жесткие макушки пучками растущей травы, еще не выщипанной овцами. К концу часового подъема я был совершенно мокрым внутри своей куртки — к счастью, непроницаемой для ветра оболочки. Потом пришлось изменить тактику восхождения, потому что подступы к вершине — это было место, куда жидкая глина изливалась из кратера, когда тот переполнялся. И глина была везде. И приходилось идти вверх, уже не считая килограммов, налипших на кроссовки. Но мне все это казалось сущей ерундой по сравнению с собаками. Потому-то я и в кратер вулкана влез, исполненный все той же беспечности освобождения от ужаса. Просто подъем закончился и под ногами оказалась очень вязкая, идеально серая, с вкраплениями каких-то мелких красных камешков глина, которая нигде не была ни до конца жидкой, ни до конца твердой. Все это умещалось в идеально правильной окружности диаметром метров в двести. Или сто. Тут, боюсь, память готова подвести меня. Мысль о том, что эта зыбкая поверхность может в один миг разверзнуться и поглотить нас навсегда, почему-то не приходила в голову, несмотря на то, что в одной из балок мы видели синеватый след прокатившегося по ней свежего грязевого выброса. Я первый добрел до остроконечного возвышения, напоминающего кусок окаменевшего дерьма в полметра высотой. Внезапно странный звук, похожий на хлопок, и последовавшее за ним журчание достигли моего слуха. Земля у нас под ногами жила. Это нисколько не обескуражило нас: наоборот, мы заинтересованно осмотрели выступ и, обнаружив у его подножия несколько отверстий, долго наблюдали сопящие дыхальца вулкана, из которых иногда доносилось бульканье, а временами с мягким лопающимся звуком на окаменевший конус вылетали свежие ошметья глины.
С вершины Азер позвонил в офис. Там были удивлены, что мы забрались на вершину грязевого вулкана. Ни одному известному им человеку это до сих пор не приходило в голову (они не знали Эмиля!).
— Скажи им, что это нужно, чтобы фотографировать, — сказал я.
Я не врал: открывшийся нам во все стороны пейзаж был прекрасен. Было видно далеко: город, уже подсвеченный вечерними огнями, был как на ладони. Как на ладони были все горы и долины Гобустана. За Турагаем темнели отроги Лянгабизского хребта: дальние горы, уходящие к подножию Большого Кавказа. Кичикдаг со срезанной вершиной смотрел на простиравшееся во весь восток море как посадочная площадка для НЛО. С высоты птичьего полета у всего окружающего был какой-то фантастический вид: земля внизу жила, дышала накатами моря, ее спокойный ракушечник и известняк тонкой корой покоились на бурлящем котле земной мантии, о которой так красноречиво напоминал то булькающий, то сопящий вулкан. Несколько снимков, сделанных в этот час с этой вершины — они стоили того, чтобы лезть сюда! Тайна и магия древних росписей были неотделимы от магической красоты породившего их ландшафта, которая в полной мере раскрылась только здесь, на вершине…
До машины мы добрались в глубоких сумерках.
Нет смысла говорить, устали мы или нет, испачкались ли, промокли и были ли голодны. Во‐первых, мы были целы. А во‐вторых, достигли такой остроты переживания увиденного, которая была невозможна там, на тропах заповедника…
— А ты не из тех, с кем приходится скучать, — сказал Азер, сдирая с себя мокрое от пота белье.
— Извини, старина. Один бы я не выдержал этого ада. Но ты… Я кое-что смыслю в людях. Знаю шоферов начальства средней руки. Ты — не шофер.
Он усмехнулся.
— Пожалуй, так.
— А кто?
— О, это очень долго рассказывать! — рассмеялся Азер. — Как-нибудь в другой раз…
Я не настаивал. Пережитого было довольно, чтобы считать этот день исполнившимся.
IX. ФИКРЕТ
Проснулся в семь: слишком рано после такого дня, как вчерашний.
И тем более рано для дня сегодняшнего. Последнего дня моей поездки. Обратный билет я нарочно заказал на самый поздний рейс. Сегодня мы с Азером договорились ехать на Апшерон.
Первое утро без дождя.
Я потрогал кроссовки, пристроенные мною на кресле под кондиционером после того, как вчера вечером я, как археолог, выскреб их из двух комков бесформенной серой глины. Оставшиеся на их коже сероватые разводы напомнили мне о том, что произошло. Я добился-таки своего: мы наконец столкнулись с реальностью. Вероятно, такое столкновение и должно было быть брутальным: я еще слишком мало знал об этой стране, обо всем, что пряталось от меня. Поэтому и не мог соприкоснуться с действительностью на уровне более тонких смыслов. Но зато у меня появился друг. Друг, который из-за меня рисковал своей жизнью.
Друг.
Вчера он кое-что рассказал о себе. Кое о чем поведал.
В начале перестройки один питерский начальник сдал ему и его дружкам за небольшую взятку в семьсот, что ли, баксов всю сеть магазинов «Военторг». Двадцать две площадки. И они там открыли первые в России круглосуточные продовольственные магазины. Эффект был такой, что Азер сразу сделал себе состояние.
Еще был завод, который производил шины для всех грузовиков на пространстве бывшего СНГ. Личные машины, если кто помнит, в середине 90‐х быстро поменялись на иномарки, а грузовики еще долго оставались старые. Достаточно представить, сколько это машин и какой, соответственно, был оборот у завода, чтобы понять, что на этом Азер тоже сделал себе состояние. Происходило все в городе Волжске, возле Саратова. А потом что-то сломалось в колесе фортуны. Местная милиция что-то перепутала. Обычная милиция, в доску своя. Петрович там, Василич. Они перепутали, приняли Азера за кого-то другого, арестовали и четыре дня убивали. Старшóй, Василич, норовил изо всей силы ударить его дубинкой по голове. Специально старался по голове. Изо всей силы. Четыре дня.
Когда ошибка выяснилась, а Азер не умер, а оклемался после всего этого, он не стал никому мстить, он бросил бизнес, бросил друзей, жену бросил, все бросил и уехал в Германию.
Он жил в мире, который чуть не пришиб его.
К этому оказались причастны все: он сам, друзья, враги, жена, женщины, с которыми приходилось иметь дело…
И он понял, что больше не хочет.
Решил попробовать пожить в параллельном мире. Где все по-другому. И в Германии это ему удалось. В Азербайджан он вернулся, чтобы устроить маму. Отправить то ли к брату в Грузию, то ли к сестре в Канаду.
Сказал так:
— Нашел работу, где платят немного, зато все ясно. Приезжают журналисты — работаешь с ними. Никакой грязи. И никакого бизнеса. А сам просто ждешь, когда можно будет уехать. Понял?
Я был потрясен вчера. Я сразу почувствовал в Азере человека, много повидавшего в жизни и хорошо знающего людей. Но такого поворота не ожидал.
— Понимаешь, я лучше соглашусь быть никем в Германии, чем кем бы то ни было — здесь, — сказал он и горько усмехнулся.
Причем он сказал все это на подъезде к Баку 4 марта 2010‐го, он был уверен, что уедет. Ведь канцлер Германии Ангела Меркель еще не заявляла о крахе мультикультурной политики. А теперь он решительно ни в чем не может быть уверен, мой друг Азер.
Вот ведь странно устроен мир.
Апшерон, куда мы с Азером собирались отправиться, представляет собою полуостров, вдающийся в Каспийское море на 70 километров с запада на восток. На южном побережье его расположен Баку. На Апшероне нет ни рек, ни гор, ни лесов: ничего, кроме нескольких озер с соленой водой. Главной особенностью этого места всегда была необычайная, поражавшая всех ранних географов, насыщенность его нефтью. Это сердце каспийских нефтепромыслов и настоящее чудо природы. С. Г. Гмелин 31, увидевший эти места за двести с лишком лет до меня, с восторгом пишет об апшеронских нефтяных полях, где земля пропитана нефтью настолько, что эти места пылают неугасимым «изсиня-желтым» огнем.
Я, разумеется, понимал, что мне не удастся увидеть полыхающую землю хотя бы потому, что за последние полтора века все нефтяные поля были отжаты досуха. И все же всполохи гмелинского «изсиня-желтаго» огня гудели в моей голове и мое любопытство представляло себе картины не в меру поэтические. Раз уж я в Азербайджане — как не попасть на Апшерон? Но я был в командировке и не мог кататься на машине с Азером по своей прихоти. Тем более по нефтяным полям. Для того чтобы отправиться на Апшерон, мне нужен был другой аргумент.
В десять раздался стук в дверь. На пороге стоял Азер в новых, не вчерашних, изящных черных ботинках. Перехватив мой взгляд, он рассмеялся. Увидев, что я встал и взял рюкзак, произнес:
— Не торопись. По поводу нашей поездки на Апшерон придется заехать в офис.
— Для чего?
— По-моему, Ализар хочет поговорить с тобой…
У меня не было желания говорить с Ализаром. Но он принимающая сторона и отказать ему — невозможно. Если речь зайдет о поездке, то у меня есть что сказать. Если же мы поедем без согласования — Азеру придется за это расплачиваться.
— Что ж, — поднялся я. — Поехали.
Почему-то мне и в голову не приходило, что заехать в офис нужно было в первый же день из элементарной вежливости, чтобы поблагодарить за прием. Ну а после вчерашнего восхождения… Разумеется, начальник имел право посмотреть на залетевшую к ним диковинную птицу. Эта мысль догнала меня, когда мы уже ехали по городу. Я ощутил готовность к разговору.
Офис: три комнаты, отделенные от коридора стеклянной перегородкой, пара сотрудников, приветливо поднявшихся навстречу нам с Азером… Один был полноватый, начинающий лысеть бонвиван лет тридцати пяти. Другой, которому Азер вчера звонил с вершины Кягниздага, уважительно величая его «Али-бей», выглядел совсем молодым человеком, который, как мне показалось по его воодушевленному взгляду, сам бы не прочь был поучаствовать в наших приключениях, вместо того чтобы сидеть здесь на телефоне…
— Очень приятно…
— Очень…
Последней в комнату вошла молодая женщина такой оглушительной красоты, что в старом серванте моей души что-то дрогнуло и задребезжало. Это, похоже, произвело хорошее впечатление на сотрудников офиса: они радостно заулыбались. Но Боже, каких же прекрасных женщин ты порой создаешь! Она нисколько не напоминала мне мою незнакомку — та была как солнечный зайчик, появлялась — и исчезала… Уже два дня она не показывается… И я не знаю — суждена ли нам еще одна встреча?
Женская тема была внезапно прервана приглашением к начальнику.
Офис — крошечная ячейка в механизме азербайджанских масс-медиа: он должен обеспечивать всем необходимым работу журналистов, как и я, приехавших из Москвы по командировке журнала «Баку». А заодно и присматривать за ними. В Азербайджане серьезно относятся к международному общественному мнению. Поэтому, каким бы маленьким начальником ни казался Ализар, именно от него сейчас зависело, сбудутся ли мои мечты.
Я вдруг очень остро это ощутил.
Открыв дверь в кабинет, я увидел человека: удлиненное лицо его было, пожалуй, выразительно, как и голубые выпуклые глаза. Но жила в них какая-то невыразимая тоска. Казалось, ему одиноко в этих стенах. И если те трое в общей комнате еще могли заполнить свое рабочее время разговорами, поисками в интернете или выполнением нехитрых поручений, то ему, руководителю, в собственном кабинете приходилось одному несладко.
Мы обменялись рукопожатиями.
— Как вы устроились?
— Отлично.
— Как вам понравилось в Азербайджане?
— О!
На этом дежурные темы были исчерпаны.
— Знаете, — сказал Ализар. — Мы ценим самостоятельные поиски журналистов…
Я угадал намек и улыбнулся.
Ализар улыбнулся тоже.
— Более того, мы ждем от журналистов, чтобы они рассказали нам такое, о чем мы сами даже не знаем…
Я подождал. Продолжения не последовало. Похоже, был мой черед.
Я помочил в стаканчике кусочек сахара, надкусил размягчившуюся часть и отпил глоток чая, демонстрируя знание традиций чаепития.
— Именно поэтому в поисках темы для будущего материала я бы хотел сегодня отправиться в музей апшеронских древностей… — начал я.
— К Фикрету Абдуллаеву? О, это замечательный человек! Он расскажет вам много интересного, — неожиданно для меня с воодушевлением воскликнул Ализар. — Конечно, поезжайте!
Я не верил своим ушам. Так просто? А я-то нагородил себе препятствий!
Я почувствовал себя неловко.
— Честное слово, Ализар, я так благодарен вам за ваше радушие…
— Мы ждем от вас хороших материалов…
Путь на Апшерон был открыт.
Мы свернули с трассы на юг возле той самой оливковой рощи, с которой началось мое знакомство с Азербайджаном. За темной зеленью олив пряталось несколько домиков. Вдалеке, за длинным плоским известняковым холмом, виднелись силуэты нефтяных вышек. Но вышки — они были далеко, а мы вдруг выкатились на грунтовую дорогу, чуть зеленеющую проклюнувшейся травкой, прямо перед нами возникли какие-то развалины, широкий купол старинных бань. Коричнево‐красные куры, копавшиеся в компостной куче, с квохтаньем побежали через дорогу, заставив нас остановиться. Из-за облаков впервые за несколько дней проглянуло солнце.
Я вышел из машины и потянул носом воздух: пахло почему-то солью и непередаваемым запахом деревни, только, в отличие от деревни русской, где сам корень слова, его смысл, его дух и запах означают, что все в этом мире деревни сделано из дерева, здесь все, буквально все было сложено из плоского серого камня: заборы, местами уже подразвалившиеся, дома, сараи, поражающие своей тщательной, стародавней кладкой, и даже крышка колодца, выкопанного на берегу темного пруда, была закрыта круглым камнем, напоминающим мельничный жернов.
— Ну что ты? — спросил Азер. — Садись, поехали!
— А далеко тут?
— Да вот, за поворотом.
— Езжай, я пешком дойду…
Надо было как-то обвыкнуть в этом каменном мире. Вот, значит, дом: ни тебе сруба, ни стропил, ни конька, ни наличников на окнах, ни осинового плашника или дранки, кроющей крышу — ни-че-го. Ведь деревья здесь — наперечет. Стены искусно сложены камнями и где-то там, под слоем древней черепицы, так же мастерски сведены в замо´к: дома здесь очень старые, это видно, но только у немногих крыша провалилась. Окна маленькие, так что никакие ставни здесь и не нужны. Вот разве что двери — из дерева.
Я шел, улавливая чуть ощутимый постный запах отлежавшегося, сырого, чуть подогретого солнцем камня. Вишни во дворах домов были уже совсем живые, но им еще не хватало тепла, чтобы зацвести. Под ногами пробивалась травка, которую у нас в России зовут «гусиные лапки».
Было тихо, как на Гобустане, как будто не было всего этого мира там, вовне. И не в смысле только автомобильного шума: здесь не ощущалось его шизофренической активности, его одержимости. Казалось, время здесь остановилось. По пути я так и не встретил ни одного человека. Не было и ни одного магазина, где можно было бы что-нибудь купить. Жизнь людей — так, как заявлена она была в человеческих постройках — здесь подразумевала очень неторопливый и размеренный ритм, терпеливый, нелегкий и упрямый труд праведников. Крестьянский труд, более ненужный в глобальном мире.
Я вышел на небольшую площадь. Справа возвышалась полуразрушенная древняя башня, возле которой без движения стояла помятая бетономешалка, а слева был одноэтажный дом современной постройки — на ступеньках меня поджидали Азер и могучий смуглый мужчина с крупной лысой головой, в пиджаке и тонкой джинсовой рубахе, который поглядел на меня и как-то по-отечески спросил:
— Нагулялся?
— Для начала — да, — сказал я.
— Хорошо сказано: «для начала», — рассмеялся Фикрет.
Мы познакомились.
— Сколько лет? — поинтересовался он.
— Сорок девять.
— А мне пятьдесят один.
Рядом мы выглядели примерно как отец с сыном, разве что голова у меня была седая.
Ну а дальше мы пошли в комнату, сели за стол, и началось… Что началось? Началась магия Фикрета. Он говорил. Он спрашивал. Он отвечал. Иногда ждал нашего ответа. Но не особенно в нем нуждался: ведь он говорил про Гала. А про Гала досконально все знал только он сам. Двадцать лет назад в умирающем селе он начал собирать музей — теперь это гордость Азербайджана. Этому селу четыре тысячи лет, и с тех пор, как появился Баку, оно снабжало город зерном. Говорят, Гала умирала три раза. Три раза была стерта с лица Земли. Сейчас село умирает (или рождается) в очередной раз. Старые галинцы — таких осталось тринадцать семей — ираноязычный народ, говорящий на фарси (они произносят: парси), спрашивают Фикрета: зачем ты делаешь этот музей? Зачем не даешь селу спокойно умереть, если наши нивы не плодоносят, если на наших виноградниках стоят нефтяные вышки, если даже наша соль — лучшая на Апшероне каменная соль — залита мазутом? Зачем делать вид, что мы кому-то нужны?
— А знаешь, как они растили виноград? — спрашивает Фикрет, дрожа от предвкушения собственного ответа. — Виноградники были на песках, и каждую гроздь, чтоб она не высохла, укладывали во что-то вроде корзиночки и прикрывали сверху от солнца. И когда осенью срывали ее — это был мед, это был самый сладкий виноград в мире!
Его глаза сияли счастьем, он радовался произведенному впечатлению и вновь бросался вперед, не боясь обкормить нас, дать сверх меры, ибо целый народ жил и говорил в нем, и сердце его полнилось голосами этого народа, до сих пор живущего так, как будто на календаре какой-нибудь 1845 год и мир, в который погружено окруженное призрачными садами и виноградниками село, — это мир до одержимости. Гала умирает, но само миропонимание старых галинцев — это настоящий драгоценный камень, на который не устаешь любоваться. Фикрет сохранил этот драгоценный камень в своем сердце — и теперь делился его светом. То, что он рассказывал, было целительно. Потому-то столь красноречивой и долгой была его речь: он узнал во мне собеседника.
Мне врезался в память рассказ про девяностопятилетнего чабана: всю жизнь он провел с овцами и нисколько не сожалел об этом. Кочевал с ними и в холод, и в жару; в конце ноября отгонял отары в центр полуострова, на зимнюю стоянку — крошечное поселение, дом да овчарня, которое так и называлось Кошакишлак («Двойной кишлак»). И сколько Фикрет ни расспрашивал его, не скучно ли ему было вот так всю жизнь кочевать по степи за овцами, гуртовать их, лечить, приглядывать за родами, нянькать маленьких ягнят — он никак не мог понять, о чем его спрашивают. А когда ему показалось, что он понял — старик поднял с земли катышек сухого овечьего помета и сказал: «Знаешь, если хотя бы один день моей жизни я не чувствовал этот запах — я бы умер».
Мы помолчали.
Потом вышли на улицу. Слева за забором под открытым небом размещалась территория музея.
— Ну что, давайте я открою, покажу? — спросил Фикрет, доставая из кармана ключи. — Хотя на самом деле все самое главное — там, в Гала. Это село — загадка, я как-нибудь проведу вас… Ну разве не странно — здесь всегда не хватало воды, всегда было три колодца, а на них село простояло четыре тысячи лет! Говорят, под землей здесь прорыты галереи, в которых может проехать запряженная быками арба и найти убежище три тысячи человек.
Ворота открылись.
— Как три тысячи человек? — ошеломленно спросил я, лихорадочно припоминая, что что-то подобное, загадочные «подземные города», существуют не так уж далеко отсюда, на территории Турции.
— Огромное убежище там, под землей, с подземными ходами, с выходами к морю. Все знают про это, но вот, музей сделали, а эти галереи разыскивать не стали…
— И потом! — вдруг опять пришел в воодушевление Фикрет. — Здесь же сплошь священные места… Огонь… Вы представьте только — земля горит, море — горит! Не случайно зороастризм зародился здесь, в стране огня!
Разглядывая старинные орудия, кувшины, каменные жернова, мы в конце концов оказались на скотном дворе, где пугливо косились на нас две овцы, кофейного цвета шеи которых торчали из покрывающей тело шерсти, как из пушистых белых барашковых воротников. Напротив был загон пренебрежительного к своей красоте верблюда: он цинично мочился на землю, густая шерсть его свалялась, в ней застряла какая-то труха и солома. Этот циник выглядел вполне живописно, и я стал доставать фотоаппарат, чтобы сфотографировать его.
— Подожди, дорогой, — произнес Фикрет, отпирая ключом еще одну постройку на территории музея. — Я еще не все показал…
Азер зашел первым:
— Камасутра… — только и нашелся сказать он.
Я протиснулся вслед. Признаюсь, я готов был увидеть что угодно, но только не это.
Всего было четыре камня. Не очень больших, так что каждый камень взрослый человек мог бы поднять. На всех этих камнях были выбиты изображения «священного брака», или, говоря языком профанным, соития мужчины и женщины. Иногда она шутливо принимала одного, ликующе играя какими-то кольцами в воздетых руках; иной раз соитие было более страстным и мужчин было двое, и тогда она словно забавлялась, дразня их, заставляя яростно размахивать палицами, держась руками за огромные перевозбужденные члены… Кроме оргиастических сцен на камнях было множество изображений разных животных: коровы или коня, убегающей лани, ящерицы… Ничего подобного я не видел даже на Гобустане.
— Что это, Фикрет-муаллим? 32 — только и нашелся спросить я.
— Мы называем это «Ахдаш-дюзи», «эротические камни», — улыбнулся Фикрет, видя наше изумление. — Они были найдены здесь, на Апшероне, еще в конце 60‐х годов. Но где бы тогда мы могли их выставить? Хранили их в бане, потом в мардакянской башне, так что еще один камень — пятый — рассыпался… Сохранились только его фотографии и прорисовки… Как установил наш археолог Идрис Алиев, главная героиня всех этих действ — Инанна — шумерская богиня плодородия и плотской любви 33. Она опознается по кольцам, которые держит в руках. И эти рисунки на камнях — фактически просто прорисовка древнего мифа, который был записан в стране шумеров на глиняных табличках. Под Майкопом, кстати, тоже найдены подобные изображения 34…
Майкоп — город на западе Северного Кавказа, возле Черного моря — Апшерон на Каспии — и Месопотамия — как это связано? Я на Гобустане-то уже не осмеливался выдавать свои догадки за какое-либо подобие суждения. А тут… Мы оказались в кругу вопросов без ответа…
Фикрет запер домик, и мы зашагали к выходу. Неожиданно он остановился:
— А на эту статую вы, видимо, не обратили внимания?
Назвать статуей то, на что он указывал, мог бы только завзятый авангардист: тело представляло собой каменный монолит со сквозной дыркой на месте сердца. Массивное правое плечо не было толком выявлено; левое было какое-то истонченное, вздернутое, и яйцевидной формы голова…
— Интересно, что голова снимается, — сказал Фикрет и легко снял голову, крепившуюся к монолиту тела простой палочкой-штырьком. — И при этом сердце — как будто вырезано. Для чего это, Василий? Может быть — имитация человеческого жертвоприношения?
Видимо, мы с Азером следили за его рассуждениями с такими тупыми рожами, что он невольно мягко засмеялся, глядя на нас. С Фикретом было легко: он не загонял собеседника в угол своей эрудицией. Ему просто нравилось играть загадками.
Мы прошли по музею и заперли входные ворота.
— Еще по чашке чаю? — предложил наш хозяин. — Мы ведь не закончили…
Самолет у меня был чуть не в одиннадцать, времени было полно, и я опасался только того, что мой разум устанет следить за культурологическими пасьянсами, которые с такой скоростью раскладывал перед нами Фикрет. Но уходить решительно не хотелось…
И мы вновь оказались в кабинете директора.
— Мы закончили на этой странной фигуре…
— Мы закончили на том, что пятый камень не сохранился, — повернул в свою сторону разговор Фикрет. — Остались только фотографии и прорисовки. Вот они, — он бросил перед нами на стол книжечку «Откровения Апшерона», изданную Министерством культуры и туризма Азербайджана, в которой тема «Ахдаш-дюзи» была всесторонне рассмотрена.
— На этом пятом камне, как вы видите, изображения женщин очень отличаются от тех, что сделаны на других камнях. У них головы варана. А варан в восточной традиции — это символ угрозы мужскому началу, мужской силе…
Это действительно так, однако из рисунка на камне явствовало, что мужчины стремились обладать и обладали этими опасными феминами.
— А теперь смотрите, — Фикрет открыл ящик своего стола и извлек из него небольшую — сантиметров в 12 высотой — бронзовую статуэтку женщины, голова которой, украшенная ниспадающими волосами, заканчивалась тем не менее чем-то похожим на плоскую голову ящерицы. — Это она? И если это она — то кто она такая?
Статуэтка была хороша. Ее сексуальность подчеркивал женский треугольник, налитые, хотя и не слишком большие груди, тонкая талия. От множества «венер» каменного и бронзового века, славящихся прежде всего своей полнотой, она отличалась почти девичьей грациозностью, характерной скорее для более развитых, скажем, египетских представлений о женской красоте…
Но кто же она? Я почувствовал своего рода азарт…
— Надо поискать… Я бы предпочел высказать свое суждение в следующий раз, — сказал я.
— Превосходно! — вскричал Фикрет. — Следующий раз — когда он будет? Через полгода, через год?
— Думаю, через месяц.
— Через месяц! Отлично! Но давайте условимся: через месяц, когда вы приедете, я покажу вам весь неизвестный Апшерон…
Знаете, когда лопата кладоискателя стукается о крышку сундука, наполненного золотыми дублонами, он, наверно, испытывает те же чувства, что испытал в этот момент я. С Фикретом Абдуллаевым в неизвестный Апшерон! О чем еще может мечтать не утративший жизненного пыла юноша лет пятидесяти?
X. ЭТИ ДОРОГИ
Машину мы оставили на обширном плато между селениями Гала и Тюркян. Под ногами была голая равнина со следами неглубоких борозд; там-сям можно было заметить пучки прошлогодней сгоревшей травы да остро пахнущие кустики только что выпустившейся степной полыни. С севера дул прохладный ветер, катя по степи и прибивая к травинкам тонкие полиэтиленовые пакеты — везде, насколько хватало глаз. А видно было километров на семь, до самого моря на юге… Справа и, следовательно, по компасу с запада — подступал переполненный кромешными режущими звуками каменный карьер. Сейчас на Апшероне идет невиданное в масштабах Азербайджана строительство поселков. Строят из камня, «кубиков», которые и нарезают в карьерах вроде этого.
Возле карьера виднелся домик смотрителя, ведущая к нему линия железных столбов с провисшими проводами, чуть в стороне — строение в эстетике альтернативного кино — одноэтажная бытовка для рабочих, выбеленная солнцем и изодранная ветрами, рядом с которой стояли две ржавые цистерны и валялся десяток таких же ржавых корпусов от промышленных электромоторов, выпотрошенных «на металлолом».
Фикрет пошел к домику смотрителя карьера, Азер возился с машиной, Эмиль сразу, как и я, резко ушел в степь — только в другую сторону, надеясь, видимо, разыскать следы таинственных «дорог».
Месяц прошел, и я снова был в Азербайджане, в кругу моих новых друзей, и наш бессмысленный со стороны разброд, собственно, и был началом того, что Фикрет-муаллим, директор музея Апшеронских древностей, когда-то предложил назвать «экспедицией в неведомый Апшерон». Я прилетел накануне. Азер встретил меня, поселил в Yaxt Club, и я сразу же ушел в город. За месяц, что я отсутствовал, Азербайджан отпраздновал навруз — новый год, отмечаемый в день весеннего равноденствия и знаменующий ежегодное обновление мира и начало настоящей весны 35. Пришло апрельское тепло, и Баку совершенно преобразился: на приморском бульваре уже проклюнулась молодая зелень, вовсю расставлялись неживые в начале марта кафе, на открытый воздух выносили зонтики, стулья, столики. Подсвеченные то голубым, то красным кипели жидким светом фонтаны, и под вечереющим небом публика ворковала о чем-то своем, попивая кто кофе, кто пиво…
Весна в Баку, как и везде, — время радости.
Какими наивными казались мне теперь те смутные опасения и сомнения, которые терзали меня в первую ночь в Баку, когда я сидел и курил в одиночестве под стенами Девичьей башни! Достаточно весенним вечером взглянуть на свободную, легкую походку бакинских девушек, поглядеть в их смеющиеся лица, чтобы понять, как целительно здесь первое дуновение юга, которое пробудило их, будто бабочек, заставляя мужчин в восхищении прицокивать языком и поворачиваться вслед за ними: жизнь здесь насыщенна, кровь горяча, а радость жизни — в такие мгновения — единственное, что ценится по-настоящему. Поэтому никто не пропустит мимо красотку из чувства ханжеской скромности, подавив восхищение: нет, нет, чувства — вперед, радость жизни — вперед, вперед те, кто удачлив и богат, чьи влажные, аккуратно подстриженные волосы цвета воронова крыла еще не осилила седина — спутница почтенной старости. Радость жизни — вот лейтмотив Баку весной, и, отдавшись ему вместе со всеми, глупо чего-либо опасаться. Лишь красивые женщины, изысканная кулинария и музыка способны сделать этот мир прекраснее, чем он есть! Не случайно джаз на каспийских берегах мог родиться и обрести полноту звучания только в Баку: пианист Вагиф Мустафа-Заде, диск которого я разыскал в конце концов в Москве, — это дейcтвительно большой музыкант, в чем-то не знающий себе равных. «В ожидании Азизы», «Чувство подсказывает», «Словами не скажешь», «Клавиши, щетки, струны» — вот названия его хитов. Но ими невозможно передать страстное томление его музыки, столь созвучной настроению апрельского вечера в Баку…
Случилось так, что через год, примерно в то же самое время весны, я оказался в столице Дагестана Махачкале — и не застал ничего подобного. Потом я понял разницу. Бакинец — по натуре купец и жуир. Дагестанец — воин. Азербайджан является древним торговым перекрестком. Дагестан — классическим горным форпостом. Воин форпоста не знает широты кругозора купца, его любви, его вкуса к жизни. Купцу недоступна не только сила воина, его аскеза и презрение к смерти, но и монолитность, нерасщепленность его сознания. Купец пластичен, воин — тверд. И с этой твердостью воину труднее приспособиться к стремительным переменам миропорядка. Воин либо нападает, либо защищается — в том числе и от новых смыслов. Купец, не раздумывая, отдается им: для него и новые смыслы — это всего-навсего новые товары, которые можно удачно продать сегодня, чтобы завтра вернуть выручку быстротекущей жизни… «Все лишь бредни, шерри-бренди, милый мой…»
В прошлый раз здесь, в Азербайджане, я лишь слегка прикоснулся к действительности. И оттого, что я не знал, что судьба уготовила мне ныне, я, прогуливаясь по вечерним улицам Баку, чувствовал азарт и сладкую тревогу…
— Ты, кажется, обещал выяснить, кто она, — улыбаясь, произнес Фикрет-муаллим, доставая из ящика своего директорского стола бронзовую статуэтку. — Выяснил?
Эмиль, который видел бронзовую красавицу в первый раз, потянулся, чтобы взять ее в руки и разглядеть повнимательнее. Журнал пригласил его быть фотографом экспедиции. Я был рад. Я знал, что мы еще встретимся.
— Ее зовут Лилит. И дорожка опять ведет к шумерам.
— Вот как…
— Тёмная мать, черная женственность. Да у меня записано… — я перелистал тетрадь. — Шумерский и вавилонский демон женского пола, овладевающий мужчинами во сне… Вот что интересно: в одном из комментариев к ветхозаветным текстам — а именно «Алфавите» Бен-Сира — ее называют первой женой Адама, которая была создана как равная ему и убежала от него, не желая мириться с властью мужчины. И тогда вместо нее была создана Ева.
— Черт возьми, — произнес Фикрет. — Не знаю, что и думать: бронза древняя, ее проверяли. Но откуда она здесь? Когда была отлита? Если бы мне сказали, что она поддельная, я бы поверил — столько всего вокруг нее, оказывается, наворочено. Но есть одно обстоятельство: тот, кто подделывал, должен был бы видеть пятый камень. Только на нем было ее изображение. Точь-в‐точь похожее. Но пятый камень не сохранился. И вообще, это исключено…
— Опасная девушка, — усмехнувшись, сказал Азер, явно прельщенный ненасытной сексуальностью демоницы.
— А я уже ковер заказал, — вдруг сказал Фикрет.
— Какой ковер? — удивился я.
— Да вот со всеми этими рисунками…
— Не может быть!
— Увидишь, покажу… Только, наверно, половина пока сделана.
Некоторое время мы еще обсуждали образы шумерской женственности, явленные такими своенравными креатурами, как Инанна и Лилит. Можно было и так, и эдак подступаться к этой теме, но в конце концов надо было решить, чем мы будем заниматься в своей «экспедиции в неведомый Апшерон».
— Ну, я предлагаю так, — в конце концов сказал за всех Фикрет. — Таинственные дороги — раз.
В прошлый раз он уже рассказывал о каменистых участках в разных местах Апшерона, где остались странные колеи, похожие на дороги, с тою лишь разницей, что они никуда не ведут. Да и вообще, я вспомнил, там много странного обнаруживалось в связи с этими дорогами…
— Это записываем.
— Апшеронские башни и замки — два.
— А это что? — спросил я.
— Ну как? Более тридцати башен, соединенных подземными ходами, по всему Апшерону. Теперь их называют «замками». Некоторые почти развалились… Но никто так и не объяснил, что это за сооружения, для чего они служили, потому что феодальных замков в классическом понимании у нас никогда не было…
— Хорошо, пишем.
— Апшеронские пи´ры — три.
— Какие именно?
— Их очень много. Некоторые связаны с христианским миссионерством, другие славятся как места чудесных исцелений, третьи почитаются как мусульманские святыни, как пир Хасан — ведь ты там был?
— Был. Но как рассказать об этом? Впрочем, давайте попробуем.
— А Гала? Ведь я обещал вам экскурсию по Гала?
— Гала — это важно.
Исторический аспект рассказа о Гала включал в себя тему нефти. Всего сто лет назад в эту пору здесь цвели кропотливо взращенные сады галинцев, обдавая прохожего волнами благоухающей, белой, голубоватой и розовой пены цветов абрикосов, миндаля, инжира, тутовника. Теперь на месте садов и пшеничных полей стоят буровые — и сама жизнь кажется невозможной. Селение и сохранилось-то только благодаря тому, что от мест, где добывается нефть, его отделяет несколько складок рельефа.
— Ну и наконец — «Акдаш-дюзи» — эротические камни.
— С чего же мы начнем?
— Дороги, — сказал Эмиль. — Пока погода хорошая, надо делать дороги.
Два вертолета азербайджанских ВВС прошли вдоль кромки морского берега, отрабатывая какой-то парный маневр. Их вид вернул меня к действительности. Фикрет уже шагал к Эмилю от будки хозяина карьера, Эмиль махал рукой, и я так понял, что он нашел. Я побежал к нему, тут только осознав, что все пространство вокруг равномерно завалено кучами мусора. Фикрет объяснил мне, что таким образом «столбят» участки под застройку. Эта территория, значит, очень скоро вся будет застроена…
А дороги… Да, они будут уничтожены навсегда. Хотя сейчас их множество. Это пробитые в сером известняке колеи. Ну, как будто от двухколесной арбы-бакинки, и между ними такой же ровный желоб, протоптанный осликом. Так, собственно, обычно и объясняется происхождение этих дорог. И я даже скажу, что это первое, что приходит на ум. И только когда мы прошли по одной из дорог до тройной развилки, стало ясно, что Фикрет прав и все не так просто: во‐первых, в разные стороны расходились колеи разной ширины… Не совпадали и расстояния между следами колес. В общем, чем больше вглядывался я в эти «колеи», тем более странное и даже тревожное в своей необъяснимости впечатление они производили: они сновали во всех направлениях, как следы танков на полигоне, но вывести какую бы то ни было логику из их пересечений было трудновато…
К тому же выяснилось, что про дороги эти было известно давно. Азербайджанский историк конца XVIII — начала XIX века Аббас Кулиага Бакиханов писал: «…в Бакинском уезде, в деревнях Зиря, Биби Эйбат и других, а также на некоторых островах, видны на скалах остатки следов колес, идущих далеко в море». Вот вам сразу две странности: во‐первых, про «дороги» было известно давно, но — заметьте — никто не видел, чтобы ими пользовались. А ведь на рубеже XVIII–XIX веков техника передвижения из села в село мало изменилась со времени изобретения колеса. Почему же эти дороги не использовались? Почему никто никогда не видел, чтобы по ним перевозили что-нибудь? И второе: они ведут в море. Под воду. И никто не проверял — что там, в конце пути? Вот лишь два вопроса в той длинной череде недоумений, которая выстаивается по мере всматривания в эти колеи…
В свое время исследователь-энтузиаст Эрих фон Дэникен высказал мнение, что подобные колеи, во множестве обнаруженные на острове Мальта в Средиземном море, не что иное, как следы транспортных средств инопланетян, оставленные теми на заре человеческой истории и памяти. «Дороги», в точности подобные Апшеронским, обнаружены в Греции, в Италии, во Франции. Когда фон Дэникен изложил свои взгляды в книге «По следам всемогущих», «дороги» долго и пристрастно исследовали ученые всего мира. Так был определен их возраст: приблизительно 4–5 тысячелетие до н. э. Еще не изобретено колесо. Особенно тщательные исследования проводились на Мальте, где местные жители тоже называли колеи «следами повозки». Было проведено картирование, космическая съемка. Она выявила, что сетью «дорог» особенно густо покрыта южная часть острова: как и на Апшероне, здесь дороги образуют параллельные линии, схождения, похожие на железнодорожные стрелки, развилки, перекрестки… Так же как на Апшероне, следы «колес» бывают разной ширины и действительно часто уходят в море более чем на сотню метров от берега. Хотя уровень Средиземного моря не колебался за последние 10 000 лет.
С тех пор как фон Дэникен разворошил ученое сообщество, специалистам разных отраслей знания так и не удалось объяснить, каково бы могло быть назначение мальтийских колей (или «лей» — как говорят ученые). Высказывались разные точки зрения. Фантастические и реалистические. Ни те ни другие ничего доказательно объяснить не смогли. Сам фон Дэникен отстаивает свою убежденность в том, что колеи есть не что иное, как шрамы, оставленные на теле Земли лазерами инопланетян или атлантов, которые схлестнулись над Средиземным морем в роковой битве. Радикалы этой точки зрения, кстати, считают мальтийский остров Гоцо с огромным, выстроенным из циклопических блоков храмом Джгантия единственным уцелевшим кусочком Атлантиды.
Вы, может быть, спросите: а почему никто не подумал собственно о дорогах? Пусть не для колеса: колеи можно заполнить соломой, глиной и таскать по ним тяжести в устройствах, напоминающих обычные сани… Скажу вот что: обо всем этом думано-передумано. И даже придумана одна версия, которая, как будто, работает. На Мальте есть несколько храмов, возраст которых определяется в 5400 лет. Они на тысячу лет старше пирамиды Хеопса. Некоторые сложены из каменных блоков весом до 20 тонн, идеально подогнанных друг к другу. Кроме «лей» на острове найдено несколько сот каменных шаров. Используя колеи как рельсы, а каменные шары как своеобразные шарикоподшипники, такую плиту могли тащить 4–5 человек, а затем «монтировать» ее при помощи шестов. Убедительно? Гениально! Беда только, что ни одна из мальтийских «дорог» не приближается к древним храмовым постройкам ближе чем на километр. Почему «дороги» не подходят вплотную к местам строительства? И почему их так много на юге острова, где они совершенно бесполезны? Почему они прячутся под воду?
Ни на один из этих вопросов нет ответа. Ученые сходятся только в двух пунктах: 1) «колеи» — не природное, а искусственное явление, и 2) они не могли быть сделаны, как это предполагалось ранее, «колесами телег, снующими по скальным обнажениям с ювелирной точностью вдоль одних и тех же линий».
Еще есть одно поразительное совпадение: на Мальте во множестве обнаружены статуи очень тучных, практически бесполых людей со съемными головами. Они не похожи на ту, что показывал мне Фикрет при первом знакомстве в своем музее под открытым небом, ибо сработаны намного лучше. Но главный отличительный признак изваяния — съемная голова — совпадает. Не нужно семи пядей во лбу, чтобы разглядеть на Апшероне все детали мальтийского сюжета — только в значительно упрощенном виде. Так эхо искажает звук голоса.
— Ну а какое-нибудь простое решение, без инопланетян, нельзя разве предложить? — недовольно фыркнул Фикрет. Он сам сторонник того, что «дороги» — явление глубоко таинственное. Но версия об инопланетянах чересчур тотальна, чтобы хотя бы не попытаться противопоставить ей какое-то другое объяснение.
Мы сидим в придорожном ресторанчике, обедаем в тени навеса и, разложив на столе карту, доставляем себе удовольствие самостоятельно изобретать велосипед. Кое-что нам вроде бы удается. Кое-какие фрагменты размышлений как будто состыковываются. Впрочем, довольно жалкие.
— Я иногда думаю — может, ими помечены сакральные пространства? — вбрасывает Фикрет свою излюбленную мысль.
— Ну и какие здесь сакральные пространства? На Мальте — там храмы. Джгантия! Это почти Стоунхендж. А здесь что?
— А здесь тоже, может быть, храмы. Хотя и несравнимые, конечно…
Фикрет выпил стакан минеральной воды и похлопал себя по карману рубашки:
— Во всяком случае, эта вещь, — он извлек из кармана маленький терракотовый членик, — была найдена в раскопе, к которому мы отправимся, когда отобедаем…
Членик проходит по рукам. Это небольшой, но агрессивный мужской член с мизинец величиной, сделанный из красной глины, запеченной до каменной твердости. Красивая штука.
— Осторожнее, — просит Фикрет. — Между прочим, этой вещи четыре тысячи лет. Это один из древнейших экспонатов нашего музея…
Раскоп. Глубина — сантиметров семьдесят. Общая площадь — не больше двенадцати квадратных метров. Не Стоунхендж, конечно. Внутреннее пространство раскопа образовано вертикально стоящими невысокими камнями. В центре — выгороженный камнями поменьше круг, внутри которого лежит речной камень — галька — с явственно видными засечками (счет, календарь, астрономические затеси?). Кроме этой «комнатки времени» внутреннее пространство включало в себя могилу человека и небольшое — полтора на полтора метра — помещение, где и был найден этот членик… Тогда что это? Жилище? Непохоже. Святилище? Тогда кого или чего? Мы не можем ничего утверждать наверняка. И никогда не сможем. Самое большее, на что способна наука, — это сделать еще несколько раскопов, чтобы как-то сопоставить их содержимое. Мир древнего Апшерона на 90 процентов пребывает еще под землей. Доисторические сооружения хорошо видны в степи как кольца из острых серых камней, которые торчат из земли, как зубы дракона. Выявят ли раскопки какой-то новый смысл? Я думаю — несомненно. Он будет иметь отношение к нашим представлениям о глубине и вообще обо всей оптике культуры. Вы скажете, может быть, что это не самое необходимое знание в наше время. Я отвечу, что проблемами такого уровня только и стоит всерьез заниматься. Конечно, сейчас только аутист не чувствует сбивчивый и нервный пульс эпохи. Вопрос «куда мы идем?» звучит актуальнее вопроса «откуда мы пришли?», хотя на глубинном уровне между ними, возможно, и нет существенной разницы. Сейчас мы, люди, готовы в точности повторить ошибку атлантов или инопланетян, которые, если верить легендам, погибли именно потому, что, обладая колоссальной технической мощью, не смогли противопоставить совершенству техники столь же совершенный дух чистоты и мудрости, который сделал бы обладание техникой безопасным 36. Впрочем, как только культура сосредотачивается исключительно на технической стороне прогресса, о мудрости приходится забыть…
Так и не выяснив природу таинственных дорог, мы покидаем места их загадочных пересечений и через «курганные поля» — невскрытые еще неолитические памятники — едем к берегу моря — осматривать грот, где найдены самые древние петроглифы Апшерона. Из-за того что загадка «дорог» неразрешима, от всего дня остается какой-то смутный осадок.
Внезапно автомобиль ухнул и осел всем передком вниз, а нас перетряхнуло в кабине, как жуков в спичечном коробке. По счастью, Фикрет не вылетел с первого сиденья в лобовое стекло и не разбил голову. Медленно вылезаем, чтобы понять, что произошло. Ну и дела! Какой-то идиот перекопал дорогу траншеей. В нее-то мы и угодили. Справа виден дом, видимо, недавно отстроенный, еще не обросший хозяйственными постройками, не обсаженный кустарником и деревьями. Слева — большое подворье, жилье, сложенная из камней изгородь и поразительной красоты деревья в розовом и белом цвету. Оттуда уже бегут к нам мальчишки.
Впрочем, и из дома справа появляется мужик с лопатой и, широко улыбаясь, шагает к нам.
— Какой дурак тут канаву выкопал? — не успев опомниться, кричит ему Азер.
— Я, я копал, — улыбается мужик и, подбежав к месту аварии, тут же начинает рыть землю и сыпать ее под провисшие колеса.
— Зачем же ты сделал это? — спрашивает его Фикрет.
— Чтобы КамАЗы не ездили, — доверительно улыбается он.
— Да КамАЗ через твой окоп пройдет — не заметит, — с досадой бросает Азер.
— Зато гляди, какую хорошую машину сразу поймал, — ни на секунду не теряя душевного равновесия, улыбаясь, произносит мужик.
От его неубиваемого оптимизма всех как-то отпускает. Позитивный мужчина. Ни малейшего чувства вины. Но он ведь и думать не мог, что какая-то Toyota Previa вдруг объявится здесь и угодит в его ловушку. А КамАЗы его, видно, достали: гоняют под самыми окнами к морю за песком… Нормального песчаного карьера поблизости нет. А стройка кипит повсюду.
Трое мальчишек уже крутятся вокруг нашей «Тойоты»: все примерно одного возраста — лет десять-двенадцать. У одного — новый китайский велосипед со множеством скоростей. Видно, что он очень гордится им. Остальные не могут отвести взгляда от Эмиля и его фотоаппарата, снабженного колоссальным объективом. С подворья показываются еще двое мужчин, не торопясь идут к нам. Я различаю там, за цветущими деревьями, несколько заброшенных и даже частично разобранных домов. И все же место выглядит обитаемым.
Мужчины подходят, перебрасываются приветствиями с соседом-канавокопателем и с нами, о чем-то негромко говорят по-азербайджански.
— Послушайте, — говорю я, — нас теперь здесь семь человек. Достаточно, чтобы просто поднять машину за передок…
Эта идея срабатывает: передние колеса освобождены.
Мужики вместе с хозяином уходят к дому и приносят несколько досок, чтобы по ним через яму прошли задние колеса.
В общем, мы сравнительно легко отделались.
Можно немедленно следовать дальше. Но меня неудержимо притягивает вид деревьев, цветущих во дворе среди развалин. На Апшероне деревья — редкость, каждое видно за несколько километров в голой степи — а тут сразу три в полном цвету…
— Фикрет-муаллим, — прошу я, — спросите их, можно ли нам поснимать эти деревья. Очень красиво. И потом — что здесь случилось? Дома разрушены, а люди живут…
— А это и есть Кошакишлак, куда на зиму перегоняли скот из Гала, помнишь, я рассказывал? — говорит Фикрет. — Не стало скота — все было заброшено. Здесь постоянных жителей не было, только чабаны. Сейчас вот поселились люди…
Он приоткрывает дверь и кричит что-то вслед удаляющимся мужикам.
Те отвечают вроде бы, что не против.
— Якши, якши, — говорит Фикрет то ли нам, то ли им. — Всё хорошо, можете пойти поснимать.
Мы с Эмилем берем фотоаппараты и отправляемся к строениям.
Мужики уходят все дальше и в конце концов исчезают среди развалин. За нами с нескрываемым любопытством издалека наблюдают только мальчишки.
На подступах к… — как сказать — к развалинам? или к строениям? — валялась станина от грузовика и старый чемодан. Шланг — видимо, из колодца — волочился через весь двор. Во дворе три дерева в самом цвету: одно в розовой пене и два, чуть менее избыточно осыпанные цветом, — белые. На фоне глубокого голубого неба эти разрывы цветов на голых, еще без листьев, ветвях были так невообразимо прекрасны, что у меня защемило сердце в предчувствии весны — ведь я приехал с севера, в Москве еще не стаял снег. Лишь сняв несколько кадров — и тем самым сделав зачаровавшую меня красоту чуть более привычной, я заметил в ветвях несколько изорванных полиэтиленовых пакетов, которые ветер носит по всему Апшерону. Двор, освещенный косым, уже клонящимся к закату солнцем, был беден, но чисто выметен. Веревка с выстиранным бельем, дешевая резиновая обувь у порога, убогое жилье — два небольших, в одну комнату, домика, с окнами, забранными мутным полиэтиленом, — все говорило о том, что в этих строениях, когда-то бывших просто хозяйственными постройками, теперь живут беженцы. Сам дом с провалившейся крышей и замурованными окнами был уже частично разобран. Из его камней сложен был хлев для небольшой, покрытой жухлой зимней шерстью коровёнки с едва обозначившимся выменем. Только темные сосцы были оттянуты — доили ее, беднягу, нещадно.
Из развалин дома терпеливо была сложена и разделяющая двор ограда из камней, не скрепленных никаким раствором, из-за чего вид у подворья был слегка первобытный. Из раскрытой двери одного домика все выглядывал и робел высунуться наружу перед двумя вооруженными фотоаппаратами дядьками мальчик лет четырех. Потом из домика вышел одноногий дед на костылях в теплой зимней куртке и меховой шапке и пошел к нам, а мальчишке, видно, страшно стало прятаться одному в пустой комнате, и он перебежал по двору в соседнюю дверь, сверкая голыми пятками. Дед все ковылял к нам на одной ноге, неся в сердце свое горе, и раз уж мы зашли в этот двор, нам предстояло это горе разделить. Он был беженцем, человеком из дальних мест, волею судьбы под конец жизни заброшенным в этот крохотный кишлак среди голой степи, где даже работы никакой нет и не может быть. Сейчас в великолепии весны это место выглядело живописно, но что мы знаем о мглистых днях декабря, когда Хазри, злой северный ветер, рвет крыши, облепляя темноту мокрым снегом, а пространства внутри обоих домишек едва хватает, чтобы все могли разлечься в тепле и вытянуть ноги?
Эмиль о чем-то заговорил с дедом по-азербайджански. Я на всякий случай поздоровался, но, кажется, по-русски дед не понимал. Разговор был недолгим. Эмиль потом рассказал, что дед во время войны был ранен осколком в ногу при артобстреле деревни. Не слишком серьезная рана, но началось воспаление и ногу пришлось отрезать. Дед сожалел не столько о том, что ему пришлось покинуть родные места (как я убедился, многие как будто не жалели об этом), сколько о том, что он утратил свою телесную целостность и не может теперь, в трудное время изгойства, помогать семье с той же силой, как если бы он был неповрежденный, двуногий…
Увенчал этот день берег моря. Восточная оконечность полуострова, куда мы приехали, лежит прямо против Артём-острова, где в советское время был выстроен большой поселок нефтяников, обслуживающий буровые в море. Южнее на десяток километров находится огромный терминал и порт, принимающий с танкеров нефть из Казахстана. Но то место, куда мы приехали, — оно сохранилось. Близко к берегу подступал холм, с севера сильно разбитый штормами, так что обвалившиеся глыбы ракушечника создавали у моря нехарактерный для Каспия скалистый пейзаж. Он был такой крошечный, этот кусочек живой природы, что почти целиком умещался в кадр: черный горб холма, нагромождение глыб под ним, гряда камней, вдающаяся в прозрачную, едва вздыхающую воду как раз того неподражаемого сине-голубого цвета, который А. Дюма назвал «каспийским сапфиром». В свете заходящего солнца песок пляжа, целиком состоящий их крошечных обломков морских ракушечек, казался розовым. Но выразительнее всего были большие плоские камни, лежащие у кромки моря. Вода изъела их довольно глубокими круглыми впадинами, похожими на метеоритные кратеры в миниатюре. Лунность этих желтых, покрытых кавернами плоских камней, розовый песок пляжа, черные силуэты глыб на фоне ослепительно синего неба — все это создавало пейзаж, который так и подмывало назвать «неземным». От этой красоты и внутреннее состояние было волшебное. Мы с Эмилем, прыгая с камня на камень, чтобы не оставлять на песке ненужных следов, исходили всю бухту несколько раз туда и обратно. Каких-нибудь двести-триста шагов на север — и из-за очередной глыбы вдруг становится виден большой поселок Шувелан на дальнем берегу. Столько же шагов на юг — и всё, никакой первозданности, нормальный пляж для нормальных людей, следы машин, брошенная пачка из-под сигарет, пакетик от презерватива, блесна на спутанной леске. Еще чуть дальше — пригорок, и на нем замыкающий бухту колодец, такой древний, что у него нет даже названия 37. На взгорке — два инжировых дерева, скрученные морским ветром. Их мускулистые, толстые стволы и ветви не верили наступившему теплу и не спешили выпустить из твердых почек нежную листву и цветы, которые могли стать легкой добычей ветра. От деревьев видна уже дамба на Артём-остров, пара буровых в море и громадные серебристые емкости нефтяного терминала. Так что я не спешил выходить наружу из малости этой бухты: ибо здесь наконец мне явился тот истинный Каспий, который я всегда предчувствовал, встречи с которым ждал так много лет. Вот здесь она состоялась. Прозрачные легкие волны чуть плескали о камни. Дальше, на глубине, они набирали цвет и набухали то ярко-синим, то необыкновенно ясным сине-зеленым светом. На миг я как будто исчез. То было чувство полного растворения в мире. Теперь я знал, чего буду искать у кромки этой воды: стать плеском, ощущением солнца на щеке, песчинкой этого мира, который все еще остается прекрасным, сколько бы люди ни глумились над ним…
XI. ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
Когда молодой персидский шах Исмаил Сефеви в 1500 году разбил ширваншаха Фаррух-Ясара и присоединил Ширван к персидским владениям, вместе с войском, которое он привел в Баку, пришла, разумеется, и личная его гвардия — горуйджи. Длинноусые красавцы в кафтанах из золотой парчи дали начало процветающим родам новой аристократии — Горуджиевым, Гурджиевым и другим, весьма раскатисто и даже грозно звучащим фамильным вариациям на гвардейскую тему. За триста лет все это перекипело в историческом котле и когда в 1792 году прапрапрадед Фикрета получил в Гала земельный надел, его фамилия была усечена до двухсложного обрубка — Горчу. То ли пехлевийский язык, на котором говорили коренные галинцы, противился самодовольному рокоту имени пришельца, то ли сами галинцы таким образом давали новоприбывшему понять, что он должен позабыть о временах, когда его предки служили в охране персидского шаха, выбросить из памяти холеные усы и золото мундира и стать, как они, обычным земледельцем. Так или иначе, основатель рода Глынч Горчоглы («Глынч, сын Горчу»), поселившись в Гала и выстроив дом в квартале, где селились приезжие, быстро распростился с остатками своего аристократизма и стал обычным землевладельцем, занятым своими овцами, лошадьми и виноградниками. По счастливому стечению обстоятельств столетие спустя его потомок породнился с богатыми местными уроженцами, носящими фамилию, восходящую к пророку Мани, рожденному в 216 году в Басре, в Вавилонии. Как известно, самому пророку не повезло, учение его, вобравшее в себя черты зороастризма и христианства и предопределившее многие черты будущего исламского мистицизма, в конце концов в империи Сасанидов было объявлено ересью, мистические видения — галлюцинациями, пророк был заточен в темницу, где и умер, а тело его изрубили на куски и бросили на съедение собакам. Что, однако, не помешало последователям Мани разнести его религию от Испании до Китая и даже обратить в нее правящую династию «кочевой империи» уйгуров. Так или иначе, искры «света» Мани долетели и до Апшерона — во всяком случае, в виде имени, ставшего затем фамилией (Мани, Маниев). К этой — редкой, надо сказать, — фамилии принадлежала и прабабушка Фикрета, когда ее сосватал потомок Горчоглы. Это была женщина невероятной жизненной силы. Односельчане звали ее мулла-Фатьма. Действительно, она читала и толковала женщинам Коран, обладала даром целительства, по-мужски скакала верхом на коне, подвернув длинную юбку так, что та облегала ноги наподобие шароваров, направляла мужа в его земледельческих заботах, хранила у себя родовую казну, наряду с мужчинами проникновенно пела скорбные псалмы в день траура по убитым имамам 38 и пользовалась таким авторитетом, что за нею в гумхамаме («песчаной бане») было закреплено специальное место. Прабабушка Фатьма умерла в возрасте 100 лет в 1969 году, пережив немало потрясений, в том числе исход чуть ли не половины населения Гала в город в конце XIX века, когда весь Апшерон был буквально взорван нефтяным бумом. Именно тогда в Гала стали впервые запустевать поля, ибо крестьяне были прельщены легкими деньгами аренды, которую платили им за землю нефтепромышленники. Им, разумеется, и в голову не могло прийти, что ставки в азартной нефтяной игре будут столь высоки, что однажды их просто выкинут с общинных земель, которые будут скуплены за бесценок, чтобы приносить миллионы. Первым в эти края проник русский немец с фамилией Бенкендорф — слишком хорошо известной в России 39 — что не помешало галинцам переозвучить ее на свой лад: Бекмандар. До сих пор за озером Шоргёль возвышается огромная ржавая водонапорная вышка Бекмандара, воздвигнутая в 1913 году, чтобы гнать воду в нефтяные скважины. Тогда прабабушка удержала в своей деснице и стада породистых овец, и виноградники мужа, и скромный, но верный доход, который приносил труд на земле. Ну а потом началось: революция, двадцатые, тридцатые, война… Муж ее не выдержал и умер, как и всякий мужчина слишком остро переживая свои потери и невозможность угнаться за временем. А она прожила-таки свой век, понянчив детей, внуков и правнуков, и умерла, по счастью, не увидев, как прекрасная Гала окончательно превращается из живого села в туристическую декорацию, столь, правда, живописную, что она действительно напоминает уголок утраченной подлинности, с таким самоотречением и любовью к прекрасному прошлому воссозданный ее правнуком, Фикретом.
Название Гала происходит не от тюркского «кала» — крепость, а от персидского «галля» — зерно. Но все-таки небольшая крепостица с полуразрушенной башней, куском стены и только что отреставрированной крошечной мечетью виднелась наискосок от дирекции музея. В поселке ее называют Надир-кала — в память о том времени, когда здесь стоял небольшой, человек в десять, гарнизон афганских воинов Надир-шаха, покуда он сам бессмысленно ломился на север, в Дагестан, терпя там поражение за поражением…
Так же таинственно, как события истории и судьбы людей, в Гала накладываясь друг на друга, смешались и сохранились доныне традиции культур, которые в других местах, более динамично развивающихся или подпавших под беспощадную распашку истории, давно исчезли. Я не забуду первого удивления: Фикрет отвел нас на улицу своего детства, к квартальной мечети. Ее неоднократно поновляли: в стенах обнаружен камень из восьми разных каменоломен. А внутри камень однороден. И храм сохранил первоначальную планировку, выполненную в форме креста. Так строились христианские часовни. Интересно, что христианский храм, превращенный в мечеть, сохранил внутри два сакральных «центра» — традиционный михраб, указывающий молящемуся в сторону Мекки, куда он должен обратить свое лицо, и нишу для возжигания свечей в стене напротив. Зажигая свечу, человек вопреки всем мыслимым представлениям ислама, должен был повернуться к Мекке спиной! Тем не менее жители квартала считали себя правоверными мусульманами и были бы, конечно, очень удивлены, если бы им сказали, что они поступают неправильно. Свечи были унаследованы мечетью по закону кровного родства: так какой-нибудь рецессивный ген давно забытого предка вдруг обнаруживает себя в далеком потомстве формой ушей или цветом глаз.
На сельском кладбище мы обнаружили следы еще более древней культурной «генетики»: наряду с обычными могилами здесь было несколько каменных погребальных склепов огнепоклонников, назначение которых в зороастризме состоит в том, чтобы отделить мир духа от «мира костей»; чтобы мертвое тело не осквернило Землю, сотворенную благой мыслью Ахура Мазды. Ничего не зная о зороастризме, правоверные мусульмане просили хоронить себя в этих склепах, чтобы через год-другой их кости, до блеска объеденные жуками-могильщиками, родственники в переметной суме передали водителю каравана, отправлявшегося в Мекку. Быть похороненным в святой земле, по наивным представлениям этих правоверных, значило прямиком попасть в рай. Как бы то ни было, водители караванов охотно принимали не слишком обременительный груз костей за умеренную плату до 1920 года, когда советское Закавказье отгородилось от всего мира непроницаемой границей.
Ну и наконец, самое невероятное: каменный фаллос, словно гриб, проклюнувшийся головкой из земли на окраине поселка. Почему-то во всех религиях откровения секс оказался чем-то запретным и грешным. Доныне только в индуизме и тантризме соитие мужского и женского признается не просто естественным, но и составляющим самую суть сакрального. Однако фаллос не был обойден вниманием, о чем свидетельствовали осколки стекла, блестящие в траве. Фикрет объяснил, что к этому символу мужской силы и плодородия прежде прибегали женщины, отчаявшиеся зачать ребенка. Соответственным образом очистившись и воздав молитвы Аллаху, женщина приходила сюда и садилась на головку члена в надежде, что дремучая древняя сила, дремлющая в этом чудовищном изваянии, пробьет ее неплодность. Потом она бросала бутылку о камень: если стекло разбивалось, это означало, что мольба ее принята. Если нет — ей следовало попробовать еще раз, подготовившись получше: выдержать пост, прочитать молитвы, раздать милостыню…
Говорят, что обычай просуществовал до середины прошлого века. Но свежие осколки стекла заставляли сомневаться в том, что он прекратил свое существование.
XII. АЛЛАХ ПРЯЧЕТ СВОЙ СВЕТ
Над Апшероном пронеслась гроза. Это была быстрая, легкая весенняя гроза, но когда мы все-таки свернули с шоссе, чтобы добраться до пира, который хотел показать нам Фикрет, мы угодили в такую грязь, будто непогода бушевала здесь минимум дня два. Впрочем, мы попали не просто в грязь. Впервые мы попали в нефть. Жидкая кашица, расплывающаяся под ногами, была замешана не на воде, а на маслянистом мазуте, и лужи на дорогах — черные лужи с дымчато-синим отливом — они тоже были из мазута, омытая дождем земля была черна, как обугленная, пролившаяся с неба вода сжималась на этой жирной земле в круглые шарики, играющие на солнце мертвым блеском фальшивых бриллиантов…
Здесь над апшеронской степью, что называется, «поработали»: это не была уже природа, она не жила — это был кусок совершенно мертвой земли, подвергшейся жестокому насилию. По грязной канаве, пересекающей наш путь, текла в отстойники желто-серая, в черных пятнах мазута, отработанная вода из нефтяных скважин. Силуэты качалок поднимались и опускались, как механические богомолы. В грязи на дороге валялся высокий, когда-то белый женский ботинок, пропитанный мазутом, и рваная резиновая покрышка от КамАЗа, которую сняли и бросили тут же, потому что трудно было себе представить, что, добавив в такой пейзаж рваную шину, можно что-то еще испортить. Мы перешагнули два трубопровода: один пластиковый, ярко-желтого цвета, другой, металлический — серого. В глубоких ямах стояла мертвая зеленая вода…
Меж тем железные мачты высоковольтной линии несли на себе провода. Тут жили люди, причем недалеко: я видел серые шиферные крыши домов и стены из желто-серых «кубиков». Минарет и зеленый купол мечети. Поселок Новые Сураханы был всего метрах в ста пятидесяти. Сто пятьдесят метров пропитанной нефтью иссиня-черной земли, на которой не росло ни деревца, ни пучка живой травы. Зато во всю длину поселка — будто нарочно — громоздилась свалка пластикового мусора. От запаха мазута першило в горле. Фикрет мужественно вел нас к небольшому мавзолею, выстроенному на естественном скальном выступе высотой чуть больше двух метров. Когда мы подошли, я с удивлением заметил, что, как и стены мавзолея, скала выкрашена известкой в белый цвет. Наверх вела черная металлическая лестница. На верхней ступеньке краснела привязанная кем-то тонкая ленточка.
— Ну вот, — вздохнув, сказал Фикрет. — Этот пир. Надпись на арабском языке над входом указывает на год постройки — 1400. Но это место связано с двумя христианскими проповедниками, последователями ересиарха Нестория 40, которые пришли из Сирии. Место для проповеди было выбрано очень удачно: во‐первых, здесь проходила главная апшеронская дорога. Поэтому у отшельников‐несториан всегда было много слушателей. А во‐вторых, если вы приглядитесь, то и сам мавзолей стоит на скале, да и дальше видна возвышенность, как бы гряда…
В обступающей нас грязи гряда «прочитывалась» плохо, но мы, определенно, стояли на самой высокой точке рельефа, откуда в обе стороны было далеко видно.
— Вот там, дальше, — показал вдоль гряды Фикрет в сторону моря, — с бронзового века существовало святилище, где древние маги вызывали дождь. И еще в XIX веке вызывали дождь. Вся эта гряда была местом силы…
Теперь сила этого места была убита.
Внутри мавзолей был еще меньше, чем казался снаружи. Едва ли два человека смогли бы находиться там одновременно. В уголке к стене приставлен был веник, помещение было чисто выметено, надгробие отшельника покрывал разноцветный коврик. Видны были наплывы воска на плите надгробия — здесь тоже в ходу был обычай возжигания свечей…
В голове у меня не укладывалось, как может христианский памятник стать местом нечастого, может быть, но все-таки регулярного посещения верующими мусульманами? Почитание святых необычайно развито в шиитском исламе, но эти святые, как правило — имамы, шейхи. Каковы же должны быть отношения верующего с Аллахом, чтобы он обратился к нему, прибегнув к посредничеству христианского святого? Почему он идет не в мечеть — вот она, рукой подать, — а сюда, в этот не очень-то уютный пир, затерявшийся в море грязи на задворках мира? Или это для какого-то особо доверительного и даже, быть может, мучительного разговора с Богом?
Я изложил свои мысли Фикрету.
— Наверное, так и есть, — сказал он. — Сегодня мечеть — это уже официоз. А здесь — ты напрямую обращаешься к Всевышнему.
— Фикрет, — сказал я, — я хочу понять: почему мусульмане приходят для молитвы в мавзолей христианского аскета? Обычно для верующих конфессиональные границы непреодолимы.
— Только не в Азербайджане, — сказал Фикрет. — Тут столько традиций наложилось друг на друга… Ты видел, сама земля хранит их, и изжить их невозможно… — Фикрет опять расстегнул карман рубахи. — Вот, я сейчас тебе покажу. Смотри: мать выписала молитву из Корана, зашила в тряпочку, и я ее всегда ношу с собой. А местные мужики дали мне — вот. Это верблюжья шерсть. Она приносит богатство. То — ислам, а это — суеверие. И то и другое я ношу в одном кармане…
Фикрет, несомненно, гордился тем, что как истинный апшеронец он несет в себе гены разных народов, разных культур и религий, разных подходов к миру, которые в конце концов позволяют ему смотреть на этот мир широко и любить его без изъяна.
— А как же Коран? — все-таки попытался еще надавить на него я. — Коран запрещает ставить посредников между Богом и человеком. А обращаясь к святому, ты прибегаешь к посредничеству…
— Знаешь, — сказал Фикрет, — Коран — это такая мудрость, что если этим всерьез заниматься, то, наверно, с ума можно сойти. Как-то я был в Эрмитаже, у академика Пиотровского, и он сказал одну фразу. Сначала по-арабски сказал, а потом перевел для всех: «Аллах прекрасен, и он любит красивых людей». Не только внешне, разумеется, красивых, а целиком… Вот это — моя фраза, я обожаю её… И весь ислам для меня — в ней, а не в каких-то предписаниях… В шиизме всегда почитали святых людей, красивых людей — и если это почитание не умирает, значит, это действительно были хорошие люди…
Мы тронулись дальше. В поселке Бузовна мы первым делом оказались на пире «Али Айагы» («След Али»). По преданию, здесь имам Али 41 явился из моря на белом коне, проехал по пляжу, сошел с коня (в известняке отпечаталось копыто и след его босой ноги) и вырыл неподалеку колодец. При жизни он был мастером по рытью колодцев. Вода в этом колодце, естественно, считается святой.
Сейчас все пространство пляжа до самого моря было застроено коттеджами, так что, появись имам Али сегодня, он бы просто не проехал к месту, где оставил свой след. Азер, взглянув на эту картину, даже крякнул от негодования.
— Что ты? — спросил я.
— Стоит морю немножко подняться — и все эти коттеджи будут затоплены. Ну кто так строит? — глянул он на меня с недоумением.
Азер был неисправим: торчащий из земли фаллос в Гала его действительно потряс. Однако другие наши изыскания, хотя и занимали его, как своего рода приключение, но, очевидно, сердца не трогали. Ни главная святыня пира (заключенный в ковчег под стеклом след коня имама Али), ни рассказ служки о варварстве красноармейцев, которые топорами вырубили драгоценный след ноги имама и увезли неизвестно куда, нисколько его не вдохновили, равно как и упоминания о чудесных исцелениях, случающихся у колодца. Еще меньше занимало его великолепие архитектурных построек, возведенных вокруг пира. Единственное, от чего он слегка поморщивался, была та пылкость, с который служитель, от избытка религиозного восторга чуть брызгаясь слюной, рассказывал нам о пире.
Появление из мавзолея женщин, которые, расцеловав стекло над следом коня, вышли наружу с выражением восторжествовавшей святости на лицах, вызвало у Азера мефистофельскую усмешку.
Он проследил за ними взглядом и, убедившись, что они не преминули выпить по кружке воды из святого колодца, предложил:
— Ну что, попробуем?
На железном крючке рядом с краном висела кружка. Я снял ее, наполовину наполнил водой и отпил.
— Солоноватая, но пить можно…
— Зато чудотворная, — улыбнулся Азер. — Как думаешь, исцелимся?
— От чего?
— Ну… — хитро прищурился Азер. — Может, от излишней застенчивости? А то в гостинице девушки на тебя засматриваются, а ты — ноль внимания…
Служитель, видя по нечестивым выражениям наших лиц, что мы исчерпали интерес к рассказу, вцепился теперь в Фикрета, так как Эмиль со своим фотоаппаратом не поддавался его красноречию.
— Целая семья приезжала из Израиля… У мальчика были парализованы ноги…
Чтобы не провоцировать нашего экскурсовода, я отвел Азера на пару шагов в сторону:
— Знаешь, со мной и правда случилась одна история…
— Девушка понравилась?
— Я бы так не сказал. Но — встретилась. И я думаю — не случайно.
— Что, по-твоему, значит «не случайно»? — фыркнул Азер.
— Я видел ее три раза. Каждый раз в новом обличье. И момент, когда появиться снова, она выбирает сама. В этот приезд я ее еще не встречал…
— Как появится, дай мне знать…
— Тебе-то зачем?
— Опять упустишь!
Слова Азера вывели меня из легкого оцепенения, которое вызывало во мне святошество нашего гида.
В конце концов Фикрет расстался с ним, сунув в ладонь монету.
Всего несколько сот метров отделяли нас от бывшего несторианского квартала в глубине поселка. Здесь ничто не напоминало о море и о том свежем архитектурном великолепии, которое со всех сторон обступало нас на пире в честь имама Али. Узкая улочка, в пятнах тени ореховых деревьев и тутовника, вела к развалинам несторианской церкви. От нее осталась живописная руина в духе художников конца XVIII века. Своды обрушились, стены частично тоже. Жители близлежащих домов активно пользовались развалинами как каменоломней: церковь когда-то была выстроена из крупных тесаных блоков, удобных для строительства. Теперь от всей постройки уцелели лишь две примыкающие друг к другу стены. При этом одна была-таки разобрана ровно до половины, так что арочная конструкция, служившая этой стене украшением и опорой, сохранилась лишь в виде полудуги из крупных блоков. От другой стены уцелела именно арка, но изнутри нее все камни были выбраны, и арка своей зияющей пустотой напоминала своего рода портал, призывающий прохожих зайти. С улицы весь интерьер бывшей церкви был прекрасно виден, и это никого, похоже, не смущало, хотя увиденному нельзя было не поразиться…
— Это придется сфотографировать, как произведение альтернативного искусства, — с проснувшимся азартом проговорил Эмиль, взобравшийся наверх первым.
Я вскарабкался следом за ним и обомлел: мне еще не доводилось видеть место, отданное в полную власть обрядов древней магии. В камни обеих стен были заколочены сотни гвоздей, которые, как объяснил Фикрет, частично символизировали зароки и обеты, а частично — просьбы о выздоровлении. Если гвоздь входил в стену, значит, камень пира «принимал» зарок или обещал выздоровление, а чтобы Господь ничего не перепутал, каждым гвоздем был приколочен к стене кусочек материи: носовые платки, женские косынки, носки, оторванные полоски ткани, ремешки от часов…
Центром пира был большой бесформенный обломок рухнувшего свода, теперь представляющий собой первобытный алтарь, еще более густо, чем стена, утыканный ржавыми гвоздями — просьбами о материнстве — и к тому же сверху донизу и на несколько метров вокруг усыпанный осколками зеленого бутылочного стекла, которое с треском лопалось под нашими ногами.
— Это, — поспешил объяснить Фикрет, — сильнейшее на Апшероне тэрся — место, где лечат от испуга и сглаза. Вот сюда, к этому камню, ставят человека, который испугался чего-то, в котором сидит-не-отпускает этот испуг, не дает говорить, не дает спать… Ставят спиной к камню, заставляют четки перебирать, молитву читать. И когда он погружается в молитву, специальная женщина за его спиной громко разбивает бутылку. Чтоб он испугался! Чтоб тот, старый испуг, из него выскочил… Как клин клином…
— И что, это до сих пор работает? — спросил я.
— Да, работает… Все этот пир знают…
— А этот ритуал, Фикрет, он совершается ночью?
— Нет, почему? Можно и днем…
Вокруг были дома: но, следовательно, ни тех, кто практиковал свои обряды внутри пира, ни тех, кто наблюдал за происходящим снаружи, это не смущало. Я понимал, что Фикрет хотел показать нам сплетение и взаимосвязь культурных традиций, сосуществующих на Апшероне, но получилось в результате, что мы протащились по задворкам религиозного опыта, весьма, при этом, примитивного. Это странно подействовало на меня. Я в отличие от Азера не атеист. У меня есть опыт переживания иной реальности. Некоторые верхние поля кажутся совсем близкими, во всяком случае, они ощутимы, когда тонкие чувства не заглушает повседневный «шум эмоций». Другие приоткрываются только спустя годы: йоги и мистики проторили этот путь в запредельность. Современному человеку непросто представить себе весь человеческий мир, все измерения индивидуальной психики, всю планетарную Жизнь и бесконечность Космоса как проявления Единого. Еще труднее — осознать себя частицей этого Единого, песчинкой человечества хотя бы, или клеточкой чарующего узора Жизни — хотя это, видимо, именно то, что стоит всерьёз искать.
Тем более досадно, когда весь этот поиск сводится к вколоченному в стену гвоздю…
И, кажется, не одного меня это озадачило. Во всяком случае все как-то притихли и некоторое время мы ехали молча.
— Ладно, — попытался взбодрить нас Фикрет. — Что вы замолчали? Я должен радоваться, потому что я еду на свадьбу. Похороны я не люблю, но свадьба — это ведь святое?
— А я и свадьбы не люблю, — с неожиданной прямотой вдруг сказал Эмиль. — Я люблю горы…
Баку только-только начинало прихватывать вечерними пробками.
Мы высадили Фикрета на каком-то городском перекрестке, простились до завтра.
— Какой-то сегодня хмурый по впечатлениям день вышел… — задумчиво проговорил Эмиль, когда мы остались втроем. — Может быть… подорвать его немного?
— Ты что имеешь в виду? — повернулся к нему Азер. — Осталось не так уж много времени… Красные горы?
— Если подрывать — то красные горы.
Навстречу налетела зеленая полоса предгорий, мальчишки, заметив машину, бросались куда-то в траву, судорожно рвали что-то — то ли черемшу, то ли дикую петрушку, но мы шли на такой скорости, что они быстро понимали, что упустили шанс продать свою зелень, и возвращались к прерванной игре в футбол. Солнце оранжевым шаром медленно катилось в Иран, когда мы повернули на север. Слева безжизненными серыми осыпями подступили горы. Скоро дорога свернула в ущелье. Мы поехали медленнее. Солнце еще освещало горы почти до половины, когда за очередным поворотом Азер притормозил:
— Смотри!
Справа от дороги — и почему-то только с одной стороны — вздымались отроги, сложенные горизонтальными пластами древних кроваво‐красных и светло-серых глин. Если бы я увидел такое впервые, я бы, наверно, закричал от восторга. Но такую же освежеванную плоть земли я видел в астраханской степи, на священной горе калмыков Богдо.
Здесь толща древних донных отложений была поднята высоко вверх могучим тектоническим ударом: дно древнего моря местами треснуло, местами вспучилось до самого неба. Между пластами красной и серой глины белой кристаллической накипью выступала соль, издалека похожая на севший на землю иней. Эмиль был прав: невозможно было оставаться равнодушным в этом невообразимом пейзаже. Мы подхватили фотоаппараты и стали карабкаться вверх, чтобы успеть разглядеть это грандиозное творение природы при свете солнца. Я забрался довольно высоко и оттуда заметил внизу очень правильной формы полукруглый холм, с удивительной последовательностью сложенный красными и белыми прослойками, а сверху покрытый блестящей белой коркой, похожей на полярную шапку красной планеты. Почему-то я решил, что именно этот марсианский глобус и надлежит мне сфотографировать, и стал карабкаться еще выше, пока не отыскал позицию для съемки над самой соляной шапкой этого купола. Эмиль же довольно быстро ушел по склону в сторону, сосредоточившись на разглядывании осохшего русла скатившегося по склону дождевого потока. Мельчайшие частицы красной и голубой глины, снесенные в русло дождем, образовывали какие-то фантастические извивы и вихри на влажном еще дне… Потребовалось некоторое время, чтобы энтузиазм наш иссяк. Потом солнце медленно погрузилось за синий хребет на юге, и на дне ущелья стали сгущаться сумерки. Вдоль русла неслышной речки Атачай два чабана верхами прогнали к кошу отару овец; запахло вечерним дымом стоянки, на которую вернулись, наконец, хозяева; деловито побрехивали псы, загоняя отару, и уже слышался глухой алюминиевый звон посуды, предвещающий скорый ужин.
Я спустился до половины склона, где была плоская площадка поудобнее, и присел, разглядывая жизнь внизу. Смутные чувства обуревали меня. Что-то было по большому счету не так. Не так в самой методологии нашей экспедиции. Путешествие в неведомый Апшерон на деле выходило не столь любопытным, как хотелось бы, потому что контакт наш с действительностью был слишком предсказуемым, слишком безопасным, постным. А хотелось бы, признаться, остроты. Хотелось бы подорваться по-настоящему.
Приподнимаясь с земли, я заметил в десяти сантиметрах за своей спиной дырку величиной с ладонь, в которую, по-видимому, как в сливное отверстие ванны, уходила вода потока, катившегося по склону во время недавнего дождя. Встав на четвереньки, я осторожно подполз к дырке и заглянул внутрь.
Силы небесные.
Где-то в самом низу черной промоины, похожей на зал пещеры высотой метров в семь, зияла другая вырванная водой дыра, в которую и просачивался свет, достаточный, чтобы я мог составить мнение об объеме пустоты, над которой я предавался своим размышлениям, сидя на корке запекшейся глины. В любом случае мне надлежало возблагодарить Судьбу, что «крыша», на которой я сидел, выдержала и я не улетел в эту расселину, не успев даже крикнуть «спасите!».
Внизу Эмиль показал три или четыре кадра, снятые у облюбованного им русла. Как и добрая половина всей съемки Эмиля, это были великолепные геологические абстракции, на этот раз представленные тонкой игрой розовой и голубой пыльцы и сочными мазками красной глины. Эмиль много лет уже ходит по этим горам и все-таки каждый раз приносит оттуда новую и неповторимую красоту…
Прощаясь с друзьями, я спросил, будет ли кто-нибудь против, если завтра мы встретимся не в десять, как всегда, а хотя бы в полдень. Мне хотелось побыть одному.
— А что у нас завтра по плану? — спросил Азер.
— Акдаш-дюзи, эротические камни. Работа в основном для Эмиля. Вопрос: сколько ему нужно, чтоб снять.
— Часа два, — сказал Эмиль. — Чтобы снять хорошо.
— Ну, тогда можешь спать, сколько тебе угодно, — сказал Азер. — Если хочешь, мы приедем в два.
XIII. СТРАНА ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ
В первых числах июля 1819 года в Баку из штаба генерала Ермолова, командующего русскими войсками на Кавказе, прибыли три человека. Двое были офицерами, третий, одетый в купеческое платье, — толмачом, дербентским армянином Петровичем. На другой же день, истребовав еще 30 солдат из бакинского гарнизона, все трое погрузились на поджидавший их в бухте 18‐пушечный корвет «Казань» и в тот же вечер, выбрав якорь, отбыли в неизвестном направлении. Дело их было секретное: добраться до противоположного восточного берега моря Каспийского, высадиться на сушу, войти в контакт с достойными доверия аксакалами 42 туркменских родов и, склонив их на свою сторону деньгами или подарками, вместе с попутным караваном туркмен проследовать через пустыни до Хивы, где и вручить письмо Его Превосходительства генерала Ермолова хивинскому хану Магмет Рагиму с предложениями дружбы и «доброго согласия».
В то время восточный берег Каспия едва забрезжил на периферии российской геополитики. Но, получив по Гюлистанскому миру (1813) от Персии весь западный берег моря, Россия решила хотя бы обозначить свою позицию на Востоке. По восточному берегу жили береговые туркмены, народ отважный и «разбойнический», снискавший себе дурную славу пиратов и работорговцев, продающих живой товар из Персии в Хиву — обширное ханство в разветвленной тогда дельте Аму-Дарьи, которое вело караванную торговлю с Россией в Астрахани и Оренбурге, но одновременно скупало и русских рабов, обычно солдат, по неосторожности угодивших в плен к киргиз-кайсакам 43. Со времен катастрофы, постигшей в 1716‐м отряд князя Бековича 44, вырезанный в Хиве до последнего человека, в России о ханстве Хивинском ничего известно не было. Никто из русских купцов не рискнул бы отправиться с торговлей в Хиву через тысячу с лишком верст степи и пустыни, в которой любой караван и сам собою легко мог сгинуть без следа, даже не будучи разграбленным кочевниками.
О географии восточного берега Каспия до самого царствования Екатерины II тоже не было никаких сведений. Первая экспедиция, посланная картировать восточные берега в 1764 пала жертвой собственной добросовестности, забравшись в Мертвый култук — огромный мелководный карман Каспия, далеко уходящий на восток от дельты Волги и сплошь окруженный солончками и гнилыми местами. Капитан Токмачев, надышавшись «вредными воздухами», заболел лихорадкой, от нее же погибла чуть не половина его людей. Так что посольство, отправлявшееся с секретной миссией из Баку в Хиву, использовало съемку и описания, сделанные экспедицией Войновича, о которой следовало бы сказать хоть два слова особо.
Когда в 1776 году один из влиятельных царедворцев екатерининского времени князь Г. А. Потемкин был назначен одновременно губернатором новороссийским, азовским и астраханским, он начертал перед государыней-императрицей дерзкий план политики на юге, которому (хоть и не сразу) суждено было в точности исполниться. А именно: имея в виду в первую очередь завоевание Крыма, Потемкин предложил для проведения более активной политики на Востоке создать на территории Персии полувассальное княжество, предположительно на южном берегу, в районе Астрабадского залива, где со своими казаками зимовал вор и разбойник Стенька 45 и где, по всей вероятности, Россия могла бы содержать свой военный флот. Тут и возникает фигура отважного серба Марка Ивановича Войновича, вступившего в русскую морскую службу. Славу стяжал он во время турецкой войны 1768–1774 крейсированием у берегов Сирии и Египта (тогда турецких), участием во взятии Бейрута (тогда турецкого) и дерзким плаванием под самым носом у турок через Босфор и Дарданеллы в Крым (тогда подвассальный Турции) и обратно. Теперь ему было определено испытать себя в качестве первопроходца на Каспии. Экспедиция составлена была изрядно: бомбардирское судно, три фрегата и два палубных бота для исследования Красноводского и «Карабугавского» мелководных заливов. Пройдя вдоль всего неприветливого, пустынного восточного берега каспийского, экспедиция в конце 1781 года достигла Астрабадского залива на южном берегу и действительно нашла здесь райский уголок. «В море водились белуга, осетр и севрюга. От самой воды начинался густой лиственный лес, где произрастали дуб, вяз, бук, клен, чинара, самшит, смоква, дикий гранат и грецкий орех». Во множестве водились звери: олени, кабаны, медведи, тигры и волки. В горах неподалеку находилась летняя резиденция Ашраф-шаха «со множеством увеселительных замков… фонтанами, каскадами и из разных мест вывезенными деревьями» 46, которая, впрочем, более полувека простояла в запустении и сильно разрушилась, поскольку Ашраф-шах, представитель афганской династии, всего шесть лет просидел на троне, после чего был наголову разбит Надир-шахом, бежал в Белуджистан, где и был убит. Все, может, прошло бы и гладко, если бы Войнович не решил войти в соглашение с Ага-Мохаммедом, вождем племени каджаров, вовлеченным в жестокую борьбу за власть, в ходе которой один из его соперников, захватив Ага-Мохаммеда в заложники, велел отрезать ему причинное место, чтобы тот впредь даже грезить не смел о шахском престоле. В час, когда Войнович договорился поддержать Ага-Мохаммеда в его борьбе за шахский трон в обмен на кусок берега в Астрабадском (Горганском теперь) заливе, тот находился в очень трудном положении: час его жестоких побед еще не пробил. Он колебался. Поэтому едва матросы Войновича приступили к строительству крепости, как сам Войнович и часть его офицеров были схвачены и заключены в колодки. Им повезло: в борьбе за власть случаются испытания куда более жестокие. Тот же Ага-Мохаммед, несмотря на отсутствие у него мужского достоинства, став‐таки шахом, пытал своего престарелого слепого родственника расплавленным свинцом, чтобы вызнать, где тот спрятал сокровища. Но русским он просто повелел забыть все договоренности, достигнутые ранее. И действительно, как только пушки из крепости были перевезены обратно на корабли, пленники были освобождены и вскоре отплыли для картирования туркменских берегов и бакинского залива… 47
Таким образом, после экспедиции Войновича Каспийское море, до этого представленное в картографии различными и весьма произвольными формами, впервые получило, наконец, подобие правильных очертаний.
Корвет «Казань», отправившийся из Баку в начале июля 1819 года по секретному делу, из-за частых штилей прибыл к противоположному берегу Каспия лишь через две недели. Возвышенность, увиденная с мачты в подзорную трубу, походила на «Белый бугор», отмеченный на картах Войновича: других ориентиров, кроме «бугров», тогда на этих берегах не было. Когда баркас, вооруженный 12‐фунтовой коронадой и «шестью ружейными матросами», причалил к берегу, оказалось, что он абсолютно пустынен. На песчаных барханах росли редкие кусты. Обнаружились следы верблюдов и людей, но ни тех ни других заметно не было. Вода в колодцах была солона.
На другой день путешественники заметили в море с десяток туркменских киржимов (лодок). Чтобы привлечь внимание людей в лодках, сделали из пушки два холостых выстрела, а потом пустили ядро — те продолжали грести, не принимая выстрелы во внимание, пока, наконец, матросы на шлюпке не отсекли один киржим и не привели к корвету. Хозяином лодки был туркмен из племени Иомуд, колена Шерба, назвавшийся Девлет-Али. По пиратскому обычаю он считал себя в плену и был грустен. Однако ж поручик Николай Муравьев, назначенный посланником в Хиву и изрядно говоривший по-татарски, расспросил его и вызнал, что кочевья туркменские лежат южнее, ближе к «Серебряному бугру», также упомянутому в описаниях Войновича. В середине августа корвет бросил якорь против «Серебряного бугра», недалеко от устья реки Атрек. Тут действительно раскинулось много кочевий, и уже через три дня армянин Петрович доставил на корвет аксакала Кият-ага, который после нескольких дней уклончивых разговоров согласился указать верных людей, своих родственников, в заливе Кызыл-су, с которыми наверняка посланцы генерала Ермолова смогут достигнуть Хивы.
Благодаря расположению аксакала путешественники смогли сойти на берег, познакомиться с бытом и повадками туркменов, изучить родословную племени Иомудов, которое происходило от одного предка и делилось на четыре колена по числу его сыновей: Чуни, Шерба, Куджука и Байрам-Ша. Все они считали себя братьями и жили в самом тесном союзе. «Серебряный бугор» близ моря оказался развалинами крепости, от которой дальше уходила в пустыню развалившаяся стена. Никто из туркменов не знал времени ее постройки, но, как указывает Муравьев, об этой стене, простирающейся в глубь пустыни на 200 километров, от морского берега до предгорий хребта Аладаг, где рождается река Горган, написано в Biblioteque Orientale d’Herhelot как о границе царств Ирана и Турана 48. Действительно, туркмены, проживающие к югу от стены, повиновались персам, живущие же на Атреке и далее к северу не признавали их власти, а подчинялись старейшинам родов, власть которых передавалась из поколения в поколение, если их потомки «своим добрым поведением заслужили всеобщую доверенность».
Кият-ага, взяв путешественников под свое покровительство, вызвался проводить их до Красноводского залива, откуда в сентябре должен был отправиться в Хиву караван за хлебом. По пути он попросил капитана корвета заглянуть на «нефтяной остров» Челекень, чтобы навестить родственников. Здесь было два аула колена Шерба, которые издавна промышляли озерной солью да «земляной смолой», нефтью, которую продавали они со своего острова бочками.
В Красноводском заливе путешественники обнаружили «по всему берегу кочевья и колодцы с хорошей пресной водою». К заливу спускались пустынные желтые горы, меж которыми резко выделялись два скальных выступа черного цвета. На горах и по степи, писал Муравьев, «пасутся стада верблюдов и овец, питающихся сухими кустиками… Беззаботные и ленивые туркмены кое-как продовольствуют себя хлебом, покупаемым в Астрабаде (ныне Горган. — В. Г.) или в Хиве, и верблюжьим молоком. Промысел их — воровство; похищая людей из Астрабада, они продают их в Хиву и выручают за них большие деньги» 49.
Разумеется, в начале XIX века жители Красноводского залива не могли даже представить, что в буквальном смысле слова сидят на богатстве, которое через 200 лет могло бы озолотить любого из них: то была, разумеется, нефть. Она и в начале XIX столетия была уже товарным продуктом, хотя и не превратилась еще в Мировой Товар № 1.
Вскоре Кият-ага сыскал наконец среди своих соплеменников человека, который за сорок червонцев брался сопроводить Н. Муравьева с армянином Петровичем в Хиву и вернуть обратно. В начале октября караван составился, путешественники, оставив корвет, пересели на верблюдов и отправились навстречу неизвестности…
Муравьев добрался до Хивы, едва не оказался пленником вместо посланника и в деталях описал жизнь Хивинского ханства — плодоносного и тщательно возделанного оазиса, укрывшего за песками окружающих его пустынь дикую азиатскую сатрапию, в страхе живущую под абсолютной, необузданной, психопатической властью хана Магмет-Рагима. Книга Муравьева напомнила мне о прямой, соединяющей Баку и Красноводск (ныне Турменбашы).
По этой прямой до сих пор ходил паром Баку — Красноводск.
С той стороны моря была Туркмения.
Я пытался проникнуть в Туркмению много раз. Первый — в 2003‐м с профессором Сарианиди, который на границе Туркмении и Афганистана с 1969 года искал загадочную страну Маргуш — остатки древнего царства Маргианы. И накануне развала Союза нашел. Громадный дворцовый комплекс, занесенный песками пустыни, а когда-то утопавший в садах, в зелени речной излучины Мургаба. Интересно, что города при дворце не было. Триста метров на триста — территория дворца — жилье, виноградники, сосуды, в которых хранилась хаома — питье жрецов изначальной арийской религии, Маздеизма. В трещинах каменных чанов сохранились семена конопли, эфедры. То есть это был не просто «опьяняющий напиток» магов, как пишет Мирча Элиаде, а галлюциноген с мощными эротическими свойствами…
Независимая Туркмения решила продолжить раскопки.
Я просил профессора Сарианиди вписать меня в археологическую экспедицию на один сезон. Я бы успел увидеть все, что хотел. Неподалеку от места раскопок был заповедник Бадхыз. Это место небывалой красоты, культовое место для всех путешествующих по Средней Азии в советское время. Считалось круто пожить там, застать пролет каких-нибудь розовых скворцов из Персии, пообщаться с заместителем директора заповедника Юрием Гореловым — человеком воистину легендарным, старым русским «азиатом»…
Но ничего не вышло.
Еще была возможность попасть в Туркмению по приглашению. Через знакомых я нашел биолога Виктора, который занимается дальневосточным и туркменским леопардом. Много раз бывал в Туркмении. Знает людей. Как оказалось, за определенную сумму можно купить приглашение от гражданина Туркмении. Ну вроде как ты едешь в гости. Он мне посоветовал двух братьев, с которыми можно было бы дней на десять съездить на Узбой — красивое, заросшее одичавшими тутовыми деревьями старое русло Аму-Дарьи — и дальше, на Кара-Богаз. Они охотники, степь хорошо знают, у них и машина есть.
Мне очень хотелось посмотреть на Кара-Богаз-Гол. Еще в детстве, узнав, что это словосочетание означает «черная пасть», я понял, что это, должно быть, очень странное место. Действительно, воды Каспия падают в залив через узкое горло с большим перепадом высот — Кара-Богаз значительно ниже моря и по существу представляет собой мелководную лагуну, в которой вода быстро выпаривается, оставляя на дне мощные отложения глауберовой соли. Во времена Николая Муравьева существовало поверье, что переплыть Кара-Богаз нельзя: вода здесь черными водоворотами уходит под землю. И птица не может перелететь через залив — слепнет от крепчайшего духа соли. А там все-таки от берега до берега больше 150 километров. Рыба туда, естественно, сваливается, но жить в такой соленой воде не может: поэтому по всему побережью лежат просоленные остовы осетров и минерализованные куски дерева. В смысле безжизненности, какой-то голой, самодовлеющей геологичности, это место является своеобразной метафорой ада…
Но тут же возникла проблема.
Я спросил Виктора: можно ли будет написать о поездке? Моим проводникам это не повредит?
— Наверное, повредит, — подумав, сказал Виктор. — Писать не надо.
И я отказался от этого варианта тоже.
Прошло несколько лет, пока методом многих проб и ошибок я не убедился, что человеку с российским паспортом самому попасть в Туркмению нереально. Бывает, что туркмены приглашают к себе специалистов из России. Но это не одно и то же.
В Баку я подумал, что на пароме я мог бы, переплыв Каспий, хотя бы увидеть туркменские берега: одно это могло бы стать приключением.
Туркмения была одной из тех стран, которая после распада СССР жестко отделилась от России. Основой абсолютного суверенитета новой Туркмении должны были стать вода, нефть и газ. Каракумский канал, обеспечивший республику водой, был прорыт сквозь полторы тысячи километров пустыни еще в 1959–1960 годах. Нефть и колоссальные месторождения природного газа тоже были разведаны в советское время. Продавая сырье, страна могла обеспечить себя всем необходимым. Завет отца нации Туркменбашы Великого, «Рухнама», должен был духовно увенчать это простое, но вполне жизнеспособное экономическое построение.
Туркменбашы Великий до развала Союза был Сапармуратом Ниязовым, секретарем Политбюро ЦК — святая святых советской партийной власти — где как раз и выковывались «вожди» республиканского значения. Опыт коммунизма помог ему: в 1991 году он провозгласил себя первым и пожизненным президентом независимой Туркмении, которому в его пустынной стране не подчинялся разве что ход светил. В честь горячо любимой матери, Губонсалан-эдже, в новом календаре Туркменбашы Великого был назван месяц апрель. Он захотел стать маршалом — и на китель ему легли золотые погоны. Он простодушно любил алмазы и бриллианты, кровных аргамаков и самые дорогие в мире автомобили и не стеснялся преумножать свое богатство. Тринадцать тысяч статуй, расставленных по всей стране, должны были засвидетельствовать, что Туркменбашы («глава всех туркменов») вездесущ и думает за всех. Он приказал снести столичный город Ашхабад, чтобы на его месте построить новый: настоящий город будущего из белого мрамора, с огромными жилыми домами, фонтанами и сосновыми рощами. Улицы его обычно так пустынны, что, кажется, будущее еще не наступило и жители еще не появились. Между домами — театры, выставочные залы — тоже, как правило, пустующие. Университет. Вместо 22 000 человек, как было в старое время, здесь учится теперь всего тысяча. Туркменбашы решил упростить путь юношества к среднему образованию, сократив его до 9 лет. И плюс два года — курс института. И два года практики. С тех пор никто в Туркмении не защитил ни докторской, ни даже кандидатской диссертации. Туркменбашы не знал отдыха: по его приказу под Ашхабадом были выращены леса, по городу проведена рукотворная река, выстроен новый прекрасный аэропорт, который очень быстро был оценен западными авиакомпаниями, совершающими дальние перелеты. Он хотел спасать пингвинов, прослышав, что они бедствуют в Антарктиде, и был полон решимости устроить для них антарктические условия в пустыне Каракумы, и если бы не помер — кто знает, может, и создал бы…
Чего только не рассказывают про Туркмению! По решению Туркменбашы до 2030 года для населения остаются бесплатными газ, вода, пищевая соль. Месячная плата за квартиру равна стоимости пачки сигарет. Цена на бензин — 2 цента за литр. После этого будешь ли всерьез думать о политике? Он призвал свой народ вернуться к традиционным туркменским добродетелям, к туркменской музыке и традиционным искусствам. По его приказу в Туркмении соткали самый большой в мире ковер. Он чувствовал себя отцом новой нации, он был им. И то, что его обращение к народу, «Рухнама», вдохновленное самим Аллахом, не было признано равным Корану, стоило свободы главному муфтию Туркменистана.
Может быть, в книге содержится и не бог весть какая мудрость. Но, как говорил пророк Мухаммад о Коране, держась за него, как слепой за веревку, ты пройдешь правильным путем… Туркмен не часто читает книги. Поэтому он должен прочесть главную — ту, где даны ответы на вопрос о правильной жизни. И кто сказал, что мудрость житейская должна быть сложной? Лучше, если она будет доступной. Старших надо уважать, исполнять их просьбы. Малышей — любить — иначе как вырастет нормальный человек? Одеваться опрятно, чисто… Девушек — украшать, как самые прекрасные творения природы… Вы скажете: но это же элементарно. Ну да, простая такая мудрость. Но Туркменбашы верил, что если кто-нибудь трижды прочитает его книгу целиком, то непременно попадет в рай. И в повседневной жизни станет по-настоящему мудрым. Так что в каком-то смысле вопрос прост — если тебя устраивает мудрость вот в таком формате — живи в Туркмении. А если ты ищешь истины сложные или неразрешимые — либо молчи, либо уезжай.
Невольно вспоминается роман Х. Кортасара «Выигрыши». В центре его — сообщество людей, которых случайно объединил выигрыш в лотерею. Выиграли они, как вы помните, морской круиз. Еще вчера — чужие люди, сегодня они вместе — и надолго — оказываются на одном корабле. Корабль вполне подходящий для дальнего плавания, но с самого начала их просят соблюдать одно условие: не ходить на корму. Почему не ходить? По определению. Потому что таковы правила. Туркмену бы и в голову не пришло идти на корму, раз правила запрещают. Но аргентинское вольное сообщество туристов такое положение не устраивает. Им невмочь сидеть на верхней палубе, пить коктейли, ухаживать за девушками, заводить и обрывать знакомства, спорить о проблемах современной физики или экологии, купаться в бассейне и так далее. Всем наплевать на маленькие радости жизни, всех гложет мысль: почему нельзя на корму? В конце концов туда пробирается, естественно, мальчишка, подросток. И находит там машинное отделение. А что еще может быть на корме? Там матросы, то ли финны, то ли шведы. Грубоватые и еще зачерствевшие в море люди. Они в соплю напаивают паренька и грубо насилуют его. Дальше рассказывать нечего: все, объединенные единым порывом, бросаются на корму, готовые взять ее штурмом, круиз превращается в бунт на корабле. Если бы этого дурацкого запрета не было, ничего бы такого не случилось. То есть все аргентинское общество целиком восстало против запрета не ходить на корму. А туркменское, думаю, не восстало бы. Мало ли забот помимо кормы? Дом, сад, семья, дети… Достаточно забот. Достаточно поводов быть счастливым. Так что в Туркмении все хорошо. Просто люди там как-то по-другому, более просто, что ли, счастливы. Более молчаливо. Вот какая издалека видится картина. И она, в общем, приемлема, тем более, если посмотреть вокруг: Туркмения ведь находится не в Европе. Она вообще находится в другом, по отношению к Европе, измерении. В мире осталось не так уж много мест, где целому государству возможно спрятаться, как бы выйти из игры в мировые проблемы и заниматься только своими собственными, оставив населению твердый наказ: нельзя ходить на корму…
Утром я первым делом позвонил в справочную, а потом, по цепочке, человеку в администрации порта, который мог решить вопрос о моем путешествии на пароме.
Я был уверен, что трудностей не будет. Возьму билет, поговорю с капитаном, потолкаюсь среди пассажиров, поглазею на море. Погляжу издалека на Туркмению. Из рубки, если надо. Мне этого будет достаточно.
Но вопреки всем моим фантазиям человек отрезал:
— Это невозможно.
— Почему?
— Вы будете считаться нарушителем визового режима. А ответственность падет на капитана.
Весь разговор по телефону занял одну минуту и не имел продолжения.
Я не учел, что судно будет в туркменских территориальных водах, зайдут погранцы. А у меня русский паспорт без въездной визы…
Я понял, что мне придется проститься со своей мечтой. С Туркменией.
Было одиннадцать часов утра.
Азер сказал, что будет в два.
Я вдруг подумал, что мог бы прогуляться и увидеть в порту хотя бы сам паром. Увидеть — и уж тогда окончательно распрощаться со своей мечтой.
Я вышел из Yaxt Club’a и не спеша пошел по бульвару в сторону порта.
Было прекрасное весеннее утро. Рабочий в синем комбинезоне, стоя на стремянке, чистил трубочки бездействующих в ранний час фонтанов. Бегуны мягко пробежали среди зацветающих деревьев по дорожке розового песка. Я шел все дальше, дальше, пока не забрел в неуютную, необустроенную еще часть бульвара, где, собравшись стайкой человек в двадцать, ловили рыбу русские мужики. При них была собака, привязанная к дереву. В Баку довольно много кошек, но собаку я видел впервые. И рыболовов тоже. Ни одного азербайджанца среди них не было. На рыбалку азербайджанец размениваться не будет. Он может заглянуть в будку чистильщика обуви и за разговорами полчаса следить, как тот надраивает его ботинки. Или провести полдня в парикмахерской, добиваясь, чтобы его черные волосы легли красивыми волнами и заиграли влажным блеском. Он может в грязной рабочей робе или в белом воротничке клерка по десять часов заниматься работой. Но рыбалка? Непонятное занятие: стоять с удочкой, ждать поклёвки, покуривать…
Близко — рукой подать — ворочались красные стрелы портовых кранов. Только что от причальной стенки отвалил сухогруз, на палубе которого был смонтирован штабель из разноцветных контейнеров. Я разглядел причал через забор. Он был совсем близко. Я перемахнул через этот забор и увидел площадку, где свалены грузы. Их разноцветная россыпь, красные стрелы портовых кранов на фоне серого неба и белая корма отвалившего сухогруза были так красивы, что у меня защемило сердце оттого, что моя мечта о морском путешествии не сбылась.
Я заметил рабочего в грязной робе, небритого:
— Где здесь паром на Туркмению?
Он не понял меня, потом из общего потока моей речи все-таки выудил несколько знакомых звуков и на хриплом тюркском наречии переспросил:
— Туркменистан?
Я кивнул.
Он ткнул вперед указательным пальцем крепкой руки.
Я дошел до каких-то ворот.
Возле них оказался шлагбаум и будка охраны. Охранники заметили меня издали и от скуки вышли наружу:
— Куда?
— Мне нужен паром на Туркмению.
— Сам едешь или машину везешь продавать?
— Сам.
— Виза есть?
— Нет.
— Нужна виза.
— Мне бы взглянуть на паром.
— Зачем?
— Да хочется увидеть его.
Охранники переглянулись и уставились на меня, как на сумасшедшего.
— Вход в порт запрещен.
Я развернулся и пошел прочь. Не знаю, чего я хотел добиться. Видимо, никак не мог привыкнуть к тому, что не ходить на корму — это просто правило, и все.
Еще одна неразрешимая ситуация.
Каждый день этой поездки приносил ощущение тупика.
Хотелось бы знать, чем в результате обернется такой расклад.
XIV. ИНАННА
Азер с Эмилем приехали в половине второго. Мы сразу поехали в Гала. Эмилю надо было как следует снять «эротические камни». Мы вытащили их на улицу, потому что в рассеянном свете помещения некоторые рисунки, выбитые на них, были едва различимы. Миф об Инанне был записан шумерами на глиняных табличках в XXI веке до нашей эры. На Апшероне он тоже записан, но иначе — рисунками. При этом гораздо раньше — не менее 4–5 тысяч лет назад. Культ Инанны в древности простирался по всему западному берегу Каспия и дальше по Северному Кавказу до Черного моря, но со временем стерся, оставив редкие следы в виде эротических рисунков на камнях. Но рисунки сохранили только ничтожную часть мифа. Инанна была шумерской богиней плодородия и любви. Завидная, но опасная — своенравная и переменчивая красотка! Любовь ее оспоривали бог полей Энкимду и бог-пастух Думузи. И вот момент, когда она выбирает между ними, соединяясь с обоими и при этом радостно поигрывая своими кольцами и лентами — он запечатлен на одном из камней. Еще на камне видно какое-то животное, что, возможно, предвещает скорый выбор богини в пользу покровителя стад Думузи. На втором камне избранный супруг уже в одиночку овладевает своей суженой, что должно повлечь преизобилье стад. А дальше в каменной летописи провал. И ничего невозможно понять, не зная «клинописного варианта» легенды. А там в проем между вторым и третьим камнем втискивается целое путешествие Инанны в ад, связанное для нее с нешуточной опасностью. Правда, миф такой древний, что и в клинописной записи есть пробелы, и мы не знаем, зачем было предпринято столь опасное путешествие. И хотя в аду владычествовала ее родная сестра Эрешкигаль, Инанна, уходя, попросила богов позаботиться о ее спасении, если через три дня она не вернется. Энки, бог мудрости, выковырнув у себя из-под ногтей грязь, слепил двух загадочных существ — Кургара и Кулатура, снабдил их водой жизни и травой жизни и отправил вслед за Инанной в подземное царство. Но Инанна к тому времени была уже мертва — сестра взглянула на нее «взглядом смерти», и этого оказалось достаточно, чтобы богиню плодородия просто подобрали с полу и повесили на крюк, где висят все другие мертвецы. Со смертью Инанны прекратилось всякое плодоношение, а Эрешкигаль, которая вот-вот должна была разрешиться каким-то адским ребеночком, стала испытывать непрекращающиеся родовые муки. Кургар и Кулатур, смягчив заклинательной формулой муки царицы подземного царства, вырвали у нее обещание исполнить их желание. Им вернули труп Инанны, они полили его водой жизни и окончательно оживили травой жизни. Инанна пришла в себя, процессы плодородия вновь запустились, и Эрешкигаль разрешилась от своего страшного бремени. Инанна, получив свободу, устремилась наверх, к полной любви и земных утех прекрасной жизни… Но на возвратном пути их остановили судьи подземного царства боги-аннуаки: Инанна не может уйти, не оставив себе замены, таков закон «страны без возврата», одинаковый и для богов, и для людей… Инанна вернулась в Урук, где застала своего мужа Думузи сидящим без печали на троне в царских одеждах. Неблагодарный! Он и не думал печалиться о ней! Инанна, обладая весьма зловредным норовом, устремила на него «взгляд смерти». Думузи бросился было за помощью к своей сестре Гештинанне. Та превратила его в газель, но в конце концов демоны настигли его и разорвали на части. На третьем камне как раз запечатлен был момент, когда Думузи пытается спастись бегством, обернувшись газелью. А на четвертом его грубо хватают среди его неисчислимых стад и вот-вот, значит, порвут и бросят в преисподнюю. Гештинанна сказала, что готова пойти в подземный мир за брата, но Инанна, оскорбленная легкомыслием мужа, изрекла суровый приговор: «полгода — ты, полгода — он». Это значило, что Гештинанна и Думузи теперь должны по очереди спускаться в царство мертвых. Когда Думузи уходит туда, степи высыхают…
А на пятом камне была Лилит — демоница с головой варана. За сорок лет со времени находки он рассыпался, от него ничего не осталось, кроме фотографий и прорисовок. Но и по этим прорисовкам видно, что Лилит черпала силу в кошачьей похотливости, не знающей стыда. Любопытнее всего, что все пять камней были найдены в 1969 году не в земле, а в обычном крестьянском хлеву, где они были составлены рядом и образовывали небольшой загончик. В нем под охраной «сил плодородия» держали новорожденных ягнят… Давно забылся миф об Инанне, заляпались навозом и стали неразборчивыми изображения на камнях, и все же крестьяне XX столетия, люди мусульманской веры и при этом — хотя бы в небольшой, пусть даже в крошечной степени — строители коммунизма — использовали эти тысячелетние камни, заключающие в себе «силу плодородия», для преумножения своих стад!
Когда Эмиль завершил съемку, мы отправились в Мардакяны — смотреть заказанный Фикретом ковер с эротическими рисунками. Изрядно поплутав в сплетении улочек, переулков и вообще каких-то лазов, непроезжих для автомобиля, мы только со второй или с третьей попытки нашли дом, где ткался ковер. За дюралевой калиткой скрывался дом и небольшой садик: ореховое дерево, яблоня в цвету и несколько грядок, покрытых молодой зеленью.
— Сюда, — командовал Фикрет. — Ковер еще на станке, так что нам надо будет его отодвинуть.
— Пошал-ста, пошал-ста, — приговаривала, пропуская нас в дом, хозяйка.
Станок стоял у стены. Вдвоем с Эмилем нам удалось приподнять тяжелую железную раму и поставить станок поперек терраски. Увы! Ковер и вправду был готов только наполовину.
— Света достаточно? — спросил Фикрет.
— Я сниму, когда всё будет закончено, — ответил Эмиль. — Сейчас нет смысла.
Я отступил на шаг и оглядел сотканную половину.
У ковра был характерный песочный цвет.
— Это — цвет земли Апшерона, — подтвердил Фикрет.
По краю шли «человечки», которых мы видели на берегу моря в гроте Келездаг. Их разведенные в стороны руки и ноги легко создавали оконтуривающий орнамент.
Так-так… Это, похоже, стада Думузи. А тут уже песнь песней: Инанна во всей своей красе испытывает силу претендентов.
— Это вы ткали? — спросил Азер.
— Вместе с дочерью, — отвечала женщина.
Скрипнула дверь комнаты и на терраску вышла стройная девушка в простом домашнем платье со схваченными платком каштановыми волосами. Увидев чужих, она остановилась, потом присела у чайного столика.
— Вот, — сказала мать, улыбаясь. — Моя помощница, Инара.
Я вздрогнул. Это была она. Та девушка из самолета. Та девушка из ночного двора. Та девушка из пира Хасан. В голове у меня зашумело. Это было невозможно… Но как бы то ни было — это она и была. Я почувствовал, как меня затрясло от волнения и странных предчувствий.
Теперь просто так уйти было нельзя.
— Может, немножко чаю? — кстати спросила хозяйка.
— Хорошо бы, — согласился Фикрет. — Такая жара, пить хочется.
Я не знал, отчего мне хочется пить: от жары или от волнения. На покрытом клеенкой столе появились чайник, печенье, колотый сахар, кизиловое варенье, ложечки.
Ложечки для варенья. Но как с нею заговорить?
Хозяйка стала разливать чай.
— У меня впечатление, — набрался я духу, — что мы с вами, Инара, не в первый раз встречаемся…
— Как это? — спросила она, опуская глаза, и тут я окончательно понял, что это она.
Голос у нее оказался низкий, грудной, вибрирующий интонациями, которые я не мог толком понять: то ли она решительно отстраняла меня, то ли, наоборот, приглашала быть смелее. Я достал фотоаппарат и пролистал снимки до начала. До девушки в глубине черного ночного двора. Потом повернул к ней экранчик дисплея и показал ей ее лицо в темноте.
— Это ведь не имеет значения, — улыбнулась она. — Скорее важно, что сегодня мы видимся в последний раз.
— Вот как?
— Если вас интересует, что я сама тку, мы можем после чая сходить в мою комнату, я вам покажу.
Восток — дело тонкое. И она больше моего осведомлена в тайном языке намеков…
— Смотри-ка, молодежь уже разговорилась, — сказал Фикрет, как всегда, улыбаясь своею доброй улыбкой.
— Молодежь! Да посмотри — у него вся голова седая! — поддел меня Азер.
Хозяйка взглянула на нас. Материнский взгляд был пристальным, но ничего подозрительного не определил.
Мы степенно допили чай, и тут она бросила:
— Ну что, пойдемте?
Комнатка в глубине дома. Кровать и шкаф — больше ничего. Еще несколько небольших тканых ковриков, похожих на какое-то школьное рукоделье…
— Инара, я вас спрошу, только не смейтесь, это серьезно, — сказал я, зачем-то взяв в руки эти коврики. — Вы не были ночью первого марта в Баку, в Ичери Шехер?
— Была, — сказала она. — Я возвращалась из Москвы, от тети, мне надо было переночевать, а там живут наши родственники…
— И на следующий день вы уехали домой?
— Наверно, я уже не помню, — сказала она. — Это уже месяц назад было.
Месяц назад… Так. Так. Не упустить эту нить. На пире Хасан мы с Азером оказались на следующий день.
— А пир Хасан — это вам ни о чем не говорит?
— Ну как же? Это рядом, пир Хасан… Вы хотите посмотреть? Поедете от наших ворот до конца, а потом по главной улице направо…
Мы замолчали. Я бессмысленно теребил ее поделки. Вдруг ее горячая рука дотронулась до моей:
— Постой, — сказала она. — Положи. Я знаю, что ты хочешь. Сядь…
Я сел на пол, поджав под себя ноги.
Она села напротив в той же позе.
— Протяни руки, смотри мне в глаза — ты ведь этого хотел, искал этого?
Правда, я хотел когда-то, чтобы мы сели вот так. Но откуда она..?
Я почувствовал, как к моим ладоням приклеились ее легкие тонкие длани, потом взглянул ей в глаза. Невероятное напряжение задрожало вдруг в точке ее зрачка, потом зрачки стали расширяться, темнота залила всю радужку и хлынула на меня. В глазах потемнело. А уже в следующий миг в тело мое впились тонкие иглы соломы и я, почувствовав ее под собою, вдруг заревел, заходил как бык, вспарывающий корову, краем налитого кровью огромного глаза видя ее рассыпавшиеся по соломе волосы и блестящую от пота шею в крупинках сена. Запах терпкий, едкий царил вокруг, то был запах хлева — и тут же они пошли наискось — белые бараны с синей отметиной на отросшей шерсти. Они обходили нас, тихонечко блея и осыпая пол своими черными горошинами. И вдруг все покрыл звук, от которого кровь стыла в жилах — то был рев идиота, испытывающего смертную тоску — и тут только я заметил, что рядом стоит еще один — мужчина с головой осла, и ее маленькая крепкая рука сжимает его громадный черный член, вылезший из пашины и сочащийся похотью, а другой рукой она так же держит плоть мужчины с головой верблюда, от которого исходит дикий, мускусный запах. Черное солнце лопнуло у меня во лбу, живот сотрясла дрожь, и вся сила жизни неудержимо хлынула из меня… Я понял, что отдал жизнь и умираю, услышал ее крик и из последних сил заревел в темной, пахучей глубине хлева, чувствуя, что рядом так же бессильно и благодарно, но бессловесно погибают в скользкой агонии мужчины с головами животных, тычась своими мягкими мордами в мою огромную бычью голову и плечи.
— Твоя практика — глупая, — бесстыдно засмеялась она, когда я очнулся.
Она поднялась с пола, поправляя челку темных волос, выбившихся из-под платка. — Так о человеке ничего не поймешь. Или тогда скажи мне: это ты узнал обо мне, или я узнала о тебе? Или это родилось между?..
— Понравилось? — спросил Фикрет, когда мы вернулись. Он имел в виду, видимо, ее коврики.
Я не нашелся, что ответить.
К счастью, все стали наконец прощаться, хвалить ковер, благодарить за чай…
Вечером, сидя на приморском бульваре, я мучительно пытался понять, что´ со мной произошло. Ничего ведь не было? Или было? Вот ведь вопросик. А если было — то что? Древние боги взяли меня в оборот? Причем не без моего, кажется, участия. Я нарывался — и она меня просто вскрыла — вот что произошло… Такое не объяснишь… Но тогда — кто она, эта девушка?
Я перевел дыхание.
Кажется, она сказала, что это наша последняя встреча.
Хорошо бы.
Теперь, конечно, я не стану искать случайной встречи с ней. Легкий холодок подмораживал сердце: я чувствовал в ней иную, тайную природу. Инара. Инанна. Не знающая сомнений, ненасытная и беспощадная.
Взяла меня.
Нечего сказать, отменно добавилось остроты в постные будни нашей экспедиции.
XV. НЕФТЬ
А что самое главное — после этого ничто меня не брало, будто вся эта поездка только затем и была нужна, чтобы случилась вот эта наша встреча лицом к лицу. Будто только это и было важно, а не экспедиция в неведомый Апшерон. Весь следующий день мы ездили по башням и крепостицам — и меня вообще ничто не трогало. Помню, только один вопрос меня озадачил: на чьи деньги все это построено? Потому что все тридцать три апшеронские фортеции, видом напоминающие замки в миниатюре, — это был, конечно, результат одного проекта, одного стратегического замысла. И пока Фикрет объяснял нам особенности и отличия одной «башни» от другой, я все думал: 1350–1400 годы. Примерно в одно время все они построены. Все тридцать три. Для этого солидные деньги нужны, рабочих рук уйма. Ни один ширваншах вместе со всеми своими вассалами не смог бы поднять такой проект: три десятка крепостей по берегам и внутри Апшерона, соединенных подземными ходами и при этом выполняющих роль сигнальных башен. Если наверху башни зажечь огонь, сигнал можно передавать по цепочке от Дербента до самого Баку, откуда бы ни появился враг — с суши или с моря. Масштабная, в общем, сигнально-оборонительная система. Так кто же дал деньги на нее? Ну не Тимур же Тамерлан? Хотя кроме него, получается, некому.
Потому что с Тимуром вышла вот какая история. Когда он пришел в Ширван, после индийского и персидского походов, денег и рабов у него было в избытке. Он бы мог еще за счет Ширвана увеличить свою казну или сложить несколько пирамид из человеческих голов — что было им заведено в назидание покоренным народам — но ширваншах Ибрагим I оказался хитрее. Он бежал в Дербент, собрал подарки и вышел навстречу Тимуру с посольством, церемонно поднеся хромому живорезу девять золотых блюд, девять белых карабахских скакунов, девять танцовщиц, девять верблюдов, девять кубачинских мечей и восемь рабов…
— А что же, — отшвырнул ногой золотое блюдо Тимур. — Девять рабов не нашлось у тебя?
— О, великий! — воскликнул ширваншах Ибрагим. — Девятый — я…
Тимур остался очень доволен. Он не стал разорять Ширван, а велел рабу своему Ибрагиму беречь от напасти Каспийский проход на дербентской линии и… Вот, скажем, не озаботился ли он заодно и более систематической фортификацией? Потому что на Апшероне не было ничего, что каким-то образом предохранило бы тыл Тамерланова войска во время похода на золотоордынского хана Тохтамыша…
Со временем я получил возможность сравнить историю ширваншаха Ибрагима I и Тимура с историей похода Надир-шаха в Дагестан в XVIII уже столетии. Здесь опять налицо два подхода к иноземному нашествию: дагестанцы, не щадя живота своего, резались с войском Надир-шаха, пока, имея вдесятеро меньше войска, не пересилили его в беспощадной войне и не изгнали прочь из Дагестана. Ширваншах Ибрагим I и не думал сопротивляться — но в результате сохранил и государство, и трон, да еще устроил всё к своей выгоде. Это к моим размышлениям о воине и о купце. Что до крепостей, которые — навряд ли все же случайно — были выстроены на Апшероне сразу после прохода Тимура, то самые красивые из них представляют собой как бы уменьшенную копию европейских замков. Скажем, замок в Мардакянах: главное сооружение — двадцатидвухметровая квадратная башня, обнесенная восьмиметровыми стенами. Внутри башни есть несколько уровней бойниц, колодец внутри стены, обвал этажей предусмотрен — то есть все для автономного жизнеобеспечения и долгой осады. Пространство внутри стен, конечно, невелико, но какое-то количество народу может укрыть, особенно если время налета ограничено, ну, несколькими днями…
Вопрос — налета кого? Полмира принадлежало уже Тимуру, и Тохтамыша он собирался добить одним ударом. Может быть, он хотел укрепить слабую окраину своей грандиозной империи, так сказать, на будущее? Но и в будущем никогда эти крошечные замки не использовались как крепости…
Удивительная экспедиция! Она еще не поставила перед нами ни одного вопроса, на который можно было бы однозначно ответить! Чтобы не кипятиться неразрешимыми мыслями, мы с Азером с высоты стен Мардакянской крепости оглядываем окрестности. И вот что я скажу: эти виды с высоты — они-то и стали откровением этого дня. Потому что когда идешь по улицам в тех же самых Мардакянах, ты думаешь, что там, за заборами — какой-то нормальный, комфортный сельский мир. Ведь когда-то это было живописное, очень уютное дачное место. Есенин тут во время своего приезда в Баку на даче проживал.
Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь… 50
Подразумевается уютный дом, соответствующая обстановка, большой сад, цветочные клумбы. А сверху выясняется, что от всей этой полноты и красоты давно ничего не осталось, все сжато и скукожено так, что места за забором хватает только на типовой двухэтажный дом, ржавый водонапорный бак, ну и на пять шагов в одну сторону и четыре с половиной в другую. Правда, кому-то удавалось и на этой площади вырастить деревце, пару виноградных лоз, веревки для белья натянуть или что-то вроде навеса построить, но в целом… О, немыслимые формы этих дворов! Трапеции, треугольники или со всех сторон смятые, неправильные фигуры, уже неопределимые геометрически. Назвать эти уродливые выгородки «участком» язык не поворачивался. Это были клетки, изуродованные мутацией города: они со всех сторон окружали башню, и до самого горизонта не было видно ничего другого. Я понял, что Баку охвачен той же болезнью, что и Москва: неконтролируемым, ни с чем несообразным делением клеток-клетушечек. Как Москва для России, так и Баку для Азербайджана это — Тотальный Город, пуп земли, источник вожделенных денег. Это болезнь, опухоль, это трагедия современной цивилизации: город, всосавший в себя пол-страны…
Хорошо помню нашу поездку в Раманы. Раманинская башня стоит высоко на утесе: лучшей точки для обзора нет на всем Апшероне. Отсюда Баку виден как бы с испода, с изнанки. И это ужасающая картина: на переднем плане — несколько отстойников отработанной воды из скважин. Воды в них столько же, сколько нефти. По берегам уже все застроено, живут люди, хотя от запаха нефти здесь нельзя ни жить, ни дышать. В этих отстойниках выводятся комары — их ни одно средство против насекомых не берет, потому что их личинки появились и долгое время провели в среде, изначально непригодной для жизни. Когда-то здесь, как и в Гала, был свой уклад жизни, на месте этих отстойников были озера, в которых добывали соль, дальше — гора Стеньки Разина с пещерой, в которой искали разбойничий клад многие поколения апшеронских мальчишек. И главная утрата как раз в том, что всё это ушло, ибо в этих домишках и дворах величиной с носовой платок никакого «уклада» жизни нет и быть не может. Ничего здесь не идет в счет, кроме денег. Из темной топи самостроя на горизонте поднимались серые силуэты Баку, далекие громады небоскребов. Всё это был один город, одновременно фасад и испод, обертка и изнанка, город на половину Апшерона, который распёрло дурными нефтяными деньгами так, что было в этом что-то реально страшное.
Именно тогда я подумал, что вся наша экспедиция изначально была обречена: ибо мир Апшерона не погибает. Он погиб. И «неведомый Апшерон» — это просто память Фикрета. Нежная память о том, чего больше нет. И расшифровать ее сейчас не может уже никто, кроме него самого. Он один бродит в лабиринтах своей памяти, напрасно скликая нас, чтобы ею поделиться: вот в этой мечети молились его отец и его дед. Он помнит, как пахнут свежестью сады весной, когда ветер тихонько качает раскрывшиеся бутоны, помнит, как пахнет сгоревшая под солнцем трава в степи, если броситься в нее, подняв стайку летучих кузнечиков, и смотреть на море. А бабушка… Он мог бы рассказывать о ней день и ночь. А еще лучше было бы сесть за стол и записать все ее истории. Листки падали бы со стола, как листья деревьев осенью, он собирал бы их в беспорядке и так родился бы то ли сон, то ли роман о путешествии в страну детства, в неведомый Апшерон, где быль так похожа была на сказку, а бабушка варила бы в медном тазу кизиловое варенье, снимала розовые пенки и все рассказывала бы, рассказывала… Как однажды ползла по дороге змея со своим змеенышем. А человек на арбе увидел змею и захотел ее убить. Он стегнул лошадь, но змея успела нырнуть в придорожную пыль, и колесо раздавило змееныша. Змея вернулась к своему змеенышу, осторожно взяла его в рот и поползла к источнику. Там под старой ивой сидел пастух Ибрагим — он всегда сидел там в жару, покуда был жив, и видел, как змея положила змееныша в жидкую серую грязь. Прошло несколько минут — и тот открыл глаза, стал шевелиться и ожил. Когда змея и змееныш уползли, Ибрагим набрал немного грязи и смазал ею черную мозоль на ноге своего осла. Мозоль отвалилась. Он понял, что змея показала ему чудесную грязь, и рассказал об этом людям. И люди стали ходить к роднику под ивой и, намазав больные места грязью, привязывать на ветви дерева черные и красные лоскутки, благодаря то ли змею, то ли Аллаха, который послал ее. Дед Фикрета приходил сюда и мазал свои глаза, когда зрение у него ослабло. А великий целитель Мир Мовсун-ага просто подзывал маленького Фикрета и, протянув к его виску свою нежную руку, вытягивал из головы боль, которую зажгло там солнце. Соседи, говоря на парси, проходили под окнами бабушкиного дома, отправляясь к могиле аскета-назрани. И старый-престарый чабан из аула Кошакишлак, размяв в сильных пальцах катышек сухого овечьего помета, вдыхал его запах, как курильщики вдыхают дым табака…
Раньше показалось бы странным, что Апшерон погубила нефть. Нефть — эка проблема! Она на Апшероне была, есть и будет. Задолго до того, как в этих местах появились правители, имена которых могли бы сохраниться на пергаменте летописи или на камне — уже в III тысячелетии до нашей эры — нефть с Апшерона вывозили в Египет и в Вавилон (вот вам и путь «культурных влияний»). «Каменным маслом» скрепляли тесаные плиты стен и полов, покрывали им стены водо- и зернохранилищ. Нефть входила в составы для бальзамирования, известные египетским жрецам. В начале новой эры Византия выводила с Апшерона целые караваны с бурдюками, наполненными горючим для «греческого огня», своего рода «секретного оружия» Константинополя. И все шло прекрасно многие столетия: шахи Ширвана испокон веков продавали нефть из природных источников, чем и поддерживали бюджет своего государства. И при этом ни хозяйство сельское, ни шелководство, ни традиционный уклад жизни сел и небольших городов в упадок не приходили: нефтяных денег было еще немного, их хватало только аристократии. Люди гор и долин должны были кормить себя сами и знали об этом. Сознание людей еще не было повреждено мечтами о сытой и праздной жизни.
В XVIII веке бакинские ханы получали 40 000 рублей за свою нефть и вряд ли думали, что можно получать больше. Горючее для ламп-чирахов, мази, притирания, лекарства от кожных болезней животных и незаживающих язв у людей — вот что такое была нефть в это время. Нефтяной огонь, как писал Гмелин, в XVII веке вернул на Апшерон огнепоклонников, которые вместе с караванами приходили из Ирана и Индии, чтобы на священных огненных полях восславить своего бога Ормазда. «Индийцы сидят возле этих факелов молча, просто, или с руками, заложенными за голову. […] Они не терпят, чтобы им в их набожничестве что-нибудь препятствовало или мешало, а в чем оно состоит, не могу ничего другого сказать, как только что при оном состоянии их тела, их телодвижения и суровый лица образ величайшую степень пресильного почитания означают» 51.
История нефтяного «бума» начинается в середине XIX столетия: выросшим цехам тогдашних ткацких фабрик потребовалось более яркое освещение, чем могли дать свечи, лампы на китовом жиру и газовые рожки. Техническое решение, нужное для такого цивилизационного рывка, долго не подыскивалось, покуда одновременно в Старом и в Новом свете не были зарегистрированы патенты на керосиновые лампы 52. Это был поворотный момент в судьбах мира. Хотя сам мир долго еще не догадывался об этом: дома отапливались еще дровами или углем. Пароходы и паровозы также довольствовались твердым угольным топливом. Но главное: мир электричества, ставший мощнейшим потребителем нефти, еще только нарождался, никаких ТЭЦ и в помине не было. Моторы теплоходов, автомобилей, танков, самолетов не были еще созданы. Нефть считалась превосходной смазкой для машин прядильных фабрик. В общем, что делать с нефтью, долго было не вполне ясно, что явствует из энциклопедического словаря 1904 года: «Бензин… растворяет канифоль, копал, мастику, задерживает брожение, убивает низших животных, служит для усиления кровообращения, для возбуждения, против желудочных болей…» 53
В конце XIX века появились бензиновые автомобили, но их было еще так мало, что представить себе тогдашнее шоссе как сплошную череду автозаправочных станций, приносящих беспрерывную прибыль, было решительно невозможно. В общем, до конца XIX века нефть была продуктом не только ограниченного, но еще и локального спроса: целые области мира жили-поживали, понятия не имея, что такое нефть.
Пионером бакинских нефтепромыслов следует считать российского винного откупщика, разбогатевшего на торговле водкой, В. А. Кокорева, который оказался талантливым и дальновидным предпринимателем. В 1859‐м он построил первый на Апшероне нефтеперегонный завод, учредил «Бакинское нефтяное общество», щедро инвестировал капиталы в железные дороги, промышленность, пароходства и нефтяные промыслы. Став одним из первых в империи миллионеров, он тем не менее не успел развернуть нефтедобычу во всей широте и, прежде всего, реализовать некоторые принципиальные прозрения выдающегося химика Д. И. Менделеева, с которым был близко знаком. Все они потом были скуплены «Товариществом нефтяного производства братьев Нобель». Кроме того, он принципиально работал только с российским капиталом, отвергая иностранные инвестиции — да и вообще, для начинающегося «нефтяного века» вел себя несколько старомодно и чересчур принципиально, что и не позволило ему выбиться в число первых нефтепромышленников России, которыми в результате стали как раз Нобели. К тому же и умер он рановато, в 1889 году, когда первый нефтяной бум только набрал силу — оставив в виде своеобразного завещания книгу «Экономические провалы» — первый бестселлер о становлении капитализма в России.
Семейство Нобелей спаслось от разорения, переехав в 1842 году из Швеции в Россию и разбогатев на поставках русской армии в Крымскую войну. Три брата — Роберт, Людвиг и Альфред — превратили семейную оружейную компанию в настоящий концерн. В 1874 году младший из братьев, Роберт, получив от компаньонов 25 000 рублей, был отправлен в Бакинскую губернию для закупки ореховой древесины, из которой выделывались ложа и приклады ружей, заказанных военным ведомством. Так Роберт случайно стал свидетелем нефтяного бума. И в полном смысле слова заболел «нефтяной лихорадкой». Определенно, если бы новое предприятие не принесло бы потом столь баснословные прибыли, старшие братья упрятали бы Роберта в сумасшедший дом, ибо все деньги, полученные им на закупку благородного ореха, он, ни с кем не посоветовавшись, вложил в несколько участков дурно пахнущей земли. Через 11 лет «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» производило на Апшероне 240 000 тонн керосина из 448 000. К концу XIX века в собственности товарищества было 11 нефтеперерабатывающих заводов, нефтеносные участки на Апшероне, в Чечне, на острове Челекен, в низовьях реки Урал при впадении ее в Каспийское море и даже в Ферганской долине. При этом нефтяная империя Нобелей считалась крупнейшей российской компанией и в 1885 году отвергла предложение столь же влиятельной американской корпорации семейства Ротшильдов Standard Oil о создании совместного предприятия. Именно тогда — в 1885–1886 годах — Ротшильды выкупили у российских предпринимателей «Батумское нефтепромышленное и торговое общество». Они владели заводом по переработке нефти на Адриатике и были заинтересованы в бесперебойных поставках нефти. А таковые вполне можно было обеспечить, используя построенный Нобелями нефтепровод от Каспия до Черного моря. Кстати, идея нефтепровода еще в 1863 году была высказана Д. И. Менделеевым, после того, как он побывал на промыслах В. А. Кокорева. К чести фирмы «Бранобель» нужно сказать, что они активнейшим образом привлекали ученых и инженеров для развития нефтяного бизнеса. Они первыми ввели в штатное расписание своего товарищества должность «геолог-нефтяник». Еще студентом они приметили и привлекли к сотрудничеству инженера В. Г. Шухова 54, изобретения которого принесли фирме, вероятно, не меньший доход, чем собственно нефтедобыча. В 1879 году он сконструировал так называемую «нобелевскую форсунку», которая позволяла использовать мазут — «тяжелые остатки», остающиеся после выделения из нефти керосина. Через каких-нибудь 20–30 лет мазут стал основным топливом флота, потом железных дорог, котельных и т. д. Шухов построил первый на Апшероне нефтепровод, придумал насосы для максимальных тогда по глубине (2–3 км) скважин, предложил сохранившуюся и поныне цилиндрическую форму нефтяных резервуаров, но главное, довёл до технического воплощения идею большого танкера и вагона-цистерны для транспортировки нефти. Справедливости ради следует отметить, что первое нефтеналивное судно, позволяющее перевозить из Баку на Волгу нефть в трюме, а не в бочках, построили еще в 1873 году братья Артемьевы, талантливые инженеры-самоучки. Однако в 1885 В. Г. Шухов построил две нефтеналивные баржи длиной в 150 метров каждая: это был уже прообраз настоящего танкера. Неудивительно, что именно Нобели построили первые самодвижущиеся колесные танкеры, увидев которые основатель компании Shell Маркус Самюэль понял, что станет его козырной картой в игре против ротшильдовской Standard Oil, которая по старинке продолжала транспортировать нефть в бочках и на парусных судах…
Нефтяная лихорадка начала XX века полна была острых и подчас драматических ситуаций, но никто бы тогда не осмелился назвать добычу нефти «заболеванием». Напротив, казалось, что нефтедобыча открыла в истории человеческой культуры новый этап, более связанный с гуманистической идеей прогресса, нежели с прибылью как таковой. Баку тогда, на рубеже XIX–XX веков, добывал 97 процентов российской нефти. За несколько десятилетий город настолько расцвел и похорошел, что это сделало для разбогатевшей элиты как бы неважным появление добывающего нефть пролетариата. Эти пролетарии были вчерашними крестьянами, они пришли из сел и, следовательно, забросили сельское хозяйство. Но многовековой сельский уклад разваливался медленно, и тогда действительно казалось, что поля и виноградники смогут соседствовать с нефтяными вышками. Нефть не обладала еще самодовлеющей разрушительной силой.
Для того чтобы это произошло, нужно было, чтобы нефть пришла в каждый дом, чтобы от нее зависело не только то, поедет или не поедет завтра ваш любимый автомобиль, но вещи жизненно важные: будет ли в доме светло и тепло, будет ли вода, чтобы заварить чай или смыть унитаз, будет ли питание для телевизора, телефона и компьютера, жизнь без которых сегодня непредставима.
Второй нефтяной бум начался с нефтяного кризиса 1973 года, в котором в один узел оказались сплетены политические интересы арабских стран и внезапное осознание конечности нефти как главного ресурса цивилизации, что, в свою очередь, привело к самоценности нефти и превращению ее в Мировой Товар № 1.
Интересны расчеты, в принципе доступные каждому школьнику, которые позволяют уяснить проблему в ее глубине. Так, со времен первого нефтяного бума Азербайджан не стал добывать существенно больше нефти. Во всяком случае, не в разы: 7,3 миллиона тонн против 11 миллионов тонн. Это цифры вполне сопоставимые. Разница в цене. Цены изменились во много раз. В 1970 году нефть стоила 1,8 доллара за бочку. Ну а сейчас она стоит примерно сто долларов. Легко подсчитать, что цена возросла в 55,5 раз или на 4900%. Если подобную калькуляцию произвести с любым другим товаром, будь то обувь или автомобиль экстра-класса, то мы нигде не обнаружим такого колоссального ценового рывка. Как только бум разразился, последствия явились во всей красе: и скороспелые цивилизации арабского Востока, возникшие из ничего и тем не менее утвердившиеся в своем могуществе; и политический исламизм, который стал «доктриной силы» этих цивилизаций; и невиданное удорожание жизни, вызванное желанием просто бизнесов приблизиться в прибылях к бизнесу нефтяному, для которого сказочная прибыль стала нормой. В свое время Маркс полагал, что производитель, имеющий больше 3% прибыли, обеспечивает расширенное воспроизводство и, следовательно, имеет дело с главным предметом его исследования — капиталом. Сегодня это смешно. Никто и пальцем не пошевелит ради прибыли, которая может быть исчислена однозначным или двузначным числом. Потому и чашечка «эспрессо» стоит не 3 и не 30 центов, как должна была бы стоить, а 5 долларов, потому что иначе продавец кофе будет выглядеть дошколёнком по сравнению с продавцом нефти. А он этого не хочет. Так же, как продавцы обуви или автомобилей. Один должен производить очень много дорогой и по внешнему виду очень хорошей обуви, которая снашивалась бы за один сезон, чтобы продажи были непрерывными. Другой — ежегодно выпускать новые и дорогие модели автомобилей, внутренний дизайн и сатанинская мощь которых затрагивали бы самые потаенные эрогенные зоны в душе покупателей, заставляя их менять новые модели на еще более новые. У производителей появились стратегии навязывания товара покупателям, а у покупателей — психологическая зависимость от приобретения все новых и новых товаров. Так в одно прекрасное утро человечество проснулось в мире одержимости.
Несмирившиеся дали бой. Все альтернативные движения конца 60–70‐х годов так или иначе были направлены против общества потребления и «одномерного человека». Но созданный цивилизацией потребления «одномерный человек» все-таки победил. Для тех, кто увидел в изобилии символ нового времени, не за что стало бороться. Изобилие подразумевает не борьбу, а почти непрерывный shopping.
Деньги — вот правда современности. Деньги — вот ее мудрость. А деньги — это нефть. Поэтому правительства стран — экспортеров нефти на территории бывшего Союза избавили себя от ненужной обеспокоенности: контроль за нефтью они оставили себе. Так всего за несколько десятилетий сложился новый мировой порядок и агрессивная идеология сырьевого империализма: «Из-за нефти мир сползает к большей конкуренции, большим трениям и к большему насилию. Из-за нефти Китай обхаживает Африку, Венесуэла выступает вместе с Ираном и Россией, у которой обнаружился шанс превратиться в реального игрока. Развивающиеся страны наконец-то поняли, что контроль над нефтью является не только сырьевым рычагом и конкурентным преимуществом, но и политическим оружием. Этот новый расклад побуждает США играть жестко, чтобы подавить, а лучше подчинить или уничтожить новых игроков» 55.
Азербайджан подчинился, чтобы не быть подавленным. Это позволило правящей элите внутри страны жить на нефтяные деньги, не сообразовываясь с реальностью. Разумеется, сиюминутное могущество и чувство собственной важности щекочет самолюбие элит. Но если вы спросите о широком меценатстве и благотворительности, которыми славились нефтедобытчики эпохи первого нефтяного бума, то нам придется сегодня промолчать. Добыча нефти не дала в наши дни ни Кокоревых, ни Тагиевых, ни Нобелей. В зачет идет только прибыль национальных и международных нефтяных кланов, в жертву которой принесено все.
Панорама, открывающаяся с высоты Раманинской башни, врезалась мне в память навсегда: земля, обглоданная, как скелет, гниющие ребра дамб в мутной жиже отстойников, сетка электрических проводов, редкие фонари и несчастные домишки посреди бензиновых испарений. Представляю, как тут невесело зимой! Но вот — мы были там весной. И тоже, в общем, не праздник. Жалкие признаки зелени. Мертвая, изнасилованная Земля…
— Знаешь, чему я рад, Азер? — спросил я на вершине стены.
— Чему?
— Тому, что родился в 1960 году и этот мир изменился еще не настолько, чтобы я перестал узнавать его.
— Ты не представляешь, как быстро все это схлопнется, — спокойно и грустно сказал Азер.
Завтра — пятница. Последний день командировки. Его я приберег для поездки вдвоем с Азером в какое-нибудь красивое место. Теперь было ясно, что искать его надо за пределами Апшерона. Когда-то я мечтал съездить в заповедную Ширванскую степь: излюбленное место охот ширваншахов и Тимура Тамерлана. Там водятся джейраны — удивительно грациозные антилопы сухих степей и полупустынь. Можно понаблюдать, как они выходят к берегу моря…
— Чтобы там поездить, нужен джип, — сказал Азер. — Я не против. Но Ализар должен дать разрешение. Без него я не получу джип из гаража.
— Нам для этого надо заехать в офис?
— Лучше, если ты попросишь его.
— Тогда поехали, — легко согласился я. Визит к начальству больше не казался мне тягостным.
И действительно, Ализар был необыкновенно радушен:
— Василий, вы проявляете столько любознательности, что можете ехать, куда вам захочется…
— Для поездки в заповедник нужен джип, — на всякий случай напомнил я.
— Об этом можете не беспокоиться, — душевно улыбнулся Ализар.
XVI. Я ТЕРЯЮ И ВНОВЬ ОБРЕТАЮ АЗЕРА
Вечером позвонил Азер.
— Послушай, — сказал он. — Завра утром мы, наверно, с тобой не увидимся. За тобой заедут другие люди.
— В каком смысле? Мне именно с тобой хотелось поехать.
— У меня крупные проблемы с Ализаром.
— Что случилось?
— Ничего страшного. И завтрашние люди, это будут наши люди, друзья… Одного ты видел в офисе: это Фархад.
— Я не знаю Фархада. И почему их двое?
— Ничего, не волнуйся. Фархад нормальный человек. А вечером мы увидимся.
— Ладно, желаю тебе решить твои проблемы.
— О, кей.
Мысль о том, что я поеду куда-то не с Азером, была сначала невыносима. Мы крепко сдружились за две недели. Я не успел толком рассказать о нашей дружбе. Скажу только, что Азер был единственным человеком, с которым я мог быть откровенным. А он был откровенен со мной. Откровенность за откровенность. Мы говорили обо всем: о нежданных поворотах судьбы, о детях, о женщинах — и это давало мне необходимый в странствии витамин общения. И еще: Азер помог мне понять страну. Без него я бы не разобрался в том, что такое Азербайджан. И вообще — просто не заметил бы половину. Поэтому поездка в заповедник без него теряла смысл. Одно дело — гулять по степи или сидеть в ресторанчике с другом, и совсем другое — с незнакомыми людьми. Если бы не билет, как всегда, взятый на ночной рейс, лучше было бы вообще отказаться от такой поездки и отвалить домой. Но что делать целый день в Баку? И потом, я уже свыкся с мыслью, что увижу заповедную степь, берег моря и, если повезет, посмотрю, как джейраны выходят на берег на водопой. Они не пьют морскую воду, но едят мясистые стебли солянок — это стелющиеся по земле растения, сок которых действительно соленый, как кровь. Так джейраны утоляют жажду. Я хотел увидеть это. И решил, что пусть. Поеду с другими. Но все-таки день пройдет не зря. Мысленно я попросил у Азера прощения за малодушие и заснул успокоенный.
Утром меня разбудил звонок:
— Ты спишь? Позже перезвонить?
— Какое позже? Расскажи, как у тебя дела.
— Я написал заявление об уходе…
— О-па… Почему?
— Долго объяснять. Он говорит, что такие активисты, как я, ему не нужны.
— Так это из-за меня тебя уволили?
— Нет, это не из-за наших поездок. Скорее из-за детей. Я же возил их в детский сад. Они ко мне привязались. Ему надоело выслушивать от своих детей рассказы про меня. Так что не бери в голову, скоро за тобой приедут.
— А почему ты все время говоришь: «приедут»?
— Теперь у него новая концепция: шофер — это просто человек, который рулит и жмет на педали. Ты — гость. А рядом с гостем будет ездить куратор из офиса.
— Только этого не хватало!
— Еще раз тебе говорю: это хороший парень, у тебя с ним все будет в порядке.
— Как ты?
— Отлично, не поверишь! Осточертело его вечное недовольство…
— Но тебя же все журналисты, как говорится, заранее ангажируют…
— Это тоже его бесило…
— Тогда я не поеду.
— Не делай глупостей. Просто вечером позвони, когда приедешь…
В 11.00 к Yaxt Club, у подъехал Mercedes-Benz 4/4. Мне это сразу не понравилось. Это не джип. Это очень помпезная машина для гламурных придурков, воображающих себя trophy. За рулем неподвижно сидел мужчина в шляпе с загнутыми полями. Автомобильный ковбой. На меня он почти не реагировал. Сказал, как его зовут — и всё. Я с первого раза не запомнил. А на переднем сиденье действительно оказался Фархад — я его вспомнил — бонвиван лет тридцати пяти, слегка лысеющий и уже немного обрюзгший. Всю дорогу, пока мы ехали в заповедник, он почему-то рассказывал про свой желчный пузырь. Я понял, что он любит поесть и за это расплачивается здоровьем. Я узнал все о симптомах приближающихся спазмов желчного пузыря. Про выступающий ни с того ни с сего крупными каплями холодный пот, слабеющие ноги и, наконец, кинжальный удар боли. Лишь с третьей или с четвертой попытки я сумел сбить Фархада с излюбленной темы и тогда только узнал, что он учился в Москве, в МИМО 56, собирается стать дипломатом и работу свою в фирме Ализара считает временной.
Было странно, что он так спокойно рассказывает об этом в присутствии вечно молчащего шофера, но потом выяснилось, что у Фархада с Ализаром с первого дня его работы в фирме тоже возник конфликт. Ализару не понравилось, что тот приезжает на работу на автомобиле с личным шофером. Как начальник.
— Ну какое кому дело, как я добираюсь до работы? — посмеивался Фархад.
Я молча смотрел в окно: мимо проносились места, которые принадлежали нам с Азером: горы Гобустана. Вот Джингирдаг, где мы прыгали через речку… Главное плато заповедника… И Кягниздаг, разумеется. Грязевой вулкан, где невероятным образом родилась наша дружба.
Я спросил Фархада, знает ли он, что случилось с Азером.
— А, ерунда! — махнул он рукой. — Я его к себе шофером возьму. Пусть Ализар порадуется…
Фархад явно не собирался расставаться со своими привычками. Видимо, у него отец был крупной шишкой. Ализар не хотел с ним связываться.
Я вспомнил всегда немного грустные голубые глаза Ализара. Со мной он любезен, к другим — нетерпим. Он карает, и карает жестоко. Что происходит с ним? Может, он втайне чувствует, что никому особенно не нужен? Это чувство ужасное… Но почему он решил избавиться от него, уволив Азера? Восток — дело тёмное. Никто здесь не станет обращаться со своими проблемами к психологу. Все решается, как решалось испокон веков: есть человек — есть проблема. Нет человека — и проблемы нет.
Мы отъехали уже довольно далеко от Баку, и по мере того, как мы преодолевали гравитацию города, природа набирала силу: уже не было свалок по обе стороны дороги, появились первые поселения, крепко вросшие в землю, полные каких-то кур, овец, коз, осененные прозрачными пока еще могучими деревьями, о возрасте которых оставалось только гадать, да и дома здесь совсем не походили на типовые, крытые свежей жестью, одинаково серые новостройки Апшерона; открылась огромная равнина, на которой пятнами лежали тени от облаков и обработанные поля, почувствовалась близость большой реки: мальчишки, стоящие вдоль дороги, протягивали в сторону машины куканы с золотыми карпами…
Но сколько я ни пытался расслабиться, у меня так и не получилось: все время направлять поток красноречия Фархада я не мог, а стоило мне пустить дело на самотек, как он начинал говорить… Нет, желчный пузырь, как тема, был, похоже, исчерпан. Но подсознание его рождало все новые и новые химеры плоти: «Балы´ гагана´». Рецепт мужской силы. Надо купить 3 килограмма сливочного масла, 15 яиц и 1 килограмм меда. Затем желтки отделить от белков, смешать желтки с маслом и медом, скатать шар. Хранить в холодильнике. Поджаривать на тонком слое подсолнечного масла…
В заповеднике, за железными воротами, нас никто не ждал. Мы посигналили. Откуда-то вышел заспанный мужичок в очках и в мятом пиджаке. Фархад о чем-то поговорил с ним, и он отворил ворота, чтобы машина смогла проехать. Мы взяли его в кабину провожатым и тронулись в степь… Цвел тамариск, птицы наяривали, за перелеском в прозрачных желтых, нежно-зеленых и розоватых пушистых облачках распускающейся весенней зелени вставали синие горы, нетронутая степь расстилалась перед нами. Она, пожалуй, бедна была цветом, голубовата, будто отраженное поверхностью земли небо. Побежали джейраны. Я попросил остановить машину, осторожно вылез, поснимал их на фото и на видео. Расстояние было великовато, но я подумал — ничего, это ведь только первая пристрелка, вот до моря доедем — тогда… Проселочная дорога петляла, приближалась к зарослям тростника, скрывающим, казалось, речку или ручеек, потом выруливала на сухое место, на котором ничего и не росло, кроме солянок, и так хорошо мы ехали, что я даже стал потихоньку ловить кайф от всего этого, залюбовался весенней порослью, скупыми красками апрельской степи, вдохнул ее терпкий запах… И хотя это было нечестно по отношению к Азеру, я уже не жалел, что оказался здесь без него. Лучше было бы с ним. Но что поделаешь? Не получилось…
За это маленькое предательство мне почти тотчас пришлось расплачиваться: машина вдруг остановилась. Наш провожатый в помятом пиджаке вылез, за ним стали вылезать Фархад и водитель. Снаружи был одноэтажный, с открытой верхней верандой кордон заповедника. Дымил плохо растопленный самовар. Я не очень-то понимал, зачем мы здесь остановились, сначала думал — просто ноги размять или высадить нашего провожатого. Но нет. Все вели себя так, будто мы добрались до цели. Приехали. Из домика появился здоровенный молодой парень с могучим торсом, в одних штанах, пожал всем руки, стал раздувать самовар. Типа, сейчас будет чай: гостеприимство. Я поднялся на верх домика, под крышу без стен, нашел здесь голую лампочку, почти черную от пригоревших комаров, и стол, изрезанный ножом, со следами пьянства. Морем и не пахло. Я понял, что ситуацию надо как-то выправлять, неправильно она всеми воспринимается: дальше ехать надо.
Я спустился вниз и подошел к шоферу:
— Мы тут ненадолго, надеюсь, остановились? Мне вообще-то до моря надо бы доехать. Тут по карте километров десять. Недалеко.
Шофер, до этого все время молчавший, повернул ко мне свое лицо. Это было лицо манекена: никаких чувств оно не выражало. И смотрел он как бы сквозь меня. И говорил как автомат, произнося каждое слово по отдельности:
— Дальше проезд запрещен. Да и дорога плохая. Я по ней не поеду. Охота мне бить ходовую!
Я посмотрел на шлагбаум: обычную палку на двух столбиках. Дорога за ней была нормальная — такая же, как та, по которой мы прежде ехали. Тут я понял, что плата за мой компромисс может быть слишком велика, и от негодования и стыда выпалил:
— Да тут «Жигуль» пройдет, не то что джип, мне к морю надо!
— Надо — заедем, — бесстрастно сказал шофер. — Но только не здесь. Я об эту дорогу машину бить не стану.
Вот ведь сволочь какая. Мелькнуло желание на все плюнуть и идти до моря пешком. И, конечно, надо было так сделать. Надо было сорваться: тем более что у меня появился бы отличный шанс в одиночестве прогуляться по заповеднику, потом вернуться, поймать машину, доехать до Баку и улететь самостоятельно. Нельзя же давать обстоятельствам загонять себя в ситуацию, которой ты не управляешь. Нельзя, но я дал. Еще не понял этой главной истины. Я не признавался себе в малодушии, пытаясь поверить в то, что шофер, видимо, знает дорогу получше и мы сейчас, подкрепившись чаем, все-таки отправимся к морю. Просто не умещалось в голове, что, проехав в глубь заповедника всего километров пять, мы с этим делом, так сказать, закончили. Но этот злосчастный день как начался с компромисса, так компромиссами и продолжался.
Фархад слышал, как я цапнулся с шофером, и что-то шепнул мужикам с кордона.
Сразу наше чаепитие стало сворачиваться: они поняли, что если я уйду, им придется ждать тут до вечера. И кончилось тем, что мы спешно уехали из заповедника. С самого начала я ничего хорошего от этой поездки не ждал, но что будет такая подляна…
Правда, поехали не в Баку, а дальше на юг.
Фархад с нежностью заговорил о каком-то рыбном ресторанчике. Я в этот момент так себя ненавидел, что мне вообще было все равно, что дальше будет происходить. Переехали Куру. Я почему-то очень поэтически представлял себе эту реку:
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры… 57
Почему-то казалось, что эти струи прозрачные, нежные: а тут несся вал мутной, грязной воды в обрывистых глинистых берегах. Был паводок, в горах еще, видно, снег только начал таять. Скоро мы подыскали ресторан: с улицы это выглядело как затрапезная пивная, но Фархада здесь хорошо знали и с почетом проводили во внутренний зал для особых гостей. Фархад придирчиво отобрал продукт: по два осетровых бока, по паре карпов… Водочки…
— Ты не пьешь? Ну, тогда четыреста… И зелени какой-нибудь…
В ресторанчике этом рыбу жарили на гриле — получалось аппетитно, но тяжеловато.
— Когда я гляжу на рыбу, — эпически предварил наше гастрономическое путешествие Фархад, разглядывая первое огромное блюдо, — мой желчный пузырь сам собою начинает мелко подрагивать…
Нам предстояло какое-то невероятное пиршество. Если вы никогда по-настоящему не ели осетрины, а довольствовались худосочными ломтиками, что подают на фуршетах разных званых обществ, представьте себе обжаренный, сочащийся жиром кусок рыбы, приправленной лимоном, в который можно вонзить зубы и вгрызться в него — потому что он величиной с баранью ногу. И половины такого куска хватило бы, чтобы наесться. Но за осетриной следовал целиковый карп. Увидев рыбину, я стал отнекиваться, но Фархад сказал, что если я ему не помогу, то его желчный пузырь не выдержит. Съели по карпу. Шофер несокрушимо молчал, старательно выбирая изо рта кости и изредка цыкая зубом. Когда мы всё доели, душно отдуваясь, в комнату внесли второе блюдо с рыбой. Это было невероятно. Даже шофер сказал, что с него достаточно. Фархад настаивал:
— Выпей водочки, всё и войдет.
— Я не пью.
— Почему не пьешь?
— Не хочу.
— Что за глупость такая?
В конце концов я ушел на задворки ресторана: там стояла глиняная печь, тандыр, и хозяйка как раз натопила ее, выгребла угли и выпекала очередную порцию хлеба, ныряя в жерло печи и налепляя тесто на раскаленные стенки.
Мечтал я об одном — добраться до города и позвонить Азеру…
Когда я вернулся в зал, Фархад мирно спал, уронив голову на стол.
— Фархад!
По счастью, сильно пьян он не был. Водка и жирные субстанции рыбы обволокли его мозг, и теперь он с добрейшей сонной улыбкой поглядывал вокруг…
Я сказал, что хочу вернуться в гостиницу, забрать вещи и съездить к Азеру.
— Видишь ли, у нас на сегодня другие планы…
— К черту планы, у меня другой план, поехали.
— Нет, план у тебя не другой: у нас он общий. Сейчас мы поедем на свадьбу, где будет все руководство фирмы вместе с Ализаром. Ты же не хочешь обидеть коллектив?
Я подумал, что мне, пожалуй, наплевать на коллектив. После пережитого дня мне стало ясно, что если Азера в этом коллективе не будет, то я услугами фирмы больше никогда не воспользуюсь и от журнала «Баку» в командировку больше не поеду. Лучше вообще не бывать мне больше в Азербайджане, чем пережить еще денек вроде этого.
Задача выглядела так: попасть в город и избавиться от Фархада. Парень он был цепкий и хитрый. Я понял, что выскользнуть из его рук и повидаться с Азером будет не так-то просто. Недаром учился он на дипломата. Теперь я видел рядом с собой другого человека: уверенного в себе, чуть пьяного, жесткого или даже жестокого.
— Видишь ли, пока мы не посадим тебя в самолет, судьба нам быть вместе, — вдруг, разом протрезвев, сказал Фархад. — Ничего страшного, побываешь на свадьбе, посмотришь, как это устроено у людей…
Потом поглядел на шофера и резко скомандовал:
— Поехали.
Мы некоторое время ехали по дороге, глядя, как дятлы, все в одну сторону, пока шофер не произнес:
— Вот.
— Что — вот?
— Ты хотел море. Вот море.
Это было даже не издевательство. Что-то похуже. Он выбрал место, где море подступает вплотную к шоссе. Тут по берегу рос тростник и кто-то его поджег — остались обугленные кочки и серая, мертвая вода. Какой-то отвратительный суп из обгорелых стеблей, золы и пепла. Волны покачивали эту муть, оставляя на песке неровные черные линии. Чуть справа в глянцевито-сером море виднелась буровая. Слева уже проступал сквозь дымку дрожащего, разогретого воздуха Баку.
Я уже не корил себя за малодушие: наоборот, с каким-то даже удовлетворением воспринимал удары судьбы. Это была расплата.
Я походил туда-сюда, прикидывая, как передать всю безысходную тоску этого обезображенного человеком побережья. Но так и не смог ничего сфотографировать.
— Готово? — не без злорадства спросил шофер, заметив, что я держал в руках фотоаппарат.
Я издал горлом неопределенный сдавленный звук: так шипит загнанный в угол зверек, готовый от ярости броситься на противника.
Шофер понял это и ухмыльнулся.
Вечерело, когда мы подъехали к гостинице.
— Сколько времени тебе нужно, чтобы собрать вещи? — спросил Фархад. Ему не хотелось пешком подниматься на второй этаж.
— Знаешь, Фархад, — сказал я, — ни на какую свадьбу я с вами не поеду. Делать мне там нечего. Если хочешь, скажи Ализару, что я захотел побыть один. И приезжайте за мной к девяти — отвезете в аэропорт.
Фархад посмотрел на меня и вдруг засмеялся себе в кулак, потом, продолжая посмеиваться, постучал этим кулаком себе по лбу и сквозь смех проговорил:
— Ну что ты, Василий? Куда же мы без тебя? Ализар захочет посмотреть в твои глаза. Если я приеду без тебя, он не обрадуется. У меня неприятности будут — и ты это понимаешь.
— У меня сегодня весь день одни неприятности, — сухо сказал я. — Но я ведь не жалуюсь…
— Ай, да. Молодец. Чем же ты заниматься будешь?
— Телевизор смотреть, — соврал я.
— Ну, тогда мы тебя здесь подождем…
— Ну, тогда ждите! — хлопнув дверцей, я вышел из машины.
Вошел в номер и одетым бухнулся на кровать. Как ни крути, я все равно в западне: гостиница Yaxt Club находится на искусственном острове, который соединен с берегом двухсотметровой дамбой. Длинная дамба, незамеченным по ней не проскочишь. Конечно, Фархад после рыбки и водочки может и задремать. Но этот, ковбой, точно не упустит… А иначе с этого острова никак не ускользнешь. Даже если вызвать такси, оно не проедет к гостинице без специального пропуска…
Я сел и набрал номер Азера.
— Привет, — сказал он. — Ну что, ты освободился?
— Черта с два. Меня тащат на какую-то свадьбу, где будет все руководство во главе с Ализаром.
— А-а, долгожданная свадьба сына нашего бухгалтера…
— Мне наплевать, чья она. Мне важно где? Где, ты знаешь? Что я должен сказать таксисту, чтобы он довез меня до твоего восьмого микрорайона?
— Послушай, — сказал Азер. — Они не хотят, чтобы я виделся с тобой. Но сам ты дорогу не найдешь. Договоримся так: в восемь часов ты выйдешь в холл ресторана, а я просто тебя заберу… О, кей?
Я быстро собрал вещи. Проверил, на месте ли диктофон, фотоаппарат, тетрадь с записями, паспорт. Надел свежую рубашку. Подумал и надел еще легкую куртку, хотя было тепло.
Едва я спустился по лестнице, как дверь черного «Мерседеса» приоткрылась и из-за двери выглянул Фархад:
— Надоело телевизор смотреть?
Я молча подошел к машине, кинул рюкзак и сумку на заднее сиденье, сел, закрыл дверь.
— Поехали.
— Ну, вот так-то лучше, — помягчев, сказал Фархад.
Через некоторое время мы оказались у ресторана, со всех сторон окруженного машинами. Уже смеркалось. Мальчишки за горстку мелочи подыскивали для подъезжающих место для парковки. Для нас оно нашлось лишь метрах в ста от ресторана. Фархад кинул мальчишкам бумажку и сказал:
— Вылезай, приехали. Только вещи в машине оставь.
— Деньги, документы и аппаратуру я всегда держу при себе, — как можно спокойнее сказал я.
— Ну, пожалуйста.
Мы прошли в ресторан. Десятки мужчин в элегантных костюмах и дам в тяжеловатых длинных платьях толпились в холле и прихорашивались перед зеркалом. Так. Вот сейчас нельзя ошибиться. Единственный шанс нельзя упускать.
— Послушай, Фархад, — сказал я. — А куда мы в таком виде, после заповедника? Неудобно…
— Всё учтено, — сказал Фархад, одновременно тоже поглядывая на себя в зеркало и оправляя свою одежду. — Никто тебе и слова не скажет.
— Но я хотя бы куртку сниму…
— Ну, разумеется…
Я подошел к гардеробу и сдал куртку, рюкзак и сумку. Хорошо бы еще, чтобы в холл выходил туалет. Точно, вот он.
— Ну что? — спросил Фархад. В его голове — это читалось по глазам — уже клубились иные какие-то соображения, помимо мыслей обо мне. Он стал менее внимательным. Иначе не упустил бы из виду, что я избавился не только от куртки, но и от вещей.
А дальше…
Просторный зал, круглые столы в четыре или в пять рядов. Десятки столов, и за каждым — человек по восемь. Справа от входа в зал, на концертной сцене, под ослепительным светом ламп — чтоб их было всем видно — сидят жених и невеста. У них до отчаяния счастливые лица. А рядом бьет музыка: целый оркестр народных инструментов. И под эту музыку топчутся, поводя руками, с одной стороны женщины, а с другой — мужчины. Почему-то мне бросилось в глаза, что никто не танцует вместе. Женщины — отдельно, мужчины — отдельно.
— Куда нам? — спросил я, потому что зал оказался огромный и яркий свет со сцены не добивал в глубину, там царил полумрак, и только видно было, что сотни людей сидят, закусывают и выпивают. Опять же — мужчины за своими столами, женщины — за своими.
— А вот, а вот, проходите, проходите, — вдруг оказался рядом с нами кругленький пожилой человек в черном смокинге. Я только тогда понял, что это — отец жениха, бухгалтер фирмы, когда он прямиком подвел нас к столику, за которым сидели все мужчины из офиса «АзТрейд»: Ализар, Али-бей, еще кто-то, и два свободных места было оставлено — видимо, для меня и для Фархада.
Посредине стола возвышалась горка в несколько ярусов, на которой были сервированы яства. На первом ярусе — мясо и балыки, слезящимися кусками нарезанная рыба — горячего и холодного копчения осетринка и севрюжинка — красная и черная икра в огромных серебряных емкостях. На втором — ананасы, клубника, гранаты, апельсины, зелень… На третьем ярусе были еще сласти: шоколад, конфеты, засахаренные фрукты…
Я понял, что не смогу обжираться второй раз за день, хотя повсюду рядом двигались сотни крепких жующих мужских челюстей и причмокивающих, подведенных помадой женских губ.
Ализар поглядел на меня своими голубыми глазами и спросил:
— Что предпочитаете: коньяк, водку, вино?
— Гранатовый сок.
— Вот как? — удивленно поднял он брови. — Как съездили?
— Отлично, — сказал за меня Фархад.
— Увидели то, что хотели? — упорно спрашивал Ализар.
— Сходили в рыбный ресторан, — сказал я.
Фархад, видимо, ждал, какова будет развязка всей этой истории. Поскольку я не высказал неудовольствия, он с облегчением налил себе коньяка:
— Ну, что же? Где наш Байрам? Надо поздравить его со свадьбой сына! Надо выпить за его здоровье!
Ализар согласился и все выпили.
— Что вам положить? — приветливо обратился ко мне Али-бей.
— Немного салата… Мы уже наелись сегодня на два дня вперед…
Чувствовал я себя чертовски неловко. Почему-то никто не разговаривал друг с другом. Выпили, что ли, мало? Или не принято? Ощущение было такое, что большинство людей никого не знало за пределами своего столика. Да и за столиками не разговаривали, как чужие. Общение заменили горы еды и музыка, которая оглушающе звучала без перерывов. Возле сцены, на которой все так же неподвижно сидели молодожены с застывшей улыбкой счастья, под музыку, переступая с ноги на ногу, как куры, танцевали какой-то птичий танец женщины… Я поднялся из-за стола, чувствуя легкую дурноту от всего этого.
— Ты куда? — придержал меня за рукав Фархад.
— В туалет.
— А…
Я вышел в холл. Прямо посредине холла, ни от кого не таясь, прохаживался Азер в своей неизменной джинсовой куртке.
— Поехали?
— Надо взять вещи. Вот номерок. Возьми…
Я на минуту исчез в туалете.
Иногда бежать необходимо, чтобы не потерять самого себя.
Когда я вновь вышел в холл, Азер помахал мне рукой из-за стекла входной двери:
— Машина ждет…
Я готов был вскричать: «Свобода»!
Так полегчало на душе.
Но сегодня мне задали хорошую трепку. Еще бы понять: зачем. Просто, чтобы я не был так привязан к Азеру. Друг моего врага — мой враг. Это Восток все-таки. Мы ехали по городу, среди вечерних огней. Азер улыбался тому, как мы ловко обделали это дельце, и с удовольствием курил…
— Слушай, а что это за свадьба? Никогда не видал более странного зрелища…
— Странного? У нас все свадьбы такие.
— Что, и у тебя такая же была?
— Я давно не женился…
— Но эта?!
— Да ничего особенного: 600 человек, по 50 манатов на человека — вот и весь расчет.
— Тридцать тысяч евро… Но там люди даже не знали друг друга…
— Василий, нельзя все в жизни мерять своей меркой…
— Это точно.
Я рассказал, как мы съездили в заповедник.
— Ты понимаешь, — сказал Азер. — Фархад неплохой парень. Но Ализар — нудный. Он голову проест, если что-то не так будет исполнено. Так что, уехав со мной, ты его обидел. Ты еще почувствуешь это на себе. В следующий раз.
— Не хотел его обижать, но не жалею, что так получилось.
Мы въехали в район пятиэтажек, несколько раз крутанулись по улицам, потом вышли на каком-то углу.
Азер расплатился с таксистом, и мы пошли к дому.
Во дворе школы за забором сидели благообразные ребята с курчавыми бородами.
— Господа ваххабиты, — ухмыльнувшись, сказал Азер. — Образцовое общежитие имени товарища Мухаммеда Абдал-Ваххаба. У нас же свобода вероисповедания. Даже для дураков.
— А почему ты о них так?
— Потому что стоит им где-нибудь завестись — обязательно какая-нибудь неприятность случается…
Я еще не встречался с ваххабитами, но фразу эту запомнил.
Азер жил в квартале пятиэтажек, которые в Москве называют «хрущевками». Здесь, на восьмом километре бакинского пригорода, хрущевками они давно перестали быть. Все первые этажи давно пристроили себе дополнительную комнату, иногда с отдельным выходом. Подчас такая пристройка оказывалась не комнатой, а магазином. На верхних этажах люди приращивали жилплощадь за счет балконов: короче, из-за этих пристроек каждый дом совершенно изменил свою первоначальную геометрию и напоминал в своем нынешнем виде старинный комод с массой различных по величине ящичков, выдвинутых на разное расстояние.
На улице ватага мальчишек мыла чью-то машину, поминутно пробуя ее редкий сигнал под названием «крик ишака».
— Ночью соберутся ребята лет по восемнадцать-девятнадцать, начнут хвастаться, у кого машина круче раскрашена, да у кого сигнал необычнее: такого наслушаешься…
— Не раздражает?
— Сам таким был.
Мы помолчали.
— Ализар сказал, за что увольняет тебя?
— Нельзя слишком обязывать начальство… — усмехнулся Азер. — Дети, жена… Привези-отвези. Невольно оказываешься слишком близким и незаменимым человеком. Это, в конце концов, раздражает. Ализар даже не понимал, за что так злится на меня. Но мне это давно уже ясно…
Он помолчал.
— Слава богу, все это теперь в прошлом. Моя проблема в другом.
— Какая проблема?
— Женщина, которую я люблю, она настоящая бизнес-вумен, понимаешь? И у нее никого нет: ни детей, ни мужа, ни племянника. А энергия — колоссальная. И она готова не только меня оглаживать, но и содержать на все сто. Но когда она платит за меня в ресторане — я не могу. Я не хочу, чтобы она покупала мне одежду — я сам себе все, что надо, куплю. Я вообще не хочу, чтоб она думала об этом.
— Да, — сказал я. — Мир вещей и жратвы. Это крест Азербайджана.
— Значит, ты просёк.
— А что тут просекать? Вспомни, ты, что ли, это рассказывал: как арестовали какого-то начальника муниципалитета и после ареста вывезли у него две машины то ли денег, то ли золота…
— Да, было…
— Понимаешь, неважно, что там вывозили — деньги, золото, одну машину или две, — он все равно постоянно жил этим, думал только об этом… Это болезнь. То ли времени, то ли сознания… Тяжесть… А я люблю легких людей: таких, как Эмиль, как ты, как Фикрет…
Как-то на удивление быстро летело время. Мы договаривались, что будем переписываться, перезваниваться, но я понимал, что расстаемся мы надолго — вернувшись, я сяду писать и закроюсь для общения, а Азер… Уедет ли он в Германию, или вновь попытает счастья в России, или останется здесь, где после сегодняшнего разрыва ему придется несладко?
Перед отъездом Азер дал мне томленой простокваши с нарезанной зеленью. Удивительно вкусное кушанье, мама делает. Ну и всё. Вот так мы и пообщались с другом напоследок.
Потом вызвали такси и поехали в аэропорт.
— Фархад сказал, что должен посадить меня на самолет. Не столкнемся мы с ним в аэропорту?
— Нет. Для них ты теперь неблагодарная и паршивая овца. Никому ты не нужен. Так им легче.
— Да и мне, признаться, тоже.
Азер засмеялся:
— И мне…
В аэропорту мы завернули в бар.
— Ну что, по пятьдесят коньяка на прощанье? — спросил я.
— Давай, — сказал Азер. — Но плачу я.
— Плати, — сказал я. — Я заплачу за вторую.
— За тебя, — сказал Азер.
— Ну и за тебя. Чтоб всё сбылось.
Мы чокнулись, выпили.
— Знаешь, об одном я жалею: что я только раз повидал настоящий каспийский берег. Не верю, что красивых берегов не осталось. Если бы мы с тобой поехали, мы бы нашли.
— Приезжай, я свожу. Знаю одно место…
Мы еще помолчали. Я молчал о том, что если и окажусь в Азербайджане, то не скоро. А друг мой Азер? Кто скажет, где он будет через год-другой, друг мой Азер? Но ничего, как-нибудь сыщемся…
Я чувствовал, что мне пора улетать, пора отправляться дальше по берегу Каспия-моря, и Азеру пора сделать свой выбор, устроить маму и тоже отправляться по жизни дальше. По привычке налегке.
— Слушай, — говорю я. — Давай еще по одной — за легкость?
— Давай.
ВОСХОЖДЕНИЕ В СОГРАТЛЬ
I. ВИКА И ТЕРРОР
Напоследок перед отъездом я стер из мобильника все телефоны (бывшей жены, мамы, брата, места работы, всех, вообще, близких людей, кроме Ольги), потом снял со связки ключ от квартиры, где я прописан, чтобы если меня «возьмут» с паспортом (Кто «возьмет»? — Этого я не знаю. Кто бы ни взял. Вдруг.), они не получили бы вместе с адресом квартиры сразу и ключ, которым она отпирается. Вот опять: они. Кто — они? Опять не знаю. Но думаю, что если случайно сделать неверный шаг, попасть не в свой коридор, опасность реальна. Кому бы я ни говорил об этой поездке, все реагировали одинаково. Мой друг Аркадий проникновенно сказал: «Учти, Дагестан — это единственная республика, где до сих пор похищают людей». Я знал, что убивают. Но похищают? Ничего не слыхал об этом. Оксана: «Ты сумасшедший, что ли? Там же железную дорогу взорвали! Чего тебя туда несет?» Железную дорогу действительно взорвали, но я не могу объяснить ей, что несет меня туда мой замысел, моя книга. Что если я не перешагну свой страх, проект можно считать закрытым. Может быть, в моей «кругосветке» вокруг Каспийского моря и можно пропустить какие-то страны. Но не Дагестан. Отказаться от поездки в Дагестан — значит сдаться. Потому что Дагестан — это именно та территория, на которой разлом между Востоком и Западом особенно очевиден и по-настоящему драматичен. Напряжение такое, что вот уж лет десять, как брызги крови из этой небольшой республики долетают до Москвы. Как назло, 9 мая в Каспийске, где находится суворовское училище и где, вероятно, по случаю праздника был устроен парад, тоже был взрыв, весть эта молнией долетела до Москвы и чрезвычайно взволновала мою 77‐летнюю маму. Она позвонила. Я попросил ее: «Ничего мне не говори. Пожелай мне удачи — и всё». Прекрасно помню тот день перед отлетом: мы с Ольгой ходили на рынок, в честь Дня Победы на улицах шло народное гулянье, было несколько ветеранов войны в медалях, дети то окружали их, то бросались рисовать цветными мелками на асфальте цветы и солнышки. И все было так понятно, так дорого… Потом была ночь и отчаянная бессонница, когда мысли крутятся, крутятся бессмысленно и беспощадно в твоей голове, и сна — ни в одном глазу. Чтобы сбить этот коловорот беспокойных мыслей, у меня было полфляжки коньяку. Стояла уже глубокая ночь, я вышел на крылечко, плеснул коньяк в чашку, выпил, сел в кресло и долго каким-то странным взглядом смотрел на наш двор, на кусты жасмина, налитые весенней свежестью, на все это, столь, оказывается, любимое…
За неделю до отъезда я позвонил своей подруге Вике Ивлевой. Она журналистка. Хорошая. И она была в Дагестане: поэтому я и спросил ее — как она все это видит, эту тему? Потому что в Москве слово «Дагестан» прежде всего связывается с несколькими ужасными террористическими актами, которые были совершены в метро и в других людных местах по каким-то религиозным, типа, мотивам 58. Это, конечно, не так. Террор имеет отношение к деятельности международных террористических организаций, он имеет отношение к социальной психологии, к специфической психологии секты, в которую так или иначе вовлекаются так называемые шахиды, он имеет отношение к той ненависти, которую сознательно или бессознательно испытывает к обществу множество выбитых из колеи, несостоявшихся, невостребованных людей. Но религию к этому я приплетать бы не стал. Я слишком ценю ислам как самоотверженную попытку богопознания и никогда не соглашусь с тем, что «политический исламизм», сведенный к проповеди смерти, вообще имеет к исламу хоть какое-то отношение. Есть фанатики и активисты и среди православных. Но их место там же — за пределами собственно религиозного опыта. С появлением так называемых «русских ваххабитов» это стало окончательно ясно.
И ислам, и христианство, и иудаизм — это религии родственные, проросшие из одного корня. Специалисты называют их «авраамическими», по имени, естественно, Авраама, который первым из всех пророков узрел явление Господне и, как написано в древней книге Бытия, «заключил завет» с Богом. Каждая из этих религий за многие века прошла свой путь, в каждой накоплено немало драгоценного опыта переживания Бога: что, собственно, и составляет всю суть религии. И ни ислам, ни христианство, ни иудаизм никогда не утверждали ничего другого, кроме того, что помимо земной материи, помимо чувств и страстей, логики и физики, скрытый от людей непросветленностью их духовной оптики и все же предугадываемый, предощущаемый, как свет в глубине сердца, существует Бог, всеобщий организующий принцип, который пронизывает собой все этажи мироздания.
И все же мне не хотелось погибнуть из-за дурацкой случайности, оказавшись не в то время и не в том месте.
Ибо если в Москве произошло несколько терактов за несколько лет, то на территории Дагестана что-нибудь взрывается каждый день, а то и не единожды…
Поэтому я и пошел за советом к Вике.
— Не пиши ничего про террор, — неожиданно веско сказала мне Вика. — Глубоко понять эту тему ты все равно не сможешь, а пустые слова здесь не нужны…
— Хорошо, — сказал я. — Отбросим террор. Что для тебя Дагестан?
— Знаешь, — сказала она, — это горы. Потрясающе красивые горы. Люди. Какие изделия из серебра! С таким вкусом с серебром не работает ни один мастер в Москве. А может, и в мире. Вот: напиши про мастера. Ты увидишь… поверь, это чудеса. Ты не представляешь, какие там сохранились ремесла! И это с XII, c XIV века… А потом ты поселишься в доме мастера и узнаешь истинное отношение к тебе людей. Это важно…
Вика была в столице Табасарана59, в селении Хучни.
— Что там делают, в Хучни?
— Ну, во‐первых, там делают великолепные ковры…
Я посмотрел на нее немного печально. Ковры-то, вероятно, действительно великолепные. Но на Востоке немало мест, где делают великолепные ковры: Азербайджан, Афганистан, Иран, Туркмения, Узбекистан… Все они тоже торгуют коврами отличного качества. Нетрудно понять, что такого количества ковров давно уже не нужно. А значит, мастерам Табасарана, как и всем художникам-традиционалистам, живется несладко.
Вика подтвердила это, но сказала, что давно нигде не встречала такой открытости, такого доброжелательства, такого радушия. И она говорила это не по своей восторженности. Она смелая и умная женщина. Была внутри четвертого блока Чернобыльской АЭС с взорвавшимся реактором, в лагерях таджикских беженцев в Афганистане, в Африке была, в Руанде, сразу после чудовищной межплеменной резни, когда люди озверело несколько дней убивали друг друга мачете для рубки сахарного тростника, умудрившись забить этими сельскохозяйственными, в сущности, орудиями около миллиона человек (на что весь мир смотрел по ТВ с полнейшим равнодушием). И вот она со всем своим опытом, включающим, разумеется, и чувство опасности, прямо свидетельствовала мне о Дагестане как о спокойной, дружеской, безопасной стороне.
— Правда, — сказала она, — у тебя, как у мужчины, могут возникнуть свои проблемы во взаимоотношениях с местными.
— Но ты же решила свои, женские, проблемы общения?
— Да.
— Так почему ты думаешь, что я не справлюсь со своими?
Я не хотел ударить в грязь лицом. Да и оптимизма во мне здорово прибавилось после этого разговора. К тому же она дала мне координаты Али Камалова — председателя Союза журналистов Дагестана. Мы с Викой дружим с университетских времен. И она, как подруга, позаботилась, направила к нужным людям, в нужный туннель, где вероятность нарваться на неприятности была сведена к минимуму.
После этой встречи я, наконец, засел в интернете и на ощупь приступил к составлению маршрута.
По правде сказать, первый опыт меня обескуражил.
Я стал прощелкивать населенные пункты в горном Дагестане и очень скоро добрался до селения Ботлих на границе с Чечней: население чуть больше 3000 человек, национальность — ботлихцы, говорящие на ботлихском же языке (диалект аварского). Вероисповедание: ислам, сунниты. На фотках были почему-то сняты бронетранспортеры и мечеть… Внезапно на экран вывалилась надпись: «Знакомства в Ботлихе» и изображения, достойные порносайта. С предложениями соответсвующих изображениям «услуг». Я совершенно обалдел. Только приехав в Дагестан, я узнал, что в Ботлихе долго стояла мотопехотная бригада, гарнизон, естественно, обсели бл…ди, а рядом аул, эти ботлихцы, исповедующие традиционный ваххабитский ислам, и им, я имею в виду местных жителей и военных, надо как-то уживаться рядом, хотя я так и не смог представить себе, как это возможно. Бронетранспортеры и проститутки — так, значит, пришла в аул русская культура. И привычный ход жизни надломила. Там даже сложился в среде местной молодежи какой-то первобытный хип-хоповый стиль, который тоже называется «ботлих». Я нашел текст одной песни в переводе на русский язык. Аттила бы заплакал, услышав такое: «А вы, сучки, становитесь раком…» И это местный парень поет, какой-то то ли Мустафа, то ли Ибрагим, короче, абсолютное животное. И аудитория, видимо, ему под стать.
Вопрос: как все это должно восприниматься местным населением? Я думаю, однозначно: как преддверие Апокалипсиса.
Я представил себе, каково будет по неведению или в силу дурного стечения обстоятельств попасть в этот Ботлих, и понял, что к составлению маршрута надо подойти максимально серьезно.
До этого я лишь один раз, лет семь назад, был Дагестане, по случаю, о котором в своем месте, конечно, расскажу. Но это была очень короткая пробежка в Дербент, и никакого общего представления я тогда не составил. Поэтому пришлось поработать над досье. Благодаря ему я накануне отъезда уже довольно отчетливо представлял, как буду действовать.
II. НАВИГАТОР В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
Триста семьдесят пять километров морского побережья, которыми Дагестан привязан к каспийской теме, еще не отвечают на вопрос: Дагестан — что это и где? Ну, во‐первых, это не отдельное государство, а часть России, в которую Дагестан входит как федеративная республика 60 и, таким образом, имеет свою столицу, президента, парламент, министерства, программы школ и университетов и т. д. На юге Дагестан граничит с Азербайджаном и с Грузией, на западе соседствует с Чечней, на северо-западе, где горы сходят на нет и во всю ширь открывается степь, он смыкается со Ставропольским краем, а на северо-востоке — с Калмыкией. С востока омывается Каспийским морем.
Когда-то, говоря о Дагестане, обязательно вспоминали о том, что это самая «многонациональная» республика Советского Союза. Количество народностей, населяющих этот небольшой кусочек земной поверхности, действительно впечатляет. В конце ХIХ века их было 50. Сейчас многие родственные народности слились, образовав более крупные этносы, однако таких этносов все равно не менее двадцати. Наиболее многочисленны аварцы (29,4%, около 750 тысяч человек). По языку им в какой-то мере родственны другие народы нахско-дагестанской языковой семьи — как и аварцы, это по преимуществу горцы — даргинцы, лезгины, лакцы, табасараны, чеченцы, рутульцы, агулы и цахуры. Но родство их столь дальнее, что между собой эти народности общаются на русском языке. К тюркской группе принадлежат населяющие северные степи Дагестана кумыки и ногайцы, на юге — азербайджанцы. На языках иранской группы говорят таты и горские евреи (таты-иудаисты), проживающие на горном участке границы с Азербайджаном. Русские, украинцы (считая терских казаков) и белорусы также вброшены в этот невероятный этнический и языковый котел. Что интересно? То, что все это существует давно и в относительной гармонии. За многие века каждый народ нашел свое место, свою нишу, свое ущелье, свое «материнское лоно». И несмотря на разницу языков, различие в способах правления, несхожесть материнских ландшафтов и обычаев, научился жить дружно с соседями. Это, как говорят французы, savoir-faire 61, особая «политтехнология» Дагестана, соревноваться с которым в этом отношении в России могла бы, пожалуй, только современная Москва, в которой мирно уживаются даже те народы, которые у себя на родине находятся в состоянии близком к войне или хранят свежую память о войне, совсем недавно пережитой: армяне и азербайджанцы, грузины и абхазы, вьетнамцы и китайцы, турки-месхетинцы и узбеки 62, киргизы и казахи, курды и иракцы, чеченцы и русские. Ничего не поделаешь: мегаполис требует мира, он очень быстро и очень настойчиво навязывает приехавшим правила мирного сосуществования, иначе жизнь в нем будет невыносима. Но если для Москвы, в отличие от других мегаполисов мира, это явление совсем новое, датируемое двадцатилетней всего лишь историей, то для Дагестана так, в единстве «своего» и «чужого», изначально явлен Божий мир. В нем на площади в 50,3 тысячи квадратных километров сходятся три культурные матрицы.
Первая — Степь кочевья — необозримое поле исторического подъема и гибели «кочевых цивилизаций». После неумолимой горизонтальной, широтной развертки, проделанной ордами Чингизхана в середине XIII века, мир Степи охватил собою пространство от древнего Киева на западе до Западных ворот Великой Китайской стены на востоке. До XIV века все это пространство принадлежало ханам Золотой, Великой и Малой орд, на которые распалась завоеванная монголами территория. Прилегающие к предгорьям Дагестана степи с богатыми рыбой низовьями Терека и Сулака традиционно принадлежали ханам Золотой Орды, три столетия господствовавшим также и над Русью. Николай Карамзин, автор «Истории государства Российского», так описывает кочевье золотоордынского хана Узбека63 по своим южным владениям: «Узбек ехал тогда на ловлю к берегам Терека со всем войском, многими знаменитыми данниками и послами разных народов. Сия любимая забава ханова продолжалась обыкновенно месяц или два и разительно представляла их величие: несколько сот тысяч людей было в движении; каждый воин украшался лучшею своею одеждою и садился на лучшего коня; купцы на бесчисленных телегах везли товары индейские и греческие; роскошь, веселие господствовали в шумных, необозримых странах, и дикие степи казались улицами городов многолюдных…» 64
Только поход Тимура 1395 года через Ширван и Каспийские Ворота на Тохтамыша 65 поставил Золотую Орду на грань исторического краха и привел к перераспределению власти в Степи. В последний раз Степь перекраивалась в XVIII столетии — когда ногайцев и кумыков решительно потеснили пришедшие из самых глубин Азии воинственные калмыки, которые не пожелали вписываться в сложившийся степной порядок и попросту оторвали себе лучший кусок степи на правом берегу Волги.
Вторая важнейшая матрица — Горы. В отличие от Степи, являющей простор, распахнутый во все стороны и, соответственно, запечатленный в голове каждого степняка совершенно особым образом родины и пространства как бескрайности, горы необыкновенно сужают понятие родины, родного. Ущелье, река внизу, родное селение, несколько соседних аулов и окрестные вершины — вот родина и отчизна, за которую горец, не рассуждая, будет биться до последнего. Горцы — воины, не знающие страха. Именно поэтому первые попытки арабов «исламизировать» горцев закончились для них сокрушительными военными поражениями. Только в VIII веке, взяв Дербент, арабы совершили шесть походов в нагорный Дагестан, но все они были неудачны. Процесс «исламизации» затянулся на несколько веков. Ему активно противодействовала христианская Грузия. Скажем, кубачинцы приняли ислам только в 1305 году; а известие о строительстве здесь первой мечети относится к 1405‐му. Во времена Тимура значительная часть Аваристана оставалась языческой или христианской. Горцы сопротивлялись исламу с той же самоотверженностью, с которой впоследствии его защищали.
Проникновение ислама шло через Дербент: северный оплот арабского мира66. Дагестан в конце концов принял веру пророка Мухаммада, причем, в отличие от других силой приведенных к исламу территорий, он не примкнул к «оппозиционному» шиизму, как Персия или Азербайджан, а воспринял традицию во всей незыблемости Слова (Корана) и Предания (Сунны). Я сам знаю горные селения, где в библиотеках разных тукхумов (родов) хранилось до 50 000 арабских рукописных книг. Была интеллигенция, способная все это прочитать и осмыслить. Медресе, в которых эта горская интеллигенция обучалась. Переплетные мастерские, мастерские по производству бумаги, целая цивилизация…
Но существует еще третья культурная матрица: Мир-за-Стеной. Я имею в виду дербентскую стену, возведенную по приказу персидского шаха Хосрова I Ануширвана67 (531–579) для того, чтобы отделить культурные народы, так или иначе причастные к цивилизациям поздней Античности — Персии, Кавказской Албании или древней Армении — от прочих, получивших потом в Коране собирательное название Йоджудж и Маджудж (библейкие Гог и Магог), под которыми на Кавказе имелись в виду дикие кочевые племена, населяющие мир Степи — будь то савиры, скифы или хазары, которые в надежде поживиться через «Каспийский проход» между морем и горами налетали с севера на города и тучные оазисы юга 68. Первым делом Хосров срыл укрепления из сырцового кирпича, возведенные тут до него, и перекрыл двумя могучими параллельными стенами, выстроенными из тесаных каменных блоков, сшитых, как жилами, железными прутьями и проконопаченных свинцом, самое узкое место «Каспийского прохода», где горы не доходят до моря всего три-четыре километра. В пространстве между южной и северной стеной разместился город Дербент. «Великая кавказская стена», как принято ее теперь называть среди ученых, уходит от Дербента, увенчанного великолепной цитаделью Нарым-Кала, более чем на сорок два километра в горы Табасарана до неприступного водораздельного хребта Кара-сырт. Высота последнего форта — 1000 метров над уровнем моря. А всего таких фортов было двадцать семь…
Это была невероятно дорогая стройка, которую оплатила Византия. В то время Персия была столь сильна, что Византия по разного рода договорам платила ей огромные контрибуции золотом. Эти средства позволили Хосрову решить ряд военных и геополитических задач: защитить с севера территорию империи и главный торговый транзит того времени — Великий шелковый путь — от которого казна Персидской державы имела прекрасные доходы.
Дербент, который разместился меж двух крепостных стен на одном из самых страшных полигонов истории — я имею в виду «Каспийские ворота» — назывался по-арабски «Баб аль-Абваб», или «Ворота ворот». Долгие века Дербент был самым значительном городом на Каспии, славу которого Баку затмил лишь в конце XIX века. Было еще несколько персидских городков на южном каспийском берегу, в числе которых можно упомянуть Решт, Феррах-Абад, где была летняя резиденция персидского шаха и, при устье реки Горган, порт Абаскун, впоследствии затопленный морем. Ну и все. Больше ничего такого, что можно было бы назвать «городом», по берегам Каспия долгое время не было. Современная Махачкала — тогда Тарки — была жалкой ставкой кайтагского уцмия. О Тарках, кстати, упоминает в своем «Хождении за три моря» Афанасий Никитин. И что он говорит? Он говорит, что русские люди, которые в этом местечке сошли на берег, все были тут же ограблены и увезены в плен. Но! Чуть не забыл. Что интересно? Интересно, что всего в 123 километрах от дербентской стены, на месте этих самых Тарков, до VIII века был крупный хазарский город Семендер. Хазары, воплощавшие собою «угрозу с севера», сначала чувствовали себя хозяевами положения в Каспийском проходе. Арабы с этим не согласились, и в ходе арабо-хазарских войн, продолжавшихся целое столетие, город был стерт с лица земли. Хазары вынуждены были перенести свою столицу и спрятать ее в кроне волжской дельты. Так возник Итиль 69.
А Дербент? Он был, судя по сохранившимся древним свидетельствам, великолепен. Сердце большого города билось тогда в нем, жизнь кипела, ремесленники были объединены в профессиональные гильдии, за жизнью города следили квартальные старосты, на городских рынках европейцы — генуэзцы, естественно, — мешались с купцами из Ширвана, Армении, Индии… Под стать торговле насыщенна была и духовная жизнь. В ней тон задавал суфизм: разумеется, это был не ранний суфизм, который буквально взорвал ислам изнутри в X–XI веках. За дерзость самостоятельного поиска пути к Богу, за мистические толкования Корана и слов Пророка ранние суфии подверглись суровым гонениям, некоторые даже приняли мученическую смерть. К XIV–XV веку картина изменилась: суфизм был согласован с традицией и законом, в чем, собственно, и заключалась задача богословов этой поры 70. Трактаты, подобные известному сочинению «Райхан ал-хака, ик» («Базилик истин и сад тонкостей»), созданному как раз в Дербенте, свидетельствуют о попытках облачить суфийские идеи в благочестивые одежды правоверия. Именно в таком виде суфизму удалось к XV веку покорить Дагестан, что возымело потом далеко идущие последствия, когда имам Шамиль 71 окончательно выбросил из ислама всю мистику, но оставил и еще более укрепил традиционные для суфийских братств отношения между шейхом и его мюридами 72, которые были сохранены в его армии и его государстве. Таким образом в два приема «суфийская революция» X–XI веков была сведена на нет и на территории Дагестана в исламе восторжествовал не путь духовного поиска, нащупанный в гуще коранических текстов и разработанный суфиями, а та грань учения Пророка, которая подразумевает теократию, подчинение всей внутренней жизни мусульманскому праву и «священную войну» с неверными — джихад 73.
Такая вот интересная получается картина: Степь, Горы и Мир-за-Стеной. И, направляясь в Дагестан, неплохо бы ответить себе на вопрос: в какой из миров ты собираешься попасть? Меня почему-то особенно интересовал Горный Дагестан. В Москве сейчас довольно много молодых горцев, которые резко выделяются среди других пришельцев с Востока своей сплоченностью и одновременно обособленностью от жизни города. Они красивы, горды, при конфликтном соприкосновении с укладом большого города агрессивны, любят дорогие машины и острые ситуации, в которых можно проявить свою сплоченность и силу. Езда на автомобиле без правил, в метро без билета — обычное проявление их «силовой автономии» в столице. Половина из них — сынки богатых родителей, завсегдатаи ночных клубов, любимцы девушек. Их горячая и еще свежая, не прокисшая в городе кровь кружит тем головы. Московская молодежь называет их «дагами» и, если я не туг на ухо, в этом коротком односложном имени кроется признание их силы, их опасности. Поэтому прежде всего мне хотелось бы взглянуть на горцев в горах, внутри традиции, из которой московские «даги» выпали, ничего, кажется, не обретя взамен.
Когда на исходе Кавказской войны имам Шамиль добровольно сдался в плен, царь Александр II показал ему в Зимнем дворце карту империи. Тот сказал: «Если бы я знал, что у Государя такая большая страна, я бы не стал воевать, испугался бы». Это была лесть. Горцы не ведают страха. Они — воины. В этом их сила и их слабость. Они консервативны и реагируют на социальные метаморфозы прямо, бурно, даже агрессивно. Им трудно приспособиться к условностям и компромиссам современной цивилизации. Именно в таком состоянии сдерживаемого негодования Дагестан пребывает сейчас, переживая разрушение глубинных основ исконного горского уклада жизни. В XIX веке Дагестан пережил беспощадную войну с империей Российской, которая продолжалась тридцать лет. В XX активно, в отличие от Азербайджана, Грузии и Армении, участвовал в большевистской революции, прошел все фазы коммунистического строительства во имя, как верилось, справедливого будущего. Это все дагестанцы как раз смогли переварить. А вот современный глобальный мир, который обрушился на них колоссальным кризисом экономики, отчуждением центральной власти, коррупцией, унизительным социальным неравенством и «развратом» элиты, они переварить не могут. По крайней мере, многие. Но самое главное, что не может переварить молодежь. И в пику «торжеству неправедных» выбирает ислам. Причем не суфизм — тем более в его уже не существующей форме мистического свободомыслия — а как раз очень жесткий, охранительный, во всем противостоящий Западному миру ислам по шариату.
III. ПО СЛЕДУ ГРАФА Л. ТОЛСТОГО74
Я решил, что, прибыв в Махачкалу, найду Али и попрошу его помочь мне съездить в Хунзах75, Гоцатль и Гуниб…
Вы спросите — почему Хунзах?
Найдите у Толстого повесть «Хаджи-Мурат» и перечитайте ее. Хаджи-Мурат был родом из-под Хунзаха, из крошечного, «с ослиную голову» аула. Однако ж он был хорошей крови и считался названым братом одного из трех молодых хунзахских ханов. Сторонники Гамзат-бека 76, который поднимал горцев на джихад — войну против русских, — перебили всю правящую аристократию Хунзаха. Одного из сыновей хана — маленького мальчика — будущий имам Шамиль сам бросил с обрыва в реку.
Хаджи-Мурат по долгу крови должен был отомстить убийцам своего названого брата, Умма-Хана. Вместе с братом Османом они зарезали Гамзат-бека прямо в хунзахской мечети. Это не помешало Хаджи-Мурату во время Кавказской войны стать одним из лучших военачальников Шамиля и даже его наибом — правителем одной из областей. Но в конце концов именно Шамиль стал его злейшим врагом. Невероятная судьба! И столь же удивительная, с сочувствием и болью написанная повесть. Толстой — великий мастер слова. И как бы ни мало я знал про Дагестан, я знал это благодаря Толстому. И если, как я думал, я что-то понимал про дагестанцев, про полный достоинства дух воинов — то это, опять же, благодаря Толстому. Волею судьбы Хаджи-Мурат вынужден был перейти под русские знамена. Драма, которую повлек за собой этот переход, и гибель Хаджи-Мурата, описанная Толстым, — это, может быть, самое достоверное свидетельство глубочайшего различия в восприятии мира, существующего между «горами» и «равниной» (империей).
Гоцатль. Я включил это селение в список благодаря особенной музыкальности его названия. В горах Дагестана есть несколько селений с названиями, будто выдернутыми из языка майя: Унцукутль, Гоцатль, Голотль, Согратль… Я чувствовал, что должен побывать в одном из этих селений с волшебными именами, хотя даже не знал, к какому дагестанскому языку эти топонимы принадлежат. Что-то должно было обнаружиться там помимо музыки…
Гуниб — здесь в 1859 году имам Шамиль, окруженный на Гунибском плато, сдался князю Барятинскому 77. В Дагестане говорят: «кто не бывал в Гунибе, тот не бывал в Дагестане». Что это значит? Гуниб со своими высокогорными плато действительно очень красивое место. Но дело не только в этом. Здесь решилась историческая судьба Дагестана. Сдавшись здесь русским, выбрав не смерть, а плен, имам Шамиль в каком-то смысле на долгие годы предопределил будущее Дагестана — быть с Россией. И Дагестан принял это решение своего имама. Правда, по окончании Кавказской войны царские власти проявили в отношении к горцам максимум такта. Сейчас такого такта нет. И историческая судьба начинает колебаться. Добрая половина населения республики решила проблему исторического выбора, самоустранившись из настоящего времени. И обратившись назад, в прошлое. К натуральному хозяйству (благо горцам не привыкать — у них оно всегда было натуральным) и самому консервативному из всех возможных исламов — ваххабизму.
Помните, Азер пошутил насчет товарища Абдал Ваххаба?
Так вот, для дагестанцев это не шутка.
Хотелось еще экзотики, вроде поездки Вики в Табасаран. Я решил, если останется время, ехать в знаменитый Зерихгеран — по-персидски — «страну кольчужников» — небольшой даргинский анклав в горах на северо-запад от Дербента, от которого до наших дней сохранилось одно большое селение — Кубачи. Заодно навещу Дербент — «самый древний город России». Для первой поездки — вполне достаточно…
Я подумал, что если у террора и есть какая-то логика, то прежде всего — обосрать праздники, и поэтому решил лететь сразу после девятого мая. В результате купил билет прямо на десятое. Ну а дальше все известно: взлет — посадка. И два с половиной часа между ними.
IV. МАХАЧ 78
На посадочную сели, как на проселочную дорогу. Самолет ходил ходуном от киля до клотиков мачт. Но это никого, кроме меня, не растревожило. Потом я вышел из дверей зала прилета и увидел…
Оружие.
Короткие автоматы в руках людей в черных рубахах. Они кого-то то ли поджидали, то ли выслеживали, втеревшись в толпу таксистов, встречающих пассажиров у выхода из аэропорта. Из дверей выходили женщины в хиджабах, и я все ждал, что следом появится какой-нибудь местный магнат и они окажутся его женами, а эти в черном — его охраной.
Семь лет назад ничего подобного не было.
Я был настолько поражен этим никого не удивляющим, обыденным присутствием оружия, что очухался только тогда, когда встречавший меня шофер по имени Шамиль (маленький, горбоносый, сухой, быстрый) объяснил мне, что весь переполох — из-за визита в Дагестан российского министра внутренних дел. Прилетел на два часа ознакомиться с оперативной обстановкой и устроить местным коллегам ободряющую взбучку за нарастающую активность «лесных».
Стартовав от здания аэропорта, через двадцать минут мы остановились возле отделанного ракушечником, двенадцатиэтажного (стандартная архитектурная матрица 80‐х годов) Дома прессы. Шамиль отвел меня к Али. Лет шестидесяти пяти, сухонький, седой, с большим открытым лбом и внимательными серыми глазами. Нос кривой, свороченный набок. Боевой нос. Голос тихий. Мы представились, он поглядел на меня так и этак и вдруг начал расспрашивать: кто меня рекомендовал обратиться к нему, какие люди? Я назвал фамилию Вики, поняв, что спрашивает он неспроста, что ему действительно важно знать, из какой я обоймы, друг или… По счастью, Викина фамилия его весьма успокоила, после чего он, уже сам, спросил меня, знаю ли я такого-то и такого-то в Москве. И я сказал, что знаю, но не виделся с ними уже давно. Это тем не менее тоже сработало. «Это мои друзья», — сказал Али. Теперь он готов был мне помогать.
— Так каковы твои планы? — поинтересовался он.
Я изложил планы.
— Значит, завтра Хунзах?
— Хунзах.
— Эх, давно не бывал я в горах, — обмолвился Али, и я было на миг вообразил, что завтра мы вместе туда и отправимся.
Но тут Али крикнул секретарше, чтобы узнала, когда с автовокзала начинают ходить маршрутки на Хунзах.
Мне не понравилось слово «маршрутка». Фантазия моя о совместной поездке оказалась напрасной. Завтрашнее утро было занято у Али совещанием директоров газет, где он, в частности, хотел говорить об убийствах журналистов — их уже пятнадцать в Дагестане, и последним, на днях, был убит главный редактор мусульманской газеты 79.
— А его-то кто? — спросил я глуповато.
— Понимаешь ли, — сказал Али аккуратно, — ни одно это убийство до конца не раскрыто. И кто это убил — неясно. Есть силы, которые заинтересованы в сталкивании…
Поскольку я соображал явно медленнее, чем положено журналисту с моим стажем, Али умиротворяюще произнес:
— Сейчас поезжай в гостиницу, оставь вещи, прими душ и через час возвращайся сюда — поужинаем. Завтра с утра Шамиль отвезет тебя на автовокзал. Маршрутки ходят с восьми, отправляются по мере заполнения…
Окна моего номера в отеле «Петровскъ» выходили на дворик детского сада, какие-то крыши и — совсем недалекую лазоревую полоску моря. Я принял душ и вдруг подумал, что до семи часов должен хотя бы добежать до моря и обратно. Надо поздороваться с морем. Надо, чтобы оно порадовалось за меня: что я не отступил, остался верен нашему общему замыслу… Я вышел из отеля и отправился в мир мелкостроя, который отделял меня от моря. Все улицы тянулись здесь параллельно берегу, и я нигде не видел ни одного перекрестка. По счастью, рядом играли девочки лет шести. Я спросил:
— Девчонки, а как пройти к морю?
— А вот туда до конца, — бойко отвечали они, — и после помойки — направо…
Поразила принципиальная, безотказная действенность русского языка.
За заборами прижатого к морю поселка тлела незаметная жизнь пригорода. На изломе улочки, от которой открывался вид к морю, пара молодых рабочих лепила из красного кирпича нечто, что, возможно, по замыслу хозяина должно было называться «особняком». Рядом поблескивали гофрированной фольгой проложенные вдоль моря трубы теплотрассы, изгибающиеся над переулком в виде колоссальной буквы «П».
На пляже стояли ржавые грузовые контейнеры. Из воды торчали оббитые бетонные плиты.
Плескала мелкая волна.
Я подошел к воде, попробовал ее рукой. В холодные зимы северная часть Каспия замерзает — иногда до самой Махачкалы. Вода еще не прогрелась, и синева моря, казалось, только дразнит меня.
В предвечерний час обширный холл Дома прессы выглядел пыльным и запущенным: ни штор на окнах, ни хоть какого-нибудь киоска по продаже канцтоваров, флэшек, дисков и другой нужной мелочи. Охранник, дремавший за столом у входной двери, пропустил меня, даже не спросив, куда я направляюсь.
Я поднялся в кабинет Али.
Меня волновало, дозвонился ли он в Хунзах, кто меня примет, где поселят и как там всё образуется.
— Послушай, — сказал он спокойно. — Это ведь дело одного звонка.
Этот звонок он сделал, попал на брата главы администрации, потом откуда-то появился еще номер телефона и имя: Гамзат. Руководитель средств массовой информации в районе. Вопрос решился.
— Хочешь поужинать? — спросил Али.
— Хочу, — сказал я.
Мы спустились в ресторан Дома прессы, заказали форель с картошкой. Али взял себе водки и два пива для меня. Все это он поставил на поднос, с которым мы вышли из ресторана и отправились дальше по коридору. Там было что-то вроде гостевых апартаментов, где проживала не слишком молодая, но красивая дама, Сулиета Аслановна, которая остро судила о кавказском вопросе.
Я ел рыбу и пил пиво. Али и Сулиета разговаривали. Обсуждали последние взрывы в Махачкале.
Я слушал.
Потом сказал, что на языке терактов, как бы бессмысленны они ни были, должно быть что-то выражено.
— Разумеется, — сказала Сулиета.
— Тогда что?
— А Андрея Желябова 80 вы понимаете?
— В молодости думал, что понимаю. Теперь — нет. К тому же «Народная воля» не была связана с религией.
— Неважно, с какой идеологией она была связана.
— Важно.
— Важно, что туда пошла лучшая молодежь своего времени: Перовская, Фигнер… Что-то подобное происходит сейчас в Дагестане.
— Знаете, — сказал я. — Для «Народной воли» террор закончился колоссальным крушением. В том числе и моральным… Да и насчет «лучшей молодежи»… Всех действительно ярких людей можно пересчитать по пальцам рук. Не знаю, кем были остальные. По-моему — смутные души…
Я был зол на себя. Договорились с Викой не трогать террор — и первое, во что я влип в результате, — это разговор о терроре.
У Сулиеты были большие, подведенные тушью глаза, черные волосы, ярко-красная помада на губах, такие же красные ногти и удивительно красивое ожерелье из крупных кроваво‐красных камней. Черная шаль на плечах.
Я быстро устал от разговора и сказал, что хочу съездить в центр, повидать одного знакомого.
На улице было уже темно. Я поймал первую попавшуюся машину, в ней сидело двое парней.
— Мне в центр, к университету, — сказал я.
— А сам откуда? — поинтересовались парни.
— Из Москвы.
— Ну, я так и подумал, когда увидел, что чувак стоит-голосует, — сказал один.
Я все раздумывал, влип я или нет, но тут вдруг они оба, перебивая друг друга, заговорили:
— В Москве, наверно, думают, что здесь страшно, что здесь взрывают всё…
— Да, взрывы оптимизма не прибавляют…
— Ну а ты сам как к дагестанцам относишься?
Я пригляделся: это были хорошие ребята. Они переживали за свою родину. Вопрос об отношении к Дагестану, к дагестанцам — он очень остро стоит. И им важно знать, что думают люди. Как говорил великий Лэйнг, «о том, кто ты такой, тебе расскажут другие».
Я сказал:
— Вы — ребята крепкие. Мне интересен Дагестан. Поэтому-то я сюда и приехал.
Короче, они довезли меня до центра и денег не взяли.
Я вышел перед невысоким, белым с колоннами зданием университета, которое хорошо помнил. Справа от него должна быть пяти- или шестиэтажка Муртузали — знакомого археолога. Точно, я ничего не забыл. Теперь, правда, подойти к дому было нельзя: он оказался обнесен забором. На калитке был кодовый замок. Я нажал кнопку звонка. «В какую квартиру вы идете?» — ожило переговорное устройство.
— Не знаю. Но я знаю, где она расположена. Я был тут семь лет назад.
— В какой подъезд? — спросил жестяной голос охранника.
— В подъезд с виноградной лозой.
Дверь открылась. Я пошел вдоль дома… Ну конечно, вот она, эта могучая виноградная лоза, уцепившаяся за балкон Муртузали…
Я спохватился, что надо бы купить конфеты к чаю и жвачку, чтоб «зажевать» пиво. В глубине двора я заметил будку охранника и пошел к нему, чтоб он опять открыл мне калитку. Охранник, стоя на коленях, отвешивал поклоны, совершая намаз. Я не стал его беспокоить и тихо вышел через приоткрытые ворота сбоку, которые прежде не заметил. Потом купил в гастрономе Dirol-ice и коробку шоколадных конфет. Запомнилось, как какая-то юная девушка в хиджабе, скорее всего, студентка, незаметно уступила очередь сначала мне, потом еще какой-то паре, хотя сама она уже давно могла бы подойти к кассе. Кажется, она стремилась показать всем, как обычная нервозная обстановка в гастрономе в конце рабочего дня может быть превращена во что-то совсем иное… Она пыталась изменить мир к лучшему, эта девочка.
Потом мы увиделись с Муртузали. Он посолиднел. Да и квартиру, в которой я когда-то, вернувшись из Дербента, провел добрые сутки, узнать было нельзя: она вся была перестроена и уже не походила на скромное жилище молодого ученого-романтика. Все было солидно и уютнейшим образом отделано. Муртузали пригласил меня к себе в кабинет, его жена принесла чай и конфеты, Муртузали скачал мне на флэшку несколько своих статей о дербентской стене. Но разговора, которого я хотел — о Дербенте, о христианстве Кавказской Албании, о суфизме (помнится, эту тему мы не без пыла обсуждали), — не получилось. Только потом я узнал, что в Дагестане сторонники фундаменталистского ислама стараются вытеснить суфизм как учение, слишком вольно относящееся к догматам писания. Убийство суфийских шейхов на Северном Кавказе — явление обычное. Поэтому молчание Муртузали объяснимо: он даже в стенах своей квартиры не хотел говорить на опасные темы. Так что мы попили чаю, поговорили о том, о сем, и я откланялся.
На обратной дороге таксист сказал, что сегодня, в связи с приездом министра внутренних дел, было два взрыва: утром подорвался смертник, который нес целую сумку взрывчатки в отделение милиции. Он был «вычислен» таксистами и в результате взорвал сам себя. А вечером был отработан классический вариант: припаркованный автомобиль, взрывчатка в багажнике… Кажется, никто не пострадал…
Вернувшись в отель, я первым делом завернул в пивной бар и не спеша вкатил в себя две кружки пива. Своими взрывами этот город определенно разводил мне мозги в разные стороны. Хотелось свести их воедино. Потом, перед сном уже, раскрыл книжку сценариев Алексея Германа, которую прихватил с собой: «Повесть о храбром Хочбаре». По мотивам поэмы Расула Гамзатова — самого известного дагестанского поэта, сложившего целую былину о благородном разбойнике Хочбаре, потрясавшем ханства и нуцальства…
Расул Гамзатов — гордость Дагестана — тоже родом из-под Хунзаха. Одно название его поэмы — уже высокая поэзия: «Сказание о Хочбаре, уздене 81 из аула Гидатль, о хунзахском нуцале и его дочери Саадат». Фильм, снятый по этому сценарию, я не видел. Но текст сценария перечитывал не в первый раз: «Коней они положили за каменистым гребнем, сами еще немного поползли, прежде, чем увидели внизу Хунзах. И долго лежали так, пока смеркалось, глядели, как погнали скот, как старик провел в поводу коня, как прошли в длинных шубах сторожевые посты к въезду на площадь и к нуцальскому дворцу, как почему-то во дворе дворца забегали женщины, как сам нуцал в белой папахе о чем-то говорил со странным человеком в сапогах с отворотами и рыжей накидке.
Гула, скаля белые зубы, взял уздечку, Лекав поил изо рта белого петуха с обмотанным ниткой клювом, Хочбар дремал и резко проснулся, будто кто-то сказал «пора»…»
Книга выпала из рук, торопя неизвестное завтра. Я вздрогнул, полусонным движением выключил свет. И вдруг сноп рыжего пламени полыхнул прямо в глаза: это храбрый Хочбар, обманутый всеми, безнадежно преданный, приговоренный к смерти на костре, хватает сына своего обидчика, нуцала, и вместе с ним бросается в огонь…
V. ХУНЗАХ
В девять утра Шамиль высадил меня на автовокзале: тут было множество людей, явно не городских, с ящиками, тюками, канистрами и коробками, в которых попискивали цыплята. Женщины были одеты примерно так же, как одевались наши деревенские бабы лет сорок назад, когда деревни в средней полосе России еще не вымерли: платок, теплая безрукавка-«душегрейка», юбка из дешевого материала. Элегантность одежды была здесь незнакомым понятием. На мужчинах были, как правило, не новые и порядком помятые фабричные костюмы разных оттенков серого сукна; молодежь одевалась в стиле Adidas, разве что вместо Adidas было написано Russia.
Автовокзал напоминал автостанцию в российской провинции, тем более что многие дагестанцы очень похожи на русских: русые, рыжие, курносые, сероглазые и голубоглазые среди них не редкость, так что если поставить рядом «типичного аварца» и «типичного русского» — то не всегда можно будет отличить одного от другого.
Мы быстро разыскали маршрутку на Хунзах: как и все маршрутные такси советского еще времени, это был аппарат, потрепанный сверх всякой меры. Но никого это не смущало. Я нашел одиночное место и пристроился там. Для отправления не хватало двух пассажиров. Ждать пришлось довольно долго. Забилась где-то рядом в эпилепсии женщина, оглашая воздух сумасшедшими криками, люди из маршруток выскакивали смотреть, появлялись и вновь уходили женщины из дальних селений, принося и укладывая в салоне или за задними сиденьями все новые и новые ящики и мешки, которые везли они в горы. Потом пришел какой-то мужик, уселся впереди меня, и я было подумал, что вот, сейчас поедем. Но шофер выждал до последнего. В конце концов в начале одиннадцатого мы все-таки отправились. Плохо помню дорогу по предгорьям: в одном только месте, где маршрутка заправлялась бензином из старой и потертой, как и всё здесь, бензоколонки, все пассажиры высыпали на воздух. Кто покурить, кто просто размять ноги. Я увидел нескольких парней, сидящих на краю обрыва. Там, внизу, текла меж камней река. Но не река привлекала их внимание. Я стал вглядываться. Заметил глубокую нишу в сером склоне горы, рассеченной рекою, и в ней — двух мелкорослых аварских коров, прячущихся в тени от солнца. Ниша была из отвердевшей серой глины, бесплодной, как цемент. Однако коровы медленно пережевывали что-то. Что? Я отыскал взглядом несколько пучков травы вдоль реки…
— Да не туда ты смотришь, — вдруг обратился ко мне один из парней и сказал несколько слов на непонятном языке.
— Извини, я по-аварски не понимаю…
— Да вон, вон, гляди, — ткнул он в пространство рукой, снова переходя на русский. — Эти камни — видишь? Эта гора сама их рожает…
Я увидел здоровенные, диаметром в метр, шары, похожие на древние, покрытые запекшейся коричневой ржой пушечные ядра. Два или три уже лежали на дне ущелья посреди водного потока. Еще несколько словно бы выдавливались колоссальной массой горы из ее глубин наружу: один шар больше чем наполовину торчал из стенки обрыва, как голова младенца из материнского лона.
О, господи! Не было сомнения, что это, как говорят геологи, конкреции, подобные тем, что я видел на восточном берегу Каспия — залегающие в толще глин «сгустки» тяжелого шпата, роговика, кварца или кремня. Их странная круглая форма объясняется длительным «катанием» однородных по удельному весу сгустков по дну моря… И странным было только то, пожалуй, сколь обширно было это дно! На Бакубайских ярах под Оренбургом и в восьмистах километрах от них на Мангышлаке, и вот теперь еще по другую сторону Каспия, в горах Дагестана (а это еще 400 километров на запад), я оказывался свидетелем одних и тех же геологических превращений…
Неожиданно зазвонил мой мобильник. Звонил Гамзат из Хунзаха, спрашивал, куда мы запропастились. Я сказал, что мы стоим на перекуре возле бензоколонки.
— А, ну скоро приедете, — сказал Гамзат.
Поднялись в горы. Вика сказала, что Дагестан для нее — это горы. Если помните, буквально: «Потрясающе красивые горы». Не знаю, что на это сказать. Это были самые бесприютные горы, которые я когда-либо видел. Толщи известняка были смяты или вздыблены наподобие застывших морских волн. Голые желтые, белые, иногда серые, крошащиеся (вместе с дорогой) сланцы и известняки — и при этом ни одного дерева, ни кусточка, ни даже травы… Нет, трава, конечно, была, но издали она походила скорее на пятна лишайника, то тут, то там прикипевшего к голому камню…
Чем же жили и живут тут люди? — оторопело подумал я.
Словно в ответ на мой вопрос ниже бесплодных гребней обнаружились небольшие участки, пригодные для хозяйствования: на крошечных, кропотливо ухоженных террасках умещался то садик, то посев кукурузы… И все-таки чтобы выжить — этого было мало.
Время шло.
Водитель включил бесконечный индийский фильм. Впрочем, скорее пакистанский: во всяком случае, в нем разыгрывалась какая-то мусульманская мелодрама. Понимая, что горы уже не выпустят меня, я погрузился в этот фильм, как в сон.
Прошло еще часа два. Фильм закончился. Где мы были и по каким дорогам ездили, я не знаю. Возможно, мы заехали даже в Ботлих, потому что мы не раз сворачивали с трассы и объехали немало далеких селений. Как правило, маршрутка останавливалась возле поджидающей у остановки машины, женщины выгружали свои мешки и ящики, мужчина выходил из машины, загружал их в багажник, а мы возвращались на трассу и маршрутка вновь начинала накручивать километры на свои лысые покрышки.
Гамзат позвонил опять и сказал, что это нереально — ехать так долго. По-моему, он всерьез стал опасаться, что я сел не на ту маршрутку и уехал в неизвестном направлении.
На очередной остановке я спросил у двух женщин, оставшихся в кабине, скоро ли будет Хунзах.
— Да, — ответили они. — Теперь скоро.
Потом мы выехали на разбитый колесами пятачок плоской земли и остановились. Я ожидал увидеть улицы, площадь, может быть, даже центр городка с исторической мечетью, в которой Хаджи-Мурат убил Гамзат-бека — но ничего такого не было. Посреди долины, продуваемой студеным ветром, был какой-то дом, вагончик, оперившийся военными антеннами, огромный черный джип и под стать ему два мужчины.
— Ну, наконец-то, — улыбнулся один, огромного роста, и представился. — Гамзат.
— Василий.
Другой поражал не ростом, а крепостью. Он был весь круглый, как бочонок, и ноги, и руки, даже ладони были налитые, круглые, круглая голова переходила в могучие плечи. Это и был брат главы местной администрации — Магомет, если только я правильно запомнил.
— С дороги, наверно, отобедаем?
Я посмотрел на часы: было около четырех.
— Да, неплохо бы…
Мы отправились к невзрачному двухэтажному зданию, по дороге заглянув в вагончик, накрытый маскировочной сеткой.
— Это наша погранзастава, — сказал Гамзат. — У меня тут жена работает.
Выглянула женщина, улыбнулась.
Помню, я спросил:
— А где Хунзах?
Они указали на светлеющее вдалеке на склоне горы селение.
И всё.
Больше мы его никогда не видели.
Внутри здания было тепло, пахло мясным паром.
Нам принесли бутылку коньяка.
Пить я отказался. Это вызвало у моих кунаков недоумение, граничащее с обидой.
— Я не могу пить, когда работаю, — твердым голосом сказал я.
— А как другие могут? — поинтересовался Гамзат, сдвигая стаканы для розлива.
— Стойте! Подождите! — вскричал я. — Давайте все-таки что-нибудь полегче. Бутылку пива, например.
— Пива?
— Да.
— Мадина, принеси пива! — крикнул Гамзат официантке.
Мадина принесла пива.
И мы выпили за нашу встречу.
Когда я допил бутылку, Гамзат сказал: вот эта первая. Она была за наше знакомство. Но нужна вторая.
— Нет, — сказал я.
— За Аварию.
В таких случаях как-то неудобно сказать «нет», как будто правда речь идет об Аварии, а не о том, пить тебе или не пить. И поэтому ты не говоришь «нет». И я не сказал.
— Еще пива, Мадина!
Помню, пили пиво, коньяк, ели «аварский хинкал» — толстые ромбовидные куски вареного теста — и баранину с костей. Я еще тогда подумал: а суровая тут жизнь, на верхотуре. Разносолов никаких. Что там нуцал, хан Хунзахский, чем мог он себя побаловать?
Куском мяса да вареным тестом из пшеничной муки. Но чтобы сделать муку, надо много зерна — а где его тут возьмешь? И я так прямо и спросил: откуда тут пшеница? Мука откуда?
— Хинкал вообще-то бывает бобовый и кукурузный, — спокойно пояснил Гамзат.
Я думал, что теперь, наконец, мы поедем в Хунзах. Но получилось иначе. Выйдя из столовой, мы снова сели в джип, и тут я ощутил под ногами такое количество перекатывающихся по дну автомобиля бутылок пива, что мне стало не по себе.
— Ну что, поедем на «край света?» — бодро предложил Гамзат.
— А что это?
— Увидишь.
Мы сорвались с места и как ужаленные ударились по дороге в противоположную от Хунзаха сторону. По крайней мере, сначала. Справа тянулся ряд унылых серых голых холмов, похожих на неотформованные заготовки для шляп. Холодный ветер свистел в выцветших прошлогодних травах: сюда, в горы, еще не добралась весна. Я заметил старое кладбище. Попросил притормозить. Несколько странных склепов. Один напоминал сложенную из нетесаных камней коническую ступу с навершием, примерно в человеческий рост. Из-за желтого лишайника, прикипевшего к серым камням, надмогильный памятник казался таким древним, что я невольно спросил:
— Что это?
— Не знаю, — поежился Гамзат, тоже вылезая из машины. — Наверно, могила какого-нибудь шейха 82.
— А это похоже на крест…
— Ну, я не специалист…
Простые мусульманские могилы заметны были только потому, что в изголовье каждой стоял плоский, тоже заляпанный пятнами желтого и серого лишайника камень. Густо засеяла смерть эти поля, почти до самых холмов. И торчащих из земли камней было так много, что они казались явлением природы, какой-то вздыбившейся каменной чешуей. Внезапно ясность сознания вернулась ко мне: ледяной ветер с той стороны долины трезвил, продирал до костей. Низко, цепляясь за вершины, тянулись тяжелые снежные тучи. Напротив горный склон был покрыт пятнами снега. А за ним — высились беспощадные, покрытые ледниками зубцы Большого Кавказа, на горах которого шаманит вечный холод, насылая ветры, собирая тучи…
Потом небольшой дом, лощина, в которой были укрыты от ветра десятка два плодовых деревьев. Куры что-то выклевывали из мусорной кучи. Чуть дальше — старый-престарый, советских времен, трактор «Беларусь», несколько распаханных до самых холмов участков земли, вывезенные на поля кучи коровьего навоза: их надо запахать в землю, чтоб плодоносила. Коровенки тут мелкие, рыжие, до брюха грязные по весеннему времени. Вот: уже пощипывают первую проклюнувшуюся траву.
— Крупного рогатого скота у нас мало, — вступил в права гида Гамзат. — В основном овцы.
Аварские коровы, которых Гамзат назвал «крупным рогатым скотом», едва ли будут размером с годовалую телку. Но зато они свободно проходят по таким тропкам и взбираются на такие кручи, где любая нормальная корова не устояла бы под своей тяжестью и мгновенно оборвалась бы в пропасть.
Потом влево по целине, усеянной крупными и мелкими камнями, с гибельным восторгом мы понеслись к месту, где плато отвесно обрывается вниз. Магомет, если только я правильно запомнил, тормознул машину в полуметре от обрыва. Так вот он, «край света»! Я нашарил бутылку пива и сделал несколько успокоительных глотков.
Выйдя на воздух и подойдя к краю, я понял, что в развлечениях такого рода мы не одиноки: чуть дальше у обрыва стояла еще машина, и люди возле нее тоже что-то выпивали, а количество разбитого стекла внизу ясно указывало на то, что экстатический бросок бутылки в пропасть и есть самое важное действие, самое острое переживание, которым человек ставит победную точку в своей завуалированной игре со смертью.
— Красиво? — сказал Гамзат.
— Да-а… — согласился я. Вдалеке, на краю утеса, стоял храм — по-видимому, древний, христианский и в настоящее время заброшенный. Напротив была другая гора, по ней белой ниткой тянулась дорога, которой я приехал. Сыпучие белые известковые склоны, покрытые пятнами зелени и раскровавленными выходами красной глины, были красивы, как абстрактная живопись.
Вновь остановка у края очередной пропасти. Отсюда открывается вид на все хунзахское плато: оказывается, на нем не одно селение, а минимум пять. И из каждого вышли поэты, спортсмены, летчики-испытатели, испытатели космического оборудования… Я понимал, что всех этих вещей мне не упомнить, и достал из рюкзака диктофон:
— А из какого аула был Хаджи-Мурат?
— А ты знаешь Хаджи-Мурата?
— Ну конечно…
— Ну вот, оттуда, с Тульской области, приезжал Геннадий Николаевич, из Пирогово 83, искать камень для памятника Хаджи-Мурату… Неделю мы с ним пьянствовали, пока камень выбирали. У нас тут хорошая дружба завязалась… Ну вот… На склоне глыбу нашли, вытащили оттуда лебедкой, а потом парень один хороший, из местной строительной организации, взялся, говорит: «я этот камень доброшу до Тулы» — и дотащил… Сдержал слово…
— Я на открытии этого памятника был…
— И я был…
— Вот странно — тогда не познакомились…
— Ничего. Я тебе покажу. У нас на сайте видео есть…
Было еще не поздно, но солнце уже клонилось к земле. Мы тронулись было на Хунзах, но доехали только до водопадов, откуда было видно приземистую Хунзахскую крепость, выстроенную после Кавказской войны. По счастью, дым сраженья ни разу не окутывал ее. Одержав нелегкую победу над Шамилем, царское правительство стало проводить на Кавказе очень сдержанную и продуманную политику, в которой сила была, пожалуй, последним аргументом. До 1899 года в Дагестане и Чечне действовало так называемое народно-военное управление: сохранялись сельские общины (джамааты), которым принадлежало право суда по шариату или по обычаю. Были сохранены заведенные еще Шамилем наибства (области), управляемые исключительно местными наибами, назначаемыми с одобрения царской администрации, что позволяло русской власти лишь в крайних случаях вмешиваться в решение серьезных местных вопросов…
Я старался.
Я мыслил и, следовательно, существовал.
Я держался за действительность, как слепой за веревку, шаг за шагом продвигаясь вперед.
Но сколько бы я ни крепился, каждая вспышка взаимных чувств, каждое слияние наше в крепнущей дружбе приближали меня к неизбежному концу.
Последний бросок мы совершили в каньон Аварского Койсу, откуда раскрывалась панорама Главного Кавказского хребта. Будто расплавленное олово, разделившись на два или три рукава, сверкающая на солнце река уходила за поворот в каньон, где уже сгущались черные тени вечера — и как будто исчезала из виду.
— Снимай! — закричал Гамзат.
— Не могу против солнца!
— А-а-а!!! — от полноты чувств закричал Гамзат.
После осмотра каньона программа была, по сути, исчерпана. Оставался Хунзах. Я был в порядке. Все я делал правильно: сменил батарейки в фотоаппарате, проверил его, сел в машину, достал из рюкзака диктофон…
Я думал, что победила моя воля.
Но победила дружба.
Потому что когда я потом прослушал запись, сделанную в машине, оказалось, что девяносто процентов времени занимает рокот машины и наши голоса, не относящиеся к делу. Потом опять звук мотора и обрывки фраз. Думаю, у меня в мозгу сбился алгоритм нажатия кнопки «запись». Когда надо было записывать, я выключал диктофон. А когда нужно было нажать на «стоп» — я, напротив, нажимал «запись».
И все же кое-какую информацию удалось выудить:
— А почему Расул Гамзатов пишет — «уздень»?.. (обрыв) «… Он вшивый вор…» (обрыв).
Снова Гамзат, громко:
— Василий! Это мой двоюродный брат. Он — начальник лаборатории, которая разводит грызуны… Разводит? Исследует… Он силен в истории. Пусть скажет. Саид, давай!
Незнакомый мужской голос. Видимо, Саид:
— Старики говорят, что был в старину в Хунзахе только один Хочбар, но он был вшивый вор…
Я осознал вдруг, что ни поэма Гамзатова, ни фильм Германа не нравятся моим собеседникам. Авторская фантазия, разыгравшая образ Хочбара в героическом и романтическом ключе, совершенно не вдохновляла местных уроженцев, которые видели во всей истории о «храбром Хочбаре» только принципиальную недостоверность, которая хуже, чем незнание, хуже чем неправда. Это выдумка, нарочитая ложь.
— Вот, ты пойми, — для убедительности привёл последний аргумент Гамзат. — Он там хватает в конце сына нуцала и бросается вместе с ним в огонь. Да?
— Да, — ответил я.
— Да кто б его подпустил к ханским детям, если он был вшивый вор?!
Удивительно, как по-разному мы, люди, умеем выстраивать системы аргументов. Меня совершенно не устраивал «вшивый вор», которым на поверку оказался настоящий Хочбар. Мне нужна была поэзия, Гамзату — правда. Но что поделаешь? Наше единство в том и заключается, что мы — разные. Все разные, но все — люди. Поэтому я верил, что в конце концов и мы с Гамзатом отыщем какое-то решение, которое устроит нас обоих.
Далее следовало бы поставить длинный прочерк — — — — — — — — — — —. Кусок действительности выпал из сознания, а потом мы сразу оказались в доме у Гамзата.
Хороший дом, одноэтажный. Стоит на отшибе. Своими руками построен. Могучий Гамзат молотом сам разбивал глыбы камня на осколки помельче, чтобы сложить стены. Хотелось перекусить, но жена Гамзата еще не пришла с погранзаставы, а он такие вопросы не решал. На терраске, в углу, где стояла обувь, я обнаружил три пары детских туфелек.
— Три дочери? — спросил я и угадал.
— А у меня две, — сказал я и на несколько мгновений это нас сблизило. Но вообще разговор не клеился. Я подумал, что если срочно не придумать что-нибудь, то опять придется пить, а больше — невозможно… Мне не выдержать гостеприимства Гамзата. И рано или поздно придется сказать ему об этом…
Но тут Гамзат тоже начал беспокоиться, звонить по мобильнику и чего-то ждать. Потом дозвонился, коротко поговорил по-аварски и вдруг сказал:
— Слушай, а что если мы не будем здесь до завтра задерживаться? Поедем в Кизляр, там пасека у одного мужика, надо бы ему улей отвезти. Завтра бы отдохнули, винца попили, рыбки хорошей поели…
Это спасло меня. И я сказал без промедления:
— Дельная мысль, только, может, до Кизляра я с вами не поеду, высадите меня в Махачкале. Высадите у гостиницы!
Гамзат кивнул.
Он снова позвонил.
И все устроилось.
И через час вместе с ульем, на машине какого-то незнакомого мужика, мы оттуда уехали.
Это было самое сильное мое, самое заветное мое желание: каким-то образом исчезнуть из Хунзаха и проснуться завтра утром в своем номере в гостинице.
И оно сбылось! Видимо, это и было то единственное решение, которое для нас обоих было подходящим.
Той же ночью машина притормозила, едва не проскочив мимо, у отеля «Петровскъ», я вылез из нее, не слишком-то ясно, как будто, осознавая себя, в баре подбил до круглого счет, опрокинув последнюю кружку…
Что удивительно? Я с самого начала стремился в Хунзах, но все-таки туда не попал. Разумеется, теперь я понимаю, что ни Гамзат, ни Магомет, если только я правильно запомнил, не хотели лишний раз светиться в Хунзахе пьяные, с подвыпившим к тому же кунаком. Но потом я вспомнил Азербайджан, Казахстан и все другие командировки, где я вызывал действительность на «контакт». И никогда это, по разным причинам, с первого раза не удавалось. За встречу с действительностью требовалась обычно плата посолиднее. Так что мне, можно сказать, на этот раз повезло. Я легко отделался. И в первый раз заглянув за ширму Махачкалы, зачерпнул горсть черствой горной земли. Горсть образов. Так что, видимо, так неправдоподобно долго ехал я в Хунзах именно за этим…
VI. ПОЛИТИКА
А поутру они, естественно, проснулись.
Вы спросите: кто это — они? Ну, я проснулся, он проснулся, мы проснулись. И сразу поняли, что у кого-то из нас адски болит голова. Болела она у обоих.
В общем, я использовал весь арсенал средств, имевшихся у меня на такой вот крайний случай. Полежал четверть часа. И постепенно перестал ощущать себя расколотым на две половинки. Выпил чаю. И после чая ясно осознал, что в этот день спасти меня может только одно: море. Море излечит все раны.
Тем более что день предстоял непростой.
Али при первой встрече дал мне приглашение на конгресс интеллигенции Дагестана. И на него надо бы было сходить. Потому что я хотел понять. Понять хоть что-нибудь из того, что происходит в республике.
Я спустился вниз и с трудом съел половину завтрака. Потом вышел на улицу и поймал такси.
За рулем сидел парень лет двадцати.
— Вам куда?
— А где у вас здесь купаются? На городской пляж.
— А, — сказал он. — Понял. Давно в Махачкале?
— Третий день.
— А я тоже только два дня, как с Алтая приехал, — похвастался он.
— Что делал на Алтае?
— Дяде помогал.
— А дядя чем занимается?
— Предвыборную кампанию делает. Там есть город — Рубцовск. И два кандидата на пост мэра…
Я почувствовал, что меня сейчас стошнит.
Но мы, по счастью, приехали. Я расплатился и стал спускаться к морю по улочкам сохранившейся старой части города. Обладающие своеобразной выразительностью довоенные двух-трехэтажные дома лепились друг к другу, образуя до некоторой степени живописное единство. Арки, дворы, жизнь дворов, выстиранное белье на веревках, детские и женские голоса, потом — площадь, собравшаяся вокруг здания аварского театра, пустынная в этот утренний час. Сразу за этим кварталом начиналась обычная махачкалинская россыпь зданий — по левую руку высилось несколько хороших, только что отстроенных 20‐этажных жилых домов, из переулка выглядывал, как штабель красного кирпича, какой-то банк, а поверх всех крыш торчали излюбленные генеральным архитектором города, тонированные темным стеклом здания цилиндрической формы.
Я спустился по улице вниз, вышел к железной дороге и увидел море.
Пляж был почти пуст. Это был очень провинциальный пляж, что и составляло главное его очарование. Несколько кабинок для переодевания, лежащие на песке доски для виндсерфинга, старая, увешанная цветочными горшками, много раз крашеная белым, и все равно готовая вот-вот снова ошелушиться спасательная станция с надписью «Медпункт»; полосатый тент над нею, увитая зеленью лестница на открытую веранду второго этажа… Позади, на променаде — несколько скамеек, брусья и перекладина для физических упражнений, возле которой топталось трое голых по пояс ребят. Они по очереди подтягивались, легко делали «подъем с переворотом» и все, как один, завершали произвольную программу, делая «выход силой». Это трудное упражнение, для которого действительно нужна сила и отличная координация движений. Когда я учился в школе, у нас в классе такое мог делать только один парень. Он был невысокого роста, но весь состоял из мускулов. И эти трое тоже состояли из мускулов.
По плотному песку у кромки моря издалека приближался бегущий мужчина. Пока я снимал с себя одежду, первый пробежал, появился второй. Далеко за ним поспевал третий. Еще там-сям по берегу, метрах в ста от меня и друг от друга сидело несколько женщин с детьми. Солнышко уже хорошо грело, но в море, в голубом прозрачном море еще холодно было купаться. Я не дал себе времени на раздумья. Плавки надел еще в гостинице. Разбежавшись, бросился в воду, предчувствуя, как сожмет меня, словно тисками, плотная ледяная морская вода. Я ждал чего угодно, но… Понимаете, я даже не почувствовал холода: такое это море было легкое. Слишком легкое, слишком жидкое, я почти не ощущал его… В общем, я секунд тридцать барахтался в эфире этого моря: ни соли, ни запаха йодистых водорослей…
И все же море меня освежило.
В 14.29 я был у здания физфака Дагестанского государственного университета. Оставалось пройти сквер перед корпусом, чтобы успеть вовремя. Я чуть-чуть наддал ходу, как вдруг властный голос крикнул:
— Перейдите на другую аллею!
Передо мной стоял человек в гладком сером костюме, держа наизготовку автомат.
Еще несколько таких же толпились и у входа в университет.
Внутри двое в камуфляже пропустили меня через «рамку» и с бесстрастной тщательностью проверили содержимое рюкзака.
Я понял, что ждут президента.
Перед аудиторией обыскали еще раз.
Точно президента.
Актовый зал поднимался амфитеатром вверх, внизу, на подиуме, сидели почетные председатели. Пара-тройка телекамер. Фотографы. Все уже на местах. К сожалению, не вижу ни Али, ни Сулиету. Протискиваюсь на единственное, словно специально для меня оставленное место. Оглядываю лица: они какие-то снулые. Четкое ощущение, что ничего нового от этого собрания «интеллигенция» не ждет, что все, в общем, прекрасно знают, как это было, бывает и будет впредь.
Появление президента, молодого, энергичного, элегантного Магомедсалама Магомедова, вызвало что-то вроде воодушевления. Зал (хотя и не все) поднялся для аплодисментов. Ректор университета предложил президенту 84 открыть собрание, что тот и сделал, выступив с зажигательной и не в меру, быть может, оптимистической речью.
«Амбициозная экономическая стратегия», «высокое качество жизни», «модернизация должна стать стержнем нашей идеологии», «преодолеть сумятицу в мыслях и в ценностных ориентациях», — бодро начал президент.
Собрание выслушало, но не отреагировало.
«…Прорывные социально-экономические проекты, которые определяют будущее республики, могут быть реализованы только высококлассными и компетентными специалистами. Уже сегодня нам нужно готовить кадры, которые потребуются через несколько лет и которые смогут уже работать в новых условиях… Конечно, здесь нельзя избежать такой темы, как коррупция в системе образования…»
Сколь бы ни была зажигательна речь президента, двум стариканам рядом со мной она в этом месте уже наскучила, и они принялись переговариваться между собой, мешая слушать.
«…Духовная сплоченность, единство и устремленность в будущее — таков должен быть наш ответ и на вызовы террористов, и на все наши современные вызовы и угрозы!» — почти прокричал президент, но шушуканье в зале нарастало.
Зато конец выступления утонул в громоподобной овации.
После этого остальным выступающим было предложено укладываться в регламент пять—семь минут, но решительно никому это не удалось. Пять, а то и все семь минут выступающие, в зависимости от возраста и чина, уделяли хвалам в адрес президента. Несколько выступлений были по-хорошему искренни, некоторые даже глубоки — было видно, что многие ждали этого собрания, чтобы высказать наболевшее: кто-то хорошо сказал про «полуправду», которая совершенно извратила понимание истинных процессов в обществе; кто-то призвал интеллигенцию проснуться, опомниться, увидеть, наконец, в каком состоянии республика, и, как говорил Солженицын, «жить не по лжи».
Но чем дальше говорили ораторы, тем равнодушнее становился зал, и в конце, когда надо было выбрать наиболее авторитетных «представителей интеллигенции» в правление конгресса — решено было голосовать кандидатуры «списком», а резолюцию, загодя подготовленную, естественно, «принять за основу». Я вспомнил открытые партийные собрания советской поры и подумал, что ничего не изменилось…
На улице я внезапно столкнулся с Али и Сулиетой.
— Так вы там были? И как вам? — поинтересовался я.
— Это просто позор! — бурно отреагировала Сулиета. — В какой-то момент я даже хотела… — Но не уточнив, что именно, сама обратилась ко мне:
— А как ваш Хунзах? Вы повидались с Алибеком — главным знатоком старины?
— Нет, — уклончиво ответил я. Ну не мог же я сказать, что мы пьяные носились на джипе, но в Хунзах так и не попали?
— Жаль, — сказала Сулиета. — С Алибеком стоило встретиться. В свое время он мне рассказал историю, которая в какой-то мере характеризует кавказскую ментальность. Вам интересно?
— Да, — ответил я.
— Хаджи-Мурат собрал своих нукеров на площади Хунзаха и, гарцуя среди них, вдруг заметил одного молодого парня, который тоже въезжал на площадь, чтобы присоединиться к остальным. «А-а, здравствуй, сын красивой вдовы!» — громко произнес Хаджи-Мурат. Сказанное обидело парня. Тут нужно понимать сознание горца. Хаджи-Мурат назвал его «сыном вдовы» и тем самым принизил его статус, ибо тот ехал на площадь как воин, а не как «сын», и чувствовал себя не хуже остальных. Он назвал его к тому же «сыном красивой вдовы» — а это значило, что он обратил внимание на его мать, запомнил, что она красива — и к тому же вдова… Это было уже оскорбление матери. В пяти словах — столько скрытого смысла! Реакция сына была мгновенна: он выхватил пистолет и выстрелил в Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат успел обернуться под животом лошади, и когда пуля расплющилась о стену за его спиной — он уже вновь сидел в седле. Он ждал такой реакции парня. И все, что он сказал, он сказал, провоцируя его на выстрел. Тогда Хаджи-Мурат сказал: «Ты хорошо стреляешь. Ты славный воин». А теперь, — улыбнулась Сулиета, — ответь: чего он добивался? Показывал свою удаль? Или хотел, чтобы парень проявил себя как воин, чтобы похвалить его?
Я промолчал, чувствуя глухой стыд за то, что так и не попал в Хунзах.
— Нас ждет машина, вы поедете? — спросила Сулиета.
— Нет, поброжу немного по центру, — отказался я, не желая дальнейших расспросов о Хунзахе.
— В семь приходи ко мне, — сказал Али. — Будет один человек, с которым завтра вы поедете в Гуниб. Я хочу тебя познакомить.
Я пошел гулять, разглядывая витрины и читая вывески. Махачкала как город представляет собой довольно-таки беспомощную россыпь зданий: градостроительная твердь нащупывается лишь в административном центре, но он заблокирован бетонными плитами и постами милиции, как будто формирования «лесных» могут взять правительственные здания штурмом. Туда никто и не ходит. Кое-какая упругость планировки чувствуется и в квартале близ университета: во всяком случае, площадь перед главным зданием не случайна, к месту и расположенный рядом парк… Но стоит оторваться от этого едва начавшего формироваться скелета, как город разбегается рукавами улиц в направлениях, сложившихся стихийно и столь же стихийно застроенных. К большим и дорогим магазинам могут присоседиться наскоро и кое-как слепленные из кирпича лавчонки, укрывающие какие-нибудь «Канцтовары», «Фото с телефона» и «Ремонт» (по-видимому, телефонов же); пафосная вывеска «Золото России» соседствует с растяжкой «Джинсовый мир». Интернет-кафе DELTA встроено в ряд современных трех-четырехэтажных красиво подсвеченных домов, но дальше опять начинается какая-то самодеятельная лепнина: салоны связи, ювелирные мастерские, где заодно меняют валюту, магазины обуви, одежды и во главе всего — салоны красоты. Их невообразимое количество: «Лилия», «Технология красоты», Gloria star — как будто в естественном облике дагестанских женщин что-то требует немедленного исправления. Здесь вам сделают тату, увеличат объем губ, нарастят ресницы, «подкорректируют» глаза, нос и уши, придадут облик современной сексапильной женщины. Кстати, о женщинах. Половина из них была в платках и длинных платьях, половина — с непокрытой головой, в какой-нибудь кожаной куртке, водолазке, укороченной юбке и со старательно взбитыми на голове волосами. Так же и среди мужчин: на одного парня в зеленой мусульманской шапочке с характерной окладистой бородкой ваххабита нашелся один рокер на красном мотоцикле в кожаной куртке и кожаных штанах. Я встречал пары подруг (одна — мусульманка, другая — девушка «современного типа»), которые, прогуливаясь, явно состязались в том, кто из них произведет на мужчин большее впечатление…
«…Короткая юбка, сигареты, ночной клуб — этого дагестанский мужчина не потерпит…»
«…Скупой мужчина — вот чего не потерпит дагестанская женщина…»
Культурный раскол в дагестанском обществе очевиден: в манере одеваться, в поведении в компании и в семье, в наличии или отсутствии денег. Традиционное общество, как, впрочем, и общество советское, почти не требовало денег, ибо не знало соблазна. Теперь соблазн появился: тюнингованные автомобили, дворцы на взморье, элитная одежда, мебель, услуги… Общество невероятно расслоено на очень богатых и безысходно бедных. Зарплаты в Дагестане смехотворные. Отсюда столько статей в журналах, обсуждающих вопросы отношения к деньгам: и, как просто понять, пишут их не для богатых. Как сохранить достоинство, не имея денег? — вот главный вопрос. Но не все умеют держать в узде свои желания… А некоторые и не хотят. Уже выросло поколение молодых людей, которое с болью и горечью пережило бедность своих умных и честных родителей и ни за что на свете не хочет повторить их судьбу. Так часто начинается история современного абрека 85, которая, как и положено, должна закончиться «в лесу»…
В конце своей прогулки я оказался на книжном развале у ЦУМа. Хотел купить свою мечту — русско-табасаранский словарь.
Я мечтал о нем с тех пор, как прочитал у Хлебникова:
Россия, хворая, капли донские пила
Устало в бреду.
Холод цыганский…
А я зачем-то бреду
Канта учить по-табасарански.
Мукденом и Калкою 86
Точно большими глазами
Алкаю, алкаю,
Смотрю и бреду,
По горам горя
Стукаю палкою.
Как и зачем в эту поэму о смертных днях России, в соль кровавых капель донских, в «цыганский холод» — втиснул поэт Канта и Табасаран? Одна строка — а ее не выдернешь из текста. В гражданскую Хлебников сам, зимуя в психбольнице города Харькова, перенес два тифа. В 1920‐м он через Дагестан пешим ходом откочевал в Баку — в Красную Армию, к солнцу. Отогреться. Земля, выжженная Гражданской войной, была бесплодна, как камень. И все же, будто припоминая жизнь до горячки, в которой прежняя Россия сгорела дотла, он вдруг произносит — Кант. И, чуткий на слово, из мира окружающих созвучий выуживает Табасаран — страну, одно сказочное имя которой звучит как надежда. Даже не на лучшее. Просто на что-то другое.
В книжных лавочках, расположившихся вокруг ЦУМа, были разные словари — аварский, лакский, даргинский — а табасаранского не было. В конце концов я купил «Словарь кавказских языков» для лингвистов. Многие слова в нем были записаны при помощи значков, обозначающих звуки, которые я не мог самостоятельно расшифровать. Но я постарался и выбрал из табасаранского языка начертания самые простые: мать — dada, отец — adaš, gaga; кровь — iwi; тайна — sir; барабан — daldabu. Моя мечта не подвела меня: это оказался звонкий, четкий, звучный язык. Член мужской — gurgur, холм — gunt, цапля — legleg. Вы заметили, какие отчетливые, удобные, устойчивые слова? Дело, может быть, в том, что в табасаранском языке 46 падежей и крайне неловко было бы запоминать падежные формы всякой невнятицы…
Али я нашел после долгих поисков на первом этаже Дома прессы возле бассейна с зеленоватой холодной водой. Тут же был стол под белой скатертью с легкими закусками и пивом. Наверху, над бассейном, сухо щелкали бильярдные шары. Пахло банным паром. Оказывается, Дом прессы скрывал в своих глубинах не только ресторан и гостиницу, но и банный комплекс!
Стены были отделаны речной галькой, в которую были вмурованы большие куски горного камня то желтоватого, то серого цвета.
— Играете в бильярд? — крикнул кто-то сверху.
— Наверно, все-таки нет, — сверился я со своим настроением.
— Но, наверно, ты не откажешься от кружки пива? — спросил Али и весело блеснул глазом. Я понял, что ему уже известно о наших вчерашних похождениях, и он, как человек, видавший всякие виды, по-доброму посмеивается надо мной.
— От пива — нет. — Я взял кружку и сделал большой глоток.
Я сделал большой глоток, и он впитался в мой язык, с самого утра осыпанный колким сухим пеплом.
Потом я сделал еще глоток, больше прежнего, и почувствовал, как влага наполняет жизнью и живостью мысли мой сморщенный, как сушеная груша, мозг. Не знаю, как мог я так долго крепиться. Как у меня хватило сил высидеть два часа на встрече президента с интеллигенцией.
Зато теперь я хотел прояснить возникшие вопросы.
— Али Ахмедович, — произнес я. — На встрече президент говорил об «амбициозной экономической стратегии», о «прорывных проектах»… Что он имел в виду?
— Этого я не знаю, — отозвался Али своим глухим голосом. — Он встречался с Путиным, а не я. Наверное, они выработали какую-то стратегию. Ты же слышал. Сделать Дагестан передовым, процветающим, с высоким уровнем жизни.
— За счет чего?
— Что «за счет чего»?
— За счет сельского хозяйства, за счет нефти, за счет рыболовства?
— Если мы начнем об этом говорить, мы сегодня не закончим, — сказал Али. — Если бы они имели в виду сельское хозяйство — это было бы спасение для Дагестана. Ты ел когда-нибудь лакскую морковку? Ну, когда ты попробуешь, ты поймешь… Но чтобы сделать сельское хозяйство товарным, нужно строить насосные станции для полива, нужна новая техника (я с пониманием закивал головой), нужны небольшие заводы по переработке мяса, овощей… Но, по-моему, они думают не об этом… Выдумывают какие-то пустые проекты, вроде строительства курортов — а это имеет отношение не к экономике, а к воровству денег из госбюджета. Какой дурак поедет сюда на курорт?
— А нефть? — спросил я. — В Дагестане не может не быть нефти. Нет такого места на Каспии, где нет нефти.
— Это ты расспроси у Ахмеда, когда завтра поедешь в Согратль, — отозвался Али. — Он специалист в этом вопросе.
— Но нефть есть?
— Очень немного. Чтобы разведать новые месторождения, нужно бурить на глубину шесть километров. Глубокие скважины. Это очень дорого. На Каспии есть нефть — но тут надо строить буровые на шельфе. Это тоже недешево.
— Ну, а сам Каспий? — не унимался я. — Рыбный промысел…
— Рыбный промысел еще с советских времен целиком в руках браконьеров. Прежде всего — милиции и погранцов. Ни один дагестанец не получает ни копейки с их прибылей…
В это время из парной вышли два человека в трусах и, аккуратно опустившись в зеленоватую холодную воду бассейна, одновременно блаженно вздохнули. Потом вылезли из воды и уселись на скамейку, чтобы немного передохнуть.
Один из них и оказался Ахмедом, который назавтра собирался ехать в Согратль, а потом в Гуниб. Слово «Согратль» слышал я не впервые. И хотя по звучанию оно было превосходно, в мой маршрут оно не было вписано, и я решил поинтересоваться:
— Мы, вроде бы, говорили о Гунибе, но выясняется, что мы едем еще и в Согратль…
— Какой смысл ехать в Гуниб, если не заехать в Согратль? — вопросом на вопрос ответил Али.
— А Согратль — что это?
— Согратль — это моя родина, — с мужской нежностью проговорил Али. — Вернее, наша родина. Ахмеда тоже. Единственное место на земле, где мне снятся сны. Вижу себя мальчиком. Мать вижу. В доме холодно, но надо вставать, бежать в школу, а я только жду, когда она подкинет хворост в печь, накину полушубок — и бегом к огню греться…
VII. СОГРАТЛЬ
Утром, когда я вышел к завтраку, двери всех номеров гостиницы были настежь открыты, горничные спешно меняли постельное белье. Дело в том, что в 12.00 в отель «Петровскъ» должна была вселиться футбольная команда «Кубань» из Краснодара — об этом я был предупрежден заранее и категорически. На сутки все постояльцы должны были покинуть гостиницу, чтобы столица республики могла, наконец, по-настоящему поболеть за свой футбольный клуб «Анжи», который хоть и не был сколько-нибудь заметной командой на мировом футбольном небосклоне, но зато был одной из самых дорогих команд в мире: каждый ее гол стоил миллионы, поскольку в «Анжи» на условиях, не имеющих аналогов, были приглашены звезды со всей планеты, ставшие в нищей республике самыми высокооплачиваемыми футболистами мира. За таким стремлением Дагестана продавить победу буквально любой ценой кроется, конечно… Впрочем, ясно без комментариев…
В 12.00 я был уже у Али, очень скоро позвонил Ахмед, сказал, что готов ехать, Шамиль подбросил меня до его дома, и мы, загрузив в багажник какую-то снедь и вещи, отправились. Ахмед был лет на десять, как мне показалось, старше меня. Большая голова с залысинами. Затемненные очки. Водолазка, тонкий джемпер с простым узором на груди, черные брюки, удобные полуботинки. Глядя на него, трудно было сказать, что это важный человек в нефтяном хозяйстве Дагестана. Что-то не вязалось в его облике с привычным обликом крупного чиновника. Ни малейшего надменства. Спокойное доброжелательство:
— Ты перекусил перед дорогой? Есть хлеб, вода. Хлеб интересует тебя?
Но меня интересовала все-таки нефть.
— Понимаешь, — пояснил Ахмед. — Со времен войны, когда здесь активно разрабатывали нефть для фронта, сохранилась устойчивая легенда — что тогда здесь были обнаружены огромные запасы нефти, причем первосортной, как говорят, «белой», которые Сталин приказал законсервировать как стратегический резерв, как только опасность прорыва немцев к нефтяным месторождениям Баку миновала. Но как всякая легенда и эта — только легенда. Нефть в Дагестане есть, и отличного качества, но ее немного. Настолько немного, что в свое время здесь не стали строить завод по переработке, мы отправляли нефть в Чечню. Когда началась чеченская война, перерабатывать стало негде и отрасль стала приходить в упадок. Тем более что старые скважины пусты, необходима разведка новых… Ну, вчера же Али рассказывал тебе?
— Да.
— Понимаешь, запасы могут оказаться и большими, но для разведки нужны деньги. Где мы их возьмем? Республика и так сидит на дотациях. В свое время Азербайджан, как только получил независимость, заключил с двенадцатью крупнейшими мировыми компаниями договор, по которому они вложили в добычу и разведку 38 миллиардов долларов. Это позволило Азербайджану разведать новые месторождения, начать добычу нефти на шельфе. Для нас это нереально. Непросто представить себе инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в республику, находящуюся, по сути, в состоянии необъявленной гражданской войны. Да и Москва никак не поймет, что ей делать: то ли «хватит кормить Кавказ», то ли принимать долгосрочные экономические программы…
Из всей этой речи больше всего меня поразили слова: «…в состоянии необъявленной гражданской войны…»
Не ожидал, что дело так серьезно.
Я думал, речь идет о нескольких сотнях партизан, нахватавшихся экстремистской фразеологии, и теперь превративших свое существование в бизнес. Вы спросите: как я себе это представляю? Я отвечу. Кавказ оплетен сейчас невероятным клубком интересов. Никогда еще нефтяные богатства Прикаспия не притягивали к себе такое количество стран: от Европы до Китая и, разумеется, США. Никогда еще противоборствующие интересы не были так непримиримы. Никогда еще на кону не было таких колоссальных ставок. Америка уже включила этот регион в зону своих «стратегических» и, соответственно, военных интересов. Она простодушно хочет ослабления и развала России. Для этого удобно использовать Саудовскую Аравию, интересы которой в области геополитики тоже очевидны: возрождение фундаменталистского ислама и создание халифата на территории Северного Кавказа. Сегодня те, кому это выгодно, звонят, например, сторонникам халифата и говорят: «Слушайте, правоверные, надо бы поджарить Россию с юга. В этом мы заодно». Америка будет заодно с кем угодно, когда речь идет о мировом господстве. И в Саудовской Аравии начинают готовить ребят, которые приехали туда поучиться в мусульманском университете. Но уже по особому курсу. А потом они обнаруживаются сначала в Чечне, потом в Дагестане и, оглядевшись, говорят местным парням: парни, хотите автомат и тысячу долларов?
Молодежь любит пострелять. Особенно если в глубине души затаилась обида. А тысяча долларов в Дагестане — это большие деньги. Вот, как я думал, все это устроено…
Со временем я понял, что и в Москве, и в самом Дагестане есть круги, предпочитающие решать все государственные вопросы силой. Их влияние велико, еще обширнее — тайные возможности. Вот почему в Дагестане так трудно разделить большую мировую политику, процессы внутреннего разлада и обычную провокацию.
Дорога свернула в горы. Один раз мы проехали блокпост на перекрестке — кое-как обложенный мешками с песком окоп, бронетранспортер, караулку…
Через некоторое время Ахмед произнес:
— Вот здесь чаще всего эти «лесные» и появляются…
Я поглядел на него: хорошая машина, при деньгах… Но Ахмед был абсолютно спокоен.
— А как вы сами, Ахмед, ко всему этому относитесь? — осторожно спросил я. — Я понимаю, безработица, отчаяние, ожесточение… Но убивать невиновных? Устраивать взрывы в метро?
Ахмед помрачнел.
— К исламу это не имеет никакого отношения, — наконец выговорил он. — В исламе даже думать о человеке плохо нельзя, не то что убивать…
Я запомнил эту фразу. Сказать такое мог только брат мой по духу. А не за тем ли я ехал сюда, чтобы отыскать подобное созвучие в мыслях и чувствах? И вот — в Дагестане это случилось впервые. И как прекрасно это прозвучало… Человек подобен Богу только в любви. На все остальное, а особенно на всякий суд и расправу, как показала история, способен любой «благодетель человечества». Бог для этого не нужен.
Потом мы останавливались два раза.
Первый раз на повороте дороги, откуда открывался широкий вид на горы. Ахмед открыл дверцу автомобиля, вышел, глубоко втянул носом воздух.
— Вот… — произнес он, делая неопределенный жест рукой. — Смотри: это наши горы. Даже запах другой. Чувствуешь, как смолой пахнет?
Горы, пожалуй, и вправду были другими. В отличие от тех, что я видел по дороге в Хунзах, они были не столь суровы: вершины уже не щерились острыми зубьями, по нижним склонам и в ущельях рос лес, кое-где по террасам, спускающимся к реке, были насажены сады… Неумолимый серый цвет уступил место пятнам желтого и зеленого, там-сям пенились зацветающие абрикосовые деревья…
Второй раз мы остановились возле небольшой гидроэлектростанции. Это была Гунибская ГЭС. Обычная гидростанция, построенная в узком каньоне Каракойсу. Ахмед попросил меня выйти. Я не охотник разглядывать объекты такого рода, тем более что технически она не представляла собой ровным счетом ничего примечательного. Не Красноярская ГЭС…
Тем не менее я вылез.
— Смотри, — указал на противоположный склон ущелья Ахмед. — Видишь, там набиты в камне тропинки? Уже стерлись, но еще можно разглядеть…
— Да, вижу, — сказал я.
По темно-серому твердому камню будто гвоздем были процарапаны едва заметные узкие тропки, поднимавшиеся, как казалось, от воды. Но на самом деле пробиты они были в те времена, когда вода в ущелье не стояла так высоко. Ведь никакой ГЭС не было и в помине. Видимо, поднимались с самого дна ущелья.
— Это тропы, по которым имам Шамиль проводил свои войска, — сказал Ахмед.
Тропки были столь узки, что невозможно было представить движение по ним армии. И там не менее. Теперь понятно, почему Шамиль внезапно объявлялся там, где его меньше всего ждали…
Архитектурным украшением плотины был рукотворный утес, на котором была начертана «молитва горца», и высокая башня, на которой была единственная надпись: «Андалал».
— Али просил, чтобы я рассказал тебе об Андалале, — сказал Ахмед. — Но лучше меня это сделает наш несравненный специалист… Магомед!
Нечто большее, чем уважение, было выражено этим восклицанием.
— За этим мы и едем в Согратль — бывшую столицу Андалала…
Я не удержался от расспросов. И так впервые узнал о горских «вольных обществах». Оказывается, помимо ханств, уцмийств и нуцальств в горном Дагестане существовало более шестидесяти вольных горских обществ, в которых власть никогда не принадлежала феодальной аристократии и правление избиралось демократическим способом. Я питаю особый интерес ко всем формам самоуправления народа, хотя и знаю, как они редки. Редки даже следы, даже память о них. Однако те формы самоуправления, которые существовали на Кавказе, были совсем «свежими». В Андалальское вольное горское общество входило тринадцать селений. От каждого селения избирался достойнейший из достойных — кандидат на должность кадия 87. Всего тринадцать человек. Потом составлялись группы выборщиков от каждого селения, которым представляли каждого кандидата: вот согратлинский представитель, вот его заслуги, вот свидетельства учености, вот, наконец, его слово… А это — представители из Чоха, из Гуниба… Выборщики терпеливо выслушивали, совещались и в конце концов избирали кадия. История распорядилась так, что все кадии Андалальского общества были из Согратля. Потому Согратль и считается столицей Андалала…
Я был потрясен. Теперь я понимал, почему непобедимым казался Шамиль, имея армию вольных стрелков, никогда не ведавших ни чужеземной, ни государственной власти над собой…
Слева в ущелье промелькнул красиво прилепившийся к отвесной стене горы аул: это был Чох.
Мы давно ехали по территории Андалала. До Согратля оставалось не больше десяти километров.
Я смотрел во все глаза. За шумом мотора я едва разобрал слова Ахмеда:
— Сейчас мы возродили общество. Пока что только в Согратле.
— И мы сможем поговорить с кем-нибудь из этого общества?
— Да мы давно уже с тобой говорим, — сказал Ахмед.
— В каком смысле?
— В том смысле, что сейчас я избран руководителем…
VIII. МАГОМЕД АХТУХАНОВ И НАДИР-ШАХ
Машина переехала мост и по крутому серпантину взобралась сразу в центр Согратля, к площади перед мечетью. Здесь дорога закончилась. Выше в горы в этих местах путей не было. Со скамейки встал высокий, лет шестидесяти пяти человек, в своей шерстяной шапочке чем-то неуловимо похожий на протестантского пастора. Это и был поджидавший нас Магомед — бывший директор местной школы, знаток согратлинской старины и хранитель местного музея.
Пока мы ехали вверх на машине, я совершенно не разглядел селение, потому что с одной стороны всегда была отвесная, будто специально сколотая стена горы, а с другой — крыши домов, которые располагались ниже дороги. Теперь я огляделся: мечеть на площади была большая, с высоким минаретом, кажется, перестроенная. От нее в четыре стороны расходились узкие, мощенные камнем улочки. Дома, в основном двухэтажные, были сложены из хорошо обтесанного желтого, с черными подпалинами, камня размером в два кирпича. Больше похоже на небольшой средневековый город, чем на каменную деревню вроде Гала. Мы поднялись по ступенькам, нырнули в арку, дальше я стал было поворачивать влево: там была узкая мощеная улочка и дверь, к ручке которой был привязан черный ослик с бежевыми очками вокруг глаз, но Магомед позвал меня в другую сторону. Тут тоже была узкая улочка в марокканской цветовой гамме: белые стены, синие двери, над дверями — латунные таблички с арабской вязью, которой был записан перечень колен живущего в доме рода — и опять белые стены, синие двери, синие окна. Куча хвороста, угодившая в кадр, означала, что зимой здесь холодно, нужно много тепла и, значит, много дров. Внезапно под ногами блеснула золотистая солома, запахло хлевом, и по правую руку вдруг открылись — как показалось мне — древние каменные сараи с кизяком, сушившимся под крышей на открытом, продуваемом ветром втором этаже. Кизяк — высушенный навоз животных — это главное топливо любого степного кочевья, любого поселения в горах. По крайней мере, в старое время. Я пригляделся. Кизяк я видел разный: сушеный лепешками и резаный квадратами. Но здесь он походил скорее на бурые, смешанные с соломой аккуратные сырцовые кирпичи. К тому же для просушки он был уложен правильной кладкой. Брикеты были совершенно ровными, ибо, как я догадался, предварительно были раскатаны тяжелой каменной «скалкой», лежащей рядом. Такой кизяк был своего рода артефактом.
— О черт, какой кизяк! — потеряв всякую осторожность в выражениях, воскликнул я, доставая фотоаппарат.
— Да, это кизя-ак! — одобрительно подтвердил Магомед. — Осталось совсем мало людей, которые еще умеют делать настоящий кизяк… — он помолчал, как будто считая. — Пять или шесть хозяйств.
Язык сам выдал себя, архаика подобного словоупотребления была очевидна: в Согратле «хозяйством» называют семью, в том числе и городскую, давно утратившую крестьянскую патриархальность.
Дом Магомеда располагался наверху селения, в предпоследнем ряду домов под вершиной, и выстроен был заведомо позже, чем дома из желтого камня в центре. Это был обычный двухэтажный дом, встроенный в линию таких же: в первом этаже — помещение для скота и кладовая, второй этаж — куда поднималась наружная лестница — жилой. Кухня, гостиная и две небольшие комнаты. С площадки лестницы перед входом открывался отличный вид: снежные занавеси Большого Кавказа все так же маячили вдалеке, как и в Хунзахе, только были, кажется, дальше.
Патимат, жена Магомеда, сразу накрыла для нас чай перед открытым окном гостиной с видом на горы. А поскольку было время обеда, на стол постепенно были выставлены все яства, которые были в доме: пресная брынза, хлеб, мед, похожий на черное масло урбеч 88 и главное блюдо — традиционный мясной хинкал.
Мы, как того требует обычай, умылись с дороги, и я наконец с удовольствием втянул крепкого чаю. Завязался разговор. Магомед говорил удивительно: ясно, аргументированно, четко, будто читал по книге. Через некоторое время я, слушая его, осознал, в каком месте происходит наше чаепитие. Прямо в окно, не вставая из-за стола, можно было увидеть на противоположном склоне ущелья крепость или развалины крепости. Это укрепление 89 было выстроено еще во времена Кавказской войны по приказу Шамиля. Двадцать лет спустя после его добровольной сдачи здесь до последнего сражались против царских войск согратлинские повстанцы 1877 года, неудачно попытавшиеся вновь поднять на джихад вольные горские народы. Если же выйти на площадку лестницы, то оттуда открывался вид на еще один памятник, посвященный разгрому в решающем сражении почти невероятного по мощи врага — персидского шаха Надира. Сражение происходило прямо на склоне горы, видной с Магомедова «балкона». Чтобы русский читатель мог лучше представить себе, в каких обстоятельствах происходило наше чаепитие, нужно вообразить себе площадку, с одной стороны которой были бы видны, скажем, бастионы Севастополя, а с другой — Куликово поле 90. То есть места, где в полной мере проявилось самоосознание и мужество народа, его решимость умереть, но не сдаться.
— Вам, наверное, известно, — продолжал меж тем Магомед, — что Надир-шах — он был политическим деятелем и государственным строителем такого масштаба…
Если поставить на стол хорошо округлившуюся тыкву и положить рядом маковое зернышко — то будет проще представить «масштаб соответствия» тогдашней Персии и Андалала. Но Надир-шах поперхнулся-таки этим зерном на склоне горы, видной с Магомедова балкона.
Надир-шах был из тюркского племени афшаров, которых притащило в Иран монгольское нашествие. Афшары осели в Азербайджане, но в XVII веке Аббас Великий91 переселил часть их в Хорасан, для защиты восточных пределов своей империи от узбеков. Персия тогда из последних сил пыталась удержаться в своем положении великой восточной империи, хотя, как вскоре выяснилось, на вызовы Нового времени она так и не смогла ответить. После Аббаса (1578–1628) страна уже не знала настоящего величия. Началось с того, что персидский трон, когда-то с таким трудом отвоеванный у туркменских правителей шейхом Исмаилом Сефеви, вновь оказался в руках чужеземцев, на этот раз афганцев. Афганское завоевание совпало с «персидским походом» Петра I, чем и объясняется легкость, с которой Россия получила Баку и Дербент и даже значительные куски южного побережья Каспия. Афганский шах Махмуд щедро раздаривал земли, лишь бы удержаться на троне. В это время будущий шах Надир, а тогда просто Тамас-кули, был разбойником — разумеется, удачливым и неуловимым. Узнав о подвигах племянника, его дядя, правитель Келата, пригласил его изгнать афганцев, которые грабили и убивали мирных жителей города. Тамас-кули справился с этим без труда. Затем по собственной инициативе совершил несколько подвигов, которые сделали его имя известным не только в Хорасане, но и при дворе сефевидского принца Тахмаспа II, собиравшего войска для свержения афганцев. В последующие годы, возглавив войско, Тамас-кули добыл решающие победы в этом противоборстве: афганская династия была низвергнута, но на персидский престол взошел не законный наследник из династии Сефевидов, а его полководец. Путь от полководца до шаха разбойник Тамас-кули прошел за десять лет. Когда по его приказу Тахмасп II и его юный сын были умерщвлены, Надиру было 48. Возраст, подходящий для государственного мужа, но несколько староватый для воителя. Однако Надир-шах был из той породы благодетелей человечества, которых принято называть завоевателями. Причем завоевать он хотел ни много ни мало, а весь мир. Как все настоящие завоеватели. Правда, в представлении шаха Надира «весь мир» означал примерно то же, что это сочетание слов значило для Кира, Ксеркса, Дария I и других воинственных персидских владык античного времени, для которых существовали довольно четко очерченные края Ойкумены: Малая Азия, Средняя Азия, Закавказье, Афганистан, Индия. Единственное новшество было, пожалуй, в том, что шах Надир дипломатическими усилиями добился выгодного мира с Россией, по которому она в 1735 году вывела свои войска с прикаспийских земель, вернув Персии Баку и Дербент. Он также желал владеть Каспийским морем, а не только его берегами и пригласил англичан для постройки военного флота. Это почти наверняка привело бы его к столкновению с Россией, но он был настолько самоуверен, что надеялся без труда забрать у нее по крайней мере один нужный ему город — Астрахань. Во всем остальном он действовал стереотипно: в 1733‐м и 1735‐м наголову разбил турок, принудив их к возвращению всех прежде завоеванных у Персии провинций, включая Азербайджан; в 1737‐м вторгся в Афганистан и разметал афганцев, считавшихся «непобедимыми». Из них же он составил ядро своего войска, которое первым делом было двинуто на восставший Дербент, задавленный шахскими податями. Говорят, что у оставшихся в живых мятежников он повелел вырывать в назидание один глаз 92, сто семей из мятежного города он выслал в глубь Персии и собирался полностью заменить население города на более благонадежное. Но завоевателю, решившемуся покорить весь мир, надо было выбирать, что делать: рвать глаза мятежникам или строить империю, не знающую себе равных. В 1738‐м Надир-шах через Герат вошел в Индию и наголову разбил войско Великих Моголов неподалеку от Дели: помимо афганцев в армии Надира служили еще туркмены, которые тоже были тяжелы на руку. Поэтому, когда в Дели начался мятеж, он просто велел своему войску, не отвлекаясь на такие мелочи, как глаза, вырезать 200000 жителей города. Из Индии он привез несметные сокровища, в том числе знаменитый «Павлиний трон», для которого самое время было построить подходящий дворец в полюбившемся ему замке города Келат.
В 1740‐м настал черед Средней Азии. Бухарский эмир сразу уступил Надир-шаху земли до Аму-Дарьи и выдал свою дочь за его племянника; Хивинский хан, не пожелавший сдаться, несмотря на яростное сопротивление был разбит, и на его место посажен был брат рассудительного Бухарского эмира. Таким образом пазл, издавна известный персидским завоевателям как «Весь Мир», был собран за семь лет. Но что это была за империя? Все вновь приобретенные провинции кипели восстаниями. Вновь вспыхнул мятеж в Дербенте. Чтобы усмирить его, и усмирить примерно, шах отправил к стенам древнего города 32‐тысячную армию во главе со своим братом Ибрагимом. Из похода вернулось едва ли восемь тысяч человек… И тогда Надир-шах решил сам возглавить карательную экспедицию в непокорный Дербент. В истории «повелителей мира» часто обнаруживается роковая ошибка, роковой шаг: вместо запада — на восток, вместо востока — на запад; чудовищные силы собираются на второстепенных, стратегически не значимых направлениях. Нет сомнения, что, встав во главе своего войска, шах Надир взял бы Дербент, чтобы избавиться от смуты в государстве. Но разве для этого нужна была стотысячная армия? Эта громада не могла уместиться в городе меж двух стен, она физически переполняла его, как тесто, перла во все стороны и растекалась по окрестностям. Кроме того, войско, собранное для похода и для резни — оно и требует похода и резни, и, повинуясь этому порыву, повинуясь запаху свежей крови, доводившему его до исступления, Надир совершил роковую ошибку: он преступил дербентскую стену и ступил в Дагестан. Первый же шаг в горы Табасарана был грозным предупреждением: несмотря на то, что силы Повелителя мира и табасаранцев никак нельзя было соразмерить, кровавая битва, в которой никто не мог одержать верх, продолжалась три дня, и сам Надир-шах только поражался «мужеству и жажде к победе» первого же повстречавшегося на его пути горского народа. Через несколько дней табасаранцы вновь подстерегли войско шаха и, укрепившись на вершинах гор, так осыпали его стрелами, что за два часа восемнадцать тысяч воинов покинули этот беспокойный мир, и армия вынуждена была отступить. Узнав об этом, Надир-шах пришел в такую ярость, что велел сбросить с горы командующего армией и еще четырех пятисотников. Когда к началу сентября 1741‐го Надир-шах прорубил себе путь на территорию Андалала, в этой немыслимой резне с горцами уже был сокрушен главный противник — лакский Сухрай-хан. И хотя сыновья Сухрай-хана были отправлены за помощью на север, в Хунзах, откуда была родом их мать, а также с письмами к вольным горским обществам, их отец, Сухрай-хан, ехал при шахе уже в качестве пленника.
Магомед рассказал, как согратлинцы получили от Надир-шаха грозное письмо, в котором тот давал андалальцам три дня, чтобы изъявить покорность и прислать к нему в лагерь аманатов (почетных заложников). Вместе с письмом посланниками шаха был доставлен мешок пшена, что на символическом языке должно было показать количество воинов, готовых, как поток зерна, затопить Андалал…
Магомед, попивая чай, с каждым словом все больше воодушевлялся, вспоминая безупречность поведения предков, как будто и сам был среди них.
— Получив это письмо, кадий Андалала Пир-Мухаммад созвал военный совет представителей каждого селения и сначала поставил вопрос: дать отпор или сдаться на милость врага? Конечно, все ответили, что мы даем отпор. Будем биться до конца. Немедленно снарядили гонцов во все стороны, чтобы все, кто мог, присоединялись к андалальцам. И написали ответ. Три слова и всего шесть букв: «ин ва ин» — это означало — «или — или». Если Всевышнему будет угодна наша победа — мы победим. А если Всевышнему будет угодна ваша победа — победите вы. Это неизвестно. Но в ответ на ваше пшено мы посылаем специально ощипанного петуха: пшено может склевать и этот петух, это не проблема. Ко всем соседям были отправлены послы, это был крик о помощи: сегодня — мы, а завтра — если мы не выступим общими усилиями — будете вы. Враг силен. Надир-шах ведь привел сюда шестидесятитысячную армию.
— А сколько мог выставить Андалал?
— Андалал мог выставить пять–шесть тысяч воинов, и то, если бы половина набиралась конных, то это было бы хорошо. Я имею в виду всех мужчин от пятнадцати до пятидесяти лет. Первыми пришли на помощь соседи — ныне Чародинский район, мы называем его вольное общество «Королал». Сразу оно приступило. Кадий был уже в доспехах. Важно было не дать врагу использовать конницу, не дать врагу использовать артиллерию. Поэтому, сохранив при себе свою личную гвардию, кадий разбил всю свою армию и армию всех, кто приходил на помощь, на мелкие мобильные отряды. Дал им свободу действий с одним предписанием: нападать со всех сторон. Вы же были у плотины, где Гунибская ГЭС? Театр военных действий начинался в этом ущелье и доходил до границ соседнего ханства. И всем ополчениям ставилась такая задача: воевать наскоками, постоянно наносить удары врагу и тут же отходить. Распылять, раздергивать армию Надир-шаха. Это была главная тактика, выработанная Пир-Мухаммадом. Он прекрасно понимал основную причину поражения Сухрай-хана: тот позволил Надир-шаху сразиться лоб в лоб. В народной песне Дагестана есть такие слова: «Самый богатый правитель Дагестана Сухрай-хан смог выдержать только до полудня…» Если такой сильнейший правитель выдержал в сражении с Надир-шахом до полудня, то андалальцы в лобовом бою смогли бы выдержать в лучшем случае полчаса. Были разные военные хитрости. Женщинам было приказано ходить по кручам и скальным склонам, а оттуда спускаться с ишаками, рассыпать золу, песок, так, как будто поднимается пыль: чтобы шах видел, что к андалальцам приходят все новые и новые подкрепления…
Меж тем один за другим отряды Надир-шаха попадали в ловушки: самую крупную победу одержали горцы в Аймакинском ущелье: отряд Надир-шаха с трех сторон окружали скалы, с четвертой — войска мехтулинского хана и хунзахского нуцала. Не имея возможности развернуться и выстроиться в подобие боевого порядка, прославленные и непобедимые воины Надир-шаха в сумятице давили друг друга, а горцы просто резали их, как баранов.
Другая засада — и от четырехтысячного отряда уцелело едва пятьсот человек. Еще одна — шестьсот из шести тысяч.
Мы вышли на «балкон», откуда виден был монумент в честь победы над Надир-шахом.
— А что же произошло на этом склоне? — спросил я. — Когда-то ведь горцы должны были встретиться с Надир-шахом в решающей битве?
— Вот эта вот скала, видите? Чуть выше, там, где темная осыпь, был шатер Надир-шаха. И вместе с лакским Сухрай-ханом они оттуда наблюдали. По преданию, двое богатырей на речке сначала бились, наш воин вырвал у врага сердце, разрезал, пустил кровь в реку — и это было доброе предзнаменование…
Главная задача андалальцев была не дать Надир-шаху использовать конницу, тяжелую пехоту, артиллерию — то, в чем имел он преимущество. Надо было их заманить в пересеченную местность, так, чтобы конница не могла действовать…
Но ослепленный гневом Надир-шах уже двинул вперед свое войско. Огромной лавиной оно скатилось на место, где сейчас построен мемориал. Там изначально стояло объединенное войско дагестанцев. Но когда эта лавина достигла этого ровного, словно специально предназначенного для битвы места — там не оказалось никого. И тут же со всех сторон из-за скал, из ущелий на войско Надира напали горцы. Со всех сторон напали! И строй непобедимой армии был сломан. Никто в персидском войске не понимал, что происходит. Так тактика Пир-Мухаммада победила огромную армию Надир-шаха. Тактика постоянной войны…
Поражение было чудовищным.
За Кумадагским перевалом арьергард Надир-шаха настиг сын Сухрай-хана Муртаза-Али-бек и нанес ему последний удар. В результате Надир-шах вернулся в Дербент с третью войска, лишившись казны, артиллерии и тридцати трех тысяч верблюдов и лошадей.
Разумеется, Надир-шах, «властелин мира», был не из тех, кто прощает такие обиды. Он сделал Дербент своей резиденцией, построил дворец в цитадели Нарым-Кала, собрал новую армию, разместив ее в военном лагере под городом, и отсюда стал посылать военные экспедиции в Кайтаг, Табасаран, Аварию и другие области Дагестана. Жестокость развилась в нем неправдоподобно: он заподозрил своего старшего сына в подготовке заговора против него — и лично выколол ему глаза. Раскаяние и упреки совести довели Надира до умоисступления. Но он не умел побороть эти состояния почти что буквального помешательства, ибо был целиком объят скорлупой зла: ничего другого он не видывал и сам не умел поступать иначе. «В отместку» за ослепленного сына он велел казнить пятьдесят ближайших придворных («не остановили!»). Взбунтовавшиеся города его войско вырезало до последнего человека, так что, заслышав о приближении Надир-шаха, все жители заранее бежали в горы. Жадность и мелочность шаха во взыскании налогов не знали равных себе. Он обозлил не только завоеванные окраины мира, но и собственно Персию. Его стали ненавидеть.
Закончилось тем, что в 1745 году во время очередного похода в Дагестан он был наголову разбит на прикаспийской равнине уцмием Кайтага Ахмед-ханом при участии сильного отряда табасаранцев, которые ничего не забыли и не простили ему.
Потерпевший невиданное поражение шах, своею жестокостью внушавший только ужас, больше не был нужен и в 1747‐м был убит в результате заговора, составленного его племянником…
Примечательно, что, характеризуя военные действия Надир-шаха в Дагестане, Братищев 93 в письме к канцлеру Александру Михайловичу Черкасскому 94 писал, что в продолжение двух лет шах не мог справиться с местным населением, которое «к защищению своему имело только ружье и саблю, но лишь вконец разорил государство, подорвал свои сбродные силы». Жаль, что донесение это, которое могло бы послужить российскому самодержавию бесценной подсказкой, дошло ко двору в царствование Анны Иоанновны, а не позднее, когда России самой пришлось определять приоритеты своей политики на Кавказе и, в частности, в Дагестане. Впрочем, при Николае I 95 и «партия мира», и «партия войны», существовавшие при дворе, отлично знали исторический урок, заключенный в дагестанском походе Надир-шаха. Роковую роль в Кавказской войне сыграла, конечно, личность самого императора, ни во внутренней, ни во внешней политике не склонного к решениям хоть сколь-нибудь мягким. Но мог ли император Николай подозревать, что здесь, на Кавказе, встретит противника по-человечески гораздо более одаренного мужеством и волей — имама Шамиля?
Внезапная догадка пронзила меня.
— Магомед, а что, Шамиль — он тоже был родом из какого-нибудь вольного общества?
— Он был… вы не через Гимры´ ехали сюда? Так вот, их называли Койсу-Булинское вольное общество. Все те, кто живет по долинам притоков аварского Койсу. И вот это селение, Гимры — «груша» по-аварски — относилось к Койсу-Булинскому вольному обществу.
— Этим, видимо, определяется его непримиримая борьба…
— Шамиль… Ты понимаешь, что Гази Мухаммад — первый имам Дагестана, он тоже оттуда, из Гимры´, и он был учителем Шамиля…
Я промолчал, не желая развивать эту необъятную тему.
Очень многое сразу стало для меня понятным.
IX. УРОКИ СВОБОДЫ
Пора было возвращаться в Гуниб. У меня и так голова лопалась от объема поглощенной информации. Магомед и вправду оказался блистательным знатоком старины. Но мне предстояло еще расспросить Ахмеда про современное Согратлинское общество. И все же, несмотря на усталость, я настолько был поражен Согратлем, что не мог отказаться от посещения музея, хранителем и собирателем которого был Магомед.
Было время вечернего намаза. Помолившись, Магомед явился в полном параде: на нем был серый добротный пиджак и новая кожаная кепка современного кроя. Так мы отправились осматривать селение.
— Есть множество версий происхождения названия «Согратль», — взял слово Магомед. — Одна из них связана с арабским словом «сугур» — «поселение на утесах». Есть и другой вариант, выводимый из арабского — «приграничное селение», но наиболее вероятен третий — от аварского названия домотканого сукна — «сугур», — которым в XVII–XVIII веках славился Согратль. Существовал рынок этого «сугура» — здесь его производили, здесь его и продавали в розницу. Так что «Согратль» (это русская транскрипция) в любом случае происходит от слова «сугур»…
В Магомеде мне сразу понравилась основательность в проработке любого вопроса.
В одном месте он остановился и постучал палкой по стене дома.
— А вот это следы огня…
Выходит, я не ошибся, посчитав черные тени на желтых камнях зданий «подпалинами».
— После восстания 1877 года старый Согратль был полностью сожжен и разрушен и потом заново отстроен на новом месте, вот здесь. При постройке использовали и обожженный огнем камень, который остался достаточно крепок. Так что нынешнему Согратлю совсем не так много лет…
Теперь я понял, почему мечеть на центральной площади показалась мне «перестроенной»: она ведь и возведена была всего чуть больше ста лет назад.
Я шел, глядя по сторонам со смутным чувством вины, будто и сам был причастен к трагедии, которая произошла здесь в 1877‐м и о которой непрестанно напоминала парящая над Согратлем крепость на северном склоне горы…
Но какой был смысл выступать через одиннадцать лет после того, как сам Шамиль признал борьбу проигранной? Здраво рассуждая — никакого. Восстание было заранее обречено на поражение, у него не было предводителя. Согратлинец Гази Магомед, избранный IV имамом Дагестана и Чечни, был просто ученый-богослов, но повстанцы хотели поставить во главе авторитетного человека, а уж потом придать ему полководца. К выступлению готовились больше 500 селений, но выступил только Согратль 96 — и сразу угодил под картечь экспедиционного корпуса М. Т. Лорис-Меликова 97, который за одержанную победу получил пост министра внутренних дел от Александра II.
Но согратлинцы далеко не всегда руководствовались логикой здравого смысла, которая так часто заводит «здравомыслящих» в настоящую гибель соглашательства и сделок с собственной совестью. В своих убеждениях свободных граждан Андалала шли они до конца. Это помогало им, по крайней мере, ясно осознать свой выбор. За который они со всей прямотой готовы были заплатить жизнью. Один пример поможет яснее понять это. Недалеко от Согратля есть «кладбище дураков». Оно расположено особняком от основного погоста. И с середины XIX века могил на нем не прибавилось: их как было, так и осталось двенадцать. А дело вышло вот какое: когда Шамиль был избран имамом Дагестана и Чечни и стал создавать подобие государства с наместниками (наибами), рекрутами, налогами и т. п., часть согратлинцев решила выступить против Шамиля. Не потому, что они хотели помочь русским. И не потому, что они отказывались признать в Шамиле верховного духовного вождя. Они отказывались признать в нем главу государства, который благодаря одному только слову — «государство» — получает возможность командовать ими. Как настоящие анархисты, они стояли за извечную свободу Андалала. Они собрали отряд и выступили против Шамиля. И, естественно, были разбиты. Оставшиеся в живых привезли в Согратль трупы двенадцати убитых товарищей. И тут начался спор: где захоронить их? На общем кладбище или нет? Одни говорили: конечно, они же мусульмане, отцы их похоронены тут… Другие отвечали: если б они были мусульманами, они бы не пошли воевать против имама…
Мало кто понял, что они вышли сражаться не против имама, а за свою свободу, которую с тех пор, как их зарыли в землю, Согратль утратил навсегда.
И тогда возникает вопрос: а были ли дураки дураками?
Сейчас, когда «здравым смыслом» оправдывается все что угодно, хочется вспомнить этих храбрых людей с чистой детской душой, подобных которым в наш век уже не бывает, и сказать им «спасибо» просто за то, что они были. Да здравствуют дураки, мысль которых так же чиста, как и их отвага! Слава дуракам, отрицающим «здравый смысл» и конформизм во всем его невыносимом величии! Да хранит Господь безумцев мира сего…
Пока мы шли по улицам, я заметил, что селение почти пусто. Некоторые дома как будто погрузились в сон: не было сомнения, что внутри они все еще хранят уют для уехавших куда-то хозяев, но не было уверенности, что сами хозяева оценят эту застывшую верность. Сколько ни слышал я разговоров о возвращении в Согратль, как в своего рода потерянный рай — а об этом говорили и Али, и Ахмед, — было видно, как глубоко втянуты они в городские дела, как нелегко будет им вернуться, даже если они действительно захотят…
— А чем сейчас живут люди в Согратле? — спросил я.
— Занятости почти нет, — грустно произнес Магомет.
— А сельское хозяйство?
— Хозяйств пять или шесть еще держат коров, овец для продажи. А остальные уходят на заработки, перебиваются сезонными работами, так вот и живут…
— Сколько же семей здесь осталось — пятьсот, шестьсот?
— Шестисот семей тут нет. Меньше! Более тысячи хозяйств сейчас в Махачкале. Тридцать шесть семей — в Москве. Мы начали возрождение Согратлинского общества с того, что посчитали, сколько нас, согратлинцев.
— Ну, и сколько?
— Получается тысяч шесть. Когда-то, — подхватывает Магомед разговор, чтобы вывести его в более оптимистическое русло, — в Согратле каждый клочок земли был на учете. При этом Андалальское общество считало, что среди сельчан не должно быть бедных. За счет вакуфа (это общинные деньги) согратлинцы построили в долине — где хорошие земли, пастбища, сенокосы, пашни — тридцать домов с хозяйственными постройками. И что сделали? Образовали комиссию, выбрали тридцать семей, которые жили беднее других, и отдали им эти земли — с обязательством обрабатывать их, обогащаться, стать на ноги. Общинные земли давали на пять лет. Пять овцематок давали бесплатно и корову в ссуду. И эти люди трудились. По истечении пяти лет та же комиссия ходила и проверяла: стали они на ноги или нет? Если старались, но не смогли стать на ноги — их оставляли на второй срок там же. Если поправились, встали — их возвращали обратно. На их место посылали другие бедные семьи. И так через каждые пять лет происходила смена: общество заботилось о неимущих. Поэтому в Согратле не было бедняков… А если случались неисправимые, то их содержала община…
Внезапно Магомед остановился и поковырял палкой расшатавшуюся мостовую.
— А вот это обязаны были замостить хозяева близлежащих домов, — сказал он строго.
— Но я это мостил, — попытался оправдаться Ахмед.
— И как считаешь — хорошо?
Определенно, Магомед был душой Согратля, и Али неспроста наладил меня к нему.
Интересно, что даже после революции принципы самоуправления долго сохранялись в Согратле. У государства не принято было просить что бы то ни было. Понадобился мост — сами и построили «методом народной стройки»; тем же методом построили школу, минарет мечети…
В первом зале музея, разместившегося, как я понял, в нескольких классных комнатах, выходящих в общий коридор, — металлические шкафы с древними книгами на арабском. Несколько грамматик арабского языка, поэтические сборники, сочинения по стихосложению, астрономии, мусульманскому праву, суфизму… Отдельно в череде наук надо поставить логику. Согратлинцы ревностно следили за правильностью построения мысли и выводов из исходных предпосылок. Махди Мухаммад (ум. 1837), признанный специалист по древнегреческой философии, оставил два сочинения по аристотелевой логике: «Рисалат фи-л-мантик» («Послание по логике») и «Рисалат ат-тахлис фи шараф ал-мантик» («Исследования о достоинствах логики»). Разумеется, никакого понятия о более современных и парадоксальных логиках, связанных с именами Бейеса (1702–1761) и Гёделя (1906–1978), совершивших в науке о мышлении настоящий переворот, никто тут не имел ни малейшего понятия, с чем мне пришлось считаться, когда я через несколько месяцев приехал в Согратль и позволил себе немного поспорить с Магомедом 98.
Зато нетрудно представить себе, что здесь процветали науки, традиционно укорененные в арабском мире, — комментарии к Корану, догматика, мусульманское, семейное и земельное право, математика, докоперниковская астрономия с Землею в центре мироздания. В Согратле было несколько медресе, одним из них руководил Шафи-Хаджи, окончивший престижное в мусульманском мире учебное заведение Ал-Азахр в Египте. В медресе Согратля ежегодно училось 150–200 человек, приезжавших со всего Дагестана…
— Когда я учился в институте, — с горечью произнес Магомед, — один человек предложил мне на год бросить это дело. Взять академический отпуск и помочь ему разобраться с книгами. У него было несколько тысяч рукописных книг. И, между прочим, письмо Надир-шаха, которое тот прислал когда-то в Согратль…
— И что же?
— Тогда я был молод и глуп, — сокрушенно сказал Магомед. — И я отказался. В 1975 году он умер, отдав нам свою библиотеку, но письма Надир-шаха среди переданных книг не было… А сын… Он занимается совсем другими вещами, и даже если это письмо попадет к нему в руки, он просто ничего не поймет…
Правда, здесь у пяти-шести человек есть еще коллекции. У нас не самая богатая. Но, к сожалению, нет специалистов, которые могли бы систематизировать, оцифровать все это.
Самые ценные экспонаты музея были заперты в металлических шкафах: ржавая монгольская сабля, однозарядное ружье горца образца 1850 года, шпага, кусок складня со сценами из жизни двенадцати апостолов. Иранская кольчуга. Сабля воина Надир-шаха…
А далее — думал, запомню, но не запомнил — всю эту удивительную утварь цивилизации натурального хозяйства: различную, на все виды погоды, обувь и одежду: мохнатые бурки, черкески с мерками для пороха, легкие и зимние сапоги. Молотильные доски (в точности такие же я видел на юге Франции, где хлеб обмолачивали не цепами, а широченной доской, снизу утыканной мелкими камешками: лошадь или осел возит доску взад-вперед по колосьям и так обмолачивает зерно). Утюги. Часы. Все, привыкшие к фабричной цивилизации городов, обычно изумляются, насколько лаконично, но полно был обустроен нужными вещами обиход «человека натурального». Даже бумага делалась в Согратле, хотя она была рыхловата, видимо, пресс был слабый. Согратлинский сугур — домотканое сукно. Образец грубоват, но не грубее русского холста. А была гораздо более тонкая, мягкая, по-своему изящная выделка.
А вот экспонаты поинтереснее: астрономический прибор — простой отвес, по которому любой человек, не поленившись и произведя нехитрые вычисления, мог определить свои координаты по отношению к Солнцу…
Лампы-чирахи — не такие большие, как в Азербайджане, но все же безусловно узнаваемые…
— Нефть доставляли сюда на арбах, запряженных быками… Поначалу, разумеется, она использовалась только для освещения, но потом, — возвышает голос Магомед, желая быть услышанным, — один согратлинец, работавший на бакинских нефтяных промыслах, доставил сюда оборудование для небольшой электростанции. Вы не заметили при въезде дом на скале? Это она и есть. Так что в начале XX века в Согратле уже было электрическое освещение…
Далее целая выставка женской одежды, обуви…
— Подошва-то из чего?
— Из кожи… Когда обозреватель «Новой газеты», Вика ее звали…
Я затаился, предчувствуя неизбежное: Вика уже побывала тут до меня, но почему-то ничего не написала про Согратль.
— Ивлева?
— Ивлева!
— Это моя подруга.
— У нас суточный спор был — она все спрашивала: как согратлинцы могли создать такую цивилизацию?
— Ей трудно понять, она — горожанка. А у меня бабушка была из крестьянской семьи, и для меня во всей этой утвари, кроме отвеса, извините, нет ничего ни необычного, ни даже неожиданного. Такая же резьба по дереву, половники деревянные, дуршлаги, шкафчики вот такие же и прялки, и мялки, ткани разные — все это почти точь-в‐точь похоже.
— Я показывал ей утюги, отлитые здесь, в горах. Люди нуждались в утюгах — эти вот «дикари». Или полудикари, как ты говоришь… (Я не говорил. Вика, что ли, говорила? Или вообще какой-то воображаемый оппонент?) Но во что она так и не смогла поверить, так это в то, что в Согратле был свой водопровод. А это не так уж сложно сделать: наши мастера высверливали бревна, соединяли их, и по таким вот деревянным трубам за два километра провели воду…
Можно было, вероятно, не один час еще бродить по музею, но тут я увидел весьма необычный экспонат. Это была здоровенная, очищенная от коры дубина с тяжелым концом, напоминающая какое-то первобытное оружие.
— А! — возликовал Магомед. — Эта штука действительно производит грозное впечатление, да и те, кому приходилось иметь с нею дело, вряд ли бывали рады. Хотя ей никого не били. Это — «палица позора». Если человек набедокурил, избил жену, подрался, выпил, вышел на общество, куражился — ему такую вешали над входом в дом. Награждал этой палицей совет старейшин. И что делали? По всем улицам села двенадцать старейшин ходили и оповещали всех: мы идем награждать этой палицей такого-то человека. Обычно рядом бежала ватага детей, провинившемуся вручали эту палицу и обязывали повесить ее на самом видном месте дома. И он не имел право ее снять, пока тот же совет старейшин не принимал оправдательный вердикт.
Выцветшая фотография: руководители восстания 1877 года. Они в кандалах. Цепи. Тринадцать человек из них решением гунибского военно-полевого суда были повешены. В том числе и четвертый имам Дагестана и Чечни, согратлинец Гази Магомед. А остальные были сосланы в ссылку во внутренние губернии России. Только через четыре года, в честь коронации императора Александра III, вышла амнистия, и те, кто не умер от сурового климата Вятской губернии, были отпущены.
И тут же — герои Согратля советского периода — Долбоев Магомет Омарович — испытатель образцовой авиационно-космической техники, Герой соцтруда. Долбоев Тагиб Омарович — и поныне летчик-испытатель авиационной техники. Дядя Али — Камир Магомедов, ставший героем труда за то, что в годы войны обеспечивал Красную Армию лошадьми…
Как сложно переплетено все в Согратле! Как измучена незаживающими ранами память, как контрастируют в сознании свет и тени, как величественно прошлое Андалала, как печален его закат…
— Вика все спрашивала, когда мы сидели ночью, — словно поймал мою мысль Магомед, — почему чохцы (жители соседнего аула) — государственники, а согратлинцы, в моем лице, не государственники? Она говорила: я вижу, что вы не любите Россию, а они, говорит, любят… А между вами — всего девять километров. Я ей ответил: за одну ночь в 1877 году двадцать чохцев получили офицерские звания, с соответствующими последствиями: жалованьем, возможностью учиться в военных корпусах и высших учебных заведениях, жить в любых городах империи… А мы получили сожженное селение и фотографии людей, которых убили… Составьте собственное мнение, скажите, как мы должны относиться к тому, что делала и делает для нас Россия?
— Магомед, — сказал я. — Давайте оставим в покое прошлое. Что такого плохого сделала для вас Россия сегодня?
— Ну, я так и знал! — горестно воскликнул Магомед. — Не хотелось говорить на эту тему. Но раз вопрос задан, я должен на него ответить, ведь так? Пусть Ахмед расскажет, что здесь творилось после принятия закона против ваххабизма. Обыски, доносы, списки, аресты… И что характерно: здесь поблизости нет ни одного человека с оружием. Человек с оружием — мой враг. Но постоянно дергать человека за то, что он Богу молится? Или, может быть, он неправильно молится, а они знают — как правильно? И потом: что им сделал ваххабизм? Давайте откроем любую энциклопедию советского даже периода — там будет сказано, что Мухаммед ибн-Абдал-Ваххаб99 спас короля Сауда от колониального владычества, когда англичане уже готовы были проглотить Аравийский полуостров. Ваххабитов называют «пуритане в исламе». Помните пуританское движение в английской буржуазной революции? А «пуританин», как ты, наверное, знаешь — от слова «pure» — «чистый»…
Я знал, что Магомед представил историю ваххабизма в необычайно розовом свете, оставив в стороне ту оторопь, которую явление ваххабитов вызвало с самого начала в исламском мире, и те усилия, которые предпринял тогдашний исламский мир, чтобы преодолеть это движение. Но тут дело было не в ваххабизме. Почему-то этот неуемный старик, Магомед, полюбился мне: давно не видел я людей столь открытых, отважных, наделенных большой нравственной силой.
Догматизм религии — все равно, мусульманства или христианства — всегда был мне отвратителен. И как получилось, что Магомед с его мусульманской ортодоксией пришелся мне по сердцу — ума не приложу. Но вышло в точности по теореме Гёделя. Сложная система неполна, если она не противоречива. А что может быть сложнее человеческих взаимоотношений? Что может быть сложнее попыток понять друг друга? Ничего. В наши дни мы переживаем подлинную трагедию непонимания просто потому, что никто никого понимать не хочет. А в Согратле многое сошлось — многие мысли и чувства показались общими. Единственное, чего, казалось, не хватило, чтобы окончательно утвердиться во взаимопонимании — времени. Впоследствии все оказалось не так просто. Но тогда я чувствовал только одно — как быстро истекают последние отведенные нам для общения минуты. Давно пора было уезжать.
— Я схожу, подгоню машину, — сказал Ахмед, который (надо отдать ему должное) на все время в Согратле выпал из общения, давая мне немного войти в тему.
На горы спускались сумерки.
— Я тебе скажу, Василий, почему нас называют ваххабитами, согратлинцев, — сказал Магомед, когда Ахмед ушел. — Потому что мы не идем на поводу у властей, мы не кричим «ура» по всякому поводу. Мы имеем свое собственное мнение на все происходящее. Тебе, наверное, Али и Ахмед говорили о том, что существует согратлинский общественный совет — это наш парламент. И все наши проблемы решаются там. Разумеется, есть официальный глава администрации района и другие люди, которые наделены государственной властью. И им может не понравиться, что со своими проблемами люди обращаются не к ним. Допустим, чтобы установить сигнализацию в музее, я обращаюсь в наш общественный совет. И если здесь опять будет спецоперация, кого-то арестуют — я обращусь туда же. Сейчас мы проводим сюда, за 10 километров, новый водовод в Согратль — из хорошего источника будет прекрасная вода. Нас называют ваххабитами только потому, что мы не являемся послушным стадом в этом государстве. Мы не овцы.
Вот скажи: обязан ли я любить, допустим, Путина?
— Нет…
— Нет, конечно. Обязан ли я любить президента Дагестана? Нет. Я не имею никакой силы противостоять их политике. Я вынужден подчиняться силе, да. Но хотя бы словесно, хотя бы в душе я имею право быть несогласным с этой политикой.
— Я вчера видел вашего президента, — сказал я. — Возникло ощущение, что он барахтается в пустоте. В равнодушии. По-моему, положение его трагично…
— Он пожинает плоды своей политики…
— А по-моему, он ничего не успел даже посеять. Трудно говорить о плодах. Просто общество изначально не доверяет власти.
— А власть разве доверяет нам? Я так скажу: благодаря деятельности согратлинского общества из нашего селения ни один человек в лесах не ходит. С оружием в руках не ходит. Потому что если у кого-то из молодых людей возникнут в жизни проблемы — мы поддержим наших ребят, чтобы они не пошли в лес. Наши представители несколько раз были приняты президентом Дагестана. Я тоже присутствовал на приеме и видел — он чувствует добро, которое делает наше общество. Все видят, что в лесах или с оружием в руках — нет ни одного согратлинца. И в то же время за нами — глаз да глаз! Люди власти демократической формы правления не знают. И боятся ее. Вот поэтому нас называют «ваххабитами»: им удобнее, чтобы за что-нибудь нас можно было притянуть…
В наступающей темноте послышались шаги.
— Ну что, надо ехать, — сказал Ахмед.
— Да, — сказал я, чувствуя, что главное так и осталось недоговоренным. Я не знаю, что должна сделать власть, чтобы заслужить доверие таких людей, как Магомед. Слишком многое сплелось и затянулось морским узлом. Насилие ли прикрывается недоверием народа или недоверие порождает насилие? Никто не ответит. Я понял, почему в своем очерке про Дагестан Вика не написала ни слова о Согратле. Не хотела ломать голову неразрешимыми вопросами.
X. РОССИЯ — ШВЕЦИЯ (0: 3)
Было уже темно, когда мы въехали в Гуниб. Ахмед, как и я, невероятно устал, но не подавал вида. После того как Шамиль в 1859 году был вынужден сдаться на гунибском плато, Гуниб был полностью разрушен. В этом они побратимы — Гуниб и Согратль. Только гунибцев еще и выселили в другие районы, не дали отстроить село, вырвали с корнем. Поэтому то селение, которое существует сейчас, — не более чем заново отстроенная декорация к драматическим событиям прошлого. Верхний Гуниб — обширное плато на северном отроге хребта Нукатль, со всех сторон окруженное каньонами притоков Каракойсу и отороченное, словно крепостной стеной, естественными, порой совершенно отвесными, склонами. Помню, в одном месте мы ехали по дороге, настеленной на рельсы, глубоко внизанные в горный склон. Когда этой дороги не было, Верхний Гуниб, куда с пятьюстами мюридами был загнан Шамиль, был фактически неприступен. Но русские уже так долго воевали в горах, что по сноровке не уступали горцам, и когда на предложение главнокомандующего Кавказской армией князя Барятинского сдаться Шамиль ответил отказом, солдаты Ширванского и Апшеронского полков пошли на штурм, пробираясь наверх по проточенным водой руслам и трещинам, прикрываемые непрерывным артиллерийским огнем.
Если бы в деле пленения имама была бы допущена хоть одна неточность — здесь я говорю уже не о военном просчете, а скорее о нравственной безупречности церемонии, — это место навсегда осталось бы незаживающей раной. Но Барятинский принял сдачу имама, великолепно зная кавказский этикет. Главное — он ни на секунду не позволил себе относиться к 63‐летнему имаму как к побежденному. Шамилю было оставлено оружие. В противном случае, как потом говорил сам Шамиль, он готов был немедленно заколоть себя на глазах у русских. Сдавшихся мюридов распустили по домам, не пытаясь задержать их или «взять в плен», а Шамиля с семьей, сопровождаемого конвоем и почетным эскортом, доставили в Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск), откуда он проследовал до городка Чугуева в Харьковской губернии. Сюда навстречу ему выехал император Александр II. Встреча произошла 15 сентября, когда царь проводил смотр войск.
— Я очень рад, что ты, наконец, в России; жалею, что этого не случилось ранее. Обещаю, что ты не будешь раскаиваться, — произнес император и, как свидетельствуют очевидцы, обнял и поцеловал Шамиля.
По сути, это был единственный способ «разблокировать» психологически невыносимую ситуацию и отправить своеобразное послание народам Дагестана, которое можно сформулировать, например, так: вы храбро сражались, геройство ваше оценено высоко, теперь пришла пора замириться, быть с Россией, о чем вам не придется сожалеть…
Мы взбираемся над Гунибом все выше и выше. Повороты на горной дороге в свете фар кажутся фрагментами какой-то компьютерной игры, когда надо резко отвернуть от внезапно возникающей на пути стенки… Дом Ахмеда оказывается на самом краю скупо застроенной немощеной улицы, у темной границы то ли леса, то ли парка, раскинувшегося под звездным небом.
Оставив машину у входа, мы вошли в дом. Было прохладно.
— Отопление не работает, — сказал Ахмед. — но спать можно под двумя одеялами.
Я растопил камин в гостиной, где мы решили накрыть стол для трапезы, поскольку тут же находился и телевизор: хоккейный матч Россия — Швеция должен был поставить точку в финале этого бесконечного дня.
— Ну, что тебе рассказать про Согратлинское общество? — вздохнул Ахмед, заметив, что я достал диктофон.
— Только самое главное. Магомед мне уже многое рассказал.
— Не удержался, — улыбнулся Ахмед. — Ну тогда что же? Эта организация не выдумана, не назначена чиновниками, она существует по инициативе жителей селения, Согратля. Чтобы не было наркомании, чтобы не было преступности, чтобы не было «лесных», чтобы не было агрессивных действий — мы организовались. Цель общества, так же как когда-то Андалала, — забота о гражданах своих. Ничего более демократичного сейчас не может быть. Председатель, то есть я, доступен всем — руководителям, депутатам, рабочему, инженеру, студенту… Любой важный вопрос любого человека, его боль — обсуждается. И мы совместно решаем, как ему помочь. Вот и все.
Я принадлежу к поколению, которое пережило как самые радужные демократические надежды, связанные с перестройкой, так и самое черное разочарование во время развала и разграбления страны. Отгородиться от всего, связанного с политикой, уехать на северный остров и на протяжении десяти лет жить только им — иного выхода сохраниться как мыслящее существо я долгое время для себя не видел. А тут вдруг — «Согратлинское общество»… Согратль… Не то эхо языка майя, не то отголосок юношеской мечты о правде и достоинстве, о мужестве и свободе, которые неожиданно воплотились здесь, в Дагестане. Согратлинцам некуда было бежать от «проклятой политики». И они решили бороться… С чем? Надо разобраться. Я всей душой не хотел политики. Потому что там, где начинается политика — начинается опасность. Начинается грязь. Вообще черт знает что начинается! И я бы ни за что не сунулся туда, если бы не попытка Согратля, которая отзывалась во мне далеким эхом надежд моей юности. Первая книга, которую я написал, была посвящена герою Гражданской войны, командиру повстанческой армии анархисту Нестору Махно. Ислам по шариату весьма строг в регламентации повседневной жизни и кажется несовместимым с классическим анархизмом. Но свобода так жизненно важна для человека, что ради нее даже самые жесткие схемы подвергаются трансформации. Как ни крути, Андалал — это трехсотлетний опыт самоуправления вне государства. Хотя свобода Андалала опиралась на свод законов примерно строгих и обязательных к исполнению. Но в этом своде нет отчужденности, холода и механической жестокости государственных законов, творцами которых давным-давно являются чиновники, а не народ. Свобода, опирающаяся на законотворчество народа, — вот суть попытки Согратля. Его духовное завещание.
Вот несколько выдержек из «Свода законов Андалала»:
• Если кто пойдет к старейшинам с клеветническим доносом на кого-нибудь, то с него взыскивается 100 баранов.
• Если кто-нибудь из наших возьмет лошадь или оружие с условием служить эмиру (казикумухскому хану, владения которого граничили с территорией вольного общества), то, что он взял, становится нашим, под каким бы предлогом он его ни приобрел.
• Если кто из нас к эмирам пойдет без дела и особой нужды и пробудет у них 3 дня, то с него взыскивается 100 баранов.
• Если из наших один другого убьет, то с убийцы взыскиваются 4 быка: 2 — в пользу [судебного] исполнителя, а 2 — в пользу наследников убитого; из селения убийца не изгоняется, если убийство совершено нечаянно или после того, как убитый обнажил оружие.
• Если вместо убийцы [по обычаю кровной мести] ошибочно будет убит другой, с виновного взыскивается 100 баранов и он изгоняется из селения.
• Если кто попросит выдать за него замуж женщину и ее родственники ответили согласием, ели пищу в его доме, то они не изменят слово в этом вопросе.
• Кто возьмет взятку, с него взыскивается 1 бык. Если возникает подозрение в получении взятки и взявший не признается, то с ним вместе должны дать очистительную присягу 6 человек.
• Если крупное селение учинит насилие над маленьким селением, то все селения округа помогут ему избавиться от этого насилия.
• Если за каким-нибудь мужчиной убежит женщина, то он должен поселить ее в дом дибира [главы] селения; если же оставит женщину у себя или в доме другого человека, то с него за каждую ночь ее проживания взыскивается по одному быку.
• Аналогичный порядок следует соблюдать и в отношении похищенной женщины: кто женщину похитил, тот должен ее поселить в дом дибира, а если похититель оставит ее у себя дома или в доме другого, то с него за каждую прошедшую ночь взыскивается по одному быку…
Высшим наказанием в Андалале было изгнание из общества. При этом изгнанный лишался всех прав и поддержки округа.
Возможно, эти законы покажутся кому-то наивными. Понимаю и то, что сегодня этот свод правил для большинства выглядит как глубокий анахронизм. Но анахронизмом мне, прежде всего, представляются не законы самоуправления, чьи параграфы легко поновляются, а принципы современной цивилизации, выстроенной на насилии и роскоши. Власть — сверхприбыли — роскошь — насилие. Вот порочный круг, в котором бьется ненасытный зверь нашей цивилизации. Оружие апокалипсиса, вооруженные до зубов армии, полицейские, действующие, как живые автоматы, индустрия оболванивания, народ, превращенный в болванов, сумасшедшая, не знающая никаких тормозов гонка за властью и прибылью. В таких обстоятельствах само слово «свобода» утрачивает смысл. И, однако же, согратлинцы пошли наперекор этому потоку. Наперекор всему, что творится сейчас в мире. Вот почему я и говорю: Согратль…
Я разлепил глаза.
О небо! Заснул перед телевизором! Но, кажется, всего на пару секунд. Во всяком случае, Ахмед продолжал рассказывать:
…В первую очередь человек должен защищать себя, свою семью, окружение, родственников, близких. Потом своих односельчан. И дальше: должен быть порядок в Дагестане, должен быть порядок в России. Это неотрывно друг от друга.
— У вас должно быть немало врагов.
— Их немало.
— И что делать?
— В каком смысле? Что мы делали, то и будем делать. Расскажу один случай. Я в этом доме как раз находился, когда здесь, в Гунибе, брали одного террориста мировой известности — Вагабова. Был обстрел, целая спецоперация, сожгли дом того, к кому он приехал, много шума наделали.
Но как только он был убит, омоновцы послали несколько машин в Согратль — начали обыски. Я узнал об этом, когда сюда начали привозить арестованных. Срочно вызвал адвоката, а на следующий день привез сюда одного бывшего полковника милиции. Попросил о встрече с прокурором. Прокурор был из другого района, оказался очень порядочный человек.
Выяснилось, что милиция получила донос, что перед тем, как поехать в Гуниб, Вагабов побывал в Согратле, выступал с проповедями в мечети. Мы прямо спросили: кроме слухов, есть у вас информация о том, что согратлинцы в чем-то виноваты? — Нету. — Милиция, что вы имеете против согратлинцев? — Ничего. — Ничего — так оставьте в покое людей, друзья. Нам, согратлинцам, не нужны нарушители. Мы в этом смысле — ваши помощники и коллеги. Если у нас там есть кто-то, скажите — что он нарушает и что он делает противоправного. Мы пойдем к нему, сделаем внушение, не поймет — скажем братьям-сестрам, не поймет — скажем родителям, не поймет — скажем главному человеку его уважаемого тукхума (рода), не поймет — приведем лично сюда, скажем: судите его по закону. Но если таких людей нету, не надо шельмовать общество.
Потом поехали в Согратль, в администрацию. Собрали людей. В том числе тех, которых они считают «неблагонадежными». Спрашиваем: — Был ли Вагабов здесь? — Не был. — Были ли какие-нибудь нарушения у людей, которых уже начали обыскивать? — Не было. — Что было? — Пустили слух. — Кто пустил слух? — А вот, женщина.
Глава администрации.
Я сказал: клевета — это нарушение закона. За это можно и под суд. И они притихли. Хотя я знаю — они терпеть нас не могут. Но мы бы не были демократической организацией, если бы боялись администрации!
…По телевизору российская команда в матче со шведами показала тот самый «управляемый хаос», который в Дагестане все чаще выдается за стратегию политической игры. Шведы путались в наших игроках, но все-таки хаос не стал им помехой: они вкатили три шайбы в наши ворота и на прощание победно помахали клюшками.
Я выкурил на крыльце сигарету и вернулся в дом.
Телевизор в гостиной работал, Ахмед заснул напротив, даже не сняв очки. Что-то детское было в его круглом лице, в склонившейся набок большой голове…
Вдруг я подумал, что Москве недостает по отношению к Дагестану не только политической воли — «воля» и «сила» как раз демонстрируются избыточно. Больше всего — и непоправимо — недостает любви. Понимания того, что Дагестан не хочет просто подчиниться. Союз с Россией должен стать желанным. Для этого нужно гораздо более глубокое знание друг друга, чем возможно на «официальном» уровне. Когда-то император Александр II обнял и поцеловал Шамиля — и это ознаменовало конец незаживающей тридцатилетней войны. В пятидесятые—шестидесятые годы в Дагестан приехало несколько сотен выпускниц российских педвузов — молодых учительниц литературы и русского. Они были самоотверженными идеалистками и остались здесь навсегда — но благодарная память об их служении жива в народе до сих пор. Ибо они открыли народам Дагестана путь в широкое духовное пространство литературы и языка. Путь в больший мир. В европейское сознание. А кто сейчас ездит в Дагестан?
Разве что журналисты в связи каким-нибудь громким террористическим актом. По иным причинам добираются сюда единицы. Два-три человека, да еще Вика, да я. И теперь, вспоминая наш давний разговор, я подумал, что Вика права: о терроре не надо было писать. Только о любви. Как она и написала из своего Табасарана. А я, выходит, напишу о Согратле. Я восхищаюсь вами, свободные граждане Андалала. И увожу в душе своей Согратль, как настоящее сокровище. Ведь это было первое, что я сумел в Дагестане полюбить. А полюбить, видимо, для того, чтоб вернуться…
ХI. СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ В ОБЛАКАХ
Утром — медленное всплытие из глубины крепкого сна. Ночью должен был приехать сын Ахмеда — но то ли не приехал, то ли я так сладко спал, что ничего не слышал. Я спустился вниз. Ахмед так и спал на диване в гостиной, но, кажется, звук моих шагов разбудил его, и он пошевелился под одеялом. Я прошел на кухню и заварил чай. Потом с чашкой вышел на крыльцо. Наверх, по склону горы, террасами уходил заботливо ухоженный садик Ахмеда, засаженный молодыми плодовыми деревьями. Возле ворот стояла еще одна машина — значит, сын все-таки приехал. Рядом застыл старый трактор с распущенной гусеницей: обычная для Дагестана картина. Прямо перед домом белело камнями сухое русло ручья. Слева было поле, обсаженное пирамидальными тополями, очень красивыми, там люди сажали картошку… Справа возвышалась заросшая молодым лесом гора. У полога этого леса, на зеленом лугу — паслось несколько рыжих коровенок…
Вскоре появился Ахмед. Довольно бодрый. Мы обсудили достоинства аккуратно разбитого при доме сада, но потом он посерьезнел, сказал, что ему надо побыть одному, и ушел куда-то в первый этаж. Вчера он весь день провел со мной, из-за этого пропустил обязательные для мусульманина молитвы, что, кажется, тяготило его. Потом мы позавтракали, я закинул все свои вещи в машину, сын, приехавший поздно ночью, так и не показался, и мы поехали. Сначала отвезли к полю, где женщины сажали картошку, несколько мешков семенного картофеля. От моих глаз не укрылось, что в Гунибе Ахмед из городского начальника превратился в делового, отзывчивого на нужды соседей сельчанина, которому не терпелось целиком отдаться сельским заботам. Поэтому экскурсия наша по гунибскому природному парку вышла непродолжительной. «Царская поляна» — где Александр II принимал войска и выслушивал рапорты — была просто частью красивого ландшафта. «Беседка Шамиля» оказалась выстроенной из белого камня островерхой башенкой с арками. Разумеется, ее не было в последние знаменательные дни Кавказской войны: тогда среди берез на поляне лежал простой камень, на котором князь Барятинский и поджидал Шамиля. А беседка была построена позже, как и крепость, в которой на вершине плато был оставлен русский гарнизон. При этом, сколь бы строго ни исповедовались в Дагестане принципы таухида (веры в безусловно единого Бога; поклонения только ему и никому и ничему другому), здесь, у беседки Шамиля, они были грубо нарушены: все деревья вокруг были увязаны ленточками, разноцветными женскими платками, четками и даже, за неимением лучшего, полиэтиленовыми пакетами. Короче говоря, это был чистой воды пир, вроде тех, что видел я в Азербайджане, и никакие религиозные принципы не могли отвратить приезжающих сюда людей от почитания этого места…
На самом верху горы оказался пансионат, работающий сейчас как гостиница. Еще был — как казалось, заброшенный — санаторий для детей, страдающих легочными заболеваниями. Тут, в Гунибе, на удивление целебный смолистый воздух и триста солнечных дней в году! Пансионат… Санаторий… Когда-то ведь все это работало, составлялись графики заездов, люди стремились попасть сюда, чтобы побывать в горах и поправить здоровье, и никому даже в голову не могло прийти, что поездка в Дагестан может быть опасна…
Мои размышления прервал Ахмед:
— Сейчас я отвезу тебя на базарную площадь, оттуда ты поедешь дальше на юг… А мне еще надо сегодня заехать в Согратль…
Я не собирался уезжать так скоро, но, конечно, должен был освободить Ахмеда для собственных дел: ведь и у него было всего два выходных в неделю…
Я развернул на коленях карту. В Кубачи, древнее даргинское селение мастеров‐оружейников, можно было попасть двумя способами: вернуться в Махачкалу и оттуда по трассе, идущей вдоль моря, ехать почти до самого Дербента. Но не доезжая десятка километров, свернуть вправо, в горы и, углубившись километров на пятьдесят, как указывала карта, добраться до Кубачей. Но были еще горные дороги, путь по которым, если, опять-таки, верить карте, был значительно короче. Правда, следуя этим путем, надо было преодолеть перевал Гуцабека, но я был уверен, что местные водители не сочтут это столь уж большой трудностью.
Проехав сквозь массивную башню ворот русской крепости, мы спустились в средний Гуниб. Рынок на площади потихоньку сворачивался, торговля замирала, и народ, собрав товары, начинал разъезжаться. Я подошел к первому попавшемуся таксисту и, развернув перед ним свою карту, объяснил задачу. К моему удивлению, таксист наотрез отказался следовать предложенным маршрутом, сказав, что сейчас никто не знает, в каком состоянии горные дороги и можно ли в принципе добраться по ним до Кубачей. То же самое сказал и второй таксист, и третий. Мне как-то не приходило в голову, что этими дорогами никто, может статься, не ездит уже несколько лет. Равно и то, что на этих заброшенных дорогах может произойти роковая встреча с «лесом». Наконец, Ахмед самостоятельно решил дело, подсадив меня четвертым пассажиром в такси, которое через пять минут должно было отправиться все-таки в Махачкалу. Делать было нечего, оставалось только радоваться, что проезд обойдется мне в четверть цены. Несколько торопливо мы попрощались с Ахмедом, который — это видно было по его глазам — весь принадлежал уже своему сельскому хозяйству, я сел на заднее сиденье — и мы поехали. Сзади нас ехало трое — одна женщина, один мужчина и я. Мужчина был плотной комплекции и не мог не придавливать меня, хотя и старался этого не делать. Но тут уж следовало во всем покориться обстоятельствам, и даже когда шофер, чтоб не скучать, на полную громкость врубил музыку, я только закрыл глаза, настроил сознание на максимальную тупизну и затих. Когда мы проехали больше полутора часов, мне пришла в голову мысль, что на пересечении с трассой я мог бы вылезти, чтобы перескочить на другое такси и ехать прямо в Кубачи, не возвращаясь в Махач, чтобы не делать туда-обратно лишние восемьдесят километров. Я попросил шофера высадить меня на пересечении дорог.
Когда мы доехали, наконец, до пыльного перекрестка, где на солнцепеке лениво ждали пассажиров четыре автомобиля, наш шофер тоже вылез из машины, чтобы пристроить меня местным таксистам. Несмотря на карту и ясную, вроде бы, цель, здесь повторилась та же история, что в Гунибе — шоферы ни за что не хотели ехать. Все они были трассовики (трасса Махачкала — Дербент) и сворачивать с трассы, по которой они годами носились вперед-назад, как ученые мыши, они ни за что не хотели. Оставалась одна машина — белый убитый «Жигуль», который стоял отдельно. Шофер был русский, такой же тертый жизнью, как и его автомобиль. Не знаю почему, но я решил, что его-то мы возьмем. Деньги были. Водила, у которого нестерпимо пахло гнилью изо рта, выслушал меня. Это был хороший знак. Я сказал, что всего-то нужно — проехать от трассы в горы 50 километров, а я за ценой не постою.
— Сколько? — спросил он.
— По километражу, да я накину.
— Ну, садись, — сказал таксист. Бедность заставляла его бороться за жизнь упорнее, чем его более молодых и более удачливых собратьев по профессии, обладателей новых скоростных автомобилей.
Я сбегал в магазинчик за бутылкой минералки, и мы поехали.
С тех пор, как в 2004‐м я проезжал по этой дороге, многое изменилось. Заброшенная, заросшая тростниками долина у моря оказалась застроенной новыми поселками, а плоские земли справа от шоссе теперь были распаханы и превращены в прекрасные огороды и виноградники. Я ощутил себя в свободном полете. Я, наконец, был один! На меня налетал ветер времени: по этой равнине на юг шли полчища хазар. И в обратном направлении, на север — войска Тимура. Арабы, персы, скифы, ногайцы — все побывали здесь и исчезли, не оставив даже теней… Разбитая вдрызг машинка моего благодетеля, заштопанная изнутри заплатами из крашеного кровельного железа, показывала неплохие боевые качества на обгонах. Я достал блокнот, нашел номер, по которому мне следовало позвонить в Кубачи, чтобы меня встретили, и, услышав ответ, сказал, что еду по трассе и рассчитываю быть после обеда. Человек, от расположения которого теперь зависело, как я проведу следующий день — звали его Гаджикурбан Гужаев — высказал бурную радость, что я наконец объявился. Теперь я знал, что меня ждут и все должно быть в порядке. Только где, черт возьми, этот поворот? Мы мчались уже, можно сказать, прямиком в Дербент — а поворота все не было. Потом водила мой увидел какую-то дорогу, сворачивающую вправо, но как только мы на нее свернули, машина ухнула так, будто у нее оторвалась передняя подвеска. То был вдрызг разбитый проселок, когда-то давно, к несчастью, заасфальтированный. Я попросил остановиться и добежал до магазинчика у начала поворота, чтобы узнать, туда ли мы едем.
— Вам куда надо? — поинтересовался продавец.
— В Кубачи.
— Ну, это и есть дорога на Кубачи.
Теперь следовало как можно оптимистичнее преподнести эту новость шоферу, потому что после поворота лицо его сразу приняло безотрадное выражение, и я боялся, что он откажется ехать дальше.
— Все правильно! — бодро воскликнул я, вернувшись в машину.
— Заправиться надо, — ответил шофер, обнажая сточенные зубы.
— Я оплачу, — пообещал я. Теперь, чтобы заставить его двигаться вперед, я мог воспользоваться только одним способом — подвесить морковку впереди ишака.
Дорога стала задираться в горы, и это было даже живописно, но тут наполз туман и пошел дождь. Чем выше мы поднимались, тем больше сырости низвергалось на нас с неба, пока мы просто не въехали в облака. Асфальта на дороге теперь не было — его нарочно не кладут на крутых спусках и подъемах, чтобы в зимний гололед машинам было все-таки за что цепляться. Но была не зима, вся дорога скоро покрылась слоем жидкой грязи, машину водило из стороны в сторону, а вокруг был слепой туман. У меня сердце сжималось при мысли, что слева или справа может таиться обрыв, достаточный для того, чтобы разбиться вдребезги, но делать было нечего — теперь мне приходилось чуть не за шиворот тащить в гору моего горемычного шофера: «Ничего! — подбадривал я его. — Видишь желтые газовые трубы? Они идут в райцентр, в Кубачи». Он угрюмо молчал, проклиная, видимо, тот день и час, когда согласился ехать в горы.
На бензозаправке в Маджалисе мы залили бензин. Колонкой заведовал бородатый парень лет двадцати пяти в зеленой исламской шапочке. Он принял деньги, но не спешил выходить под мелкий противный дождь. Я взял бензиновый пистолет и сунул в горловину бака. Старый заправочный аппарат, похожий на напольные часы, стал отсчитывать нам литры, как минуты.
— Что же у вас с погодой-то так? — спросил я у заправщика.
— Да у нас уже две недели так, — спокойно отреагировал заправщик.
— А в Гунибе вот солнце светит, — сказал я.
— Ну не знаю, — философски ответствовал он. — Здесь люди не молятся, поэтому, наверно, так…
Туман еще сгустился, впрочем, это был уже не туман, а облака, в которых, слипаясь вместе, пылеобразные и почти невесомые частички воды рождают капли идущего ниже дождя, под которым мы недавно ехали. Поэтому сырость не капала с неба — она была кругом. Видимость была метров двадцать. Наконец я увидел закрытые лавки да еле проступающие дома по обе стороны дороги. Очевидно, мы все-таки приехали. Я щедро расплатился с водилой, оплатив заправку и отсчитав еще две тысячи за страх. Это сильно его ободрило: во всяком случае, он знал теперь, за что прошел столь страшные для него испытания.
ХII. ЗЕРИХГЕРАН
Машина ушла, и я оказался в распоряжении моих новых знакомых — чем-то похожего на Пикассо старика и его сына Мурада, симпатичного молодого человека с залысиной, немножко даже еврейского вида, очень приветливого и немного застенчивого. Они тут же предложили мне пересесть в их автомобиль, чтобы уберечь меня, гостя, от непогоды. Мы стояли втроем под невидимо-мелким дождем на том слегка раздувшемся участке улицы, который они именовали «площадью». Я огляделся. Откуда-то из облаков выкатился мальчишка на велосипеде, поехал было на нас, но неожиданно лихо свернул под арку моста, за которым проступали очертания узкой, как ущелье, улицы. Оттуда же, из облаков, на нас надвигалась корова: еще невидимая, но уже различимая слухом.
— Ну что, пойдемте? — еще раз позвал Гаджикурбан.
Но я будто прирос к земле. Меня окружали декорации, которые мне еще не доводилось видеть в жизни. «Площадь» была, собственно, самой верхней точкой горного отрога, на котором было выстроено селение. От «площади» в разные стороны уходило вниз несколько улочек, но все они были несоразмерно коротки и круты и в конце концов превращались в лестницы, разделяющие аул по меридианам сверху вниз. Для горизонтального передвижения по селению служило несколько пробитых на разной высоте тропинок-траверсов, заросших крапивой и чистотелом, листья которых были осыпаны мелким бисером воды. Что пронзило меня сразу — так это ощущение остановившегося, спелёнутого громадным пузырем воды времени. Корова спустилась из облака — довольно крупная черно-белая корова — остановилась в луже посреди площади и помочилась в воду. Булькающий звук струи, тут же растворяющийся, глохнущий в первозданной сырости — вскрыл, наконец, мое сознание. В глубине тумана, в гуще прорастающих из него голых весенних ветвей прокричал петух. Корова, будто очнувшись от этого призыва, побрела дальше, медленно моргая мокрыми ресницами. Слева в дыму облаков проступал приземистый силуэт древней крепостной башни с узкими прорезями бойниц. Раньше таких башен было двенадцать, они вместе с крепостной стеной опоясывали весь аул, а четыре или пять закрывали самый опасный участок — со стороны перевала, то есть дороги, по которой мы приехали. Прорваться в Зерихгеран — «страну кольчужников» — с этой стороны было совершенно нереально: охрана башен, как и вообще охрана селения, прилегающих к нему пастбищ и лесов, была в ведении неистовых воинов из закрытой мужской военной организации «Батирте», опирающейся на еще один, более широкий, мужской «орден» — гулалла Ак Бильхон — «Союз неженатых». Как и аварский Согратль, Кубачи вплоть до XIX века был столицей горской «республики», объединявшей семь даргинских поселений — Даца-Мажи, Дешлижила, Муглила, Анчи-Бачила, Кубасанила, Шахбана-махи, Бихай. Ежегодно общее собрание Зерихгерана избирало семь духовных и военных предводителей, на случай нападения врагов. А их у республики оружейников было немало: всего в десяти километрах по прямой в горах находился неприступный замок Кала-Курейш, в средние века — столица кайтагского уцмийства, крупного для Дагестана средневекового государства, правители которого вели род от арабов (уцмий — значит «знатный»), прорвавшихся на север от Дербента в начале арабо-хазарских войн. Однако кубачинцы считались настолько cвирепыми воинами, что посягать на них было немного охотников. Ну а что до «батыров», набираемых в военный союз «Батирте» — то они призваны были заменить собою целую армию. Уже в юношеском возрасте старейшины Зерихгерана начинали присматривать сильных и бесстрашных мальчиков с разбойничьими наклонностями, которых потом рекомендовали в союз. Они должны были уметь подкрадываться, нападать из засады, действовать ночью, как днем, претерпевать любые лишения, владеть всеми видами оружия. Два запрета принимались ими добровольно: запрет сдаваться в плен и жениться раньше сорока лет. И при том, что таких воинов всегда было только сорок, слава о них заставляла соседей держаться от «республики оружейников» подальше. Ибо любой чужеземец, отправляющийся в набег на Зерихгеран, прекрасно знал, что, встретив одного из этих сорока, он встретится с собственною смертью.
К счастью для России, кубачинцы не приняли участия в военных операциях Шамиля, ибо Кубачи вместе с Дербентом были присоединены к империи еще по Гюлистанскому мирному договору с Персией (1813), а поскольку слава оружейников Зерихгерана гремела по всему Востоку, очень скоро им был сделан поистине царский заказ: сработать сабли для драгунских полков русской армии. Так что, присоединившись к России, республика оружейников тогда, в начале XIX века, лишь выиграла, получив неистощимый рынок сбыта. К тому времени тайный военный союз кубачинцев перестал существовать. Но вот мужское братство «неженатых», равно как и причудливые доисламские верования кубачинцев — вызывание солнца и дождя, весенний праздник «хождение по воду от сглаза», сопровождавшийся ритуальными шествиями и музыкой, культ деревьев, культ орла, ношение амулетов и талисманов — сохранились до ХХ века. В последний раз «союз неженатых», на котором лежал грозный отблеск былых времен, публично собирался в 1913 году, оберегаемый почтительным молчанием. Все это тем более потрясающе, что «мужские союзы» с их «яростью», кровью жертвенных быков, употреблениями галлюциногенного напитка (хаомы) и покровительством группам избранных молодых воинов — это глубочайшая архаика, несопоставимая во времени ни с христианством, ни, тем более, с мусульманством. Она напрямую восходит к древним иранским верованиям I тысячелетия до н. э. и культу Ахура Мазды 100.
— Ну что же вы?! — прокричал Гаджикурбан. — Надо хоть пообедать с дороги!
— Нет, нет, — пробормотал я, доставая из рюкзака фотоаппарат. — Надо поработать, надо сфотографировать это, пока светло!
— Да успеете, еще рано, — сказал старик, кажется, слегка задетый за живое таким пренебрежением к его гостеприимству.
Вместе с Мурадом мы направились к башне. Как потом выяснилось, здесь, у площади, сохранился совсем небольшой кусочек старой части города: один странный, построенный как бы кругом, старинный дом, башня и крытый горизонтальный проход по склону, который выводил нас через арку моста опять на площадь. Всё это подробно описывать нет смысла, но я был абсолютно околдован. Это был настоящий средневековый город! Больше всего это напоминало Лаграсс, крошечный городок на юге Франции, неподалеку от Каркассона. Когда я сказал об этом Мураду, он даже как-то порозовел, до того ему стало приятно за родные Кубачи. В конце концов я решил, что из вежливости надо заглянуть домой, где поджидал нас специально для меня приготовленный обед, и уж после — идти и дотемна снимать то, что осталось от старого города.
По легенде к числу наиболее знаменитых работ кубачинцев причислены «рогатый» шлем Александра Македонского (благодаря чему сам Александр на Востоке получил прозвище Зу-л-Карнайн — «Двурогий»); щит Александра Невского, сабля Надир-шаха и набор холодного оружия, подаренный царем Александром III британской королеве Виктории, ныне хранящийся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. И сколь бы сомнительными (в силу несовпадения во времени и в пространстве) ни выглядели шлем и щит, бесполезно отрицать громкую славу кубачинцев и как оружейников, которым нет равных. Персидское название VI века — Зерихгеран и турецкое — Кубачи, Кюбечи — XV-го полностью синонимичны в переводе: «бронники», «кольчужники». Слава мастеров по оружию была настолько оглушительной, что ею оказались отодвинуты далеко на второй план другие ремесла Зерихгерана — изготовление медных ритуальных котлов, которые славились по всему Дагестану; массовое производство металлической (медной и серебряной) посуды, изготовление ювелирных украшений из золота и серебра, златокузнечное и золотошвейное дело — всего не перечислишь. Среди прочих мастеровитых дагестанских селений Кубачи выделялись настолько, что имели возможность заниматься сельским хозяйством лишь как подсобным промыслом. Вокруг Кубачей вы не увидите распаханной земли — в свое время здесь даже колхоз создавать не стали: переквалифицировать золотых дел мастера в пахаря так же трудно, как добиться обратного превращения. Но вот на мастерство высокой пробы у кубачинцев глаз всегда был наметанный. В старое время гостиная в доме украшалась, с одной стороны, полкой с образцами металлической посуды из Египта, Персии, Сирии, а с другой стороны — такой же полкой с изделиями из керамики и фарфора из Ирана, Китая, Японии, России и европейских стран.
Правда, дом Гаджикурбана, к которому мы спустились, был обустроен с примерной скромностью. Входная дверь из-за крутизны склона, на котором стоял дом, открывалась сразу на второй этаж, на классическую большую террасу, которая служила и прихожей, и основным летним помещением. Часть ее занимала кухня. Мне была отведена лучшая комната, гостиная, которую «украшали» огромный плазменный экран да весело потрескивающая дровами чугунная печка. Мы пообедали с дороги. Айша, жена Гаджикурбана, подала нежнейшие, почти прозрачные, хинкалики с мясом и какие-то вкуснейшие плюшки, но, по правде сказать, я не успел как следует вникнуть в суть гастрономической темы, потому что время поджимало — мне хотелось до конца светового дня поснимать «старые Кубачи», хотя бы и в тумане. По ходу дела мы обсудили несколько вопросов: 1) как нам всем не нравятся идиотские передачи современного ТВ; 2) как здесь, в Дагестане, думают (благодаря тому же ТВ), что в Москве деньги гребут лопатой. Я сказал, что зарабатываю 30 тысяч рублей (около 1000 долларов) в месяц. Что для Москвы — minimum minimorum. И сразу почувствовал, что это нас сблизило.
Я сказал, что хотел бы поснимать мастера за работой.
Я думал, что для этого нам придется одеваться, куда-то идти, с кем-то знакомиться.
Но оказалось, все готово. Гаджикурбан и сам был известным мастером-ювелиром. И мастерская его размещалась тут же, в соседней комнате. Мы отправились туда. Он выложил на небольшой белый стол несколько готовых изделий и две-три заготовки: кинжал в изукрашенных серебряных ножнах, несколько браслетов и две заготовки для серебряных рюмок. Затем из ящика стола на свет простой настольной лампы, освещающей рабочее пространство мастера, были извлечены: пробка из-под шампанского, в которую были воткнуты три или четыре резца по металлу. Деревянные, отполированные до темного трубочного блеска ручки приняли форму руки мастера и отчасти напоминали грушу: широкая часть нужна была для нажима, а противоположная, узкая, схваченная латунной оковкой, удерживала стальное жало резца. Еще был брусок для очень мягкой, деликатной заточки инструментов. И все. Ни тисков, ни граверного станка, ни каких-либо других приспособлений, которые могли бы облегчить работу мастера, в мастерской не было. Только миска для серебряных крошек и другая миска с каким-то шлаком или углем. Гаджикурбан резал узор буквально на колене. Я старался не упустить ни одного его движения. Вот он взял рюмку, выбрал резец и, не слишком даже надавливая на его рукоятку — чик!-чик!-чик! — пошел резать узор, каждый раз высвобождая из матового металла искру света. Потом я понял, что смысл работы во многом и заключается в том, чтобы при помощи резца так избороздить металл, чтобы вся его поверхность буквально горела белым огнем серебра. Это было потрясающе! Ножны кинжала — которые, как я понял, должны были явить все богатство приемов, которыми владел Гаджикурбан — просто не поддавались описанию. Нужно владеть специальной терминологией, чтобы внятно охарактеризовать это чудо. Я знал, что кубачинские мастера украшают свои изделия разными видами «накиша» — орнамента. Но эти ножны прошли не одну и не две, а несколько обработок, прежде чем по ним стали работать резцом. Сначала серебро было вычернено, потом появились какие-то наплавки, и уж потом запущены орнаменты. Ни один квадратный сантиметр ножен не остался непроработанным. Несколько орнаментов украшали их. А там, где излишнее узорочье было не к месту, были сделаны едва заметные насечки или точки — капельки света.
Не буду говорить про браслеты: здесь была та же картина, разве что к выразительным средствам добавилась глубокая «сквозная» резьба, создающая ощущение не просто красоты, но еще и невесомости изделия…
— Ну вот, — сказал Гаджикурбан. — Так мы и работаем.
Сильной и чуткой рукой мастера он сгреб со стола серебряные крошки в миску.
— А для чего уголь? — спросил я.
— Ну это бывает нужно, когда серебро плавим. — Он повернулся к сыну. — Мурад, покажешь?
Мурад, кажется, только и ждал того, чтобы показать свое умение.
Плавильный стол на железной раме; рядом на полу — красный газовый баллон; в руках у Мурада — медная газовая горелка, выбрасывающая конус синего пламени; два желтых огнеупорных кирпича, брошенный на них кусок асбестовой ткани, кусочек тонкого листового серебра, похожего на олово, ножницы, хирургический пинцет с зажимом, тигель, куда Мурад мелкими полосками, как бумагу, нарезал серебро и, наконец, видавшая виды, черная, массивная, скрученная болтами металлическая форма для отливки проволоки.
Мурад нажал ногой педаль под столом, и конус пламени газовой горелки, раскаляясь, стал изнутри синего белеть, потом Мурад направил пламя в тигель, и он заиграл всеми оттенками алого, потом оранжевого, потом совсем светло-желтого…
— Слушай, — сказал я, когда дело было сделано. — Ну а как отец, ты можешь?
— Могу.
— А почему не занимаешься?
Мурад поднял на меня какие-то виноватые и печальные глаза.
— Давай мы сейчас… Ты же хотел поснимать старые Кубачи… Я расскажу по дороге.
Мы вышли из дома, спустились на ярус ниже — и тут же опять угодили в какой-то сон. Или явь. Во всем виноваты были, конечно, облака, переваливающиеся через Кубачи такой густой массой, что видно было лишь в радиусе двадцати–пятнадцати метров. Мне казалось, что мы странствуем в мирах и в веках, но на деле мы прошли лишь несколько сот метров краем аула. Но может быть, именно поэтому внимание моё было как никогда ясным и пристальным: я замечал на старых дверях замки доиндустриальной эры, свитые «восьмерками» старинные дверные цепочки, граненые головки кованых гвоздей, россыпи ходов крошечных древоточцев, тесаные балки, на которые настилался пол из кругляка, изнутри дома выровненный досками и утепленный коврами; лишайник на камнях старых стен. Мы прошли крытой галереей и вышли на тропинку, идущую по самому нижнему ярусу селения, верхом невысокой стены: слева высились уступами дома, иногда причудливым образом как бы вмонтированные друг в друга, переходящие один в другой то остекленным переходом, то просто соприкасаясь крышами или мансардами, для защиты от ветра или воды обитыми кусками ржавого железа. Ну а справа город живых заканчивался и начинался город мертвых. Кладбище с вертикально стоящими надмогильными плитами, украшенными удивительной резьбой, тонированной пигментами цвета свежих васильков и загустевшей крови. Из серой гущи тумана, клубящейся там, где склон уже нельзя было различить, в одном месте до самых стен аула поднимался голый весенний лес, весь заросший мокрой блестящей травою: как призраки, стояли в тумане древние надгробия. В одном месте жизнь и смерть селения буквально переплетались: слева, на стороне живых, несколько могил было прямо в стене, укрепляющей склон. Надгробные плиты в этой стене были изукрашены так искусно, что изысканностью расцветки и резьбы скорее напоминали ниши в интерьере какого-то дворца, нежели двери, запечатывающие земной путь человека. Когда туман делался особенно густым и дома на склоне пропадали из виду, чувство, что мы действительно оказались в заброшенном дворце, делалось совершенно явственным. Весенние птичьи трели, несмотря на непогоду, оглашали это пространство, но ни одного обитателя этого города или дворца мы так и не встретили. Только коровы то выглядывали из-за разрушенной арки, с равнодушием и, возможно, с недоумением разглядывая нас, как невесть откуда взявшихся пришельцев, то с усилием поднимались по каменным ступеням, уже разбитым клиньями прижившейся в трещинах тесаного камня травы, то вдруг величественно шествовали уровнем выше, бережно неся переполненное молоком или туманом вымя…
Потом галлюцинация кончилась, туман разорвало порывом ветра, и мы увидели целый квартал сгоревших домов: их было пять или шесть, стоящих вплотную друг к другу. Все нутро, все, десятилетиями собираемое человеком для жизни и уюта, было начисто вылизано разыгравшимся здесь огнем. Сохранился лишь камень стен да прокаленное пламенем, слабое, ржавое железо крыш, рухнувших на землю. Я глядел на это опустошение и вдруг испытал странное чувство: что пожар, случившийся на этот раз, он был как бы навсегда, что никто не вернется разгрести обломки, перебрать стены, настелить новые полы для нового уюта и покрыть все это молодою жестью крыш, пустив по их краям и навершиям водосточных труб виртуозную весёлую резьбу, достойную мастеров Зерихгерана. Слишком много я видел знаков, свидетельствующих о том, что могучий Зерихгеран пустеет, стареет и тихо-тихо, медленно-медленно дрейфует в направлении небытия. Пустые окна. Окна с потрескавшимися, а то и слепленными из двух-трех осколков стеклами; закрытые, и так будто забытые слепые ставни, давно не отворявшиеся двери с заржавевшими уже замками, механизм которых вряд ли и отзовется поворотам ключа…
Мы дошли до мечети и, слегка изменив маршрут, тронулись в обратный путь. И почти сразу наткнулись на совершенно синий дом, кое-как прилепившийся на косогоре. В Кубачах, как и везде на Востоке, любят синий цвет: синие двери, синие оконные переплеты. Но я впервые видел дом, выкрашенный таким ослепительным синим кобальтом, что эта синева светилась даже сквозь невероятный вечерний туман. Дом был настолько стар, что с одного боку у него выперло стену, будто изнутри кто-то дал по ней огромным кулаком. Беспорядок вокруг — рассыпавшаяся поленница дров, кое-как прикрытых железом старой кровли, брошенная в саду тачка — все свидетельствовало о том, что тот, кто живет сейчас там, внутри, уже не в силах поддерживать ни красоту в саду, ни сам этот дом, удерживающий форму лишь в силу вложенного в него когда-то молодого труда, потраченного на долгое и счастливое будущее. Но будущее мало-помалу сбылось, стало настоящим, а потом ушло в прошлое вместе с выросшими детьми и состарившейся женой. Сначала это было совсем недавнее, вот как будто вчерашнее прошлое. Но потом — с каждым годом, с каждым днем, с каждым часом — это прошлое становилось все более темным и глухим, существующим на грани забвения в памяти какого-нибудь единственного старика, доживающего в этом доме цвета неба свой долгий и праведный век. И я почувствовал, что как только память этого старика оборвется, сам этот дом тут же рассыплется без следа и канет в небытие…
XIII. КОНЕЦ ГОРОДА МАСТЕРОВ
Меж тем замшевые полуботиночки мои напитались водой, как губка. По счастью, поблизости оказался дом знакомых Мурада, и он предложил зайти к ним. Тем более что хозяин, Гаджи-Али, тоже был мастером и я мог бы, если бы захотел, поснимать и его за работой. Долго уговаривать меня не пришлось, горячий чай после того, как мы надышались туманом, казался спасением. Через минуту-другую мы уже стучались в дом Гаджи-Али. Встретили нас так, как будто давно ждали. Хозяйка, которую звали Бика — удивительно веселая и даже смешливая, как девчонка, женщина, сразу напоила нас чаем и принялась ставить ужин. Хозяин, Гаджи-Али, извлек из шкафа штоф коньяку, и потребовалось некоторое время, чтобы уговорить его обойтись без выпивки.
Я сказал, что мне было бы интереснее поснимать его за работой.
Мы прошли в мастерскую. Отчетливо помню ощущение, будто все здесь немного остыло и покрылось тонким налетом пыли. Все было на своих местах — заготовки для серебряной посуды, плоскогубцы, напильники, наждачная бумага и серебряная проволока, какие-то присыпки, которые служили для прочности пайки, газовая горелка… И в то же время не оставляло ощущение, что мастерская так простояла дня два или три и сейчас хозяин соглашается позировать нам из вежливости, что ли. То есть он в любой момент готов приняться за работу, но как будто сомневается, есть ли в этом какой-нибудь смысл. Я успел сделать несколько кадров, прежде чем пришел сын Гаджи-Али — высокий, крепкий парень лет восемнадцати, тоже Мурад. С первого взгляда было ясно, что он принадлежит к поколению, увидевшему мир уже после 1991‐го, а потому никаких иллюзий у него нет и продолжать дело отца, он, в отличие от старшего Мурада, не собирается. Но мой фотоаппарат его заинтересовал. Я показал ему съемку, которую сделал в мастерской Гаджи-Али, и он оживился, увидев несколько удачных фотографий отца. Спросил, может ли он ненадолго взять у меня фотоаппарат, чтобы скачать фотографии на компьютер. Я почему-то не спросил, есть ли в его компьютере порт для флэш-карты или, на худой конец, провод, подходящий для «Олимпуса», просто поинтересовался, знает ли он, как это делается, он ответил «да» — тем дело и решилось.
Потом мы пошли на кухню, где был уже накрыт для нас ужин, и долго толковали о том, что уже начал по дороге рассказывать мне Мурад. Все было до банальности просто: раньше торговая марка «Кубачинское серебро» была известна не только в России и не только даже в СССР. Коллекции кубачинских ювелирных изделий есть в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Лондона, Нью-Йорка. Раньше на Кубачинском художественном комбинате работала тысяча человек. Комбинат закупал сырье, платил зарплату, добивался участия в международных выставках, корректировал дизайн изделий и следил за спросом. Потрясает, сколь небольшой срок потребовался, чтобы все это разрушилось. Теперь в комбинате получают зарплату едва ли сто человек. Остальные «выпущены на рынок» и ничем не защищены. Мгновенно явились сомнительные фигуры спекулянтов сырьем и торговых посредников. Дикие торговые надбавки довершили дело: любое серебряное изделие еще до того, как оно будет произведено, уже стоит так дорого, что мастер может добавить к этой цене лишь крошечную сумму собственно «за работу», достаточную, может быть, только «на хлеб». Турецкая бижутерия из низкопробного серебра, с которым здесь никто бы и работать не стал, вытеснила изделия кубачинских мастеров с рынка. Так торговая марка «Кубачинское серебро» перестала существовать. Ее можно было бы продвигать в крупных городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, но старые торговые связи тоже оказались разорванными. Вся кубачинская ремесленная система подверглась глубочайшей деградации. И сейчас «город мастеров» удерживает вместе только одно: бедность. Нету денег сняться с места, уехать… Да и куда бежать? Где искать работу, если ты — оружейник или ювелир в шестидесятом, примерно, поколении?
Внезапно ком еды застрял у меня в горле. Сын Гаджи-Али… Ну, младший-то Мурад… Все время, пока мы предавались размышлениям о судьбах родины и ремесла, его с нами не было. Он взял мой фотоаппарат и ушел в свою комнату. И засел там. Причем надолго, как бывает только в тех случаях, когда что-то не ладится… Я похолодел. Одно неверное нажатие кнопки — и вся моя съемка с первого дня пребывания в Махачкале до последних кадров, снятых в дождливом сумраке Кубачей, — исчезнет без следа и без возврата…
— Послушайте, — выговорил я. — А Мурад… Что он так долго? Может быть, сходить, проверить, как у него дела?
— Да все хорошо, — первым делом ответила Бика, взглянув на мою перекошенную, видимо, физиономию, и неожиданно прыснула. — Он, наверно, в компьютер заигрался просто…
— А что он засел играть-то? Мне фотоаппарат пригодился бы. Давайте заглянем к нему, — попросил я.
— Ну, давайте заглянем.
Фотоаппарат стоял на столе, правая панель для флэш-карты была открыта, свет от экрана компьютера подсвечивал жесткое, как у отца, лицо Мурада. Видно было, что компьютер переваривает какое-то необычное задание. Это несколько меня успокоило.
— Ну что, получается? — не без опаски спросил я.
— Да. Уже скоро. Просто телефон — он медленно качает…
Он, значит, вставил флэшку из моего фотоаппарата в свой мобильник — это оказался единственный способ скачать фотографии на его компьютер. Не скажу, что я сразу успокоился. Бика, возможно, и понимала, чего я боюсь, но она лучше знала своего сына и от души веселилась, покуда Мурад не принес на кухню фотоаппарат и я, включив режим просмотра, не убедился, что съемка цела.
Домой мы вернулись в глубокой темноте.
— Ну, слава Аллаху, пришли, — вышел навстречу Гаджикурбан и, словно извиняясь, добавил. — Боюсь я его ночью одного выпустить в селение… Ни разу еще не засыпал, пока он не придет или я не буду точно знать, где он. Наверное, у вас так же, в Москве? Пока сын домой не придет — мать волнуется, она не думает, что он у друга сидит, просто отдыхает… Она думает: кто-то встретится, что-то плохое случится…
Старик и правда казался взволнованным, Айша быстро накрывала ужин.
— Ну а что плохого может случиться в селении? — искренне удивился я.
— Всякое может случиться, — уклончиво ответил Гаджикурбан, но тут же тактично смягчил тему. — Вы не думайте, я, когда в девятом классе учился, отсюда ездил на олимпиады по математике в Нальчик, в Карачаевск… Один ездил, никто меня не сопровождал. Люди как братья жили… Никто ничего не боялся…
Айша икренне расстроилась, когда я сказал, что мы уже поужинали у Гаджи-Али и больше съесть я просто не могу. На этот раз она приготовила нежнейшие хинкалики с начинкой из взбитого яичного белка и «аля-кутце», свежайшие, горячие пирожки с начинкой…
Я поглядел на неё и понял, что будет последним гадством оставить без внимания приготовленные ею блюда. Нигде еще в Дагестане я не видел еды, приготовленной с такой любовью.
— Тогда решено: садимся ужинать во второй раз, — сказал я и увидел, как морщины, собравшиеся в маску какого-то горестного недоумения на лице Айши, расправились и ее глаза с благодарностью сказали мне, что я поступил правильно.
Я подумал, что уже завтра в полдень буду в Дербенте, а там…
Я просто сяду на берегу моря и на время забуду все, что я узнал с тех пор, как прилетел в Дагестан. Все исчезнет, останутся только блестки солнца в морских волнах, камешки и ракушки, которые моя ладонь нащупает на берегу. И это будет счастье. Короткий миг счастья, как и положено. Счастье не должно продолжаться слишком долго. Но точка в конце пути — она не должна быть ничем омрачена. Вот как я хочу. Я расстегнул рюкзак и стал аккуратно укладывать вещи.
Айша подошла своей неслышной походкой и протянула мне даргинские вязаные тапочки, похожие на короткие шерстяные носки.
— Возьмите, — улыбнулась она. — Вашей жене…
XIV. ДЕРБЕНТ
Ну вот и Дербент! Солнце, тридцатиградусная жара, горячий душ, выстиранная футболка, сохнущая на краешке раскрытого окна, вымытая, наконец, голова и — шторы. Великолепные синие шторы: все-таки гостиница неспроста называется «Европейская». Еще Дюма, путешествуя по Кавказу, писал, что о такой роскоши, как шторы и нега в постели, европейцу в этих краях приходится на время забыть, первый же луч солнца, «как выражаются поэты, играет на ваших ресницах; вы открываете глаза, исторгаете стон или брань, в зависимости от того, склонны ли вы по характеру к меланхолии или к грубости» 101. В отеле «Петровскъ» в Махачкале солнце регулярно будило меня в ранний час, а кисейные занавеси не спасали от пробуждения более раннего, чем хотелось бы. Кстати, Дюма принадлежит и одно из лучших описаний Каспийского моря: «Оно было цвета синего сапфира, и никакая рябь не пробегала по его поверхности. Однако, подобно степи, продолжением которой оно казалось, море было пустынно» 102. И этот синий сапфир лежал прямо за моим окном, отделенный на этот раз не степью, а рядами выкрашенных суриком железных крыш. Я был в Дербенте, видел море с высоты цитадели Нарым-Кала, стремился к нему, купался в нем, но самого моря так и не видел. Во‐первых, была ночь, а во‐вторых…
Семь лет назад в интернете появилась информация о том, что при раскопках Дербентской стены ученые обнаружили Врата ада. Неважно, как это называлось, «Ворота в преисподнюю» или «Адские врата», но суть была одна: ворота найдены, и можно куда-то реально спуститься. Спуститься в Ад. Ну и описать, что ты там повидал.
Главному редактору журнала, в котором я тогда работал, эта идея показалась забавной, командировку мне сделали в один день — я едва успел разыскать адрес и телефон Дербентской археологической экспедиции, которой как раз руководил тогда Муртузали Гаджиев, — и на следующий день уже летел в Дагестан. Остановился в той же «Европейской». На ночь почитал книжку: новости оказалось без малого триста лет. В результате «персидского» похода Петра, оказавшегося столь удачным, Дербент достался империи Российской. И царь его посетил. Как легко догадаться, в Дербенте больше всего заинтересовали Петра стены, как предмет любимой им фортификации. Их он измерял — и высоту, и ширину. А вот секретарь его походной канцелярии, молдавский князь Дмитрий Кантемир чудесными в Дербенте почел не только стены: в частности, прослышал он, а прослышав, осмотрел необычное место, весьма чтимое мусульманами. Называлось оно «Ворота Судного дня». Что это такое, Кантемир, возможно, не понял. Однако, зарисовал и сами Ворота, и довольно необычные клейма строительных мастеров на стене.
Потом, как водится, прошло немало лет, и археологи, прочитав дневники Кантемира, стали интересоваться: а где же это — «Ворота Судного дня»? Искать их следовало в северной стене Дербента — той самой, что когда-то приступом взята была хазарами. Но со времен петровых «культурный слой» по обе стороны стены так нарос, что высота стен уменьшилась с 10 до 6 метров, и никаких признаков ворот обнаружить не удавалось: все было погребено землею. Но достославен кропотливый XVIII век! Кантемир копировал клейма на стене, и вот по этим-то клеймам — одни напоминают первый советский спутник (знаки мастеров‐зороастрийцев), кресты выдают строителей-христиан — и было предположительно определено место, где следует искать «Врата Судного дня». Профессор Муртузали Гаджиев эти ворота раскопал. Журналисты немедленно написали, что отрыты ворота в преисподнюю…
На всякий случай (если раскоп будет глубокий) я еще в гостинице поинтересовался у профессора: как там, в белых штанах — не запачкаешься?
— Да нет, — сказал он, — я и сам в белых.
— В ад, — пошутил я, — значит, можно и в белых штанах.
Мы прошли через городской сквер, где без устали наяривал на двухрядной гармонике, украшенной приклеенными осколками зеркал, какой-то старичок в огромной кепке, и вышли за древние городские стены.
— Сюда, — позвал Муртазали, и мы оказались у подножия одной из крепостных башен. В самом углу раскопа и вправду был неширокий вход, ступени… Стены вокруг были испещрены многочисленными знаками. Внутри была яма, но не глубокая, поросшая каким-то нежно-зеленым мхом. На стенах — изображения луков, нацеленных вниз.
— Ну и что там внизу? — спросил я.
— Не знаю. Мы не стали вскрывать, — сказал профессор. — Вообще, это не вход, а выход. Выход для душ в Судный день, когда вострубит труба ангела Исрафила, и мертвые восстанут из своих гробов.
— А вход? — спросил я. — Вход тогда где же?
— А вход — это могила, — сказал профессор и повел рукой. — Тут вокруг нас везде могилы, древнее кладбище.
Когда возводились древние стены и в Дербенте еще никто не верил в Аллаха, «Врата Судного дня» были просто узким проходом в стене, защищенным массивной дверью. Возможно, этим проходом пользовались для внезапных ночных вылазок против врага. Возможно, для тайного пропуска в город гонцов или лазутчиков. Когда в X–XI веках проход в стене был с одной стороны замурован, образовалась дверь со ступенями, ведущими вниз, которая каким-то невероятным образом была переосмыслена в совершенно неожиданном мистическом ключе…
Место почиталось до начала XX века как пир: отправляясь в паломничество, сюда приходили и вбивали в стену гвоздь. Если стена гвоздь «принимала», паломничество обещало быть удачным. Последние гвозди, уже фабричного производства, забиты на четыре метра выше первых.
Поразительно, что как только «Ворота» были раскопаны археологами, они вновь стали объектом поклонения. Теперь сюда носят «записки Богу» и деньги. «Я хочу, чтобы мой папа никогда не пил» — дословная записка. «Я хочу, чтоб Фикрет пришел меня сватать, а я вышла замуж за хорошего человека». «Я хочу окончить школу на отлично». Такие записки и монетки кладут в щели между камнями и в паз, где раньше находился засов.
— Я был свидетелем, когда сюда приходила молиться женщина, христианка. Она говорит — место святое, Бог один, почему я не могу здесь молиться? — рассказывал Муртузали.
Честно говоря, ворота не произвели на меня большого впечатления. Мне близка мысль, что рай и ад мы творим сами — каждый день, каждый час. Сами выбираем для себя ад или рай — но ад почему-то чаще — и, соответственно, жизнь в этом аду. Но я далек от мысли, что ради таких грешников, как мы, будут возжены адские костры и Аллах вечно будет поить нас гноем и кипятком… Вы уж простите, но я лучшего мнения об Аллахе.
Осмотрев с Муртузали «Ворота Судного дня», мы отправились из нижней части города наверх, к цитадели, сквозь кварталы старого города, которые до сих по еще по-арабски зовутся «магалами». Они ветхи, но в этой ветхости — какая-то их несравненная достоверность. Когда-нибудь их снесут, но я всегда буду помнить этот старый Дербент, в котором побывал еще Марко Поло. Он видел тысячелетние платаны возле Джума-мечети всего лишь трехсотпятидесятилетними, но так ли уж много это меняет? Ведь когда солнце совершает половину пути по небу, трапеза оказывается кефалью, приготовленной в белом вине, косые тени ложатся, предвещая вечер, ремесленники подсыпают корму ловчим и певчим птицам, спрятанным от дурного глаза в глуби двора, детвора шумно носится по улицам, странник направляется в сгусток старого города, к его лавочкам и мастерским, погонщикам верблюдов из дальних стран, синим ставням и синим воротам, скрывающим внутреннюю жизнь дворов: созревающее материнство, женские пересуды, мальчишек в шуршащих ветвях акаций…
Возле старой Албанской церкви, куда Муртузали зашел по какому-то делу, я заметил ремонтную мастерскую, хозяин которой как раз запаивал прохудившийся радиатор автомобиля. Отложив в сторону паяльник, он стоял в красной майке на фоне красной же двери мастерской. Мы познакомились. Лудильщика звали Али.
Подумав, он вдруг произнес:
— Хочешь посмотреть?
— Что?
— Пойдем…
Когда попадаешь в Дербент в первый раз, не оставляет ощущение, что ты бродишь по страницам сказок «Тысячи и одной ночи». И хочется верить, что найдется дверь, которая откроется только для тебя. Ни для кого больше.
Али провел меня в глубь лавки и остановился у двери. Наверное, это и была та самая единственная дверь. Для меня. За дверью оказалась мастерская, в которой стояли… может быть, сотни… прекрасных дагестанских медных сосудов — кувшинов, котлов, кружек, чаш…
— Бери, выбирай…
Я купил себе маленький медный чайник, в котором, должно быть, заваривал себе чай какой-нибудь пастух в горах Табасарана.
Свою экскурсию мы с Муртузали закончили, разумеется, в цитадели Нарым-Кала, где пространство вдруг распахивается во все стороны — от Каспия до вершины Джалгана — и сонные ветры времени веют над остатками дворца Фетали-хана, космическими белыми куполами ханских бань и подземным водохранилищем, устроенным в древнем христианском храме, вырубленном в скале в форме креста…
Ну а потом солнце совершило половину пути по небу, трапеза оказалась той самой кефалью, приготовленной в белом вине, сосновая роща, куда мы с Муртузали зашли, скрывала уединенную усадьбу, где отмечал свой день рождения директор коньячного завода. Обстановка была скромная: терраса с видом на море и всего несколько приглашенных. От коньяка я опьянел слишком быстро и поэтому уже после кефали изыскал повод, чтобы откланяться. Сознание выключилось. Но, как выяснилось, человек может отлично обходиться и без него. Об этом свидетельствуют снимки:
1) Жилистый загорелый рабочий, раскапывающий вход в подвал.
2) Пожилые люди, играющие в нарды.
3) Старик в белоснежной вязаной шапочке, внимательно читающий учебник математики за 5‐й класс, который я упорно принимал за Коран, пока не увеличил снимок.
4) Старики под древними воротами Дербента: они собираются тут и толкуют о том о сем целые вечера.
5) Дети, торгующие на улице каким-то широпотребом; живописный перекресток, старая застройка и купол сооружения, напоминающего квартальную мечеть.
На последнем снимке вновь запечатлены играющие в нарды мужчины. Поскольку снимок сделан со вспышкой, легко догадаться, что начало смеркаться и, значит, времени прошло немало. Да и улица на снимке широкая, без уклона — значит, я спустился уже из старого города вниз. Я шел, переступая через какие-то шпалы, через какие-то трубы. Собаки лаяли на меня, под конец я забрел в непроходимую гущу каких-то деревьев и вдруг… Я услышал. Море, черное, как южная ночь, как плоды дерева Зуккум, растущего из глубин мусульманского ада. Помню, я сорвал с себя одежды и бросился в черную невидимую воду, но море с омерзением выплюнуло меня. Я кое-как вытерся майкой, надел джинсы на голое тело и каким-то невероятным образом вновь оказался у дверей гостиницы «Европейская» — с мокрой головой, полной морского песка, но моря так и не увидевший…
Может быть, именно поэтому я решил, что на этот раз первым делом схожу к морю и посижу, как хотел, на пляже, а уж потом — пройдусь по Дербенту в майском цветении и все такое. Расчеты мои были просты: в прошлый раз я спускался от цитадели Нарым-Кала очень узким коридором, не выходящим за пределы стен (хотя новый город давно уже выплеснулся за и разросся по разные их стороны): значит, где-то там, внизу старого города, и следовало искать море, в котором я искупался. Я пошел вниз, в кварталы, когда-то примыкавшие к дербентской гавани. Как пишет Дюма, потом там были казармы. Позже, видимо, снесли и их, потому что я шел среди двух-трехэтажных домов довоенной постройки, безлюдной улицей, казалось, всеми и навсегда забытой. Это был спящий беспробудным сном город, где отчаянным золотом мелькнула вдруг главка русской церкви и снова посыпалась пыль забвения… Казалось, старые дома выражают безмолвное недоумение старости, кое-как доковылявшей до третьего тысячелетия и чувствующей себя явно неуютно в новом времени в своей беспомощной ветхости, с нелепым устаревшим языком, еще сохранившимся на вывесках: «Часовая-Ювелирная. Ремонт часов всех марок». Какая «часовая-ювелирная»? Для кого? Стоящая рядом маршрутка с разбитым ветровым стеклом и выдранным мотором доводила запустение до крайней черты: большей заброшенности, казалось, невозможно себе представить. Но тут я поглядел вперед, увидел рельсы железной дороги и за нею «сапфир» — море. За переходом через пути начинался болотистый, частично заросший кривыми деревьями участок, по которому в море стекал бурный ручей пенящейся жидкости, ни серый цвет которой, ни отвратительный запах не оставляли сомнения в том, что именно подтачивает мой голубой карбункул. Перепрыгивая по брошенным в серую жижу автомобильным покрышкам, я выбрался, наконец, к морскому берегу. Так вот, значит, место, где угораздило меня в прошлый раз искупаться! Другого быть не могло. В стороне от главного стока канализации в прибрежной воде плескались люди! Со всех сторон рядом, как хищные птицы, стояли на бетонных плитах рыболовы с удочками.
Вот тебе и «сапфир»! Сидеть здесь на берегу не имело никакого смысла. Я решил пройти вдоль моря, чтобы отыскать кусочек пляжа почище, но не тут-то было! Есть особая поэтика заброшенности, нищеты, гетто, которая иногда попадает даже на страницы глянцевых журналов. Куры, собаки у мусорных баков, тут же скелеты других собак, раздавленных проносящимися мимо машинами, проржавевший вентиляционный короб, человек в кепке, заинтересованно читающий газету, сидя на рельсах запасного пути, снятый с колес вагон, превращенный в жилье, и бетон, бетон заборов и стен в его каком-то прямодушном солдатском усердии держать разрушающуюся форму…
Я оказался на улице с издевательским названием Приморская, в квартале прижатых к морю заброшенных автобаз и заводов. Стекла брошенных цехов были разбиты, почерневшие ворота насквозь проедены ржавчиной, в проеме ворот просматривался кусочек обманчивой морской синевы…
Люди. Их трое. Они выпили и зачем-то пришли посидеть у этих ворот, на запустелый край города, как будто душа специально ищет неуюта и, только обретя его, успокаивается, в пространстве/времени между бытием и небытием, памятью и беспамятством, воплощением и развоплощением… Может быть, и один, и другой, и третий — все когда-то работали на этом комбинате, производившем строительные блоки. Но ты, чужестранец, зачем ты зашел на этот брошенный берег? Вслушиваться в ветер забвения? Играть в жмурки с судьбой?
— Э, ты откуда?
— Из Москвы.
— Ох, и зае…ли вы, москвичи…
Этот нервнее других, задиристее. Криво улыбается и вынимает из внутреннего кармана пиджака три тонкие рыбки длиной с ладонь:
— На, попробуй, эта рыбка — самая жирная на Каспии.
Я нырнул в ржавые ворота, чтобы быстрей исчезнуть из сознания повстречавшихся мне пьянчужек, и первым делом выбросил подаренную рыбу, представив себе, на каких кормах она нагуливала свой жирок…
Потом поймал такси и поехал, минуя магалы, сразу к цитадели Нарым-Кала. Есть величие в ниспадании складок ее мощных стен от вершины Джалгана до надвратного бастиона, где они образуют над городом неприступную твердыню. Марко Поло и Афанасий Никитин, Амброзио Контарини и Иосфат Барборо, Самуил Готлиб Гмелин и Александр Дюма любовались этой крепостью.
Гмелин, впрочем, приглашен был и во дворец: Фетали-хан, прознав, что он доктор, вызывал его к себе, требуя «согнать» затвердевшую опухоль на шее. Гмелин пользовал его компрессами, боясь скальпелем зарезать хана. Но, убедившись, что пластыри не помогают, хан пришел в крайнюю ярость, а узнав, что желвак на шее надо резать, — решил и вовсе прогнать доктора, не дав в сопровождение ни сарбазов (солдат), ни лошадей — и своим недовольством, пробежавшим, как электрический ток, по всем берегам каспийским, предопределил несчастную участь всей гмелинской экспедиции.
Я прошел сквозь массивные, окованные черным железом ворота.
В пустынном пространстве крепости стояла благословенная пора весны: цвели нарциссы, высаженные вдоль дорожек, цвел розовый осот — сорная трава, но в этот день, в этот час так кстати вбрызнутая в майскую палитру скоплениями густых лиловых пятен; да и деревья — то были ясени — выпуская свои первые, коричневато-желтые, с красными прожилками листочки, будто распускались каким-то невиданным цветом…
Я прошелся по стенам, глядя вниз на расплывшийся, растекшийся по всему побережью Дербент, потом на горы позади. Оттуда светило солнце, озаряя белоснежные купола ханских бань, похожие на НЛО, приземлившиеся в цветущем весеннем саду. С высоты цитадели уродства города не были заметны: крыши человеческого жилья лепились друг к другу, как испугавшиеся дети, и даже безблагодатный Квартал Забвения издали казался красивым. Гаснущее синее море плыло над ним, как небо, а в середине картины, как игрушечный, пробирался тепловозик с красной звездой на лбу. Я долго смотрел на вечереющий город, пока не почувствовал, что пора уходить.
Мысль полежать на траве сама собою приходила в голову в этот солнечный вечер, я вышел из цитадели, где уже обжимались по углам парочки и, чтобы никому не мешать, поднялся к дальней западной стене. Тут полыхало три большущих костра. Жгли ветки сосен, обломившиеся за зиму. Белый жар клубился в сердцевине костров, ветер швырял на стены рыжие космы огня и оторвавшиеся языки пламени. Изображение стен плавилось, становилось зыбким, и я вдруг ясно представил себе штурм: кипящие котлы с нефтью, огненные кочаны напитанной нефтью пакли, приготовленные для катапульт, черных от сажи воинов, лучников…
Рабочие-азербайджанцы все подтаскивали к пылающим стогам огня ветки сосен. Внезапно один из них, лет пятидесяти, обратился ко мне.
Я встал, приглядываясь и тоже что-то как будто припоминая…
— Не ты ли несколько лет назад с Муртузом заходил к нам на дачу?
— Дача — это там? — показал я на темное пятно хвойного леса на склоне горы.
— Да…
Невероятно. Ведь столько лет прошло… И все же…
— Так это ваша была кефаль в белом вине?
Мужчина расплылся в улыбке, польщенный моею памятью о кефали:
— Ну, да… Я, вообще, повар, вот, в Москву собираюсь…
Нам не пройти по жизни, не оставив следа.
Напоследок я зашел к Али, мастеру-лудильщику. Красная дверь его мастерской была пыльной, будто ее не отпирали с тех пор, как он открыл ее для меня. Я постучал. Никто не ответил. Уехал в Москву? Женился? Заболел и умер? Или просто был подхвачен тысячей разных обстоятельств, которым подвержен одинокий трудящийся человек, и был унесен неизвестно куда ветром своей судьбы?
В полночь я приехал на пляж далеко за городом. Парочки перешептывались в темноте. Машина ждала. Я выкупался, выкурил сигарету и вдруг отчетливо ощутил, что все это не то: весь расклад не тот, и море не то, и купание, и сигарета, и машина… Не то место, чтобы ставить точку.
Я вдруг подумал, что хотел бы оказаться у моря вдвоем с Ольгой где-нибудь в красивом месте, на краю пустыни… Нужен дикий берег… Дикий восточный берег. Чистые цвета: желтый и изумрудный. След ящерки на песке… Я бы хотел преподнести своей любимой подарок — сапфир моря в оправе золотых песков пустыни. Я бы хотел.
XV. ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОГРАТЛЬ
Был мягкий сентябрьский день, когда согратлинская маршрутка вновь вознесла меня к площади перед мечетью, возле которой, сидя на лавочке, поджидал меня Магомед. Стояла тишина. По-осеннему ласково светило солнце в ясном небе. Вдали, над хребтами Кавказа, висели тяжелые тучи. Магомед с улыбкой приветствовал меня: тут только я заметил, что он бледен и, судя по осторожности движений, нездоров.
— Ничего, — проговорил он с неизменной рассудительностью. — Я немного приболел. Но это не помешает нам общаться.
Думаю, он, как и я, с нетерпением ждал этой встречи.
После весенней поездки я очень быстро понял, что повсюду снял только поверхностный слой впечатлений, нигде не погрузившись сколько-нибудь глубоко в мир ислама. Причем не того мягкого и, в общем, понятного ислама, в который я с любопытством совершал свои «путешествия» в Азербайджане, а ислама патриархального, сурового, опирающегося на совсем иные ценности, нежели исповедовал я. И я знал, где упущение мое было особенно очевидно, где духовная реальность ислама была явлена мне со всей ясностью. Разумеется, это был Согратль — идеальный оазис патриархальной исламской цивилизации. И Магомед, как своеобразный хранитель этого оазиса. Разговор с ним тогда, в мае, оборвался на полуслове. Но, как оказалось, прекратить этот начавшийся диалог я не в силах. Мне нужен был именно Магомед и никто другой, поскольку уникальна была сама традиция, на которую он опирался. С одной стороны — вольный дух Андалала («мы не овцы»), с другой — его патриархальность, погруженность в почти аскетическую простоту традиции, несовместимой с духом потребления и наживы.
В последнем мы, кстати, совпали, хотя для меня питательной средой был духовный порыв 60–70‐х и связанные с ним самоотверженные попытки вернуть рационалистической и технологической культуре Запада мировоззренческий смысл — будь то рок, джаз, анархизм, трансперсональная психология, теория «Живой Земли» или обращение к духовным практикам Востока — короче, весь спектр попыток, объединяемых понятием «контркультура»103. К этому потом добавился интерес к традиционным культурам кочевников Севера и Сибири, увлечение шаманизмом и буддизмом. Так что с Магомедом мы совпали лишь в некоторых выводах, существуя в параллельных, никогда не соприкасающихся духовных пространствах. Мой мир был пластичен. Его — кристаллически тверд. Было интересно: насколько при этом мы сохранили способность к взаимопониманию?
Нам надо было вдоволь наговориться.
Народ с маршрутки разошелся и площадь опустела. Лишь у мечети толпилась молодежь. Я приготовился следовать за Магомедом к дому, но оказалось, что и он должен задержаться в мечети: была пятница 104, время полуденного намаза.
— Ты сам найдешь мой дом? Патимат ждет тебя…
— Направление помню, но какой именно дом…
Магомед, не долго думая, подозвал паренька, крутившегося неподалеку.
— Будь добр, отведи гостя ко мне.
Парень, не прекословя и, я бы сказал, с чувством гордости за порученную ему миссию, повел меня в глубь селения. Мы прошли вдоль длинной подпорной стены, потом в арку, потом налево… Тут была узкая улочка, в которой, будто и не прошло трех с половиной месяцев, по-прежнему стоял привязанный к дверной ручке ишачок с бежевыми очками вокруг глаз. Направо — мимо хлева и сараев, заново наполненных сеном и свежим кизяком… И вот уже где-то рядом… Палисадники возле домов, увитые фасолью и вьюнками, заросшие небольшими тыквами, меж которых бродили куры и цесарки, очень изменили вид улицы, которую я видел в мае, когда первая зелень только еще пробивалась из земли. Я ничего не узнавал. Наконец, мой провожатый остановился возле незнакомого, как показалось, дома:
— Здесь…
— Спасибо, друг, я бы сам не нашел…
Мальчишка с сознанием выполненного долга кивнул головой и побежал обратно. Я подтянул отяжелевший рюкзак и двинулся к дому. Внезапно до моего слуха донеслись звуки человеческого голоса. Женского. Причем… Необычное интонирование этой непрекращающейся речи не оставляло сомнений: то была молитва. Молитва Патимат. Я остановился в замешательстве: прерывать молитву было бестактно. Слава богу, я вовремя расслышал голос и не ввалился в дом в самый неподходящий для этого момент. Я закинул рюкзак на плечо и пошел в конец улицы, где стоял стог свежего сена. Чуть дальше на склоне горы паслись две или три коровёнки. Я присел на траву, не зная, сколько мне придется ждать. Час? Полчаса? В любом случае мешать не стоит. Пригревшись на солнышке, стал я размышлять, чем займусь в ближайшие дни. Ну, сегодня, пожалуй, для разминки сбегаю к крепости… Не так уж высоко она стоит, хотя сначала придется-таки спуститься до самого дна ущелья, разделяющего крепость и Согратль. Завтра тогда — к мемориалу победы над Надир-шахом… Ну и послезавтра — в Чох. Пешком, наверное, будет лучше… И оттуда уже обратно. В тот момент я был убежден, что пробуду в Согратле по крайней мере пару дней. Мое внутреннее время замедлилось. Пару дней спокойно побродить по горам, поговорить с Магомедом и тогда уже возвращаться… Я растянулся на траве и закрыл глаза. Через некоторое время за головой послышался осторожный шорох и обеспокоенное квохтанье. Куры пришли. Коровенки с шумным дыханием пощипывали траву, регулярно отшлепывая на землю свежие лепешки — сырье для фирменного согратлинского кизяка. Голос муэдзина, выводящий какой-то невероятный по изяществу музыкальный узор, то и дело вливался в обступавшую меня тишину…
Не знаю, сколько прошло времени. Потом интонации голоса, доносящегося из репродукторов мечети, изменились. Распевы кончились. Пошел речитатив. Видимо, пятничная проповедь. Я поднялся с земли, отряхнул джинсы от сухих травинок и пошел к дому Магомеда. Прислушался. Женского голоса больше не было слышно. Я поднялся на второй этаж и постучал в дверь. Патимат открыла.
— Где вы были так долго?
— Ждал, пока вы помолитесь…
Благодарность и смущение промелькнули в ее глазах.
— Что же вы стоите? Проходите, проходите…
Я снял кроссовки и вошел в дом. Патимат показала отведенную мне комнату, в которой я мог оставить свои вещи. Кажется, я повел себя правильно, не нарушив ее молитвы: она была очень доброжелательна и открыта. Чтобы не испортить произведенного впечатления, прежде всего надо было умыться с дороги. Я попросил полотенце — и по едва заметному выражению ее лица понял, что снова поступил правильно. Мусульмане щепетильны в вопросах ритуальной чистоты, и если ты, проделав долгий путь и войдя в чужой дом, не смыл дорожную пыль, не очистился — то ты, в некотором смысле, просто человек без понятия.
Пока я умывался, Патимат накрыла стол для чаепития и предложила подкрепиться с дороги.
Я осмелел:
— А на каком языке вы молитесь, Патимат? На слух я бы сказал, что это не арабский…
— Нет, — улыбнулась Патимат. — Я молюсь на своем, на аварском. Но понемногу я учусь… Магомед учит меня. Смотрите, какую книгу он мне привез…
«Книга» оказалась компьютером для начинающих изучать Коран. На экране под «обложкой» были приведены все ракаты 105 намаза на арабском языке. Достаточно было взять тонкое пластиковое стило и дотронуться до любого изречения, как крошечные динамики, вделанные в книгу, озвучивали написанное. Мало того, для тех, кто не понимал арабского, сбоку был приведен перечень языков, на которые одним прикосновением волшебной пластиковой палочки можно было перевести смысл только что произнесенной молитвенной формулы: английский, французский, русский… Всего с десяток разных языков.
Я взял книгу в руки и, дотронувшись до непонятной мне арабской надписи, тут же услышал над самым ухом распев невидимого муэдзина. Это было так чудно´, что я рассмеялся, как ребенок смеется забавной игрушке.
— И что это значит?
— Теперь надо дотронуться сюда, — указала Патимат на «русский» в столбце языков, на которые книга умела переводить.
«Во имя Аллаха милостивого, милосердного!»
— Да-а, — сказал я удивленно. — А можно еще попробовать?
— Ну конечно…
Я взял стилус в руки и повторил операцию с другой фразой. И вновь пение невидимого муэдзина вызвало у меня приступ глупого смеха.
Патимат сидела напротив меня и, похоже, тоже втайне забавлялась.
За этим-то занятием и застал нас Магомед, вернувшийся наконец из мечети.
— Прекрасный день, прекрасная проповедь, прекрасный человек наш имам, — удовлетворенно проговорил он и вдруг спросил:
— Мне позвонила одна женщина, которая ехала с тобой в маршрутке, спрашивает, ты, случаем, не прихватил сумку с женскими вещами? Черную такую? В том смысле, что, может, перепутал… У нас одна женщина пришла домой, заглянула в свою сумку, такую же, а там только мужская рубашка да кроссовки…
— Да нет, у меня, кроме рюкзака, ничего не было…
— Вот странно. А чья же это сумка тогда?
Впечатление было такое, что все селение уже было осведомлено, кто я такой, когда и к кому приехал… Я напряг память.
— Когда я садился, там был один паренек. Лет пятнадцати-шестнадцати. Он на боковом месте у двери сидел. И перед самым отправлением неожиданно вышел. И потом с нами не ехал. Вот, может, это его вещи?
— А-а, — сказал Магомед. — Может быть, может быть… Есть тут у нас один, как по-русски говорят, блаженный. Кочует по всему Дагестану. Ездит, куда в голову взбредет… Этот мог и перепутать… Наверное, это он. Я так и скажу…
Меня же в маршрутке поразил другой эпизод: на остановке я купил лаваш и бутылку минеральной воды. Не успел я свинтить крышку, как вдруг паренек лет тринадцати, сидевший напротив, кивнув головой в сторону бутылки, стал что-то пытливо выспрашивать у меня.
— Я не понимаю…
— Это что — пиво? — сурово спросил паренек.
— Минеральная вода, — ответил я, неприятно пораженный тем, как запросто он лезет в чужие дела. Но он нисколько не был смущен. Напротив, еще несколько секунд он с подозрением поглядывал на бутылку, оценивая употребляемую мною жидкость на вязкость и цвет, и только убедившись, что в бутылке действительно вода, он потерял ко мне интерес и стал смотреть в сторону…
— О, черт! — вдруг вспомнил я.
— Что такое? — спросил Магомед.
— Я не заплатил за маршрутку. Увидел вас, сказал «спасибо» — а денег не заплатил…
— Ну, ничего, — сказал Магомед.
— Как это «ничего»? Но водитель — он же здесь живет, в Согратле? И завтра опять поедет? Я подойду к нужному времени, отдам…
— Я заплатил, — сказал Магомед.
— Тогда…
— Ни в коем случае, — остановил меня Магомед. — Ты мой гость.
Потом он заметил в моих руках книгу.
— Что, заинтересовало?
— Да-а, надо же выдумать такую штуку…
— Читать или слушать Коран на арабском языке для мусульманина — все равно, что слушать голос самого Бога… — несколько патетически произнес Магомед и принялся объяснять, что Коран есть ниспосланное Слово Божье, которое более двадцати лет возвещал пророк Мухаммад.
Мне не хотелось говорить о Коране. Если Коран есть прямая речь Бога, то всякое (не несогласие даже — а малейшее сомнение) в истинности сказанного есть богохульство. Отсюда — запрет толковать Коран. Прямой запрет толковать Коран, в самом Коране и содержащийся. Вот ведь увертка! Но, по совести говоря, мне не было близко воплощенное в Коране Слово, ибо такого количества угроз не знает ни одно священное писание мира. И перед грозным, мстительным, всё подмечающим Богом человек, неблагодарный и строптивый раб, не имеет ни единого шанса снискать Божию милость иначе, как слепо исполняя изложенные в Священной Книге предписания божественного закона в ожидании Судного дня. Вот там-то — бр-р-р! — и воздастся человецем по всем статьям!
Я очень высоко ценю опыт исламсих мистиков. Но мне трудно нормально воспринимать ортодоксальный ислам — просто потому, что я был воспитан и вырос в другой традиции. Надо было сделать над собой усилие. Я ведь приехал сюда не спорить. Я приехал сюда понять…
По счастью, Патимат начала накрывать стол к обеду.
— Хорошо, — вдохнул я. — Но если язык ислама — арабский, то как могут понимать Коран те, кто арабским языком не владеет?
Магомед вздохнул с облегчением. Пришел час его наставничества — науки убеждать.
— Дело в том, что каждый мусульманин обязан изучить ислам и Коран. Это обязанность каждого мусульманина.
— На арабском?
— Обязательно на арабском. Вот эти суры — их не так уж много — с детства знают все мусульмане. Детей Корану обучали с шести лет. Это начальная школа: уметь читать Коран. Потом приступали к объяснению Корана. А потом уже медресе — здесь мусульманин должен полностью осмыслить прочитанное. Раньше в Согратле было медресе, оттуда вышло несколько выдающихся богословов. Сейчас тексты Корана и Сунны 106 есть в хороших переводах. А арабским молодежь овладевает с помощью интернета. Ведь Коран — что это? Это руководство для образа жизни мусульман, ниспосланный Аллахом образ жизни. Если ты мусульманин, ты должен привести свой образ жизни в соответствие с ниспосланием…
Я кашлянул.
— Магомед, в Москве сейчас много рабочих из Азии. Нет ощущения, что они глубоко знают ислам. Может быть, заучили наизусть только слова намаза. А в истолковании Корана они беспомощны. Думаю, они и не читали его.
— Не их дело толковать Коран, для этого есть имам, есть ученые богословы, которые на каждый случай готовы дать разъяснение…
Я промолчал.
По мне так лучше бы они сами понимали, во что веруют.
— Чика! — вдруг громко вскрикнул Магомед, заметив, что Чика — белая, в пестрых пятнах кошка — приглядывается к нашему обеду. — Патимат! Пусти Чику на улицу…
Я был рад перерыву в нашей «богословской» беседе. Мне хотелось лишь завершить разговор вручением Магомеду одного подарка. Я привез с собой текст Молитвы оптинских старцев — одной из лучших православных молитв. И вот мне хотелось, чтобы Магомед прочитал ее и сказал — что он думает по этому поводу. Прежде я дерзновенно хотел помолиться вместе с ним, дать ему произнести слова этой молитвы, а самому прочитать какую-нибудь хорошую мусульманскую молитву — но по разговору я понял, что это невозможно. А жаль. Это было бы круто. Это и был бы, провались я на месте, диалог культур!
Мы принялись за еду. Внезапно я ощутил, что кто-то придерживает меня за локоть левой руки. Я пошевелил рукой, но… Это был Магомед. Я уставился на него в удивлении.
— Во всех ниспосланных религиях явно введен запрет есть левой рукой, — дружелюбно, но твердо произнес он. — И в иудаизме, и в христианстве, и в исламе…
Реплика была вызвана тем, что я левой рукой прихватил пирожок с зеленью, который приготовила Патимат, и бодро закусывал им, правой рукой удерживая чашку с чаем.
— Никогда ничего не слышал про это…
— Есть такой запрет: не есть левой рукой, а во время омовения не делать это правой рукой. Такое правило есть во всех ниспосланных религиях. Как исследуем мы Создателя? Следуя его предписаниям. И если ты имел привычку такую, то лучше от нее отказаться…
Я был обескуражен. А если я, например, левша, если Аллах создал меня левшой, мне что, переучиваться, что ли? Или Магомед не знает, что переучиваться в таких случаях вредно? И к чему такой пафос? Сказал бы просто: мы, мусульмане, подмываемся левой рукой, так что пойми, а если хочешь, испытай на себе, но лучше есть той рукой, которая остается чистой после того, как ты вымоешь задницу…
Однако я опять промолчал.
Коль уж я взялся исследовать точки возможного соприкосновения наших духовных пространств — лучше было довести это исследование до конца.
После обеда Магомед и Патимат расположились у телевизора и по мусульманскому спутниковому каналу стали смотреть 24‐часовую трансляцию из Мекки, из заповедной мечети Харам, облекающей главную святыню мусульманского мира — Каабу, построенную после библейского потопа Авраамом из серого камня пяти священных гор. В один из углов Каабы вмурован священный Черный камень, по вере мусульман попавший сюда из рая. Как храмовая постройка Кааба чересчур мала (10×12×15 м), чтобы вместить паломников, прибывающих сюда со всех концов мусульманского мира. Поэтому в обязательную программу хаджа (паломничества) входит лишь семикратный обход Каабы, накрытой восемью черными шелковыми покрывалами с изречениями из Корана, вышитыми золотом, и целование Черного камня. Эстетика этого зрелища потрясающа. Десятки тысяч паломников в белых одеждах, их беспрестанное движение, напоминающее деловитое движение муравьев в муравейнике, тихий рокот их голосов и, наконец, намаз, совершающийся в положенное время, когда те же тысячи людей простираются вокруг Каабы ниц под распевы муэдзина — это так красиво и грандиозно, что заворожило даже меня. Магомед и Патимат дважды были в Мекке и теперь, благодаря спутниковому телевидению, могли возвращаться к своим воспоминаниям об этом событии в любой час дня и ночи. Однако в мои планы не входило таращиться в телевизор, и я объявил Магомеду, что хочу пройтись до крепости.
— Дойдешь до магазина, спроси у продавщицы, где тропинка, по которой удобно перейти ущелье, — живо отреагировал Магомед. — Ведь это только кажется, что оно неглубокое… И на всякий случай запиши мой телефон… Подожди! Кроссовки у тебя белые, новые. Надень мои. В горах они лучше сгодятся…
Забота Магомеда тронула меня.
Оторопь, вызванная его категоричностью в отношении моей левой руки, прошла.
Я не хотел ошибиться в нем. Еще как не хотел!
Нужно было выдержать время, чтобы продолжить разговор.
Выйдя из дому, я по нахоженному уже пути безошибочно стал спускаться к центральной площади. По дороге мне попался парень, обтесывающий надмогильный камень. Он не похож был на профессионального изготовителя надгробий: выдавала задумчивость, с которой он делал свою работу. Ударит раз, другой — и смотрит, что получается. Видимо, тесал он этот камень для кого-то из своих… С тех пор как согратлинцам пришлось заново выстроить Согратль, все, кто хуже, кто лучше, овладели мастерством каменотеса. И хотя славу Согратля в XVIII–XIX веках составили ученые-богословы, здесь, как и во всяком горном селении, высоко ценилось ремесло. По рассказам Магомеда, в начале 60‐х годов минувшего века в Согратле было человек 15 кузнецов, сапожников, портных. Все для себя делали сами. Шили полушубки, «венгерки» (полушубок, покрытый сукном), кители-«сталинки». Согратлинские металлические печи расходились по всему Дагестану, а вместе с ними серпы, ножницы для стрижки овец. Отец Магомеда был портной, до сих пор в подвале хранится его швейная машинка «Зингер» и шаблоны на все виды одежды. Один из самых забавных — шаблон для бюстгальтера. Отец сам его сделал. Правда, не сразу получилось. Сначала женщины узнали, что такая штука появилась в городе и все уже носят. Отец стал прикидывать и так и сяк — не получается у него бюстгальтер. Пришлось в город ехать, там он на пляже посмотрел и смоделировал уже безошибочно… В общем, ремесленный труд (а вместе с ним и всю горскую цивилизацию) подорвала даже не социалистическая индустрия, а совсем недавний прорыв на внутренний рынок широкого ассортимента дешевых товаров из Турции и Китая… Повсеместный, неудержимый процесс вытеснения штучных вещей ширпотребом. Как в Кубачах…
Продавщицу, которая должна была указать мне путь через ущелье, я нашел на площади возле крошечной низкой лавчонки. От нечего делать она вышла наружу и бездумно сидела на скамейке.
— Салам алейкум! — бодро приветствовал ее я.
— Салам-салам, — без энтузиазма уклончиво пробормотала она, но когда я сказал, что Магомед велел обратиться к ней, чтобы она указала дорогу через ущелье, она ожила, подвела меня к краю площадки, на которой прилепился ее магазинчик, и стала объяснять.
— Надо спуститься вниз по дороге во‐он до того дома (она показала на дом внизу). Оттуда начинается тропинка. Она одна. Ведет к речке. Там камни. Можно перейти. И потом по склону вверх по коровьей тропе…
Не успел я ее поблагодарить, как рядом притормозила машина.
— Подвезти?
— Да мне всего лишь до того вон дома…
— Обратно пешком пойдешь, а сейчас — садись…
Вот ведь странное место! — размышлял я, топая по тропинке. — Сколько впечатлений! И все разные. Народ отзывчивый, видно, что трудолюбивый. Никто без дела не шляется. И что, может быть, самое главное: небезразличны люди людям. Даже я, на миг, в сущности, приехавший человек — небезразличен. От такого я давно отвык. В городе я — сам по себе.
Тропинка шла хоть и не по дну ущелья, но как-то так, что справа от меня, чуть выше, еще были дома, а слева — не было. Долгое время я шел по краю обрыва, пока не дошел до конца селения. Здесь, в самом низу, у мелкой речушки, играющей прозрачной водой на перекатах, был обнесенный каменным забором сад с грушевыми деревьями. И в этом саду, как в раю, ходил ослик и подъедал с земли опавшие груши. Домик еще был, охраняемый свирепой на вид, но не слишком-то злобной кавказской овчаркой — крошечная, едва ли не в одну комнату, хибарка, сложенная из камней, и при ней курятник с рябыми курочками и красавцем-петухом, распустившим при моем приближении хвост, чтобы защитить и предупредить об опасности свой гарем, с куриной беспечностью рассыпавшийся по окрестностям палисада через дырку в заборе. Дом, безусловно, был обитаем, но хозяина, должно быть, не было — иначе он хотя бы выглянул на лай собаки.
И оттого, что я здесь один, и оттого, что куры с кудахтаньем бегут у меня из-под ног, и ослик этот… И оттого, что журчит река, и голубоватые стволы осин на том берегу возносят к небу золотое монисто своих трепещущих крон, и красные ягоды шиповника будто кровь вбрызнуты в прозрачное золото осин, и оттого, что прямо и сбоку встают горы, на вершинах которых, как дымы орудий, вскипают набежавшие облака… Каким же счастливым я вдруг ощутил себя! Все вместе это было так красиво, что я вспомнил слова Али, что он мечтал бы вернуться в Согратль. И Ахмед говорил то же самое. Может быть все, кто спустился с гор в долину, продолжали видеть во сне Согратль своего детства. Может быть, они даже правда хотели вернуться сюда.
Я шел теперь коровьей тропой, постепенно поднимаясь над осиновым перелеском на уровень, откуда Согратль был виден как на ладони. Ну конечно! Как мне не понять Али! Как не мечтать бежать сюда из города? Мы много можем говорить о роли городов, но все-таки масс-культура, которая там производится как нечто, призванное удовлетворить духовные потребности человека, — неизмеримо ниже и беднее культуры традиции, в которую еще всецело погружен Согратль. Человек города оторван от насущного, вещественного, ручного труда. Он уже не ощущает через усталость рук своих каждодневную связь со всем сущим, не понимает, что камни — это его жилище, а родник — это его питье, трава — это душистое сено для коровы, а коровьи лепешки — это топливо на долгую и, как правило, суровую зиму. Человек города научается любить каких-то Симпсонов, а обычного ягненка полюбить не в состоянии. Он отрезан от полноценного общения с природой: а даже явленные мне в горах виды были величественны и целебны…
Но кто сможет стать настолько сильным, чтобы вернуться в Согратль? Здесь, в горах, все вдвое тяжелее, чем на равнине: водишь ли ты скот, строишь ли дом, добываешь ли топливо на зиму или просто идешь по склону — все здесь дается вдвое, втрое труднее. Капитал здесь не сколотишь. И ценность труда совсем в другом: надо в самой тяжести работы видеть смысл — и тогда ты, может быть, сможешь. Вернуться реально, не только в мечтах. Надо очень хотеть изменить свое человеческое качество… Хотеть стать горцем. Но я не вижу ни одного вернувшегося. Покажите его! Пока что долина, как пылесос, высасывает людей из горских селений. И от этого мне становится не по себе. Штучные люди стареют и уходят, оставляя после себя пустоту, неустанное постукивание молотка каменотеса, а внизу… Что-то случается, что-то происходит с людьми там, внизу, раз никто не возвращается…
Высоко в горах Азербайджана есть селение Хыналыг, которое долго плыло, плыло во времени и вдруг, когда волны всемирного Потопа накрыли страны и города, вовремя бросило якорь — на одной из горных вершин, откуда можно взирать на мир долины как на ревущий поток, а самому жить в своем ауле, как на острове. Там установилось хрупкое равновесие между рождаемостью и смертностью, между количеством скота, необходимого людям, и площадью пастбищ, необходимых скоту. Люди, которые живут так уже тысячи лет, верят, что они — потомки Ноя, и в доказательство показывают древние раковины, оставшиеся в горах со времени Потопа. Видимо, эти люди, потомки Ноя, были праведниками, как и сам Ной, и Аллах пожалел их и не ввергнул в стремнину времени.
Но иногда кажется, что достаточно одного прикосновения цивилизации, одного автомобиля с туристами — и все необратимо изменится. Достаточно одному пытливому юноше из этого аула полюбопытствовать — откуда приезжали эти милые люди, которые всем интересовались, улыбались и щелкали фотоаппаратами? — и пуститься на их поиски в долину, как он попадет в город, где научится желать того, чего никогда не желал прежде. И этого будет достаточно, чтобы возвращение в родные горы стало невозможным…
Можно представить — велико ли дело? — что ни одна машина не приезжала и селение так и парит под облаками в вечности… Но тогда одно-два поколения — и близкородственные браки доконают эту удивительную популяцию, вырождение станет неостановимым и все более очевидным… В мире всерьез изменилось что-то. Традиционный уклад везде отличало безупречное чувство стиля. Но, видимо, стиля недостаточно, чтобы накормить 7 миллиардов человек, ныне составляющих население земного шара. Традиция давала человеку все необходимое. Пищу для тела и пищу для души, кров, тепло, семью, работу. Но люди теперь научились хотеть большего. Много большего. Непоправимо много…
Я поглядел вниз и вдруг увидел справа, за кладбищем, строение, которое, казалось, не может иметь к Согратлю никакого отношения. Это был очень большой и дорогой особняк. Суперсовременный. Если бы я не оказался на этом склоне — то так бы и не увидел его никогда… А ведь это не просто дом.
Это знак…
Я одолел половину подъема и вошел в панораму, открывающуюся на вершины Кавказа. Однако, вершин видно не было: с ледников лавиной катился туман, заливая ущелья и невысокие горы молочной белизною. Тут надо было решать — рвать наверх, к крепости, или спускаться обратно в Согратль. И хотя я знал, как коварен туман, как быстро поглощает он и делает неузнаваемым пространство, я все-таки решил взять штурмом последний склон. К несчастью, я потерял коровью тропу. Видимо здесь, в небольшой седловинке, коровы разбредались и начинали пастись. Трава тут была высокая. Я оценил это, когда стал подниматься наверх: никакого «штурма» не получилось. Трава цеплялась за джинсы, ставила мне подножки, так что шагов через сто я совершенно выбился из сил. Вдобавок, по всей лощине были разбросаны какие-то сооружения — фрагменты кладки и кучи камней — которые приходилось обходить. Я стал карабкаться наверх из расчета пятьдесят через пятьдесят: пятьдесят шагов вверх — пятьдесят секунд отдыха. Это принесло свои плоды: медленно, но верно я одолел подъем и вышел на плоскую вершину, где в зарослях шиповника была выстроена каменная хижина, вокруг которой паслось несколько коров. От хижины дальше в горы шла тропинка, в конце которой, примерно в километре от меня, в наступающих сумерках был виден дом, окруженный хозяйственными постройками. Хутор. Когда-то таких хуторов с весьма поэтическими названиями («Хутор молнии», «Большая пещера», «Вершина ветра») вокруг Согратля было множество. Но теперь я даже не смог бы сказать, обитаемо ли замеченное мною жилье. Если бы не коровы и не тропинка, я бы сказал, что нет: ни собаки, ни овец в загоне, ни малейшего человеческого шевеления…
Крепость, которую я хотел увидеть, вблизи оказалась обычным новоделом, возведенным на старом фундаменте. Вид на Согратль отсюда тоже был неважный: с такой высоты все казалось слишком мелким. А главное, надо было срочно убираться отсюда — туманом курились уже все ущелья вокруг, и даже силуэты совсем недалеких гор стало затягивать мутной пеленой. Туман в горах не доведет до добра. Достаточно чуть сбиться пути, оборваться метров с пяти, с трех даже — и приехали. Не мальчик уже, не отскочишь, как мячик. Сломаешь какую-нибудь кость…
Я вновь поглядел в сторону хутора: оттуда вниз шел прямой и довольно пологий склон прямиком к Согратлю. И он просто искушал воспользоваться им для спуска. Но почему-то тропу проложили не по нему. И что там внизу, я не видел. Может быть, вся эта пологость заканчивается небольшим обрывом. Как раз метра в три. Достаточно, чтобы очутиться в западне. И я пустился вниз знакомой дорогой. Со страху довольно ловко это у меня получилось. И коровью тропу я нашел. И вообще впечатление было такое, что по ущелью дует какой-то еще боковой ветер, потому что по моим расчетам туман должен был накрыть меня еще на склоне, а он все не накрывал и не накрывал, а когда я по камням переходил речку на дне ущелья, всё вокруг вообще, как будто, вернулось к своему первоначальному состоянию. Ни ветра. Ни дождя. Ни тумана. Собака пару раз лениво рявкнула в мою сторону. Ослик в саду за каменной стенкой все так же, не торопясь, мягкими губами выбирал из травы опавшие груши. Проходя мимо я, помню, подумал, как сильно отличается судьба этого ослика от судьбы вечно привязанного к дверной ручке ишачка. Ослик даже не догадывается, пробуя то одну грушу, то другую, что совсем недалеко стоит почти уже окаменевший от неподвижности ишачок. Для ослика страдания не существует…
Настроение у меня было прекрасное: я понимал, что избежал в горах опасности и очень благодарен был судьбе, что она меня вот так вот, без проблем, отпустила. Поэтому, когда на тропинке показался идущий мне навстречу парень, я внутренне готов был к встрече с ним. У него тоже, судя по всему, настроение было прекрасное. Он улыбался во весь рот. И мы с ним радостно, будто давно ждали этой встречи, разздоровались:
— Салам алейкум!
— Алейкум ассалам!
Он быстро понял, что я русский, сказал:
— Пойдем ко мне, наберешь груш полную сумку…
Он, выходит, и был хозяином того домика и грушевого рая у реки.
— Хорошие груши, собери…
— Честное слово, брат, мне не надо…
— Ну ладно, будешь на этом конце села — заходи…
После этого настроение у меня сделалось просто превосходное, и с легким сердцем вернулся я в дом Магомеда. Он уже поджидал меня вместе с Патимат. Оказывается, в бинокль они все видели: и как я при восхождении потерял коровью тропу, и как пошел по ущельям куриться туман, и все время, пока я, скрытый отрогом горы, карабкался вверх по склону, они волновались за меня…
Вот, понимаете, можно ведь сколько угодно умствовать насчет «духовных пространств», их совпадения или несовпадения, но в их сопереживании, желании предостеречь меня, уберечь — было что-то более важное. Я чувствовал себя защищенным их заботой. И решил даже отказаться от своего рискованного опыта с дарением христианской молитвы Магомеду, потому что разговор о вере — он мог разрушить наше единение. Но тут сам Магомед сказал:
— Сейчас время ночного намаза. Хочешь посмотреть, как я молюсь?
Это было, конечно, изъявлением высокого доверия. И призывом продолжить оборвавшийся разговор.
— Хочу, — сказал я.
Что сказать по поводу молитвы? Магомед доверил мне свой экстаз. Не успел он ступить в молитву со словами «Аллах акбар» 107, как глаза его закрылись, выражение лица изменилось, и он был подхвачен потоком неведомых энергий, возносящих его, как вихрь, к переживанию сокровенного. В свое время в Иерусалиме пророк Мухаммад пережил мощное духовидческое состояние, во время которого архангел Джабрил (Гавриил) вознес его на небо, где тот предстал перед Аллахом. В этом состоянии, описываемом как «исступление, граничащее с полным исчезновением», он получил откровение от Господа. Это мощнейшее переживание, вкупе с другими, менее, может быть, впечатляющими, стало основой для пророческой миссии Мухаммада и легло в основу мусульманской веры. И хотя я не представляю себе духовного ландшафта, в котором путешествовал Магомед, было ясно, что его молитва не есть произнесение зазубренных формул, но страстная устремленность к встрече с иной действительностью. Впрочем, вернулся он довольно легко.
За ужином я спросил его, как он, мусульманин, относится к христианству.
— А как я могу относиться? — набирая силу голоса для разговора по существу, спросил Магомед. — В свое время христианство было ниспослано, как и ислам. Ислам — значит покорность. Покорность кому? Создателю. Если я выскажу в адрес христианства свое неверие, я перестаю быть мусульманином, я должен признать христианство как ниспосланную религию, а Иисуса Христа — пророком-посланником 108. Каждый мусульманин обязан верить этому. Это основа ислама. Так же мусульманин должен верить и книгам других пророков. В том числе и в Евангелия, и в книги Ветхого Завета. Без этого у него веры не получится.
— В таком случае, я осмелюсь сделать вам один подарок.
— О! — удовлетворенно воскликнул Магомед. — С удовольствием приму его.
— Это молитва. На мой взгляд, одна из лучших православных молитв, которую сложили старцы монастыря Оптина пустынь. Она так и называется — «Молитва оптинских старцев».
— А старцы это..?
— Это не иерархи церкви, это, скажем так, наставники, далеко продвинувшиеся на пути духовного опыта. Монахи-схимники. Здесь десять подписей, собранных за время с 1811 года по 1931‐й.
Магомед взял листок в руки и стал читать. Поначалу он сбивался, язык христианства (не русский язык, а сами формулировки) был хоть и знаком ему, но он не владел им достаточно свободно.
— Примерно я так знаю, — твердо сказал Магомед, как бы предупреждая, что суд его будет строгим. — Из молитвы нельзя ни одного слова выкинуть. Я сейчас прочту… (Читает вслух)109. Это действительно то, что нужно! Только человек, верующий в единственного, единого Бога, может так сказать. Но вот это вот: «Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня»… Что это — «открыть волю свою»? Этого я не понимаю… Или это — открыть все знамения? И вот это непонятно: что значит «…служить Тебе и ближним моим»?
— Если человек безразличен к человеку, к ближнему, вера его мертва, как говорил Иисус.
— Любить людей, как любил Иисус?
— Да.
— Во многих молитвах сказано: «любить, как любил Иисус». Да, тогда эта молитва принимается, тогда это прекрасно… — Магомед покачал головой и пошевелил губами, как бы вновь и вновь пробуя слова молитвы на вкус:
— Старцы… старый человек — он имеет жизненный опыт, но не все же становятся старцами? Самые умные из умных становятся старцами…
— И сердечные.
— Конечно, сердечные. Это единицы… — Он задумчиво помолчал. И уже совершенно неожиданно для меня выпалил:
— Если бы, черт возьми, не было этого большевизма! Большевиками гармония развития России полностью была разрушена! До конца! Как говорилось в их гимне: «до основания, а затем…» Если бы большевики не начали на ощупь создавать какое-то немыслимое государство с какими-то немыслимыми идеями, гармония бы не нарушилась…
Я оторопел. Впервые слышал я от Магомеда «плач о России». Да еще о ее гармонии… Вновь и вновь поражался я тому, как странно и непредсказуемо в Дагестане сплетаются и сосуществуют в сознании людей разные смысловые потоки.
— Ну, о большевиках нам не стоит даже и говорить… С ними все ясно. Мы о христианстве не договорили.
— Ты знаешь, христианам проще. В христианстве нет точно определенных обязанностей, которые каждый человек обязан выполнять в течение дня. Ежедневно. А в исламе они есть. Если даже взять пятикратный намаз в строго определенное время. В 5.15 — утренний, в 12.45 — дневной, в 16.15 — послеполуденный, до наступления темноты — вечерний и с наступлением темноты, где-то в полдевятого — ночной. И к каждому намазу ты должен себя подготовить. И духовно, и телесно очиститься. И за несколько часов между этими намазами у тебя нет времени отойти от ислама, потому что через час-другой наступит время следующего… Ислам человека держит постоянно в рамках закона, в рамках шариата. Шариат в исламе становится для человека нормой жизни. А отойти от этого — у меня попросту нет времени.
— Очень жесткая практика. Христианство мягче и…
— Настолько мягкое, что и скелета уже не осталось…
Что возразишь? Я никудышный христианин. В церковь не хожу. Из всех христианских таинств прошел только одно — крещение. Два раза исповедовался. Ни разу не причащался. Не вижу в этом смысла. Но Христа не променяю ни на кого из пророков. В христианской доктрине Христос — в полной мере Бог и в полной мере человек. И больше всего потрясает меня это человеческое совершенство Христа. Возможно, он пришел в мир именно для того, чтобы явить собою, каким человек может быть. Страстным и мудрым. Мягким и сильным. Верным и непоколебимым в любви. Свободным. Он знал о слабости человеческой, слабости самых близких ему людей, но никогда не говорил с ними как с рабами, на языке закона. Он вернул людям веру в их высокое предназначение, в то, что каждый, имея в душе любовь, сопричастен Богу. Ибо в душе человека есть крупица небесного света, искра, раздувая которую человек может войти в запредельность Бога. Иисус называл это «Царством Божиим». Он указывает место и время наступления Царства: здесь, сейчас, внутри себя. И называет ключ, которым царство это отпирается: любовь. Можно, конечно, как Понтий Пилат, считать Христа неисправимо заблуждающимся относительно человеческой природы. Но прошло уже две тысячи лет — а человечество все-таки помнит о Христе, как о последней надежде, помнит, чтоб не утонуть в грязи тварного мира, не задохнуться от пошлости и окаянщины будней, не сдаться подлой и давно выжившей из ума истории, встать на цыпочки, сделать шаг за…
Мне скажут: это отвратительное прекраснодушие, такое отвратительное, что хочется плюнуть тебе в рожу…
Я отвечу: плюйте, делайте, что хотите. Но лучше уж такое прекраснодушие, чем та действительность, которую я наблюдаю вот уже полвека. Все, что было в моей жизни по-настоящему вдохновляющего — оно происходило из понимания того, что Христос осмысленно пошел на казнь… Он не отрекся от себя. И от Человека.
Вот. Была и у меня аргументация, и я, в гораздо более сбивчивом, конечно, виде, изложил ее Магомеду. Он выслушал молча. Потом сказал:
— А ты знаешь, что Христос не был распят? Аллах взял его к себе, а вместо него распят был предатель, Иуда…
— Если бы он не был распят, христианство не имело бы никакого смысла…
— Он не был распят — это же истина !110 — возгласил Магомед.
— Истина — это как раз то, что прежде всего надо подвергать сомнению, — разгоряченный полемикой, сказал я.
— И ты хочешь сказать, что Судного дня не будет?
— Нет, не будет. Он уже сейчас творится. В данный момент творится Судный день. Мы под Страшным судом живем, как же вы не понимаете?! — выпалил я.
И вдруг оба мы замолчали. Я понял, что нам незачем больше спорить. Ибо в спорах не рождается истина, но раздражение может родиться. Наше единство в том, что мы разные. Так захотел Аллах. Мне может не нравиться «жесткость» ислама, но я не могу отрицать, что вижу здесь, в Согратле, людей сильных, честных, самостоятельных. Их дети почтительны к старшим и помогают им. Они гостеприимны и приветливы. Они не опьяняют себя алкоголем и не убивают наркотиками. Так чего же я еще хочу от них? Мне остается только пожать им руки, как людям, которым удалась их человеческая миссия.
XVI. ВСЕ НА МОЮ ГОЛОВУ
Все, о чем я рассказал, случилось со мной в один день. Под вечер мне казалось, что я в Согратле давно, очень давно, и хотя часы — обычные механические часы-будильник — продолжали, как метроном, отстукивать раз и навсегда установленный ритм, мой внутренний хронотоп, казалось, сбил с толку и их. Стрелки еле двигались, ночь не наступала, и даже в половине десятого вечера, когда весь Согратль приготовляется ко сну, не было ощущения, что этот бесконечный день изжит до конца. Что очень скоро подтвердилось. Началось с того, что я, надеясь притушить чересчур уж яркое пламя, запылавшее было к концу нашей с Магомедом беседы, стал рассказывать ему о каменных кладках и россыпях, на которые наткнулся, поднимаясь к крепости. Мысль о том, что это место, где располагался старый, разрушенный после восстания 1877 года Согратль, почему-то не приходила мне в голову и вдруг со всей очевидностью явилась. Я спросил Магомеда, так ли это.
— Не-ет, — улыбнулся Магомед, как будто разгадал мою мысль о ненужности спора и внутренне согласился с нею. — Там в семидесятые годы совхоз проложил дорогу на хутора, провел электричество, вот эти подпорные стенки от дороги остались…
В общем, мы дружно сошли с того зыбкого смыслового поля, на котором, даже говоря об одних и тех же вещах, каждый из нас, тем не менее, имел в виду не совсем то или совсем не то, что подразумевал собеседник. А эта старая дорога, заросшая травой и шиповником, была, все-таки достаточно тверда, чтобы удержаться на ней от искушения поспорить. Но я даже не подозревал, где таилась опасность.
— Ты еще говорил о россыпях камней, — вдруг проговорил Магомед глухим голосом. — Это зиараты 111. Войска Лорис-Меликова не могли взять крепость в течение пяти дней… Хотя их поддерживали три батальона дагестанской милиции, командиры которых отлично знали все подступы к Хонда-Халадух. Мамлав из Чоха и предатель-согратлинец, Магомет, сын Хурша. Хурш, бывший наиб Шамиля, был в крепости, а его сын — в карательном корпусе. И когда на пятый день крепость была все же взята… Это была жестокая битва до последнего человека… Когда крепость была взята…
На глаза Магомеда вдруг навернулись слезы, и голос его дрогнул…
Видит Бог, я не хотел. Но тут уж ничего поделать было нельзя: мои слова о кучах камней напомнили Магомеду о боли, которая жгла его непрестанно памятью о памяти.
— Когда крепость была взята и последние тридцать защитников, забаррикадировавшиеся в нижнем этаже, покончили с собой… — Голос Магомеда опять дрогнул, но он удержал волнение и продолжал. — Солдатам и милиционерам выдали водку. Опьянев, они стали кромсать тела убитых и отрезать им головы 112. Головы они бросали в ущелье, по которому течет речка, а тела… Тела они расшвыряли по лощине, которой ты и поднимался…
Я вдруг почувствовал, как защемило сердце, словно в случившемся была и моя вина, хотя никто из моих предков никогда не воевал на Кавказе. Но разве в этом дело? Магомед — вот о ком болела душа. То, что произошло здесь, на этом склоне, для него — подлинный апокалипсис, с которого и начинается необратимое искажение гармонии мира. Разъятие андалальского братства, предательство, невиданная жестокость, измельчание человеческой породы…
— Когда победители сожгли Согратль и ушли, — с мучением, но твердо довершил Магомед свой рассказ, — женщины спустились в ущелье и там в воде среди камней, или застрявшие в кустах, нашли и собрали отрубленные головы. Многие уже невозможно было опознать. Они собрали изрубленные кинжалами тела, брошенные в лощину, и так, приложив к каждому телу голову, погребли трупы на склоне. Эти могилы остались без имени, ибо никто не знал, чье именно тело и чья голова упокоены под этими камнями…
Бывают какие-то страшные мгновенья, когда не знаешь, что делать, но понимаешь, что что-то делать необходимо… Но я почему-то вспомнил, как однажды, работая в Москве в библиотеке, наткнулся на любопытное издание: «Сборник материалов о кавказских горцах». Первый номер вышел в Тифлисе в 1868 году — спустя четыре года, как отгремели последние залпы тридцатилетней войны на Кавказе. До 1877 года вышло 10 томов. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что этот сборник, выпущенный под патронажем великого князя Михаила Николаевича Романова, главнокомандующего Кавказской армией, есть неотъемлемая часть политики военно-народного управления, которая, должна была привести к замирению «героического, погибельного» Кавказа, я тем не менее был поражен глубиной и масштабностью задачи, которая требовала от авторов сборника не воспевания российских военных побед, не публикаций в духе «Клуба ветеранов Кавказской войны», но серьезного понимания того, что в этот конфликт оказались глубоко вплетенными сущностные, духовные вещи, которые сделали эту войну и столь «героической», и столь «погибельной».
Главный редактор «Сборника…» Н. И. Воронцов прямо писал, предваряя публикации первого тома: «Издание посвящается всестороннему исследованию быта населения, по численности почти миллионного, живущего при своеобычных и разнороднейших условиях местности, и хотя обозначаемого общим именем горцев, однако, весьма разнохарактерного, разнообычного и разноязыкого. Тут представляется множество, так сказать, девственного материала для любознательности, для науки. Но к этому присоединяется еще новый интерес, не столько научный, сколько гражданственный, практический. Горцы волей-неволей перерождаются; из заклятых врагов наших они становятся нашими согражданами, нашими близкими братьями: кому же как не нам, пойти к ним на радушную встречу? Для них открывается новый строй понятий и житейских отношений; для них наступает пора знакомства с светлым и широким миром европейской жизни: но вместе с тем и для нас открылся замкнутый в себе своеобразный мир, с особым складом домашних и общественных отношений, который так или иначе мы должны приблизить к общему строю нашей жизни, чтобы между ним и нами не осталось разлада…» Вот это, я понимаю, постановка вопроса! Речь шла о невиданной духовной миссии: познакомить русское общество, для которого на протяжении тридцати лет слово «Кавказ» связывалось только с одним словом — «война» — с духовной жизнью вчерашних врагов, сегодняшних братьев — дагестанцев, чеченцев, черкесов. Поразительно и то, как много нашлось у этой идеи горячих сторонников. Я просмотрел все 10 выпусков и убедился: среди них нет ни одного пустого, бесталанного, неинтересного как для русских, так и для горцев. Традиции горского самоуправления, суд по шариату и по адату (обычаю), родословные горской знати, народные сказания самых разных народов, первые сведения о горских языках и их классификация, статистика, этнографические очерки, воспоминания самих горцев, случаи «из горской криминалистики» (разбор конкретных примеров применения шариатского или местного права), вопросы об освобождении крепостных — в Кабарде, бесправных рабов — в Дагестане, особенности ислама на Кавказе, отношения имама и его мюридов…
Наверняка военно-народное управление было далеко не сахарным: но издатели «Сборника…» за десять лет работы совершили настоящий духовный подвиг, без страха и упрека, как к братьям, вошли в мир горских народов. Не могу даже представить себе, чтобы сегодня, когда Кавказ сплошь волнуется, кто-нибудь озаботился задачей такого масштаба. Не вижу политиков, способных сформулировать проблему на таком уровне. Не вижу ни одного человека, способного и имеющего силу произнести слова, которые произнес Воронцов. И кто сегодня обладает внутренним правом на это?..
Жалкая риторика, которую нечем даже завершить…
В этот момент я сам чувствовал себя более неспособным ни к какой миссии, в которую верил еще утром.
Как будто не повстанцы потерпели поражение там, в крепости на горе, а я был разорван картечью и порубан на куски вместе с ними.
Но это еще было не поражение.
Я встал, прошел в ванную и долго, минут пять, умывался холодной водой, чтобы прийти в себя. Когда это удалось, я для усиления эффекта сунул голову под кран — и тут уже точно мне полегчало. Когда я вернулся в комнату, на моем месте сидел незнакомый человек в вязаной шапочке, с надеждой глядя в мою сторону. Он был примерно моего возраста, только выглядел старше.
— Познакомься, — сказал Магомед. — Мой сосед.
— Василий.
— Магомет.
— Тоже Магомет?
— Да, тоже Магомет.
Мы обменялись рукопожатием, после чего Магомет сразу доложил:
— Одному человеку болгаркой 113 зубы обпиливали… Делали клизмы спиртом…
— Ну уж, болгаркой… — недоверчиво сказал Магомед.
— Но клизмы точно…
— Я тоже слышал, — кивнул Магомед.
С ужасом я понял, что муки мои не закончены. И в принципе могут продолжаться вечно. Речь, как я понял, шла о пытках, которым подвергались люди во время «спецопераций». Таких ужасов я слышал уже немало. Но если за грехи мои мне суждено было сошествие во ад — не тот, выдуманный журналистами ад, как когда-то в Дербенте, а в подлинный ад болеющей и не знающей успокоения человеческой памяти — то я хотя бы хотел получить об этом сведения из первых уст.
— Магомет, это здесь происходило?
— Нет, в другом месте.
— А здесь, в Согратле, были спецоперации?
— Да, конечно, везде они были.
— Когда в последний раз?
— Это продолжалось семь лет, — веско уточнил Магомед. — До 2007‐го.
— И с тех пор не было?
— Нет.
Впервые я почувствовал желание взять сигаретку, выкурить ее на балконе и, не привлекая к себе внимания, незаметно спуститься во тьму, уйти на край селения, забраться в стог и пролежать там всю ночь, глядя на близкие звезды. Чтобы только не знать правды. Довольно правды! У меня нет больше сил переживать слова и чувства, беспощадные как фреза, которая будет кромсать меня, пока не доберется до костей и не задерёт насмерть. Впервые мне стало страшно. Страшно потому, что Согратль, который я когда-то пережил как путешествие в необыкновенно близкую мне духовную провинцию, вдруг обернулся для меня западней.
Но я удержал свои чувства в сборе и достал диктофон. Только Магомед мог спасти меня.
— Магомед, расскажите, как это бывало, как это было в первый раз.
Режим: «Запись». Файл 24.
— В первый раз, когда мы встали, оказалось, что за ночь все селение окружили солдатней, вооруженной с ног до макушки автоматами, крупнокалиберными пулеметами, подствольными гранатометами. Стали у дома.
— Что вам нужно?
— Нам нужен Магомед Ахмедович Ахтуханов.
Я говорю: «Да, это я».
— У нас ордер на обыск, — предъявляют бумагу. — Там написано.
В основном дагестанцы, пять человек. Зашли. Правда, разулись.
— Что вы будете искать?
— Что там написано: оружие, наркотики.
Я говорю: «В первую очередь мои враги — это люди, которые ходят с оружием в руках, в том числе вы. Я не имею никакого дела с оружием. У меня есть кинжал — родовая такая ценность, еще есть ножи».
— Донесение на вас есть.
— Далее, — говорю, — наркотики. Какие могут быть наркотики, если я даже и не курю? Я человек ислама, а вы — наркотики… А литература религиозная — у меня все что угодно есть: по иудаизму, по христианству, по исламу. Вот Библия, вот Евангелия, вот Коран. Вот литература по сектантству христианскому. Что вас интересует конкретно? Какая литература является запрещенной?
— Мы не знаем.
— А кто знает?
— Там, внизу, экспертная комиссия.
— Так вы что, будете всю мою библиотеку увозить с собой, что ли?
— Нет.
— Тогда что вы будете брать? Библию будете?
— Мы, — говорит их старшо´й, — не знаем. Нас, — говорит, — не предупреждали…
Я его спросил: «А кто ваш руководитель»? Он назвал. Я этого человека знал прекрасно, он сын моего друга.
— У вас есть намерение мне что-нибудь подбросить или нет?
— Нет, — говорит, — приказом это строго запрещено.
Потом нашли внизу, в подвале, снарядные ящики. И сейчас они там. Когда-то мой родственник служил старшиной в ракетной части. Потом она была расформирована. Остались эти ящики. Добротные такие… Ну, он мне несколько штук привез. Я наполнял их кормом для овец. У них щупы, они прощупали.
— Откуда эти ящики?
Я рассказал откуда.
— Ну, — говорят, — тогда мы всё поняли. Только, понимаете, — говорят, — мы уже второй день ничего не ели. Может быть, вы угостите нас хотя бы чаем?
— Ладно.
Угостил я их чаем, и мы пошли к их командиру. Я говорю: «Ты сын моего друга, и ты обязан ответить на вопрос: кто наклепал на меня? Я никому ничего не сделаю, я это обещаю, но я должен знать, кто наклепал на меня…» Он очень тактично, умно так ответил: «Магомед, мы не выдаем своих информаторов. И кто бы ни был на моем месте, никто об этом тебе не скажет. Но ты, говорит, сам будь осторожнее». И сказал, о чем был донос: об этих ящиках. Оружие, мол, хранится в ящиках у Магомеда…
И во второй, и в третий раз было точно так же: ордера, подписанные судьей или прокурором. Бестолковые солдаты. И прокурор, и судья — оба мои знакомые. Когда я был депутатом райсовета, мы вместе работали, в одном даже комитете были. И я говорю: Абдулла, ты совесть имеешь, когда подписываешь разрешение на обыск в моем доме?
— Я тут — говорит, — не виноват. Мне дали ордер, там печать и подпись, сказали: «Подписывай». Точно так же сказал и судья. На второй-третий раз я этих солдат тоже спрашивал, есть ли у них намерение подбросить что-нибудь, сделать подлость, они отвечали: «нет». Ну, правда, и не сделали ничего. Но обыскали везде и всюду. Что искали — не знаю. По поводу литературы я сказал: «Я историк. Я сдал экзамен по истории религий. Я изучил иудаизм, я изучил христианство. И зачет, и оценку на экзамене я получил. Эти книги мне нужны для работы. А какая такая запрещенная литература — я не знаю». И эти дундуки тоже не знали. Служат же люди, которые больше ничего не умеют делать — только носить автомат и стрелять. Правда, ничего не нашли. Конечно, ничего и не было…
Больше я ничего не помню. Лишь по тому, что мое бедро ощутило прохладу свежего белья, я понял, что давно уже сплю как убитый. Потом муэдзин прокричал, как петух на заре. Я забеспокоился, попытался продрать глаза, сел, нащупывая ногами пол, но не нащупал и оборвался в ледяную пустоту. Все тело мое затрепетало, и сердце сжалось в комок: я понял, что не удержался на склоне и сорвался в безвозвратную гибель. Вдруг резкий свет солнца объял меня, и я увидел внизу аул, будто пчелиные соты облепивший скалу, лежащую в глубокой впадине между гор. Словно эту скалу вместе с прилепившимися к ней домиками бросили в море недалеко от берега, море расступилось от удара и в этот самый миг все окаменело. Вокруг застыли поднятые падением скалы острые, неправильной формы всплески камня, а вдали горбились громадные океанские гребни — один за другим, до самого горизонта — настоящее море гор.
Колени были разбиты, джинсы порваны. Я стоял на четвереньках и чувствовал под ладонями прохладные, отполированные подошвами башмаков каменные плиты. Улочка была такая узкая, что не то что машина — арба не проехала бы. Слева был каменный забор, справа — глухая стена длиннющего дома: такая длинная, что было и не понять, отдельный это дом или целый квартал длиною в несколько поколений. Жесткое, марсианское солнце сверкало в окнах остекленной террасы высоко надо мной. Я встал и пошел по этой улочке, как по горной расселине, подгоняемый безжизненной тишиной обступивших меня домов. Не было слышно ни звука. В одном месте из скалы выперло камень, похожий на тушу моржа. Он легко пробил фундамент и заодно обвалил оставшиеся без опоры две комнаты первого этажа. Камни стен завалили пол-улицы, но с тех пор, как это произошло, никто не попытался разобрать завал.
Потом я оказался на плоской, хорошо выровненной площадке. Не сразу понял, что стою на земляной крыше горской сакли — такой, какими их строили и сто пятьдесят, и триста лет назад. Внизу были каменные сараи с легким верхним ярусом для сена и кизяка да несколько выгородок для скота. Еще ощущался в воздухе запах сухого навоза, но никого не было в этих загонах — ни коровы, ни овцы, ни хотя бы курицы. Ветерок шевелил несколько прядей выгоревшей соломы, чуть покачивал провисшие веревки с бельевыми прищепками. Все это были следы людей. И они совсем недавно здесь были. Только все таинственным образом исчезли.
Я отдышался. Как собака, вылизал раскровавленные колени и, разглядев тропинку, ведущую дальше по склону, тронулся по ней. И тут увидел дома… Но какие! Прежде всего поражала величина: они были в пять или в семь раз больше, чем обычные дома в горских аулах. Правда, половина из них была почти полностью разрушена. Я поднялся по склону и пошел вдоль развалин. Вскоре глазам открылся двухэтажный, желтого цвета дом, от которого полностью сохранилась только фасадная стена. Но что это была за стена! Во всю длину второго этажа на вмурованных в стену рельсах висел роскошный балкон с витой кованой решеткой. Во всем нагорном Дагестане вы не найдете домов с европейским балконом! Входной портал в четыре створки с боков украшали ниши, а над входом — барельеф львицы с льнущим к ней львенком… Дорогой, настоящий генеральский дом. Дата на фронтоне указывала год постройки: 1875‐й. Рядом были еще дома, но только один показался мне обитаемым: в мавританском стиле — выстроенный буквой «П», с внутренним патио и аркадой, опоясывающей внутренний дворик. На траве у входа лежал старый, плоский, еле живой спаниэль. Он с усилием поднялся и сухим языком лизнул мне ладонь. Но почему-то не пошел за мной, когда я направился к входной двери, вырезанной в створе ворот. Дверь легко подалась. Я оказался под сводами аркады, где была собрана разная утварь: ведро, помятый таз, умывальник в виде вмурованного в стену бака с краном, новая пластмассовая фляга для воды, большая кастрюля и несколько тряпок, болтающихся на свитой вручную цепочке. Сад внутри двора был запущен: хилое деревце груши росло в центре, да несколько побегов кукурузы. Причем ни груш, ни кукурузных початков не было, будто кто-то все же собрал их. Но кто? Внизу, под арками, было устроено два жилых помещения, две терраски. Окна одной были наглухо забраны шторами и, хотя рядом с дверью лежал коврик, на котором стояла пара стоптанных башмаков, никто не отозвался, когда я постучал в эту дверь. Неприятный холодок пробежал по спине. Куда все-таки исчезли люди? Они были здесь, это ясно. Вот две овечьи шкуры, не так давно, вроде бы, содранные. Впрочем — не меньше месяца, а то и двух назад. В шерсть уже набилась пыль, а внутренняя, невыделанная поверхность кожи заскорузла, пожелтела, взялась темными пятнами плесени… Что же случилось? Все жители этого селения будто канули в прошлое — совсем недалекое, но уже недостижимое прошлое. Они остались там, в два месяца назад, и не хотят выходить, и поэтому невидимы. И все же, когда я направился ко второй терраске в глубине двора, я не мог избавиться от ощущения, что кто-то смотрит мне вслед. Обогнув клумбу, на которой жарко цвели багряные, цвета густеющей крови осенние цветы-бархатцы, все еще привлекающие последних пчел, я подошел к широкому окну террасы. Сквозь голые стекла разглядел интерьер: стены, выкрашенные синей краской, массивный, обитый черной кожей диван 1930‐х годов, небольшой стол с вытертой столешницей, венский стул и белую рубаху на вбитом в стену гвозде. Как будто случайно забытую на этом гвозде… Я почувствовал, что надо скорей убираться отсюда, пока это недавнее прошлое не схлопнулось надо мной и не забрало меня, как и всех остальных, без возврата.
За воротами на солнце стало легче. Спаниэль, заслышав звук открывающейся двери, приподнял было голову, но тут же уронил на лапы. От него сильно пахло псиной и, что еще хуже, близкой смертью. Я погладил его по горячей голове.
Внезапно рядом ударил ослепительный солнечный зайчик. Шаркнул по траве раз-другой и едва не поймал меня. Я отпрянул и спрятался в тень стены. Кто-то следил за мной. Я сполз вниз и осторожно выглянул, как собака, прячась в траве: вдали, на горе, высилась громадная шестиугольная островерхая башня из сверкающего металла и тонированного стекла. Над нею, как радар, вращалось зеркало, шпаря вокруг непереносимым светом. Там, за нефритовой оградой, повитой колючей проволокой, жило злое колдовство. Вдруг безжалостный солнечный зайчик ударил прямо надо мной и в следующий миг попал бы точно в лоб, не упади я на землю. Сердце мое заколотилось, язык прилип к гортани, страх превратиться в ничто, как были превращены другие люди, окатил меня…
И я проснулся.
Стояла ночь, темная, выколи глаз.
Я повернулся набок и попытался, пока сон еще не совсем отлетел от меня, заснуть снова. Не тут-то было. Тут же явилась на ум наша с Магомедом полемика, и мозг включился в работу, сортируя аргументы, которые я еще мог бы привести. Я почувствовал, что это не нужно — я не собирался больше спорить с Магомедом — и, повернувшись на спину, закинул руки за голову и сосредоточился на Пустоте. Пустоте-Темноте, окружавшей меня. Но и Пустота оказалась коварной: в ней тут же проклюнулся и ожил внутренний монолог. Я запретил себе спорить. Но мой внутренний голос не унимался. Напротив, только сейчас, казалось, он подобрал действительно веские доводы. Как будто человек XXI века может жить и мыслить так же, как во времена Пророка! Как в VII или в VIII веке. Но это же невозможно, Пустота-Темнота. У Уайтхеда было очень важное в этом смысле рассуждение о том, что порядка мало. Необходимо нечто куда более сложное: порядок, проникающий в новизну, с тем, чтобы устойчивость порядка не вырождалась в простое повторение, а новизна всегда была рефлексией над основаниями системы… 114 Жизнь нельзя остановить. Свойство ее — обновление.
В этом смысле догматика — против жизни, но весь смысл ваххабитского ислама именно в том и состоит, чтобы остановить время 115.
Хотя попытки в неприкосновенности сохранить букву ислама с самого начала были обречены на провал. Дело в том, что текст Корана, изначально записанный одними согласными, с первых веков магометанства давал множество возможностей для разночтения. Когда в X веке он был огласован с помощью надстрочных и подстрочных знаков, немедленно появилась «Книга семи» Ибн Муджахида, в которой утверждалось, что и после огласования остается семь способов прочтения Корана, которые признаются равно авторитетными. Но сколько разных раз Коран был прочитан в действительности? Принято считать, что в исламе 272 секты, а каждая секта — это свое, сосредоточенное на узком отрезке смыслового спектра, прочтение одного и того же исходного текста. Окончательный, ныне тиражируемый унифицированный текст Корана был издан в Каире меньше ста лет назад, в 1928 году. Но ведь и этот текст каждый человек, способный к размышлению, читает по-своему. Поражает, что за пятнадцать веков существования ислама серьезных попыток раз и навсегда, на веки вечные, утвердить его догматику и закон было не меньше, чем попыток отказаться от этой догматики, освободиться от диктата закона, нащупать более высокий уровень соединения с Богом — в раскрытии внутри себя высшей «световой природы» и любви. Правда, в Дагестане борьба меж буквой и духом учения, между законом и свободой в исламе, пока что закончилась торжеством неизменных, а потому неизбежно упрощенных истин…
Исламская христология — вот что еще меня поразило. От евангельской она отличается прежде всего тем, что не верит Христу в том, что человек — добр. Можно восхищаться деяниями и заповедями Христа — и в то же время считать их совершенно невыполнимыми. В ортодоксальном исламе человек — настолько слабое и беспутное существо, что удержать его в человеческом облике может только закон, и закон суровый. Но разве не то же самое произошло в самой христианской культуре? Разве не об этом — легенда о Великом инквизиторе Достоевского? Инквизитор называет проповедь любви и свободы Христа «искушением» и обещает ему казнь на костре 116. Он — законник, Великий инквизитор. Он знает, что чернь надо держать в ежовых рукавицах. А Христос — ниспровергатель закона, оставивший людям вместо твердых установлений единственный завет небесного Отца: любить друг друга. И что же? «Я ушел от закона, но так и не дошел до любви?» А кто дошел до любви? Не до любви к Богу (как суфии), а до любви к человеку? Причем к человеку любому — ближнему и дальнему, одаренному и обыкновенному, другу и врагу. Это до такой степени невероятное условие, до такой степени невыполнимая задача, что впору отвернуться от нее. Потому что полюбить человека — ближнего и дальнего — мог бы только Бог. И чтобы возвыситься до Христа, который явил пример совершенной любви к людям, надо стать вровень с ним, надо самому стать как Христос. Возможно ли это, Пустота-Темнота? Характерно, что знаменитый хорезмийский мудрец Ал-Бируни, глубокий знаток христианства и к тому же индолог, с восхищением говорил о заповедях Христа, предписывающих отдавать ближнему последнюю рубаху и благословлять врагов. Но в мусульманской христологии Христос — пророк и, значит, существо запредельное, настолько же далеко отстоящее от людей, насколько близко допущен он к Богу. Поэтому, считал Ал-Бируни, практической силы эти предписания не имеют, ибо люди не философы, а большей частью невежественные и ошибающиеся существа, которых надо удерживать на прямом пути мечом и бичом 117. А он по-своему неплохо разбирался в людях. Современная цивилизация предпочитает незаметно манипулировать человеческим сознанием, чтобы чернь даже не догадывалась, что ее, в общем-то, считают быдлом. И что же тогда остается от христианства? От христианства остается вера в то, что человек добр, хотя на этом почти невозможно настаивать… И все же: credo quia absurdum 118. Ибо не Аристотелева логика правит миром.
У Достоевского единственным христоподобным человеком оказывается князь Мышкин, блаженный, главный герой романа «Идиот». Для Достоевского невозможность уподобления Христу была страшным мучением. И для русской интеллигенции вообще. Невозможность стать вровень с Христом или, хотя бы, в чем-то главном на него похожим — стала для нее пыткой, доводящей до отчаяния, до богохульства. Поэтому, когда ей подсунули в добротной философской упаковке конфетку «прогресса» и революционных идей, она как-то мгновенно от веры отпала. Не стала мучиться и ждать отдаленных и неопределенных духовных результатов. И решила изменить мир на основаниях позитивизма, не сосредотачиваясь более на Христе…
Вот ведь незадача!
Так всю ночь не заснешь…
Я прислушался: ни звука не было слышно ни в доме, ни в ауле. Только где-то на террасе тикали ходики.
Мой внутренний голос затих. Нервная горячка мыслей потихоньку отпускала меня. А может, я просто не хотел признаться себе в главном: в глубине глубин и христианство, и ислам говорят об одном и том же. Наше единство в том, что мы разные? Да, пожалуй. Но в сердцевине христианство и ислам не разделяет ничего. Свобода выше закона: это было понятно уже суфиям и исмаилитам 119. Закон — надежнее свободы: это в равной степени близко всем конфессиям. Идеальная религия в принципе невозможна: ведь творят ее люди. А догматические разногласия без остатка переплавляются только в тигле мистического опыта.
Но это — удел немногих.
Антоний Сурожский, Томас Мёртон, Симона Вейль…
И все же новое знание о человеке невозможно без представления о запредельном измерении человеческого опыта, которое является основой всякого полноценного мышления. Человек связан со всей полнотой земной жизни и с сущностями, для которых наука пока не нашла названия, хотя и уперлась в них: так произошло с наукой о мозге, так произошло с психологией и, кажется, даже с физикой элементарных частиц… Может быть, это поля. Может быть, числа. Может быть, смыслы.
Паутина смыслов, в которой все взаимосвязано.
Тогда из этой паутины нельзя выдрать, не изорвав ее всю, такой мощный архетипический смысл, как Бог. Который, в свою очередь, связан с архетипом Тайны.
Было бы невыносимо скучно жить в мире, где не осталось ничего сверхъестественного.
В мире, который забыл опыт святости и присущее этому опыту знание тайны Бога: «…непостижим, ибо не постигается, неразрушим, ибо не разрушается, неприкрепляем, ибо не прикрепляется, не связан, не колеблется, не терпит зла…» 120
Мысль, наконец, выдохлась и свернулась калачиком.
Я и сам не заметил, как уснул.
XVII. БЕГСТВО ИЗ СОГРАТЛЯ
— А ты, я вижу, любитель поспать, — прервал мой недолгий покой громкий голос Магомеда. — Доброе утро! Вставай, сегодня к нам гости. Позвонили из краеведческого музея: какая-то группа едет сюда, искать традиционный аварский дом…
Я взглянул на часы: девять утра.
За завтраком Патимат объясняла мне, что прежде в летнюю пору обычный завтрак горца составлял вареный на молоке калмыцкий зеленый чай, приправленный перцем, маслом и накрошенной в него брынзой. Кружка такого чаю, кусок-другой хлеба — и работа до обеда. В поле с собой тоже брали только хлеб и густое питье из толокна и подброженного солода (кашицы из проросшей пшеницы). И только вернувшись домой, крестьянин мог основательно наесться хинкалом или пшенной кашей…
Недолгой, однако, была наша идиллия.
Не успел я напиться чаю, по счастью, обыкновенного, а не калмыцкого, с медом и бутербродами, как в сопровождении незнакомого мне мужчины в дверях опять возник Магомет, сосед Магомеда.
Они поздоровались, и Магомет подтолкнул мужчину ко мне:
— Вот, Сейфутдина три раза за бороду забирали. Подбросят три патрона — возьмут. Держат три дня. В следующий раз та же история повторяется…
— У Хемингуэя тоже была борода, но его за это не забирали, — усмехнулся Магомед.
— Это точно, — сказал Сейфутдин. Он с любопытством разглядывал меня. Вообще, события давно минувшего года не так уж сильно, как будто, его волновали, он и пришел, кажется, только потому, что ему было любопытно взглянуть на приезжего из Москвы.
— Потом я карманы отрезал, — весело сказал он. — В куртке, в штанах — чтобы некуда было подбрасывать. Все равно забрали. И опять сказали, что патроны нашли. Не стали даже объяснять, где.
— Но судя по тому, что бывало в других местах, вы еще легко отделались? — спросил я.
Сейфутдин невесело усмехнулся в ответ.
По правде сказать, в мои планы не входило обсуждать детали спецопераций четырехлетней давности. А собирались мы… Ну, в общем, еще вчера с Магомедом мы, несмотря на некоторые нестыковки в разговоре, занялись розыском явных параллелей между христианством и исламом: в этом нам здорово помог сборник хадисов имама ан-Навави «Сады праведных».
«…В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны [единому] телу: когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой» (хадис 224).
Или вот еще:
«Не помилует Аллах того, кто сам не проявляет любви к людям» (хадис 227).
«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать брату своему того же, чего желает самому себе» 121.
Для меня христианское звучание этих речений Пророка было очевидно. Но Магомед был осторожен в собственных выводах и о правомерности такого сближения хотел сегодня поговорить с имамом. И мне было любопытно, что скажет имам. Хватит ли у него смелости признать созвучие слов Мухаммада и соответствующих мест из Евангелия?
Но Магомет, сосед Магомеда, и не думал отступать. У него была вполне конкретная цель: донести до меня свое несогласие. Когда-то ему, видимо, было причинено большое зло. И оно по-прежнему жило в нем, обрастало новыми обидами и раздражением, которые он не в силах был ни переварить, ни держать при себе. Не все согратлинцы обладают такой силой и широтой духа, как Магомед. Однако и терпеть злобное раздражение Магомета я не хотел, потому что оно разрушало то доброжелательное равновесие, не без труда достигнутое, которое мне так не хотелось поколебать.
Поэтому я все-таки повернулся к Магомету и спросил:
— Я не знаю, что вам довелось пережить. Но это было уже давно. Что, по-вашему, нужно сделать сейчас, чтобы все было правильно?
Магомет не был готов к такому повороту темы, но быстро сориентировался:
— На Новый год ставят ёлку… Мальчик петардой сено поджег… Пьянство, драки, доходит до убийства! Зачем он нужен, этот праздник?
— У вас, в Согратле, доходит до убийства? Кого-нибудь убили в этом году? В прошлом?
— Нет, у нас до убийства, конечно, не доходит. Но к чему эта ёлка? Это не мусульманский праздник!
— А почему бы внутри вашей общины вам не решить самостоятельно — нужен вам этот праздник или нет?
— Потому что администрация навязывает нам этот праздник.
— Не знаю, стоит ли портить отношения с администрацией — они у вас достаточно сложные — из-за новогодней ночи. Пусть кто хочет справляет Новый год, а кто хочет — не справляет. Так вам не подходит?
— Нет.
— Почему?
— Ислам не поддерживает этот праздник: это пустая забава. В Законе нет такого праздника.
Я поглядел на Магомета пристальнее. Его категоричность неприятно поразила меня. Для разговора со мной он не вооружился ничем, кроме убежденности в собственной правоте. Он что, в самом деле считает, что его нетерпимость — это серьезный аргумент? Видит ли он дальше собственного носа, этот Магомет?
— Хорошо, — сказал я. — Что еще вы предлагаете?
— Хорошо бы, чтобы пятница, а не воскресенье, была выходным днем.
— Наверно, скорее в ваших силах, нежели в моих, добиться этого…
— Еще чтобы месяц Рамадан был объявлен отпускным. Чтобы месяц поста не был связан ни с работой, ни со школой.
— Исламские страны живут по лунному календарю. Он не совпадает с григорианским. Будут ли ваши дети рады, если им придется ходить в школу во время летних каникул, а поститься и отдыхать — в январе или в ноябре? Лично вы можете жить так, как вам угодно, тем более здесь, в Согратле. Но почему вы хотите подчинить этому всех?
— Потому что надо привести жизнь в соответствие с законами шариата. Вот, например, 8 Марта — этот праздник воспринимается верующими негативно…
— Да какое дело верующим до 8 Марта? Пусть этот день отмечают неверующие.
— А что значит — «отмечают»? Праздники, вечеринки, парочки, а то и вино… Ислам запрещает уединение.
Я вдруг почувствовал в душе невыносимую скуку.
В Панаме я видел индейцев, которые на свой лад исповедовали Христа. Символами их веры были крест и солнце. Cruz y sol. Это были приветливые, трудолюбивые, хоть и очень бедные люди, живущие в удивительной гармонии с природой и друг с другом. Они никогда никому не навязывали свою веру, а пение псалмов собственного сочинения приносило им искреннюю радость.
Нам с Магометом, пожалуй, не стоило продолжать разговор.
Но как от него отвязаться?
По счастью, в это время зазвонил мобильный Магомеда.
Звонили музейщики, которые должны были приехать в Согратль.
— Ну вот, — сказал он, поговорив о чем-то по-аварски. — Они едут. Сейчас будут здесь. Мы, наверное, пойдем и встретим их, Василий?
— Конечно, — сказал я, в душе благодаря Магомеда за то, что он понял и одним словом выдернул меня из бесполезного и тяжкого разговора.
Магомед облачился в парадный костюм, взял трость, и мы распрощались с соседями. Путь наш лежал к центральной площади перед мечетью. По дороге — как раз там, где обычно я видел привязанного к ручке двери ишачка — мы встретили учеников второго или третьего класса, которые вместе с учительницей собирали уличный мусор — случайно обороненные бумажки (нарочно в Согратле никто не кинет), веточки, опавшие листья… И я подумал еще, что какие бы чувства ни обуревали меня минуту назад, жизнь сложнее того, чем порою кажется, и эти дети — молодцы. Сознательные дети. И еще дадут сто очков вперед московским остолопам того же возраста, которые из вредности лепят жвачку на сиденье автобуса и уж, разумеется, никогда не подумают о том, чтобы подобрать бумажки на улице или хотя бы в собственном подъезде.
Но день, видно, не задался с самого начала.
Мы прошли через арку и повернули прямехонько к площади, когда навстречу нам попалась средних лет женщина. Не желая показаться невежливым, я приветствовал ее:
— Салам алейкум!
Она безмолвно проследовала мимо. Не в первый раз реакция женщин озадачивала меня: если они и отзывались, то как-то крайне невнятно. А эта и вовсе не удостоила ответом.
— Магомед, — поинтересовался я, — когда я говорю «Салам алейкум» — я что, делаю что-то не так?
— Нет, — поспешил утешить меня Магомед. — Просто женщины не должны здороваться с посторонними мужчинами. Они вообще не должны выходить на улицу без сопровождения мужчины…
Оп-с!
Приехали.
Меня вдруг не на шутку тормознуло.
Я мгновенно потерял всякий интерес к происходящему. Я не хотел больше говорить с имамом. Да и о чем? О том, чтобы любить людей так, как учил Иисус? А эта тетка будет ходить, не смея поднять глаза, только потому, что без сопровождения мужа или брата вышла из дома? Разумеется, она привыкла и ничего не имеет против, но это-то хуже всего. Что за тоска?! Не-ет! Так просто меня не проведешь, господа законники!
Я выпалил про себя эту тираду и тут увидел автомобиль. И прежде, чем я разглядел людей, стоящих возле него, я уже знал, что на этом автомобиле отсюда уеду. Позже я не раз возвращался к этому мгновению и всякий раз приходил к выводу, что не прав именно я. Я со всей «пластичностью» внутреннего ландшафта оказался гораздо менее терпимым в восприятии иного, чем Магомед, для которого многие мои вчерашние высказывания были, конечно, неприемлемы. Но если бы утром сосед Магомет не загрузил меня по полной, я бы не сорвался.
Потом мы перезнакомились с приехавшими сотрудниками музея. Их было двое: «общее руководство» осуществлял начальник, Алибек. Работу делал двадцатипятилетний парень-фотограф, Тимур. Еще был молодой шофер, парень в зеленой вязаной шапочке, и почтенный седой старик, так же как и Магомед, одетый в парадный костюм — учитель истории из Чоха. К нему-то, старому знакомому, и направился Магомед прежде всего.
— Так ты уже показал им Чох? — воспросил Магомед.
— Ну конечно, а как ты думаешь? — посмеиваясь, ответил старый учитель, перебираясь с переднего сиденья автомобиля на стоящую в тени мечети лавочку.
— Вы все осмотрели? — обратился Магомед к приехавшим. — Видели дом Мамлава?
— Мамлава? — переспросил Алибек. — Что-то не припомню…
— Единственный дом с балконом на весь Дагестан! Как можно это забыть? — сказал Магомед.
Приехавшие переглянулись.
— А-а-а, эта стена… — догадался фотограф. И, поглядев на Магомеда, добавил: — Он весь разрушился, один фасад остался… И потом — нам нужен был не дворец, а типичный аварский дом, который потом можно будет воссоздать в музее…
— Дом Мамлава… — продолжал вслух размышлять Магомед.
Язык присох у меня к гортани.
Я вспомнил развалины, которые видел во сне…
— Это была плата за то, что соседи-согратлинцы будут считать его предателем… — Магомед указал на крепость, к которой я поднимался вчера. — Мамлав из Чоха решил, что лучше быть про´клятым, чем бедным, и руководил батальонами дагестанской милиции, когда корпус Лорис-Меликова штурмовал нашу крепость…
— Что ж, — сказал старичок со своей скамейки. — Мы, в некотором смысле, выбрали разные подходы…
— Это уж точно! — без выраженных эмоций, будто продолжая доигрывать старую и до последнего хода известную партию в шахматы, воскликнул Магомед. — У нас — политкаторжане и ссыльные на поселении, у вас — генералы в свите императора…
— Да, — сказал старичок. — Были и генералы в свите… И еще: на одиннадцать лет раньше, чем вы, мы построили школу…
— Да, это так, — признал потерю фигуры Магомед.
— Из нашего селения вышло шестьдесят докторов наук и сто кандидатов. Два наркома в правительстве СССР. А у вас — сколько докторов, десять?
— Двадцать, — поправил Магомед. — Но у нашего колхоза всегда были самые высокие показатели…
— Когда это было? — с неожиданной грустью спросил учитель из Чоха.
— Да, давно нет этих колхозов… — согласился Магомед. Оба замолчали.
— А этот дом над селением, — вдруг решился я. — Эта башня из стекла и металла — что это? — спросил я чохского аксакала.
— А! — отмахнулся он, будто разговор этот был ему неприятен. — Это современный дворец начальника дагестанской таможни… — В надтреснутом голосе его зазвучала едкая издевка. — Новый хозяин места… Теперь они лезут всюду… У вас ведь тоже? Этот бандит?
— Да, — согласился Магомед. — Его дом там, за кладбищем… Еще ни разу он не сделал для нас ничего хорошего…
Потом мы искали «типичный аварский дом». Я показал ребятам электростанцию 1912 года. Этот дом поразил меня еще в первый раз, когда мы приезжали в Согратль с Ахмедом. Он очень стильно построен. Скромен, но совершенно отчетлив индустриальный дизайн. До сих пор этот дом называется «Мастерская», хотя в нем, по-моему, живут. Красивый дом. К сожалению, совершенно не аварский. И такого вот «типично аварского» дома нам так и не удалось найти. Ну, просто не было ни одного дома как чистого принципа. Мы прошли немало улиц и крытых переходов, мы видели темный подвал, где глубоко-глубоко в узком каменном колодце блестела черным Великая вода Согратля. Вода вод, которая пребудет, даже если все источники иссякнут или будут уведены в сторону. Это корень воды, которым Согратль прикреплен к Земле. В конце концов я понял, что музейщикам никогда не найти того, что они ищут. И посоветовал снимать все красивые дома подряд. Чтобы потом талантливый архитектор увидел в них типические черты и слепил бы из них что-нибудь «типично аварское». И вообще, конкретные дома важнее сейчас запечатлеть, им недолго осталось… Так мы поработали часа четыре, а потом ребята собрались ехать, и я пошел к Магомеду и прямо сказал, что поеду с ними.
— Но ведь мы хотели сходить к имаму… — огорченно сказал Магомед и, сунув руку за пазуху, извлек оттуда сложенный вчетверо текст молитвы оптинских старцев…
Я знал, что еще до того, как я окажусь в Махачкале, я пожалею, что расстался с ним. Но сейчас мне важно было уехать, мне было жизненно важно не встречаться и не разговаривать больше с Магометом, не смотреть круглосуточную программу из Мекки, не спорить о христианстве и мусульманстве… и не ходить к имаму.
Ну а Магомед… Что Магомед? Бегство из Согратля — я это видел — он не мог расценить иначе, как проявление слабости. Но и не поставил мне это в упрек. Не знаю, понял ли он, что случилось. Он переживал за меня. Ему было жаль, что я воспользовался сравнительно пристойным способом улизнуть раньше времени. Я понимаю Магомеда, но себя тоже не виню. Он был дома, на своей территории, даже, я бы сказал, на своем духовном плацдарме, а я был один — и просто в силу специфики ремесла вынужден был принимать все, что обрушивалось на меня, грозя смять и расплющить саму мою «пластичность». Я понимаю, что это несовершенная (хотя и отзывчивая) форма существования, но она моя, а я хотел бы сохраниться в той форме, к которой привык.
Когда я поднялся к дому, чтобы по-быстрому собрать вещи, меня внезапно остановила Патимат:
— Магомед мне сказал не выпускать вас, пока вы не пообедаете…
— Магомед?
— Ну да…
Я был стольким обязан им обоим, что не стал отказываться, чтобы напоследок не пренебрегать их гостеприимством: торопливо я поел, хоть Патимат на этот раз особенно вкусно приготовила, потом распрощался с ней, пробежал по улице, сердечно простился с Магомедом — и как ветром тогда вынесло меня из Согратля.
Машина музейщиков устремилась вниз. Они ехали с чувством исполненного долга, я — с чувством досады на себя и, как ни странно, освобождения. Общим желанием было чем-то эти чувства расцветить. Хотелось успеть в город до темноты.
Руководитель группы, Алибек, сидя на переднем сиденье, звонил куда-то и, оборачиваясь к нам с Тимуром, спрашивал:
— Что будем заказывать — пельмени или хинкал? Пиво будете? Какое предпочитаете?
Я представил себе уютный ресторанчик где-нибудь на окраине Махачкалы, где все отлично знают Алибека и к нашему приезду постараются, чтобы нам было хорошо.
Но странное дело — в половине десятого мы въехали уже в Махачкалу, а ресторанчик на берегу под ивами, возникший было в моем воображении, так и не появился. Больше того: мы ехали прямиком к Дому прессы, где поселил меня Али, и только метров за триста до него вдруг резко свернули во двор. И тут машина остановилась.
— Ты с нами? — спросил Алибек шофера.
Тот отрицательно покачал головой:
— Я не пью… Так что поеду…
Внутренний двор блочной девятиэтажки, построенной «уголком», в вечерний час был полон народу. Дети, взрослые, старики по-разному проводили здесь час вечернего досуга. Алибек возглавил наше шествие среди снующих под ногами детей и стоящих группами парней, как вдруг налетел на здоровенного, толстого, со сросшимися бровями парня, который сверху вниз обдал его неприветливым и скучным взглядом, но потом все-таки протянул руку, соглашаясь поприветствовать неловкого и по сравнению с ним тщедушного соседа.
Мы вошли в подъезд.
Света не было.
В темноте поднялись на четвертый этаж. Дверь в квартиру не была заперта, и мы как-то сразу очутились в коридоре в окружении четырех или пяти детей и двух женщин: одна, постарше и погрузнее, была женой Алибека. Она стояла, опершись рукой о дверной косяк, и разговаривала с другой женщиной помладше, которая, как выяснилось, оказалась невесткой нашего предводителя. Эта тоже была в теле и в истоме этого богатого, молодого еще тела, но поскольку и сам Алибек, и Тимур, и я были весьма сухого телосложения, появление наше не вызвало их женского интереса. Они только посторонились, пропуская нас в свободную комнату, и как ни в чем не бывало продолжали болтать дальше.
Похоже, нас никто не ждал.
Алибек притащил откуда-то и поставил возле дивана столик для закусок, стул, потом водрузил на столик тарелку с виноградом и другую — с нарезанным хлебом. Хинкалом даже не пахло. Потом он еще раз выбежал из комнаты и вернулся с полиэтиленовым мешком вонючей каспийской таранки. Я помнил, как и где ловится эта рыбка, и есть бы ее, конечно, не стал. Но обещанного пива выпил бы с удовольствием.
— Сейчас, — заверил Алибек. — Сейчас принесут.
Мы все никак не могли рассесться вокруг стола, потому что пиво все не несли и не несли. Потом в коридоре вдруг возник тот здоровенный, со сросшимися бровями, парень со двора, оглядел нас с Тимуром как каких-то гуманоидов, и пока до меня доходило, что это, значит, сын Алибека и отец его многочисленных внуков, сам Алибек вдруг исчез куда-то, так что мы с Тимуром в какой-то момент перестали понимать, что мы здесь делаем, но тут… Тут нужен знак препинания. Точка лучше всего. Довольно-таки протяженная во времени точка, начинающая превращаться в вопросительный знак. Но прежде чем превращение завершилось, Алибек вернулся, сбегав за пивом, и мы наконец расселись вокруг стола.
— Ну, — сказал Алибек, — за знакомство!
Он достал пиво, и тут выяснилось, что из четырех банок две «покрепче» он купил нам с Тимуром, а обычное взял себе. Я извинился и сказал, что выпил бы обыкновенного. И Тимур сказал то же самое. Не знаю, что сделали бы вы на нашем месте, но пиво «Белый медведь» крепостью 7,8% — это почти самое худшее, что вообще можно себе вообразить. Алибек на секунду показался расстроенным, но потом взял этого «Медведя» и после тоста засосал целую банку. И, кажется, ему это помогло. Какая-то живость вернулась к нему. Какая-то радость жизни. И пока эта радость не прошла, мы посидели еще минут десять, выпили по банке пива и потом сквозь сгустившееся скопление домашних вышли в темный подъезд, спустились вниз и распрощались. Честно говоря, я так и не понял, что пытался изобразить Алибек, пока мы ехали в машине, но, по-моему, он просто побаивался в одиночку возвращаться домой. И тем более там выпивать. В общем, восхождение мое в Согратль к Магомеду закончилось нисхождением к Алибеку. Я, разумеется, уже жалел, что потерял общество Магомеда, причем, скорее всего, навсегда. Но, теряя его, я по крайней мере понимал, почему я уезжаю и зачем. А к этому вот последнему гостеванию надо было еще как-то отнестись. Разумеется, миллионы людей по всей стране живут в таких же квартирах, переполненных детьми и родственниками. И если б не мы с Тимуром — Алибеку и пива бы с дороги выпить не дали. Ну а так — хоть поддержали мужика. В конце концов, он постарался. За пивом, бедняга, бегал… Сумасшедшая жизнь у него…
Но что бы я ни говорил себе в оправдание, все это было явное не то. И началось это не то с отъездом из Согратля…
Я отправился к Дому прессы. Там, на задворках складов ресторана и автобазы, было три гостевых номера, которые накануне моего отъезда в Согратль занимали Сулиета, Ильяс (парень с телевидения) и я. Но прежде чем возвращаться в свой номер, я перешел шоссе с намерением все-таки нормально поужинать и выпить пива в кафе, которое я облюбовал себе поблизости: там была симпатичная, очень веселая и разговорчивая хозяйка, отличный лагман, суп с фрикадельками и всегда свежее хорошее пиво. Единственным недостатком этого заведения был громадный плазменный экран, настроенный на канал, по которому, сколько бы раз я туда ни заходил, передавали исключительно плохие новости. Позавчера были сообщения о нашествии смертоносных улиток в Калифорнии — эти твари длиной в двадцать сантиметров заражали людей менингитом — и о гибели спортивного самолета, не сумевшего завершить фигуру высшего пилотажа.
Кафе было еще открыто.
Я зашел.
Хозяйка за стойкой узнала меня.
— Куда-то ездили?
— Да, ненадолго. Сегодня лагман?
— Нет, суп с фрикадельками. Лагман будете есть завтра.
«Ну уж нет, — вдруг подумал я. — Завтра я буду ужинать в Москве».
— Тогда фрикадельки и пиво.
— Это — пожалуйста.
— «…Специалисты предполагают, что причиной авиакатастрофы, в которой погибла ярославская хоккейная команда, стала неисправность тормозной системы самолета, которая не позволила ему набрать нужную для взлета скорость…» — неожиданно известил плазменный экран, по которому метнулись космы огня и жирный газолиновый дым — все, что осталось от самолета.
— Вы любите ужасы? Нарочно такую программу выбрали? — спросил я у хозяйки. — Вы своими ужасами всех клиентов распугаете…
Девушка усмехнулась:
— Ваше пиво.
«…И в заключение — последние новости. В центре Махачкалы взорван минимаркет «24 часа». Войдя в магазин, неизвестный мужчина стал стрелять в разные стороны, а когда по нему открыли ответный огонь охранники, он выбежал, оставив сумку, в которой находилось взрывное устройство…»
Кусок фрикадельки застрял у меня в горле. Что это? Психиатрия? Но тогда тяжким недугом охвачена вся республика… Можно объяснить убийства милиционеров, месть, но эти взрывы, когда погибают неповинные люди… Или этот псих с пистолетом полагал, что борется с продажей спиртного, запрещенного шариатом?
Я выпил пива и расплатился.
— Где это взорвали, интересно? — обеспокоенно проговорила хозяйка. Она ведь тоже торговала спиртным.
Я зашел в соседний магазин и, прихватив круглый хлеб на завтрак, направился к воротам в захламленный и заставленный машинами двор, который был своего рода чистилищем перед лазейкой в коридор, где были наши номера. Но неожиданно перед самыми воротами нос к носу столкнулся с Али.
— Я что-то тебя не понимаю, — едва взглянув на меня, раздраженно фыркнул он. — Ты уезжаешь в Согратль на два-три дня — а сегодня ты уже здесь… Какого, с позволения сказать, черта?
— Какого черта?! Я скажу, Али… Все дело в том, что у меня мозги дымятся от этой страны! Я схожу здесь с ума… Я не понимаю Дагестан! — выпалил я.
Али помолчал.
— Я тоже не понимаю, — вдруг сказал он грустно. — И никто не понимает.
XVIII. ИГРА ВНЕ ПРАВИЛ
Утром тщательно, вещь за вещью, я уложил сумку. Выловил по комнате все, что должно было быть положенным в рюкзак в последнюю очередь: вещи, которые могли понадобиться мне по прилете в Москву. Куртку, бейсболку, зонт…
Потом заварил чаю покрепче и съел хлеба.
Было еще слишком рано, чтобы звонить Али, но я понимал, что даже он вряд ли поможет. Ильяс оказался хитрее — заказал билет заранее и вчера вечером улетел. А Сулиете с трудом достали один билет через ФСБ. Так что сегодня рассчитывать мне придется, скорее всего, только на себя. Почему-то со вчерашнего дня меня не покидало ощущение, что я сделал что-то не то, и в результате вся поездка вывернулась наизнанку. Я больше не чувствовал себя в безопасности. Вчерашний вечер закончился в номере у Сулиеты, и так я узнал, что как раз в тех местах, где они снимали с Ильясом, была попытка взорвать погранзаставу (погранцов, в отличие от милиции, обычно не трогают). Кончилось все тем, что взрывом убило мирных жителей. Я пошел спать, когда Сулиета села писать статью, которую Али собирался опубликовать в сегодняшней газете. Что-то беспокоило их. Что-то неладное творилось в Дагестане…
Я вышел на улицу, поймал такси и попросил довезти меня до ближайших авиакасс.
Шофер был разговорчивый, слово за слово, и я пожаловался ему, что билетов, кажется, нету. Он не поверил, но сказал, что у него есть друг, летчик, который может достать, если только он не в рейсе.
— Давайте, если билетов не будет, позвоним этому человеку, — сказал я, отлично понимая, что без «знакомств» мои шансы убраться отсюда равны нулю.
Он был не против, только хотел, чтобы я сначала проверил, как там, с билетами. Все не верил, что билетов нет. Но я уже понял, в чем дело. День национального единства. В каком-то смысле мне повезло: я своими глазами увидел, как этот праздник отмечается впервые. Причем пробила это дело молодежь. И праздник удался: весь Дагестан собрался на главной площади Махачкалы в национальных костюмах, и люди просто ходили от стенда к стенду, от шатра к шатру и разглядывали, опознавали друг друга, угощались национальными кушаньями, пили чачу, водку, чихирь и удивлялись: это, значит, ногайцы… А это — кумыки… Аварцы… Даргинцы. Лакцы. Терские казаки… А вместе — это мы… Дагестан. И на этот праздник пригласили кучу народу. Из Москвы в Махачкалу я летел с актерами какого-то московского театра, который собирался на сцене Русского драматического в Махачкале показать «Тетушку Чарли» Брэндона Томаса. Там еще был молодой актер, карикатурно похожий на Джонни Деппа в фильме «Мертвец». Но все дело было в том, что он не осознавал карикатурности своего сходства и на полном серьезе то и дело поправлял челку и темные очки, надеясь, что за их стеклами не видно его глаз, бесконечно ищущих чужого «узнавания». Для верности он называл одного из своих приятелей «Никто»… И теперь, когда праздник кончился, все эти люди повалили назад. Поэтому шансов у меня было маловато…
Я зашел в кассовый зал и сразу подошел к свободному окошку.
— Один на Москву. Сегодня…
— Нет билетов.
— Послушайте, столько рейсов, хоть один-то билет должен быть…
— Понимаете, это не я вам отказываю, — сказала женщина-оператор за кассой. — Это компьютер выдает информацию. Сами смотрите: на сегодня нет. На понедельник, на вторник — тоже нет. Так что — до среды… Будете брать?
— Нет, — сказал я. — Попробую как-нибудь по-другому выбраться отсюда.
До среды… О, черт!
Я вернулся к шоферу и попросил, чтобы он позвонил своему другу. Он набрал номер. Долго не было ответа, потом он соединился, они что-то обсудили, и шофер напрямик сказал, что «тут одному хорошему знакомому нужен билет до Москвы». Молчание. В эту секунду я прикидывал, сколько нужно будет ему отстегнуть за эту фразу.
— Не может он помочь, — сказал, заканчивая разговор, шофер. — Сейчас он уже в маршрутке едет. Летит во Владикавказ, оттуда в Турцию. Вчера бы… Он бы сделал. Хороший мужик. Только бухает перед рейсом. И водку пьет, и пиво…
Я чувствовал себя зверем, попавшим в загон.
Вот оно: не то!
По дороге назад мой таксист сказал, что как раз возле Дома прессы есть стоянка междугородних автобусов Махачкала — Москва. Отправление — в семь вечера. Едешь ночь — день — ночь, а под утро — в Москве.
Перспектива ехать автобусом 36 часов не очень-то улыбалась мне. Чтобы проехать такое расстояние, нужен свободный режим передвижения. Как в автомобиле. Тут останавливаешься, тут обедаешь, тут разминаешься или гуляешь по степи… А автобус едет и едет, и ты в своем кресле постепенно превращаешься в закостеневший, саднящий кусок страдающей плоти. Хуже может быть только поезд, который тащится в Москву через Астрахань двое суток. Двое суток люди спят, пьют, молятся, ссорятся, нянчат кричащих детей — и ты воленс-ноленс наблюдаешь все это. А когда нервы у тебя не выдерживают, ты идешь в вагон-ресторан, заказываешь обед, пива и сутки от Астрахани до Москвы думаешь, сидя на вонючем унитазе с коликой в кишках, что у тебя: обычный понос, дизентерия или все-таки холера?
Когда я подъехал на такси к Дому прессы, рядом остановилась машина, в которой сидел Али с верным Шамилем за рулем. Али направлялся, видимо, к Сулиете. И тратить на меня время ему не хотелось.
— Куда ты идешь? — остановил он меня. Глаза его были суровы.
— Я иду в свой номер. Но коль уж встретил вас, хочу спросить: есть ли вероятность улететь сегодня?
— У меня куча дел, а теперь ты хочешь, чтобы я и твоими делами занимался?!
— А на кого мне еще рассчитывать здесь? Я уже выяснил — билетов нет.
— Шамиль! — обернулся к шоферу Али. — Возьми его паспорт. Попробуй сегодня на Москву…
— Или на Питер, — сказал я.
— При чем здесь Питер? Ты что, в Питер собираешься? — опять посуровел Али, видя в этом какую-то блажь.
— Нет, просто из Питера я за сорок минут долечу до Москвы, а если нет — всего семь часов поездом.
Питер… Если ты попал в Питер, считай, что ты уже в Москве. Даже если у тебя нет денег, в Питере ты наверняка отыщешь кого-нибудь из друзей. Они накормят тебя, напоят и уложат спать-почивать… А наутро дадут денег, посадят в поезд и отправят в Москву. Я вдруг понял, что любой город России, будь то Воронеж, Астрахань, Смоленск, Курск — любой город, куда можно перенестись на самолете или усилием воли, мне сейчас милее Махачкалы. Но не скажешь же этого Али?
— Хорошо, — приказал Али Шамилю. — Еще на Питер…
У Сулиеты мы дожидались возвращения Шамиля. За ночь Сулиета написала статью. Она молодец, сильная женщина. И она оказалась-таки права: все взрывы происками профессиональных боевиков не объяснишь. Их слишком много. Значит, есть своего рода «самодеятельность». Возможно, как реакция на страшную коррупцию и цинизм властей. Разумеется, далеко не «лучшие люди» снаряжают и взрывают бомбы. Но трагедия отчаяния налицо. Сулиета предложила мне свежие оппозиционные газеты. Я взял их и ушел в свой номер, чтобы не мешать их общим с Али делам.
Через некоторое время вернулся Шамиль. На Москву билетов, естественно, не было, а на Питер в воскресенье не было рейса.
— Возможности еще остаются? — спросил я Али.
— Когда будем провожать Сулиету, будь здесь. Может быть, удастся что-то сделать в аэропорту.
Я вышел из гостиницы. Так. Тошнота во всем теле становилась все сильней.
Сейчас я пойду в кафе и позавтракаю, вернее, пообедаю… Это раз…
Но тут я вспомнил фразу: «Лагман будете есть завтра…» и подумал, что не стоит искушать судьбу. Придется перекусить в другом каком-нибудь месте.
Автобус.
Двухъярусные современные автобусы Махачкала — Москва стояли возле гипермаркета «Пирамида», буквально через дорогу. Я решил разведать этот вариант как крайний. Автобусов было два. Они стояли бок о бок. Громадные белые автобусы. Возле одного прохаживался менеджер, который показался мне довольно симпатичным и сговорчивым парнем.
— Сколько времени вы в пути?
— Вы будете в Москве следующей ночью.
— А сколько стоит билет?
— Вам какое место: сидячее, лежачее?
— Сидячее.
— Две тысячи.
— Так. А бар в автобусе есть? Пиво?
Он взглянул на меня как на сумасшедшего:
— Бара нет. А пиво пить можно… немножко.
— В каком смысле «немножко»? Туалет-то есть у вас?
— Нет, ни у одного из наших автобусов нет туалета… Но остановки — каждые два часа… Вас зарегистрировать? Вы едете?
— Нет, пока не решил…
— Ну возьмите тогда визитку: вот этот, нижний телефон.
— Спасибо, — вяло отреагировал я. Но визитку взял.
Поначалу я отверг этот вариант. Тридцать шесть часов без туалета… Без каких-либо признаков удобств…
Если бы Европа, которая произвела эти автобусы, знала, до какой степени скотства и дискомфорта можно их довести…
Опускаю скучные подробности этого дня. В полчетвертого мы — я имею в виду всех мужчин — погрузили обширный багаж Сулиеты Аслановны в громадный джип Али и поехали в аэропорт. Особых надежд у меня не было, но все-таки… Вот Сулиета у стойки. Посадка уже заканчивается. Али даже не попросил Шамиля взять мой паспорт, чтобы в случае чего сразу купить билет.
Но что это? Что-то не так, там, на регистрации.
— У вас билет на вчера, — объясняет растерянной Сулиете девушка за стойкой. — Вот: 17 сентября.
— Этого не может быть, — взрывается Али, — мы пробивали этот билет через правительство, через КГБ…
— Но он вчерашний.
— Шамиль! — Али полоснул своего оруженосца сабельным взглядом…
Ясно было, что налицо ошибка: Шамиль, я убежден, сделал все правильно, но кассирша неверно расслышала, компьютер выдал билет на вчера — и это безнадежно. А самое главное, бывают то ли секунды, то ли минуты, когда в это невозможно поверить. Кажется, еще можно позвонить кому-то, чтоб исправить ошибку, отменить, разрешить…
Теперь уж точно никому не было до меня никакого дела! Али метнулся к начальнику аэропорта. Шамиль походочкой спешившегося кавалериста прохаживался возле багажа Сулиеты.
Терять больше было нечего. Я нащупал в заднем кармане джинсов визитку автобусной компании и набрал нижний телефон. Занято. И тогда я набрал средний.
— Зарезервируйте за мной одно место.
— Сидячее, лежачее?
Отступать было некуда. Еще утром я знал, что не останусь здесь. Всем своим существом я уже ехал, вырывался, улетал…
— Сидячее.
Судьба моя решилась.
Али вернулся от начальника аэропорта ни с чем. Вздувшаяся синяя вена пересекала его лоб, как молния. Почему-то он решил направить острие этой молнии в меня:
— А еще ты!!!
Что-то щелкнуло, механизм моего движения запустился, я поднял сумку и закинул на плечо рюкзак:
— Али Ахмедович, благодарю вас за прием. Если что-то было не так, извините. И прощайте: я уезжаю автобусом.
Я хотел взять такси, но Али удержал меня.
Мы доехали обратно до Дома прессы, Али сделал вялую попытку пригласить меня на ужин, но я сказал, что мне надо спешить к отправлению автобуса.
Первым делом я пошел в аптеку и купил мужской памперс (не своего размера, но это не имело значения). Потом в последний раз зашел в свой номер, снял трусы и надел на себя памперс. Первый раз в жизни. Ощущение было странное, но терпимое.
Потом я пошел на автобусную остановку и стал обустраиваться в автобусе с понравившимся мне менеджером и шофером. Но не тут-то было! Я ведь позвонил не по нижнему, а по среднему телефону! И поэтому, оказывается, должен был теперь ехать в другом автобусе, менеджер и водитель которого были далеко не столь сговорчивы и приветливы, а по мере того как я настойчиво обустраивался в другом автобусе, свирепели все больше. Один из них подошел ко мне:
— Вы ведь нам позвонили? Где ваш телефон?
От неожиданности я протянул менеджеру мобильник, и он — раз-раз-раз — с какою-то неимоверной скоростью нашел последний номер, который я набирал.
— Вот, наш номер. Мы забронировали вам место. Через пятнадцать минут отправление!
Я поднялся и подошел к менеджеру полюбившегося мне автобуса:
— И что, ничего нельзя изменить?
— Нет, так уж получилось. Я же вам предлагал сразу…
Понятно. Они — конкуренты. И не встревают в дела друг друга.
Я понуро пошел в нелюбимый автобус, сел в кресло у столика по ходу движения, заплатил две тысячи.
Не то.
— Паспорт, — огрызнулся их менеджер.
— Что?
— Паспорт!
Забрали паспорт и деньги и куда-то исчезли.
Первый, любимый автобус тем временем отправился.
Наш тоже заревел двигателем.
— А паспорт? — стал волноваться я. — Где паспорт?
Шофер посмотрел на меня с нескрываемым раздражением. А ведь мне с ним ехать 36 часов…
В самый последний момент принесли паспорт с какими-то бумажками. Это, значит, билет и регистрация от погранцов.
Минут через пять мы тронулись. Рядом со мной оказался высокий мужчина лет сорока, назвался Борисом. Я был рад, что нас только двое, а не четверо за этим столиком и мы не сидим друг напротив друга и не дышим друг другу в лицо. Да и ноги можно вытянуть.
— Ты не местный? — догадался Борис.
— Из Москвы.
— А я лезгин, — произнес он, чтобы скрепить знакомство. Он не сказал, откуда он — из Махачкалы, из Дербента или вообще из Азербайджана. У лезгин главное — национальность. Это еще Сулиета рассказывала. Для самоидентификации лезгину нужно только одно — знать, что он лезгин. Я — лезгин. Он — лезгин. Мы — лезгины.
Потом на каком-то круговом перекрестке автобус остановился и довольно долго стоял. Шофер звонил по телефону и уточнял что-то. Через несколько минут подъехал белый джип, и из него в автобус перешли две девушки. Стройные, гибкие, на удивление красивые, но при этом красота их была как-то вызывающа и отозвалась пульсациями кундалини под памперсом. Менеджер задернул прозрачную занавеску, отгораживающую кабину от салона, одна села на место второго водителя позади шофера, а вторая — на кресло рядом с ним и положила ноги на торпедо. Никто не сказал ей ни слова. Когда они достали сигареты и закурили, уже не нужен был ум Шерлока Холмса, чтобы понять, что это бл…ди, которых везут в Москву на работу. Но при этом и шофер, и его помощник всю дорогу относились к ним очень бережно и даже почтительно. Может быть, это были их сестры. Или подруги. А может, ехали они в Москву по вызову какого-нибудь обосновавшегося в столице дагестанского босса. Поразвлечь его. Мне было наплевать, но не то продолжало преследовать меня.
Остановка подрастянула время. Целый час мы выскребались из Махачкалы на трассу, ведущую в Кизляр и дальше, через Калмыкию — в Волгоград. Неожиданно я с ужасом ощутил, что мне пора слить остатки чая и кофе, которые я влил в себя за сегодняшний день. Разумеется, я не собирался испытывать памперс. Что, если он протечет? Или не протечет, а просто наполнится мочой, как губка? Я вспомнил, как менял памперсы своим детям, когда они были маленькими. Нет-нет, этот памперс — как последний патрон, на самый крайний случай! Но я не хотел показаться некорректным. Они сказали — остановки через каждые два часа. Пусть будет через два. Я подожду. Я замер на сиденье, как птица, которую заметил было, но потерял из виду охотник. Я притупил сознание так, что чуть не заснул; я мимикрировал и менял форму, чтобы надувшийся внутри пузырь не ощущался так чувствительно. Но я выдержал. Я дождался, хотя это было нелегко. Потом подошел к шоферу и сказал: вот, вы обещали остановки каждые два часа, а остановки что-то все нет…
— Мы обещали? — сурово переспросил водитель. — Мы ничего не обещали.
Я вспомнил, что разговаривал с другим менеджером, с другим экипажем. Эти, пожалуй, из вредности не остановят, специально, чтобы я обоссался при них, при бл…дях, при Боре и всех остальных.
— А какая ближайшая остановка?
— Кизляр.
— Через сколько?
— Через час.
Через час…
— Ситуация предельно деликатная, — обратился я к другому парню, второму водителю, который, дожидаясь своей смены, наслаждался общением с девушками. Они болтали о чем-то, беспрерывно курили и хохотали. Тут я их разглядел повнимательнее: та, что закинула ноги на торпедо, сделала это не случайно. Ноги были что надо. Точеные ноги в чулках со стразами. И на лицо она была очень хороша: глаза огромные, волосы цвета воронова крыла, правильное, я бы даже сказал, хорошее лицо, если б увидел ее в других обстоятельствах. Вот она — Красотка Дагестана. Вторая была русская, пообыкновеннее. Ничего такого особенного в ней не было: просто симпатичная девчонка. Но знаете, как женщины влияют на мужчину? Я вдруг решил не отступать. Мне надо выйти — пусть останавливают. Ничего с ними не сделается.
— А что, сильно поджимает? — спросил второй водитель, будто только что расслышал мою реплику.
— Не поджимало бы, не подошел бы.
Вскоре я понял, почему он так сказал.
И хотя ему хотелось даже больше, чем мне, водитель остановил автобус только минут через десять. Второй водитель выпрыгнул вслед за мной.
Кризис миновал.
Ближе к Кизляру мы решили с Борей, что купим знаменитого кизлярского коньяка, а он должен был указать, где продают хороший шашлык.
Кизляр. О, господи! Едва мы выбрались из автобуса, как я понял, что главное — не потеряться. В темноте по правую сторону шоссе на площадке было не меньше сотни автобусов, возле которых стояли, курили и приседали тысячи человек. Другие осаждали пластиковые кабинки туалетов. Огни магазинчиков и кафешек манили к себе людей, желающих перекусить, но за двадцать минут, отведенных нам экипажем, решительно невозможно было успеть все. Мы бросились на поиски кизлярского коньяка, который должен был скрасить нам впечатления от этой ужасной дороги. Если вам плохо, если вы уходите в себя и мимикрируете, чтобы только не замечать окружающего и не быть замеченным, выпейте кизлярского коньяка — и вам станет хорошо, так хорошо, что вы опять сможете смело взирать на окружающее с оптимизмом. В первом магазинчике засели исламисты, которые не торговали спиртным. О черт! Мы бросились к другому магазинчику — через шоссе. Здесь было пиво, но не было коньяка. Каждая ошибка отнимала у нас драгоценное время. Мы опять побежали наискось через шоссе и, наконец, нашли прилавок, за которым красовалась целая батарея коньячных бутылок. Но этот прилавок осаждала огромная очередь мужчин, которым тоже хотелось скрасить свою дорогу. В борьбе за кайф — не до сантиментов. И я понял, что влезть в эту очередь не дадут. Просто набьют морду. Благо, торговали здесь только бутылками, и очередь шла быстро. На две минуты мы слились с толпой в едином алкании.
— Какой будем брать? — спросил я Бориса.
— Вот тот, самый большой.
— Самый дорогой?
— Да, да.
Наконец я бережно принял бутыль с драгоценным напитком в руки свои и уложил в рюкзак.
— Теперь шашлык, — сказал я Борису.
Он стал бестолково метаться по парковке среди автобусов и ларьков — видно, потерял свою шашлычную. Случайно мы натолкнулись на палатку, где какой-то мужик жарил куриные ножки и шашлык на вертеле, посыпал все это резаным луком, выдавливал кетчуп и выдавал белую лепешку величиной с чайное блюдце. Я хотел спросить, что мы будем — курицу или шашлык, но, обернувшись к Борису, вдруг убедился, что он исчез. Вот незадача! Без него я и автобус свой не найду — такими зигзагами мы бежали.
— Два шашлыка, — сказал я, когда подошла моя очередь. — Один без лука и без кетчупа.
Хозяин нанизал небольшие маслянистые кусочки мяса на шампуры и стал поджаривать. Я понял, что надо опять завязать все нервы в узел: время стоянки неуклонно приближалось к концу. Я попробовал определить, в какой стороне наш автобус и, по счастью, вспомнил, что напротив было переполненное людьми кафе «Дорожное».
— Один без лука? — неторопливо проговорил хозяин.
— Да, один без лука. И без кетчупа.
Быстрым движением он содрал с шампуров кусочки шашлыка в бумажные тарелки и, заправив порцию Бориса луком и кетчупом, выдал все это мне с двумя лепешками в придачу. Бежать с таким хозяйством в руках было трудно, но я все-таки справился с задачей и стал искать автобус. Тут будто из-под земли опять возник Борис, ткнул пальцем в пространство, и мы побежали к автобусу, который уже распускал вокруг себя клубы ядовитого дыма.
Когда мы уселись, наконец, за столик и перевели дыхание, Борис спросил:
— Я потерял тебя, куда ты делся?
Потерял… По-видимому, Борису довольно было того, что он — лезгин. Тратить на этом основании деньги он не собирался.
— Ладно, — сказал я. — Все сложилось. Пора приступать.
Мы выпили по 25 коньяка и подступили к шашлыку. Есть хотелось зверски.
Шашлык оказался просто мелко нарубленными и обжаренными бараньими ребрами. Ребрами без мяса. До сих пор удивляюсь, как хозяин умудрялся нанизывать эти кости на шампуры: видимо, в сыром виде их обволакивала кожистая пленка, под которую он и продевал стержень шампура. Остатки этой пленки, запекшиеся на костях буроватой массой, мы и пытались зацепить зубами. Как голодные псы, мы сгрызли все, что смогли.
Потом выпили еще.
Потом наблюдали, как наш сосед через проход, попросив у экипажа коробку с видеофильмами, смотрит американские боевики. В одном из них гигантский негр супербоксер обязательно насмерть забивал на ринге своего противника. После того как бездыханное тело уносили, этого негра подновляли, припудривали и выпускали на другой ринг, где противник, поначалу казавшийся грозным, в результате получал-таки свой смертельный удар, его уносили, негру зашивали рассеченную бровь, припудривали и все начиналось сначала. Я посоветовал мужику поставить какой-нибудь другой фильм. Он нашел в коробке диск без обложки и поставил его. Минуты три мы оторопело смотрели на происходящее: в этом фильме сюжета вообще не было. Просто все дрались, как сволочи. Я взял коробку и сам стал в ней рыться. Неожиданно нашел «Зеленую милю» с Томом Хэнксом в главной роли.
— Вот, — сказал я, — отец, это фильм действительно хороший. Если ты посмотришь, то не пожалеешь.
И мы с ним посмотрели «Зеленую милю». Я люблю этот фильм, потому что моя Ольга показала мне его, когда мы только с ней познакомились. Я вспомнил Ольгу и вдруг ощутил, как мучительно соскучился по ней. Я налил сразу граммов сто коньяку и выпил. Борис заскучал от кинопросмотра, тоже выпил и пошел спать куда-то на второй этаж.
А я не мог заснуть. Теперь, когда коньяк посбивал все запоры с моей души, я хотел думать о любимой.
Я мог бы позвонить ей, но она поняла бы, что я плох.
Я не хотел, чтобы она раньше времени узнала об этом, равно как и о том, как и куда меня занесло.
Черная ночь висела над нами. Беспроглядная калмыцкая степь простиралась вокруг.
Я вдруг понял, что слишком уж заигрался в свои мужские игры и давно, уже несколько дней, не говорил ей, что люблю ее. А если бы и говорил? Она была бы рада? Да, была бы рада. Но почему-то, когда она однажды сказала, что после восьми лет совместной жизни мы могли бы и пожениться, я сказал, что не хочу. Не в смысле «не хочу», а просто — после двух разводов считаю это бессмысленным.
А ведь она сказала об этом не просто так, верно?
Она хотела близости, хотела чего-то, на что имела право, раз уж все эти восемь лет разделяла со мной мои привычки, нервы, чересполосицу нашего быта, эти командировки и эту книгу, с которой вынуждена была делить меня с самого начала. Восемь лет назад книга уже была: семечко, когда-то запавшее мне в душу в дельте Волги, уже проросло и даже дало первые побеги. Все это она приняла и таким меня любила. Детей общих у нас не было. Но разве по ее вине? Разве я променял бы детей на свои любимые тексты, будь я проклят?! Но она любила их, эти мои тексты. Она нянчила их, как младенчиков. Она видела, что творится со мной, когда я рожаю их. И все эти восемь лет, покуда я все глубже уходил от нее в свой неведомый Восток… И последние два года, когда меня швырнуло к рабочему столу и приковало к нему, как невольника к колодке… Все эти годы… За восемь лет прошло восемь лет, любимой моей больше не тридцать четыре, а мне — не сорок три. И текстов написано уже так много, что мне надо прикончить книгу, пока она не прикончила меня. Скорее. Тогда почему же я медлю? Мне страшно спросить себя: а что будет, когда я закончу? Когда книги не будет? Чем будет жива наша любовь? Рожать ребенка в нашем возрасте — безрассудство. Но мне кажется, что даже на безрассудство она готова ради меня…
А я?! А я?!
Почему я не сделал, как она хотела? Скотина! Она хотела только укрыться мною, раз уж больше нечем, только ощутить тепло моих рук и убежище сердца, убежище любви, о которой я самозабвенно умствовал ночью в Согратле…
Я почувствовал, как слезы текут у меня по лицу.
Я люблю тебя, Олюша… Я люблю тебя…
Через несколько минут приступ непереносимого раскаяния прошел.
Я понял, что мне срочно надо покурить.
Сделать это проще всего казалось на втором ярусе автобуса, куда ушел спать Борис. Лишь бы кто-нибудь не заорал, почуяв табачный дым. Они очень чувствительны ко греху, эти святоши. Я встал со своего места и повернул к лестнице наверх. По пути я разглядел стоящие с обеих сторон вдоль прохода ящики высотою сантиметров 90. Точнее, это были не совсем ящики, потому что одна стенка у них отсутствовала и была завешена шторкой. Таких «антресолей» было штук шесть. Я не выдержал и, затаив дыхание от любопытства, приоткрыл занавеску. Там, как в склепе, в одежде и, по-моему, даже в платке, не подавая признаков жизни, лежала женщина. Из простонародья. Городская, сельская — разобрать было нельзя. Она глубоко спала. Эти гробы, значит, и были «лежачими местами». Странно, что за все время пути ни один человек не высунулся из своего гроба, не зашуршал оберточной бумагой, чтобы развернуть приготовленную в дорогу снедь, не чихнул, не кашлянул, не прочитал молитву и не отодвинул хотя бы малость занавеску, чтобы впустить внутрь домовины толику свежего воздуха. Мне стало не по себе среди этих склепов, и я вернулся на место.
Надо было как-то нетривиально подойти к вопросу о куреве.
Решение пришло само собой.
Если во всем автобусе имеют право курить только сидящие впереди бл…ди — надо отправляться к ним.
Я взял сигарету и зажигалку и просунулся в кабину.
Одна, как сидела в кресле, положив красивые ноги чуть не на приборную доску, так и продолжала сидеть, о чем-то тихо разговаривая со вторым водителем. Другая дремала на сиденье прямо за спиной шофера. Рядом было еще одно сиденье, пустое. Услышав шорох, она приоткрыла глаза:
— Тебе чего?
— Ничего. Тебя как звать-то?
— Наташа.
— Дай-ка, Наташа, я рядом с тобой посижу…
Она не возражала. Видимо, привыкла ко всему. В том числе и к тому, что подвыпившие мужики начинают клеиться еще в дороге. Она, видно, ждала, что я скажу что-нибудь в продолжение, но я сразу понял, что лучше места не найти, если только действовать быстро: водитель меня не видел, ночной ветер, залетающий в приоткрытое окно, развеет дым. Я отломил у сигареты фильтр, чтобы была крепче, согнулся, чиркнул зажигалкой и всосал первую затяжку. Подержал ее в легких и так же незаметно выдохнул под себя.
Наташа молча смотрела на меня изумленным взглядом.
Я повторил маневр. Голова слегка закружилась, но зато воспоминания об Ольге не казались больше такими душераздирающими. Когда я выдохнул дым, водитель стал поглядывать по сторонам и принюхиваться. На третьей затяжке он в бешенстве заорал:
— Эй, кто там курит?!
Меня он не видел, хотя я сидел прямо у него за спиной.
Второй водитель, привлеченный криком первого, тоже не сразу понял, что я делаю согнувшись под сиденьем, но когда я выдохнул дым в третий раз, до него дошло, и он зарычал, как раненый зверь:
— Выбрасывай сигарету на х…!
— Вот, бросаю, — сказал я и, пока тянулся к окну, чтобы выбросить окурок на улицу, затянулся в последний раз.
Это его взорвало.
— Слушай, ты пьян, сейчас я выкину тебя в степь — и конец!
Водитель за рулем обернулся и увидел меня. Лицо его исказило нехорошее выражение: я давно не нравился ему, и теперь он дождался своего часа. Он аккуратно притормозил.
— Послушайте, мужики, — сказал я, с трудом подыскивая аргументы. — Не надо так. Тут непростая сложилась ситуация…
— Ситуация будет непростая, когда мы выкинем тебя за борт…
Я понял, что это не шутка.
Я вмиг вообразил себя в ночной степи без денег, без паспорта, без телефона, без материалов, собранных в командировке и даже без коньяка. Это было ужасно.
— Но учти, — сказал я. — Я писатель. А ты и все вокруг — просто персонажи моего текста. И лучше сразу решить, кем ты в нем хочешь остаться…
Это так всех удивило, что все улеглось.
— А я заценила, как ты четыре раза пыхнул, пока они сообразили, что к чему, — сказала Красотка Дагестана.
— Тебя как зовут? — спросил я.
— Марика.
— Ну вот и хорошо, Марика. Не будем продолжать эту тему. Мне надо было курнуть. Но больше я не хочу никого беспокоить.
Я действительно ушел на свое место и приготовился даже лечь, поджав ноги, в надежде заснуть.
Но тут внезапно раздался легкий звон: на телефон пришла СМС-ка от Ольги.
«Мой милый, где ты, что с тобой? Нет вестей от тебя целый день. Все в порядке? Люблю».
Получить такое послание после того, как я заглянул в свою грешную душу, после того, как черти-водители чуть не выбросили меня в ночь в ста пятидесяти километрах от Элисты — ближайшего города на этой трассе — было все равно, что получить отпущение грехов.
На глаза опять навернулись слезы.
Где-то там, за две тысячи километров отсюда, от этого автобуса, этой черной ночи, этих гробов в салоне, всего того бреда, в который я попал сразу же, как только уехал из Согратля, Ольга ждала меня. Она меня любила. Единственный человек на всей Земле продолжал отслеживать траекторию моего движения по земной поверхности. Я знал, что пальцы не слушаются меня, тем более в темноте салона, и текст ответного сообщения наверняка с головой выдаст меня Ольге. Он скажет ей даже больше. Она слишком хорошо меня знает, чтобы не понять, что за попыткой такого прорыва стоит нечто большее, чем отсутствие билетов на самолет. Но душа моя ожила.
«Еду автобусом на Волгоград через Калмыкию. Рассчитываю завтра быть дома», — отвечал я как можно нейтральнее. Разумеется, пришла еще одна СМС-ка с вопросами, почему завтра и что произошло. Я ответил, что тьфу, тьфу, тьфу, ничего не загадываю и ей советую пока не задавать вопросов.
Такой ночью могло случиться что угодно.
Была остановка. Ночь совсем почернела и стала не на шутку студеной. Сверху, снизу и вокруг было одинаково черно. Я увидел комок света и плохо освещенную стену поодаль. А что я мог увидеть еще? Кругом была чернота. Я один вышел из автобуса и пошел к этому свету, и даже не к свету, а туда, где его последние отблески сливались с тьмой, и окропил стену.
Не успел я застегнуть молнию и кое-как распихать по штанам свой дурацкий памперс, как прямо из темноты, как оборотни, возникли они. Пять человек. Рожи — сковородками. Такие и были в орде Чингиз-хана.
— Ты обоссал стену моего заведения, — сказал самый первый и самый здоровенный из пятерых и шагнул ко мне. Я почувствовал во всей его фигуре желание насилия и сжатую пружину в руке. Со школы не помню, чтобы меня так хотели ударить. О, черт!
— Извини, — сказал я. Надо было по-быстрому подыскивать слова. — Слушай, я не хотел… Темень кромешная… Я просто…
Еще двое отделились от оставшихся четырех и пошли на меня. Расправа, я чувствовал, будет коротка: они шли ко мне не трепать языком, а бить. Сокрушить ребра, сломать челюсть и бросить здесь, как набитый костями мешок. Вокруг была калмыцкая ночь. Без смягчающих: тьма, холод — жесть. Никто из дагестанского автобуса не вышел бы, чтобы меня подобрать.
Это был конец.
Не то в его финальной стадии.
— А ты вообще кто такой? — заорал, раздувая огромные ноздри, высверленные природой в плоском лице, хозяин заведения. Ему нужно было унизить меня до расправы: ведь ясно было, что я здесь никто, и он сейчас докажет это.
Положение было безвыходное. Что им сказать, я не знал. Сказал первое, что всплыло в памяти:
— Писатель…
Я сказал, и вдруг почувствовал паузу.
Секунду они размышляли. Потом хозяин сказал:
— Ты больше не ссы на мою стену.
— Никогда. Извини, что так получилось…
Я вернулся в автобус и плеснул себе коньяка. Писатель! Видно, принимают за дурака. А бить дурака неинтересно.
Дорого же обошлось мне бегство из Согратля!
Я не выдержал, не дотерпел, не дослушал, не доделал — и в результате действительно сбился с пути. И оказался, в сущности, заурядным человеком, которому немногое по силам. Ужасные правды узнаешь о себе, путешествуя. Особенно постыдна, даже страшна, была та недоговоренность в нашей любви с Ольгой, с которой я спокойно мирился восемь лет, покуда эта ночь не чихнула мне в рожу громадными ноздрями этого калмыка, который явился словно специально для того, чтобы я увидел все так, как есть.
XIX. ЛЮБОВЬ
Утренний кошмар — непонимание, где я. Шесть часов. Я еду. Меня куда-то везут… Постепенно цепочка событий восстанавливается. Я поднимаюсь с кресел, на которых, скорчившись, проспал несколько часов, продираю глаза. Сейчас бы зубы почистить…
Остановка.
Здесь калмыцкая дорога соединяется с трассой российского значения «Каспий». Это бугристое, разбитое шоссе в три ряда. Самое смешное, что на перекрестке я узнаю барак придорожной гостиницы, в котором мы с одним приятелем ночевали в сентябре 2009 года, когда его вынесло из Калмыкии примерно при тех же обстоятельствах, что теперь привели сюда меня. Дорога расплаты. Дважды я бывал в Калмыкии, и оба раза все оборачивалась для меня одним и тем же: гонкой на грани нервного срыва сквозь непроглядную ночь сентября. Тогда гнал мой приятель, теперь — я сам гоню, мечтая только об одном — вырваться. Тьма, пьянство, неумолимая совесть, пятачок света, демоны, полусон-полубред. Я бы не хотел еще раз сюда возвращаться. И если в моей «географии» недостанет описания «Города Шахмат» в Элисте — это ничего. По жизни Калмыкия стала для меня территорией, где все тайное становится явным. Это непростая земля. Здесь стала зрячей моя любовь.
Над горизонтом — нездешней красоты вишневый рассвет.
Я бегу куда-то в ледяном холоде утра, нужно что-то горячее, кофе или чай… Мне удается раздобыть стакан жидкого, чуть подслащенного чаю, я доношу его до места в салоне, пью, чувствуя, как кипяток жжет мне пустой желудок, но, едва выпив, понимаю, что мне нужна не вода. Мне нужно, черт возьми, горючее. Алкоголь. Коль уж прорыв был начат на низких энергиях, надо черпать в них силу до конца. Я достал бутылку и всадил в себя утренние сто грамм.
Было чувство, что если я не увижу сегодня Ольгу, не войду в ее свет, то умру. Я представил, как встречусь с нею. Она обнимет меня, польет живой водой и склеит меня из обломков своей любовью. Она напомнит мне, как верный оруженосец, что рыцарь, выбитый из седла, должен снова сесть на коня и сражаться до конца. Когда речь идет о полноте высказывания — надо драться до победы. А если тебя никогда не вышибали из седла, то ты, верно, никогда и не бывал в бою, мой друг.
Важен результат.
Я верю, что когда-нибудь эта книга будет дописана. Не могу сказать, что мной — нами. Кто эти «мы»? Я, Ольга, пять или шесть самых близких друзей, без которых эта книга не могла бы появиться на свет. Без Магомеда Ахтуханова она, между прочим, тоже не состоялась бы. Да, он измучил меня, этот старый ваххабит, но при этом раскрыл свое доброе сердце и подарил мне Согратль. А это драгоценные дары. Поначалу я полагал, что поиск общих смыслов будет сведен к узнаванию моих представлений о мире в других людях. В Азербайджане этот номер прошел. А в Дагестане мне пришлось столкнуться со смыслами разными, не всегда мне понятными и подчас несовместимыми с моими представлениями о мире. Попросту говоря — другими. Но тоже общими, человеческими. Я стал учиться принимать чужое. Это далось непросто. В приступе малодушия в момент бегства моего из Согратля у меня была идея вообще закрыть этот проект. Поставить точку и сказать: вот, читатель, ты видишь — я честно пытался, но что-то во мне несовместимо с такими подходами. Опыт не удался.
Но это был бы очень обломный конец — а обломы тут не нужны.
Опыт должен, насколько это возможно, удаваться — вот в чем штука.
В чем та самая полнота высказывания…
В чем смысл битвы.
Занавеска, отделяющая кабину водителя от салона, открылась, впереди стала видна трасса, несмотря на ранний час подзабитая уже машинами, что вызвало во мне беспокойство. Город Волгоград — это кишка. Восемьдесят километров вдоль Волги. По главному проспекту в пробке можно тащиться часа два, а то и три. А я понимал, что часов до десяти из аэропорта еще будут уходить утренние рейсы и только с четырех начнут отправляться вечерние. А до вечерних мне, пожалуй, на жидком топливе не дотянуть.
Наташа и Марика оживленно обсуждали события минувшей ночи.
Я разглядел их при дневном свете. До чего же красивые девушки. И такая, прости господи, работенка…
— Чего смотришь? — перехватила мой взгляд Марика. Как будто не специально ноги выставила на обозрение всему салону.
— Да поздновато мне уже на тебя смотреть, — отшутился я.
Этот ответ всех удовлетворил. Даже первый шофер, который хотел выбросить меня из автобуса, взглянув на меня с сиденья для отдыха, помягчел. Ночью они думали, что имеют дело с мужиком лет тридцати пяти, которому можно и нужно что-то доказывать, ставить на место, а оказалось — седой пятидесятилетний дядя, которому и руку помощи можно протянуть, если что.
— Подскажи, где надо выйти, чтобы попасть в аэропорт, — попросил я второго водителя, который теперь обосновался за рулем.
— Ладно, — кивнул он.
Проснулись первые пассажиры. Время поджимало. В городской пробке мой план грозил лопнуть с оглушающими для меня последствиями. А ехать дальше автобусом противоречило самой гуманности. Неумытые лица попутчиков с выхлопом смешанных спиртных напитков и залипшими глазами вызывали жалость. Просыпающиеся на «лежачих местах» крестьянки (или торговки?) выглядели чуть опрятнее, но и то у каждой был какой-то дубовый вид, будто ее только что вынули из поленницы дров.
Откуда-то появился Борис, поинтересовался насчет коньяка, опрокинул утреннюю дозу. Я представил, что можно еще почти сутки провести в его компании. Главное, что в автобусе ни один человек не мог ни умыться, ни почистить зубы.
По счастью, шофер притормозил и, обернувшись ко мне, произнес:
— Приехали…
Я сходил в кладовку, забрал свой багаж.
— На дорожку! — подвинул ко мне пластиковый стаканчик с остатками коньяка Борис. Все-таки он был настоящий лезгин! Я выпил, пожелал ему счастливого пути, попрощался с экипажем и с девушками и вышел.
Вот, странное ощущение: будто я вышел не из автобуса, а из какой-то злосчастной доли.
А вокруг… Долго не мог ни уловить толком, ни объяснить это чувство… Родина… Россия…
Я ощутил вдруг безопасность, понятность, свойскость жизни, кипевшей вокруг.
По главной улице катил поток машин. Люди ехали на работу. Я поднял руку, поголосовал минут пять и понял, что в Волгограде так машины не ловятся. По крайней мере с утра. Понимая, что времени у меня в обрез, остановил маршрутное такси и утвердительно произнес: в аэропорт.
— Нет.
— А как проехать в аэропорт?
Всего-то надо было перейти на другую сторону улицы.
Я поймал такси. Был какой-то эйфорический пролет в утреннем солнце среди облетающих пирамидальных тополей…
Потом… Я опоздал на девятичасовой рейс на три минуты. Но счастье! Он не был последним. И билет я купил сразу же. Только пришлось ждать полтора часа.
Прежде всего я нашел туалет и избавился от проклятого памперса: по счастью, мне не довелось узнать, как используется по назначению эта штука. Потом достал из сумки щетку, пасту, бритву, расческу и перед зеркалом привел себя в мало-мальский порядок.
Теперь надо было подкрепиться. После выпитого коньяка я был осторожен. Дело свое я свершил: я допрыгнул. И дурная пьяная энергия была мне больше не нужна. Я взял в буфете кофе и сухое пирожное, посыпанное крошками арахиса. В детстве такие назывались «колечко». Я отломил кусок пирожного, обмакнул в кофе и съел. Я берег себя для любимой.
И как-то все хорошо устроилось, я сразу заснул в полете, вышел в Москве, взял первого же таксиста: благо, деньги на такси остались. А дальше… Мы поехали, был полдень, солнышко ласково, по-осеннему серебристо светило, я всю дорогу глядел на облетающие березы и думал, как встречусь с Ольгой. Не доезжая до дома, тормознул машину на повороте, не спеша по нашей улице под листопадом дошел до ворот, неслышно отворил их — и тут же Ольга выбежала навстречу, мы сшиблись, я обхватил ее, такую мягкую, такую родную, такую душистую… и разрыдался. Ох, как же рвалась к ней моя душа!
К моему убежищу, к моему любимому, женскому, нежному, все понимающему… Как же стосковался я по ней! Как желал с ней слиться! Мы стояли и сжимали друг друга в объятиях и каждый из нас по-своему переживал эту ночь расплаты, эти беспросветные пространства, оборотней, трепет ее сердечка, волшебство ее послания и мое колдовство, когда я словами выговаривал себе жизнь, заговаривал кровь, и груженый КамАЗ не переехал в темноте мое тело, приняв его за дохлую собаку. Слезы все лились у меня из глаз, я молча глотал их и не мог остановиться, а Ольга с нежностью гладила меня по голове, чтоб я, значит, затих. И все приговаривала:
— Ну что ты… Что ты…
А я все силился сказать, что плачу от любви к ней и от раскаяния…
Почти невозможно было это произнести — слишком долго я отмалчивался, и только благодаря этой ночи, выходит, понял — кто она для меня.
Я сказал — и сразу сел на ступеньки крыльца. Смотрю — дунет ветер — и то красные полетят, то желтые…
— Давай поженимся…
Она заплакала и ушла в дом. Я знал, что, наверное, так и будет, встал и пошел за ней.
А она уже расстилала мне постель, грела бульон и котлеты и все говорила: поешь, поешь — но о том, что я сказал — ни слова. Я выпил чашку бульону, съел котлету — и проспал сутки напролет. Проснулся — бутылка минералки стоит у изголовья. Вот, значит. Я вернулся.
Был уже вторник, Ольга уехала на работу. Я походил по дому, по двору, часок повозился с малиной — обрезал ее под зиму и подвязал. А потом — делать-то все равно нечего — сел и снова погрузился в свой Дагестан. Дневник, фотки, расшифровки с диктофона…
Осень, как нарочно, мне подыгрывала, было тепло, и когда я пошел встретить Ольгу на станцию, все вокруг так дивно играло красками и свет невечерний во все небо встал, чудный свет, свет наш насущный…
Мы дошли до дому, но внутрь не хотелось идти, мы сели вместе на скамейку во дворе, и я тронул ее руку:
— Олюш…
Она положила голову мне на плечо.
— Я знаю, что никогда не стану главным для тебя…
Я вздрогнул. Стоило мне вспомнить эту ночь и мое спасение… Мне захотелось сказать, что она не знает, что произошло со мной, не знает, что спасла меня, и не представляет, что она для меня значит…
Но она не закончила.
— И даже я знаю, что ты всегда будешь исчезать, уезжать… Искать свои приключения, от которых я вся сжимаюсь… А потом будешь целые месяцы писать, призывая меня только за тем, чтобы я прочитала… — Она перехватила платком навернувшиеся было слезы. — Но если то, что ты сказал — правда…
— Правда.
— Я согласна…
XX. HAPPY END
Потом пошли дожди, потом снег, мы стали мужем и женой и отметили этот день пролетом к границам Млечного пути и дальше, к другим галактикам. Свадьба была скромная, в кругу ближайших друзей. До вечера мы посидели в популярном клубе «Китайский летчик Джао Да», а ночью я решил подарить своей жене путешествие в космос — в программе нового московского планетария. Это было так круто, что мы еще прогуляли потом по городу до утра, несмотря на ноябрь и промозглую погоду. Ходили, заглядывая в ночные кафе, пили шампанское и были счастливы.
Потом снова подступала работа, я писал свой Дагестан, и больше всего меня занимал Магомед. Неудача (или все-таки удача?) моей поездки в Согратль. Я верно почувствовал то неуловимое, что сразу сблизило нас. Но, видимо, ошибочна была попытка расширить предполагаемое общее смысловое поле за счет религиозных текстов. Я бы не сказал, что она провалилась (удалась она даже больше, чем я ожидал!). Просто результат был предсказуем. Отношения христианства и мусульманства определяются «принципом дополнительности» Нильса Бора 122. Сколь бы различными, на первый взгляд, ни были эти традиции, обе они живут и обе работают.
Если бы мы с Магомедом говорили не о религии, а попытались назвать смыслы, наиболее значимые для нас обоих, картина получилась бы куда более неожиданная. Составляя «психологический портрет» Магомеда, я прежде всего выделил ум, доброту, терпимость, достоинство. Смыслы, важные для него: Независимость. Свобода. Нестяжательство. Честь. Глубокая любовь к своему народу. И открытость миру. Правда, мусульманскому. Если бы меня спросили, какие из этих ценностей мне близки, я, за исключением последнего, чисто Магомедова предпочтения, перечислил бы все, ни одной не исключая. И получилось бы впечатляющее, во многом совпадающее по контурам поле общих смыслов. Хотя, как я уже говорил, он — человек традиции, а я — житель мегаполиса.
Я назвал эту главку Happy end. И действительно, я в двух шагах от очередного финала. Но до конца еще далеко. Пожалуй, счастливым концом для меня лично было благополучное завершение моих каспийских странствий. В Дагестане я нашел то, что искал — глубину. На мелководье смыслов современного мира глубину приходится искать: и то, что это удалось, уже, безусловно, делает мое путешествие в успешным.
Если катастрофы обойдут нас стороной и мне суждено будет состариться, стать мудрым и успокоиться, то я сяду и опишу все, что мне довелось узнать и увидеть, как сказки со счастливым концом.
Наверное, это и будет настоящий happy end.
ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
I. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Весь март мело, как в феврале, и я, прокапывая в снегу дорожку от дома к воротам, с безразличной тоской замечал, как с каждым днем нарастают и пухнут сугробы вокруг, и солнце, уже по-весеннему зазолотившееся, разогревшееся к весне, на краткий миг выглянув в рваную дыру меж туч, лишь зажигает в снегу радужные искры, не в силах ни растопить, ни хотя бы осадить этот снег, потому что уже в следующий миг исчезает, будто спешно зашитое в грубую серую холстину неба, и оттуда, из этой комковатой, непроглядной серости опять неумолимо валит снег, кропотливо убирая деревья, до бесконечности продлевая их сон в убранстве белых кружев замолодившейся под самый конец зимы.
И я не знаю, что сказать любимой о нашем свадебном путешествии. Я предложил ей съездить вместе в Азию, в Казахстан, на полуостров Мангышлак. Это — одно из самых прекрасных мест на Земле. Мир безлюдных морских побережий, больших каньонов и пустынь. Но даже там, в пустыне, еще было холодно. Даже там лежал еще снег. И мне оставалось только упрямо верить в то, что весна возьмет свое и в один прекрасный день мы окажемся-таки там — на таинственном и прекрасном восточном берегу Каспия. Мы сядем у моря на горячем песке, сохранившем след пробежавшей ящерки, под дочерна прогоревшим солнцем или под россыпью звезд, рассевающих пыль космоса в лоно древней Земли…
Но пока что — вечер вторника — мы в московском кафе, кофе и десерт уже поданы, мы разглядываем googl,овские карты — чтобы хотя бы в воображении перенестись на берег Каспия, где пахнущий камнем ветер гонит по пустым песчаным пляжам клубки перекати-поля. Или еще дальше, в глубь моря суши, в пейзажи пустыни, написанные всеми оттенками желтого, голубого и белого, где лишь силуэты верблюдов, перед стрижкой покрытых драными зимними попонами, бредут в молчании по белой равнине, пока не преклонят на ночь колени в дыму снов…
Ольга была в Средней Азии только раз. Однажды мы вместе очутились в Бухаре: и она показалась нам поистине сказочным городом, который с первого взгляда очаровал нас, и все наши дальнейшие передвижения — в Самарканд или в предгорья Зеравшана — все проходило под знаком этого очарования. А о моей первой поездке на Мангышлак помнил сейчас я один. Теперь мне странно сознавать, что в 2003‐м, когда я был на Мангышлаке, Ольги еще не было в моей жизни: мы познакомились через два месяца после. И эта поездка была ей предъявлена лишь в виде серии фотографий. Хотя, сдается, нам обоим и не до фотографий тогда было: если какое-то чувство и было реально — то это страх и трепет перед неизбежностью, без предупреждения врывающейся в жизнь… Перед ее одиночеством, врывающимся в твое одиночество. Перед неистовым велением и биением жизни, возвещающей, что чего бы ты ни боялся, это уже сбылось.
В тот год после очередного развода я жил на даче у отца: тут нечего рассказывать, все это, пожалуй, даже банально, но, оставив квартиру жене и детям, я ощутил, что больше мне некуда податься — только к нему. Как человек страстной и творческой натуры, он сам пережил три крушения того, что принято называть «семейной жизнью». Теперь старым холостяком он уже несколько лет жил один, и я даже думал, что, возможно, скрашу его одиночество. Но поначалу мое появление вызвало у него лишь раздражение. Отец привык быть один, и это его не тяготило: он сам варил себе кофе, гладил рубашки, усаживался за работу и смотрел по вечерам какую-нибудь телевизионную викторину. И тут вдруг является сорокадвухлетний старший сын и объявляет, что поживет пока у него, потому что другой крыши над головой у него нету. Наверно, отцу хотелось бы, чтоб у меня в жизни все было не так скверно, чтоб хоть какой-то угол у меня был, где бы я мог пережить свой развод, не вовлекая в это дело его.
Но я повел себя правильно: не рассказывал о своих проблемах отцу. И вскоре наше совместное бытование обрело какие-то новые и жизнерадостные черты: мы вели оживленные диспуты во время вечернего чая и по очереди готовили борщ — у отца он получался насыщенного бордового цвета, а у меня красно-оранжевого, что не переставало нас забавлять, но главное — немота его одиночества была разбита и от этого он ожил, и я хорошо помню, как в начале апреля — прежде, чем он отправился в роковую для него командировку в Петербург, а я — на Мангышлак, — он вышел на крыльцо своего большого дома, поглядел на участок, на землю, обнажившуюся из-под снега, на лучи солнца, пробивающиеся сквозь голые еще ветви могучих кленов, и вдруг с каким-то приливом жизни не то спросил, не то воскликнул: «Ну, что? Кажись, перезимовали!»
Зимой он нередко заговаривал о смерти, его ужасала возможность умереть в одиночестве, еще больше — сделаться беспомощным и никому не нужным калекой. Он придумывал разные способы самоубийства на этот случай и даже, кажется, придумал, всерьез опасаясь только одного: что если у него случится инсульт, то он может превратиться в «овощ», так и не поняв, что с ним произошло. Мне стоило труда отвратить его от этих разговоров, но в конце концов это удалось. Ведь теперь я всегда был рядом. Он постепенно и осторожно проникся этим чувством, медленно привык к нему и внимательно исследовал: не сулит ли оно какой-нибудь скрытой опасности? На этот вопрос ответа не было. Зато он больше не был одинок.
Прекрасно помню тот последний вечер перед его отъездом. Он надел свое модное, тонкой бордовой кожи пальто, чрезмерно легкое, на мой взгляд, для неустойчивой весенней погоды, собрал кожаный саквояж, с которым ездил в командировки, и попросил отвезти его на вокзал. Он давно не был в Петербурге и, готовясь к встрече со старыми друзьями, художниками и архитекторами, хотел выглядеть стильно. Помню, как вышли из здания вокзала в промозглый ветер и пошли по перрону вдоль закрытых еще вагонов «Стрелы». Потом вагоны один за другим стали открываться, отец остановился у своего, закурил…
— Не жди! — почти приказал он мне. — Поезжай!
Мокрый ветер смял его волосы, косой челкой бросил на лоб.
Потом я жил на даче, ожидая отлета на Мангышлак. Как-то раз он позвонил — заметно под хмельком — и сказал, что они прекрасно сидят со старыми друзьями, и пожелал мне счастливого пути.
— А вообще-то, — сказал он, — у меня такое впечатление, что ты так и не улетишь на этот твой Мангышлак до того, как я вернусь…
Но я все-таки улетел раньше.
А он, в некотором смысле, так и не вернулся.
Вернее, он вернулся каким-то другим. Если бы я не был переполнен свежими впечатлениями от поездки в Азию, я бы сразу понял, что что-то не так. Отца мучили головокружения и головные боли, он стал не в меру раздражаться и однажды выговорил мне за какую-то книжку, которую сам же и потерял. Я прекрасно понимал, что в Петербурге он со старыми друзьями позволил себе большее, чем положено в его возрасте, — через месяц ему должно было исполниться семьдесят. Только через несколько дней до меня дошло, что что-то не так по большому счету: он стал много спать и почему-то чувствовал себя необычайно слабым. Будь я врачом, я бы сразу понял, в чем дело: инсульт. Именно то, чего отец так боялся. Внутри головы лопнул крошечный сосудик, группа клеток оказалась заблокированной, мозг сопротивлялся, перестраивал нервные связи, но, по-видимому, не успевал, так что с этой крошечной поломки началось разрушение всей колоссальной органики мозга. Убедившись, что лучше ему не становится, я уговорил его лечь в больницу на обследование. Дело было в четверг, он сказал, что так и быть, в больницу он ляжет в понедельник, а выходные проведет дома. Очень хорошо помню следующий день. Я поехал в город за гонораром. Получив деньги, купил мобильный телефон, потому что обычный, что часто случалось на даче по весне, уже четыре дня глухо молчал. Никакие другие дела у меня не получались, как будто бы я знал, что случится. И нужны будут только деньги и связь. Вечером я проводил отца спать в его кабинет на втором этаже и на полчаса зашел к друзьям. Когда вернулся, он лежал на лестнице, головой вниз: бровь была рассечена, из носа текла страшная темная кровь.
— Подними меня, — прохрипел он.
Я поднял его и дотащил до кухни в первом этаже, потом прибежал с одеколоном и омыл, переодел в чистое, обработал рассеченную бровь йодом… Положил… Минут через сорок приехала «скорая». Я отворил ворота и стал его одевать: вот его любимая кофта, вот домашние штаны, запасное белье, палка для ходьбы, книги…
Он мучительно страдал от боли, но был в сознании. Я сел рядом и сказал: пап, ты выздоровеешь? Мне хотелось, чтобы он сказал «Да». Во что бы то ни стало сказал «Да». Казалось, если он скажет — то так и произойдет.
— Думаю, что на этот раз — да, — даря мне надежду, тяжело выговорил он.
Через четыре дня его не стало.
В завещании он велел похоронить свой прах в Крыму. В Гурзуфе — куда впервые юношей привез его отец и где он познакомился и со своим лучшим другом Чудецким, и с моей мамой. В июле мы собрались — три брата и Чудецкий — и поехали в Гурзуф. Полдня ныряли, прежде чем захоронили урну с его прахом там, где он указал, — в гроте под камнем «Оркестр» недалеко от чеховского пляжа.
Не знаю, о чем думали мои спутники, возвращаясь домой. У них был, по крайней мере, дом. А я просто чувствовал впереди пустоту. Знал, как подойду к двери, открою его дом — а его нет. Каждый день после его смерти я испытывал это чувство. Мне не очень-то хотелось возвращаться. Чем ближе поезд подбирался к Москве, тем острее становилась тоска. Я пошел к проводнице и спросил, нет ли холодного пива. Оказалось, что есть. Я не спеша выпил бутылку. До Москвы оставалось каких-нибудь двести километров. Так же, не спеша, я выпил вторую. И вдруг все озарилось. Я ведь мог и повременить с возвращением. Мне некуда было торопиться. Сейчас поезд остановится на вокзале в Туле, я выйду и поеду в Ясную Поляну. Нет, не ко Льву Толстому. К Толстому ездил мой прадед — за свою драму «Иуда Искариот», как и Толстой, отлученный от церкви. Но в Ясной я бывал не раз. И у меня там было немало знакомых. Что немаловажно — молодых женщин. Еще важнее, что никаких двусмысленных отношений с ними в свое время не возникло. Все было чисто. Но за одно мог я поручиться: в том состоянии, в котором я находился, они не бросят меня. Они сумеют сделать мое возвращение домой не столь тоскливым.
Если читатель когда-нибудь испытывал вмешательство Судьбы в свою жизнь, ему будет легче понять меня: ибо когда я добрался, наконец, по назначению, первая, кого я увидел, была молодая женщина с копной темно-рыжих волос, которую я до этого никогда не встречал. Это было почти невероятно: в музее Толстого я знал всех, а ее ни разу даже не видел. Или чудом было то, что именно в этот день наши пути пересеклись?!
Проснулся я оттого, что кто-то на меня смотрит. Смотрела она. Как будто все то время, пока я спал, смотрела не переставая. Первые лучи солнца пробивались сквозь листву окружающих гостиницу деревьев. Она была уже другая: я видел усталость под глазами, и глаза были карие, а не огромные черные, как мне казалось ночью, и не веселые, как вечером, а грустные, полные глубокого знания жизни, безнадежности жизни, что ли. И я поцеловал ее в эти глаза, потом в губы, которые как были, так и остались сладкими. Мы быстро собрались и вышли из номера. На дорожке к автобусной остановке в последний раз поцеловались, и я вдруг безжалостно понял, что это, может быть, наша первая встреча, а может быть, единственная и последняя: наши жизни долгие годы текли себе параллельно и только вчера необъяснимо пересеклись — может быть, только на одну ночь.
Но уже через три дня я не выдержал, под ночь сорвался, сел в машину и поехал в Ясную снова. И не застал ее. Вошел в тот же 404‐й номер, только один, лег в ту же постель, только один, и уснул — тоже один. Она уехала за дочкой к родителям. И я тогда остро почувствовал, что у нее совсем своя, отдельная от меня жизнь, и соединить эту жизнь с моею вряд ли удастся. И даже испытал что-то вроде облегчения. Ну, не судьба. И так даже лучше: не надо играть в эту жестокую игру, называемую любовью. Не надо обнадеживать их, нежных и хороших, тем, что что-то может быть. Скорее всего, нет. И надеяться не на что, кроме как на свое одиночество. И та ночь — да, я запомню ее — но она прошла и больше не повторится, и это, может быть, к лучшему. Точка. А через день, когда я уже вернулся в Москву, она вдруг позвонила — и все закрутилось снова. И страшно уже не было: Господь подготовил душу под посевы, хоть и резал плугом прямо по сердцу…
Помню, в те дни у меня в ушах звучал блюз When the levee breaks 123. Там такой густой, тяжелый ритм, такие монотонные костоломные барабаны, что просто чувствуешь, что все — подперло под край, и скоро эта стена, разделяющая нас, не выдержит, расползется — и хлынет любовь. И жизнь, которая хотя бы по видимости сохраняла подобие прежней, будет сметена без остатка. И никто из нас не знает, какой будет следующая жизнь…
В ноябре Ольга переехала ко мне, как потом выяснилось, навсегда, и серия азийских фотографий тогда, возможно, и была ей предъявлена, но в то время главным было не это. Мы спешно наполняли новую, общую жизнь, будто старались, быстрее позабыв прошлое, нарастить наше совместное настоящее. Помню, почти сразу мы поехали в нашу первую экспедицию — по следам предсмертного бегства Толстого из Ясной Поляны — благо, даты сходились день в день: раннее утро 10 ноября — и последнее утро 20‐го. Три дня свободы, болезнь и смерть — все уместилось в крошечном промежутке времени, в десять дней… И фотографии из этой поездки мы сразу отдали в печать, одели в рамки и повесили на стены — потому что это и было наше общее, его было еще так мало, что нам хотелось сохранять свидетельства о нем, любоваться им и без устали расширять наше жизненное и смысловое пространство, гулять по городу, ходить в театры, на выставки и сберегать билеты, как подтверждение реальности этой новой жизни вдвоем, которую мы только-только начинали творить своими поступками.
Прошло девять лет, совместная жизнь, во многом созвучная процессу творения из ничего этой книги, стала не только непредставимой друг без друга, но в определенном смысле отлаженной. Но мы не перестали дарить друг другу необычные путешествия. Поэтому я очень хотел, чтобы эта поездка на восточный берег Каспия состоялась…
Косо чертит снег за окном.
— Может, нам все-таки перенести поездку на май? — осторожно спрашивает Ольга.
— Знаешь, — не соглашаюсь я, — в мае там уже непереносимая жара. Вспомни Бухару. К тому же мы будем в степи, в мае там полно всякой дряни: скорпионов, каракуртов. Как раз тогда они и ядовиты…
— Б-р-р…
— Надо приехать раньше, чем они вылезут.
Ольга молчит, будто не решается ни поверить, ни возразить мне. Чего-то я не сказал. Как раз самого главного.
Я беру ее руку и накрываю своей ладонью:
— Знаешь, — говорю я. — Я знаю одного мальчика и одну девочку, которые давно не гуляли по облаку. Все будет не так, как ты думаешь, и не так, как мы об этом здесь разговариваем. Все будет как будет. И ты не пожалеешь, что решилась на это. И бояться будет нечего, поверь…
Как в те, первые месяцы нашей любви…
Ночью я проснулся от жуткого воя белой собаки у самого дома. Ничего не понимая, не понимая, главное, что это сон, накинул куртку, схватил сигареты и вышел на крыльцо. Ночью на землю опрокинулся холоднющий слепой туман. Деревья, фонари, старые дачи стояли, будто погруженные в воду. Повсюду были слышны звуки капели, текущей воды. Запах воды пронизывал все вокруг. Теперь я понял, что видел сон: сквозь стену я не мог бы разглядеть, какого цвета собака. А может, то была и не собака. Может, в ту ночь я случайно услышал вой подыхающей зимы.
II. ПАМЯТИ ДРУГА
В записках Симоны Вейль, возможно, величайшего христианского мистика ХХ столетия, есть поразительные строки: «…За пределами братских связей просто созерцать людей и никогда не искать с ними дружбы… Что особенно важно: никогда не позволять себе мечтать о дружбе. За все приходится платить» 124. Сейчас, потеряв или, со своей стороны, оставив многих людей, которых я считал своими друзьями, я глубже, чем когда-либо, понимаю, насколько она права. Мне ведома боль расплаты за самую пылкую доверительность. И горечь зрелости, осознающей, что большинство людей нужны друг другу лишь на время… И все же. Цитата из Симоны Вейль была отчеркнута мною на полях карандашом и снабжена ремаркой: «применить к Глазову». Прошло много лет с тех пор, как эта ремарка была сделана, но «применить» ее так и не получилось. Я бы ни за что не хотел, чтобы наша дружба не случилась, не состоялась, чтобы все, что было благодаря ей пережито, не произошло. Миша Глазов помог мне сбыться. Из нашей дружбы родилось Путешествие — как образ жизни, как Коллекция Непрерывных Опытов, как способ познания и самопознания. Когда мы познакомились, мне было 26, Мише Глазову — сорок. Я мечтал о доле путешественника всю свою жизнь, но в одиночку для этого у меня не хватало чего-то неуловимого. А с Глазовым оно пришло. И вскоре я вместе с Петькой, его сыном, отправился на свой Остров…
И Мангышлак мы открывали именно вместе с Глазовым. В апреле 2003‐го я работал в журнале «Вокруг света» и решил воспользоваться этим для поездки в Азию. Почему именно на Мангышлак? Форт Шевченко на каспийском побережье с юности, когда разглядывание географических карт приняло у меня характер наваждения, стал местом, где я решил во что бы то ни стало побывать. Собственно, притягательность названия заключалась в слове «форт». Форт, как память о героической эпохе походов в глубь Азии, завоевании русскими Хивы и Бухары, о которых не рассказывается ни в одном учебнике. Беда была лишь в том, что решительно никто в 2003‐м не знал, что происходит в Средней Азии. В советское время Мангышлак был закрытой территорией — урановый рудник и АЭС на быстрых нейтронах, питающая током нефтяные месторождения Нового Узеня и столицу края — город Актау, делали место таким же недоступным, как космодром Байконур. Но не былая секретность волновала меня. Отсветы погромов, которые не миновали, кажется, ни одну среднеазиатскую республику — беспокоили гораздо больше 125. И я попросил редактора послать со мной Глазова: он прекрасно знал Азию со студенческих лет, когда ездил в Туркмению за ящерицами и змеями для университетского террариума. С ним бы я чувствовал себя в безопасности. По счастью, Мишу знали в редакции и отправили со мной как фотографа. Проблемы начались сразу по приезде, когда мы убедились, что Актау — хоть и небольшой, но очень дорогой город, что объяснялось невероятным количеством иностранцев, приезжающих сюда обделывать нефтяные дела. Командировочных денег едва хватило, чтобы снять комнату в здании бывшего санатория «Шагала» («Чайка»), который тогда был полузаброшен и сдавался под жилье таким же недотепам, как мы. На этом, правда, наши проблемы не закончились, но цели мы достигли. Долго шли вечером берегом моря среди неухоженных пляжей и бездействующих, в силу слишком ранней весенней поры, аквапарков. На Бульваре Победы обнаружили памятник погибшим в 1941–1945. А еще дальше — небольшой обелиск в виде свернутого знамени, где были выбиты фамилии солдат, погибших в Афганистане: среди них были и русские, и казахи. И сразу стало как-то спокойнее: Казахстан, выходит, разделял вместе с Россией бремя общего прошлого, не пытаясь сделать вид, что ничего общего у нас никогда не было, а то, что было привнесено русскими — лишь ненужное наследие оккупантов. Повсеместное звучание русского языка, даже из уст изображающих борцовский «спарринг» мальчишек, подтверждало, что этот край не силой только был увлечен когда-то в российское подданство. Нельзя заставить мальчишек говорить на языке оккупантов после того, как оккупанты ушли…
На следующий день мы отправились в городскую администрацию в надежде добыть машину, чтобы поездить по окрестностям. Приняли нас очень сердечно, но нам удалось заполучить на несколько часов только старую «Волгу», на которой мы едва-едва отъехали за город километров на двадцать. Вечером Глазов разыскал где-то председателя городского спорткомитета по имени Айнди Джумаев (он был чеченец), который согласился довезти нас до Форта Шевченко. Это была великолепная поездка, несмотря на то что Айнди, влекомый бурлящим кавказским темпераментом, гнал по степи без дорог и на каждой остановке выхватывал бутылку коньяка и ставил ее на капот, предлагая добавить огня в наше и без того опасное путешествие. С ним мы облетели всю северную часть Мангышлака, и единственным недостатком этой поездки было то, что мы все время неслись сломя голову. Мы не успевали ни оглядеться по сторонам, ни посидеть немного в раздумье, ни сделать записи, ни тем более поговорить с кем-нибудь. Только фотографировали. От этого безумия спасла нас случайно замеченная по возвращении в город вывеска фирмы с бесхитростным названием «Турист». Хозяйка ее была русская, давным-давно переехавшая сюда из курортного Кисловодска женщина, Евгения Михайловна, влюбленная в степь. Чем занималась фирма, я тогда не понял. У нее не было тогда ничего, кроме офиса — ни опыта работы, ни машин, ни маршрутов дальних выездов, да и туристов, кажется, тоже. Но вот — нас стало двое. У нас были деньги. И мы готовы были их заплатить. Евгения Михайловна, оглядев на нас, сказала, что попробовать можно — если мы согласны путешествовать на автобусе марки ПАЗ — убогеньком транспортном средстве, получившем в народе выразительное прозвище «батон».
Стояла ранняя весна, когда вешние воды схлынули, оставив на земле осторожные следы своей неустанной работы, а зелень еще не успела выпуститься и сгореть под линзою солнца. Я спускался руслом сухого потока меж двух отрогов белых, как снег, высеченных из чистейшего, твердого известняка скал, чувствуя под ногами звонкие лепестки прозрачно-серого кремня. Глазов брел по верху сочленениями белоснежного хребта, его фигура выделялась на фоне ненастного, с синими сгущениями, неба. На многие километры вокруг не было ни души. Лишь мир камня в бесконечном разнообразии пород, спрессованных немыслимым давлением толщ. Все вокруг было осохшим дном древнего моря, жизнь которого лишь в самых общих чертах напоминала жизнь моря в ее современных формах. О одиночество! О восторг заброшенности! О чудо — оказаться на исходе дня в этой гигантской лаборатории камня! Я знал, я догадывался, что может быть так. Как я жалел теперь, что пролетая над степью с Айнди, мы отвернули от брошенного рыбацкого поселка возле каньона Саура, влекомые струйкой светлой воды, вытекающей из врезанного в известняк озерца, полного водяных черепашек. Надо было идти в поселок, где тявканье собаки и блеянье овцы выдавало присутствие последнего рыбака, чьи вывешенные для просушки сети мы видели и черный челн в ослепительном сиянии моря. И было чувство, что странный лишь человек может жить здесь среди руин, и надо бы узнать этого человека, услышать его хриплый голос, выведать, в силу каких обстоятельств оказался он здесь, а главное — чем питает свой дух?
Получив в распоряжение автобус, мы запросто теперь сворачивали в стойбища пастухов, чьи отары паслись на разноцветных осыпях гор, и сладкое мясо ягнят вкушали от гостеприимных хозяев. По расколотой плитке сланцев, мимо свинчатки такыра с вплавленным в нее лошадиным черепом добирались до края, где могила святого суфия ждала нас. И дорогой огромных, в рост человека, потрескавшихся каменных шаров доходили до горы Шеркала, похожей на заколдованный замок из желто-серой глины. Древней караванной дорогой шли до мыса Тюб-Караган по запекшейся глине и горячему песку, мимо редких ключей, едва проступающих из земли, как слезы, чье присутствие выдают заросли тростника, который называют здесь «чий» и, напитав его бараньим жиром, жгут на святых местах как свечи…
Странно, что персы называли Мангышлак «Сиях Кух» — «Черная гора». Он весь почти белый. От песчаных пустынь Средней Азии его отделяют бесплодная Сарыкамышская впадина и плато Усть-Юрт, знаменитое наскальными рисунками, хотя на первый взгляд Усть-Юрт совершенно непригоден для обитания человека. Однако именно здесь, на Усть-Юрте, археологи обнаружили храм, посвященный культу солнца, а также первобытные «обсерватории» — сооружения из камней, благодаря которым можно разглядеть в звездном небе незыблемые вехи в текучем потоке времени: дни солнцестояний и равноденствий. Этим памятникам десять тысяч лет. Больше того, важнейший товар каменного века — кремень, которым Мангышлак изобилует — находят на Средней Волге. Это значит, что торговый путь с Мангышлака на Волгу, о котором древние авторы упоминают с Х века, был известен за несколько тысяч лет до письменных упоминаний уже в конце неолита. Географически Мангышлак — это природный изолят, отрезанный от цивилизованных областей Средней Азии поясом смерти — песками Каракумов, безводными чинками 126 Усть-Юрта и мёртвым заливом Каспийского моря — Кара-Богазом. Исторически это арена, на которой тысячелетиями пульсировала жизнь сменяющих друг друга кочевых цивилизаций, в разное время подвассальных то древнему Хорезму, то воинственным военачальникам огузов, то Хивинскому ханству. Долгое время полуостров был населен в основном туркменами. Их цивилизация достигла своей полноты в XIV–XVI веках. Именно тогда в степи появились величественные некрополи с каменными мавзолеями, настоящие города мертвых. В кочевой цивилизации города тоже строятся, но принадлежат они мертвым, а не живым, очерчивая границы родов, племен, разделяя своеобразными вехами памяти «ничейную» вольную степь: здесь мы ходили из века в век, здесь похоронены наши предки… Система межевания должна была работать четко. Каждый кочевник прекрасно знал закрепленную за ним и его родом территорию перекочевок…
В XV веке Мангышлак пережил мощную волну религиозного самоосознания. Из персидского Хорасана и из Туркменистана пешком или с караванами сюда прибыли десятки проповедников — по крови тоже туркменов. Считается, что в земле Мангышлака упокоено 360 подвижников‐суфиев. И память о них жива. О деяниях безвестных в других странах мусульманского мира святых — Бекет-Ата, Шопан-ата, Караман-ата, Султан-Епе — люди рассказывают так же восхищенно, как в других землях пересказывают хадисы из жизни Пророка. Места, где подвижники жили когда-то, до сих пор остаются объектами поклонения. Это удивительные памятники. Некоторые из них, как, например, мечеть Тулеген-Ата, — это просто вручную вырытая в мягком песчанике келья с единственным углублением для светильника внутри и сурой из Корана, вырезанной у входа. Другие — как подземная мечеть Шекпак-Ата, датированная X веком, — представляют собой потрясающие и весьма сложные в символическом истолковании памятники. Внутреннее помещение ее вырублено в известняке в форме креста. Крест — символ и христианский, и зороастрийский. Но скорее всего этот крест — след общины христиан-несториан, которые проникали в Азию вплоть до Китая. Лишь через несколько веков этот храм стал центром мусульманского подвижничества. Над входом в мечеть — а вернее на сто метров в обе стороны от крошечной двери, ведущей внутрь горы — работой ветра и воды выточен такой фантастический фриз, что перед ним, как пред настоящим чудом, блекнет работа искуснейших каменотесов, украсивших самые знаменитые соборы Европы. Человеческая фантазия неспособна измыслить ничего подобного, химеры Нотр-Дама кажутся наивными в своей буквальности, а его безупречные архитектурные пропорции — мертвой формой. Здесь есть ангелы и демоны, смеющиеся рты, плачущие глаза, истекающие градом каменных слез стены, рождение и смерть, замкнутость плоти в камне и высвобождение ее из камня, лица, руки, исполинские ноги каких-то вымерших чудовищ, мужское, женское, тяжелое, легкое и вообще все, что только можно себе вообразить…
Вернувшись в Москву, я кое-как справился со статьей, для которой явно не хватало слов при невероятном обилии красивых фотографий. Потом настало лето, летом случайно или по веленью судьбы мы повстречались с Ольгой, пришла любовь, а вместе с нею новая жизнь, время незаметно сморгнуло два года, а потом Миши не стало. На его похоронах я вдруг подумал, что последний подарок, который мы другу преподнесли, это, выходит, и был Мангышлак…
Поэтому в первый день нашего пребывания в Актау я попросил Ольгу, чтобы наша прогулка по городу закончилась у гостиницы «Шагала», где мы с Глазовым жили когда-то. Мне нравился этот старый квартал. Центр был близко. Но сам район — это был поселок первопоселенцев, узнаваемый по типовым даже не пяти-, а трехэтажным домам. Он был очень какой-то уютный, очень живой. Жизнь дворов, детворы, озабоченных мамаш и бесшабашных мальчишек бурлила вокруг. И Каспийское море я именно там увидел в первый раз. Такое пронзительно-синее…
Мы с Ольгой тронулись было вдоль моря. Но ни моря, ни берега — того берега, которым мы с Глазовым проходили до Бульвара Победы, — их больше не было. Раньше там были аттракционы, аквапарки. Одинокие беседки. Юноши и девушки, кормящие у берега лебедей. Пары влюбленных, волнорезы, тихая волна. И вот — ничего этого не стало. Не стало «берега» как такового: зато был квартал очень дорогих, поистине роскошных вилл. Цветущие деревья и темные туи украшали их внутренние дворики. Но пройти через строй вилл к морю было нельзя. Море хозяева тоже приватизировали. Было видно, что нефть, добытая за минувшие годы, — она не пролилась даром, она принесла свои плоды, и плоды очень конкретные. Правда, оказывалось, что жители города Актау наделены ими в неравной доле: ибо на протяжении тех же километров, но по другую сторону улицы, тянулся запущенный, без моря, полудикий город из пяти- и четырнадцатиэтажных домов. Только удивительная находчивость, с которой жители этих домов боролись за свое существование, спасала дома от неизбежного разрушения. Жители подмазывали стены цементом и глиной, зашивали разбитые окна подъездов фанерой и остекляли лоджии, чтобы беспощадный зимний ветер с моря не так жег их холодом в глубине квартир. Каждый решал эту задачу сам. Как умел. И от этого создавалось невыразимое ощущение, что перед тобою четырнадцатиэтажный дом, построенный своими руками. Вручную сшитый из заплаток, из кусочков, как лоскутное одеяло. И долго, так же долго, как виллы справа, тянулся слева от нас этот город без надежды.
Мы поймали машину и доехали до профилактория «Шагала».
Я походил вдоль берега, вдоль самой кромки воды. Вот тут, похоже, мы с Глазовым и стояли тогда.
Как будто и не изменилось ничего. И картинка та же самая. И время то же: солнце клонится к закату. Над водой — здесь бывает странное «растворение» линии горизонта — в розовом небе парит танкер. И в прошлый раз он так же парил. И чайка так же летела…
Ольга хочет что-то сказать, но я пораженно прижимаю палец к губам:
— Тише…
— Что?
— Déjà vu… Может, и Мишка сейчас здесь…
Вспомнилась история о том, как Глазов в первый раз приехал за ящерицами в Азию. Ему тогда было восемнадцать лет. Он только окончил первый курс. И кто-то из ребят постарше решил подшутить над ним: «Ты там осторожнее, — говорят. — У верблюдов сейчас гон. Слышал, наверно? Самец верблюда, если разозлится, не плюется. Он просто в ярости скусывает крышку черепа…»
Такое предостережение запомнит любой. И вот Миша в Туркмении. Нашел первую варанью нору. Но варан большой — нора глубокая. Надо копать. Он парень молодой, сильный, роет. Как вдруг солнце закрыла чья-то тень…
Миша обернулся. О черт! И какая громадина! Верблюд. Самец. Сама смерть склонилась над ним…
Вывернувшись из-под приоткрытой уже пасти, он саперной лопаткой изо всех сил ударил верблюда по мягкой морде — и бросился бежать. Верблюд заревел, как слон, обиженный и разозленный такой несправедливостью, но скоро оправился от острой боли — и припустил за ним. В пустыне от верблюда не убежишь. По счастью, был арык — Глазов прыгнул в него. И до самой ночи верблюд ходил по берегу и ревел: так ему было обидно. Он ведь просто посмотреть подошел, что там человек делает… А человек такой коварный оказался… Ночью Глазов выбрался из арыка. То был его первый среднеазиатский урок…
III. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Утром мы выписались из гостиницы «Три дельфина» и, загрузив свои рюкзаки в багажник серебристой «Тойоты-Лэндкрузер», распрощались с Актау. С тех пор как мы с Глазовым впервые проторили несколько маршрутов по Мангышлаку, фирма «Турист» не теряла времени даром и теперь продавала индивидуальные туры по полуострову вместе с гидом и водителем-проводником. Гидом была миловидная женщина, Куралай, а водителем хозяин «Тойоты», добродушный парень Ренат, которого уместнее было бы назвать «мягким», чем «толстым»: он был похож на лучезарного китайского божка счастья Хотэя. Добродушное равновесие, присущее богам, сослужило ему добрую службу, ибо, как скоро выяснилось, Ренат умел лишь рулить и нажимать на педали — но местности не знал, что, однако, его не расстраивало.
— Ну что, — мягким голосом спросила Куралай. — Как сказала Евгения Михайловна, сегодня едем в горную часть — Акмыштау, оттуда в Долину шаров — и ночуем на берегу моря в провале Жыгылган…
— Куралай…
— Да?
Хорошо, что сразу запомнил имя… Я заметил складки еще неявных морщинок на лице, седую прядь, убранную под платок…
— Давайте не будем сегодня торопиться. Поедем не спеша. Жыгылган… Да, хотелось бы. Но сколько туда километров? Двести? А мне сейчас надо очень аккуратно поработать над ошибками. Ведь я здесь не впервые. И для начала мы отправимся недалеко — в каньон Саура. Туда, где брошенный поселок на берегу…
Она посмотрела на меня озадаченно.
— Значит, мы изменяем маршрут?
— Да, изменяем.
Девять лет назад мы свернули вбок от заброшенного рыбацкого поселка в неглубокий каньон, к крохотному озерцу, полному водяных черепашек. Что-то отвернуло нас от встречи с последним рыбаком, чье присутствие не осталось для нас, конечно, незамеченным. Вероятно, то было обычное опасение встретить человека, слишком давно живущего одиноко, почти наверняка — полусумасшедшего, для которого его дом, его лодка, море, рыбы, собаки и три овцы давно стали привычнее и ближе людей, а ветер над зыбкой черной равниной ночного моря — роднее, чем искусственный свет городов. Глазова уже не было рядом. Но Ольга была. Я покопался в рюкзаке, выудил оттуда видеокамеру и протянул ей.
— Снимай, что понравится. Пусть у нас будет еще и фильм…
Пока что снимать было нечего. От Актау до Форта по трассе километров сто, но дорога была так разбита, что Ренату то и дело приходилось, объезжая колдобины, выруливать на полосу встречного движения и, несмотря на сходство с неизменным в своем добродушии Хотэем, стиснув зубы, материться там, где разбитый асфальт нельзя было объехать. Если не считать достопримечательностью особенности этой езды, то взгляд скоро привыкал к однообразному пейзажу по обе стороны дороги. Мы проехали мимо городского кладбища, новейшая часть которого была застроена громадными мавзолеями, соревнующимися друг с другом размерами и роскошью убранства. Слева промелькнули руины ферм, где когда-то, — как объяснила Курулай, — держали каракулевых овец и выделывали из шкурок новорожденных ягнят уникальный коричнево‐золотистый каракуль с огненным язычком на кончике шерстяного завитка. Производство было нехитрое: поседевший на солнце деревянный сарай для хранения золотого руна, пара чабанов и скорняков, навык их мастерства, умение — более не существующее — выминать кожу, одирать мездру, натирать крохотные шкурки грубой черной солью и каждое утро на несколько часов раскладывать их для просушки в тени брезентового навеса, пока воздух вокруг не начал плавиться под жаром степного солнца…
Жалел я лишь об одном: что не могу сфотографировать в усердии работы сильные, разъеденные черной солью руки скорняка… Долгое время мы с ним были не только современниками, но и согражданами — ибо жили в одной стране. Теперь время той страны иссякло и эти руки, как и это усердие, да, вероятно, и сам человек этот, ушли навсегда…
Вот уже километров сорок проехали мы по дороге, которая, не сделавшись лучше, стала, видимо, привычнее Ренату: во всяком случае, нас больше не швыряло в из стороны в сторону. С обеих сторон тянулась одинаковая, ровная, как стол, окрашенная в серый цвет кустиками старой, перестоявшей зиму полыни, степь. На ней время от времени показывались силуэты верблюдов, группами пасущихся на этом мрачном, цвета графита, пастбище.
Потом Куралай сказала что-то Ренату по-казахски, и мы свернули с главной трассы налево, на степную дорогу: выбитая в высохших травах колея была совершено белая. Мы ехали по вершине известкового плато. Доехали до развилки. Ренат развилок не знал и навигатора не имел. Но это его не печалило. Тем более что Куралай правильно угадывала дорогу. Вскоре мы оказались на краю плоского плато, откуда открывался вид на заброшенный поселок внизу. Сейчас он лежал перед нами как на ладони. Дом, который мне запомнился, стоял прямо против нас, под обрывом невысокого чинка. Оказалось, что дом не один. Там было еще несколько строений, на вид обитаемых. За домами красивой излучиной лежала морская бухта. Неожиданно вдалеке громко залаяла собака. Отыскав ее взглядом, я увидел, что дальняя часть поселка зачем-то обнесена проволочной сеткой. За нею только что остановились два автомобиля, и два свирепых на вид пса с громким лаем прыгали вокруг, приветствуя приехавших хозяев. Чем дольше всматривался я в знакомый пейзаж, тем более другим он мне казался: автомобильная дорога была накатана. В этот пейзаж не сегодня, а уже давно вошли люди и что-то неуловимо, но существенно изменили в нем. От дома, к которому я предполагал подъехать, нас отделял неглубокий каньон, когда-то весь заросший непролазным красноталом. Тогда на площадке под нами росло три могучих карагача 127, рядом было место для небольшого костерка, кружок пепла, несколько сухих веток для того, кто придет потом. Сейчас из трех деревьев осталось только одно. Да и оно беспомощно завалилось набок. Часть ветвей была обломана, с засохших — содрана кора. Под деревом расползлась бесформенная черная язва кострища. Но человек, оставлявший у потухшего костра сухие ветки для того, кто придет после него — он не стал бы рубить дерево. Потому что для него это кощунство. Значит, в пейзаж, который я видел перед собой, не просто вторглись люди — сами эти люди были уже другими. Теперь их следы видны были повсюду. Девять лет назад заросли краснотала были настоящей живой стеной, которая сладостно дышала жизнью и весной, хотя на ветвях кустов не показалось еще ни одного зеленого листика. Сама кора этого тальника цвела, алела, переполненная весенними соками. Теперь через кусты натоптаны были проходы, и даже цвет лозы как будто поблек. На месте, где был родник, блестел длинный жестяной желоб для водопоя. Прежняя Саура просто перестала существовать. Вероятнее всего, вместе со своим безумным хранителем.
— А что, Куралай, — спросил я, когда мы сели в машину. — В поселке-то люди, как будто?
— Браконьеров много бывает, — сказала она.
Мы подъехали к домикам: тут была небольшая ровная площадка. В тени стен без крыши припарковался зеленый «Фольксваген-Пассат». Под навесом из рубероида за грубо сколоченным из досок столом сидели люди в толстых, ручной вязки, свитерах и брезентовых моряцких бушлатах. На столе стояла початая бутылка водки. Своим приездом мы, по-видимому, нарушили разговор между браконьерами и хозяином «Фольксвагена», с которым еще была немолодая, но молодящаяся женщина в черных очках. Браконьеры посмеивались и чуть дольше, чем нужно, перемешивали на столе костяшки домино. Все это были крепкие мужики с загорелыми обветренными лицами. Ольга сняла их на камеру, пока мы с каждым здоровались за руку. Выделялись двое — широченный, с богатырской спиной казах и другой, русский, с длинным костистым лицом, крючковатым носом, клочковатой бородою; еще на затылок у него была сдвинута теплая, грубой вязки шапка. И все же, того, кого я искал, с ними не было. И быть не могло.
Мы с Ольгой направились в сторону моря. Ренат залез в машину и, откинув голову на подголовник, прикрыл глаза. И только Куралай сумела каким-то сверхъестественным образом двумя-тремя словами зацепиться за суть чужого разговора, через минуту она была уже в центре него, а через пять минут чувствовала себя у браконьеров как своя.
…Чем дальше мы уходили, чем более шум волн заглушал звуки, оставшиеся за спиной, чем невнятнее проступал позади поселок, тем яснее становилось, зачем сейчас попали мы на этот край мира… Когда-то ведь я мечтал подарить своей любимой каспийский сапфир в драгоценной оправе золотых песков пустыни. Дикий пляж, след ящерки на песке…
Когда жизнь возвращает нам наши фантазии, мы чаще всего даже не догадываемся об этом — просто не узнаем того, чего ждали. Пляж. Положим, не такой уж дикий — всего в 300 метрах от нас сидели за столиком люди и пили водку. Но их уже не было ни видно, ни слышно. Был и песок: может быть, не такой золотистый, как хотелось бы, но все же это был чистый белый песок, на котором оставили свои следы лишь кулички да ветер. А море — чем ближе мы подходили, тем шире оно раскрывалось во всем своем великолепии. Обычно у берега Каспий мелок и вода сильно замутнена светлыми частицами ила. Но здесь дно, видимо, сразу обрывалось вниз, а свежий ветер, раздувая белоснежные гребешки, без устали погонял волны того неповторимого, глубоко и пронзительно синего цвета каспийского сапфира, который так поражает всякого сколько-нибудь чувствительного к красоте человека. Ни души не было на этом берегу. Мы шли между песчаными буграми, заросшими тамариском: некоторые кусты были еще совсем голые, а некоторые, лучше освещенные солнцем, уже были осыпаны розовато-лиловыми цветами. И с каждым шагом мы погружались в этот мир все безвозвратнее, как в сон. Больше не было никакого поселка, только промытое весеннее небо над головой да рокот моря. Как только оно открылось, рядом сразу обнаружилось присутствие еще одного живущего, звучащего существа: то был черный, похожий на спину кита-горбача камень, стоящий на пути морского наката. Принимая удары волн, камень оглашал воздух гулкими вздохами, потоки белой пены сбегали по его черным бокам, кит плескался в блестках полуденного солнца, стоящего над дальним мысом; с шипением откатывали волны назад, хрустели мелкие белые ракушки под ногами… Я испытал вдруг такое долгожданное, такое острое счастье. Обернулся к Ольге: кажется, она переживала то же. Я закричал ей. Она засмеялась, как девчонка…
Вы спросите: а что все-таки было-то? Пустынный берег, цветущий тамариск, черный камень, похожий на бочину кита, и этот, разрази его гром, «каспийский сапфир», который пустился гулять по вашим, автор, страницам, с легкой руки господина Дюма-отца? Ну да, что-то в этом роде и было. И еще след гревшейся на солнце змеи, которая, так и не дав себя увидеть, уползла в гущу кустарника, оставив на песке похожий на упругую линию каллиграфа след, застывшую синусоиду, сохранившую движение ее гибкого, как хлыст, тела. Вы скажете: но ведь этого мало для счастья! Мало… Но кто скажет — чего и сколько нужно для счастья? Главное — оно было. Я даже не знаю, сколько оно продолжалось: пять минут или четверть часа? Времени хватило, чтобы мы успели подарить друг другу этот берег. Именно здесь. Потому что никакого другого случая не было. Я несколько раз предпринимал потом попытки добраться до берега моря — более осознанные, чем эта, более целенаправленные, что ли. И вот — ни одна из них не удалась. Еще раза два или три мы видели синюю полоску моря на горизонте: она была то шире, то уже, мы то приближались к ней, то удалялись от нее, но на морском берегу мы больше так и не побывали. И все, что нам было суждено, сбылось здесь, и сбылось как волшебство: восточный берег на несколько мгновений был явлен нам, как берег Степного моря… Моря пустыни. Этих нескольких мгновений оказалось достаточно, чтобы чудо мира и чувство необычайно естественной, почти безграничной свободы отпечатались в памяти навсегда: этого никто уже не в силах у нас отнять — до самой смерти…
Когда мы вернулись к домику, Куралай успела получить в подарок от браконьеров крупную серебристую кефаль и теперь заворачивала ее в фольгу, чтобы сохранить до вечера. Становилось жарко. Солнце поднималось все выше, остря лучи осколками битого бутылочного стекла. Браконьеры, поснимав свои теплые свитера в ожидании серьезного покупателя, сонно наблюдали, как сжимаются тени полдня. Могучие ветры, раскачивающие синеву моря и, играя, разбивающие ее в кипень белой пены, не долетали сюда, в обитель незадавшихся судеб. Последний хранитель этого места так и не показался нам: видимо, исчез из этого мира. Скрепы его памяти распались, и вместе с памятью безвозвратно ушли мастера, шившие лодки, солевары и штопальщицы сетей, могучие, сноровистые рыбаки и кормчие, умеющие прокладывать по звездам путь к берегу в ночь после шторма… С тех пор как песок или снег выбелил его кости, здесь в Сауре, не зацвело ни одно дерево, не засмеялся ни один ребенок. Ибо те, что пришли, уже ничего не помнили про прошлое этого запустелого берега и бессмысленно делили то, что им не принадлежит. Они не могли, да и не собирались, вдохнуть жизнь в это место, однажды уже пережившее смерть. Им было бы достаточно, чтобы место приносило прибыль. Пора было сваливать отсюда. Мы направлялись теперь в Форт.
IV. НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ
С чего начинается Форт? Вот с этой дороги, усыпанной, как и в незапамятные времена, искрошенным ракушечником? Или с голых, обрывистых кряжей, которые поднимаются по правую руку, как бы предлагая быть опорой для укрепления более основательного, нежели то, что в 1716 году впервые сложил в этих краях из набитых песком мешков на плоской косе Айляк у моря князь Бекович-Черкасский 128 — как будто боясь оторваться от береговой кромки и причаленных тут же кораблей? Как будто не смея ступить хотя бы на шаг на твердую землю из опасения растревожить кочевников, в которых подозревал он коварство и жестокость, свойственные всякой дикой и, к тому же, превосходящей силе? Берег там, слева от дороги, такой плоский, что трудно даже угадать, где кончается белое зеркало солонца и дрожащее над ним марево и начинается столь же зыбко проступающее в этом мареве море, проведенное вдали тонкой голубой полоской… Или все начинается с этих белесых, беленых известкой, но никогда не белых до конца строений, на стенах которых — будь то казахские мазанки или пакгаузы порта — обязательно проступают неистребимые желтые или голубоватые выцветы, по которым безошибочно определяется цвет Азии? Разумеется, для кое-кого из приезжих форт начинается (а впрочем, и заканчивается) невесть откуда взявшимся кубом из тонированного стекла цвета морской волны, который по выяснении оказывается то ли американской, то ли австралийской гостиницей Seagull, где останавливаются иностранные специалисты, приезжающие на Бузачинское нефтяное месторождение, чтобы спокойно, не выходя из гостиницы, провести день-другой, не боясь жары, клопов, вида старых ледоколов в гавани, запаха кизяка, кучками сложенного на улицах, бедности аборигенов и отвратительного теплого местного пива, которое в гостиничном буфете заменено фирменным и холодным.
И все-таки Форт, если отвергнуть частности его исторического становления и археологию — вырубленные в скале ступени да несколько зубцов разбитой за ненадобностью стены на вершине плато Курганташ — начинается не в пространстве, а во времени. Форт — это прежде всего замысел, и довольно дерзкий, ибо им явственно означена граница цивилизаций. Это — космический корабль, заброшенный в запредельные и неведомые пространства. Внутри Форта, внутри крошечной по протяженности оболочки его стен, защищенных дюжиной орудий и мортир, жизнь, согласно военному уставу, протекает осмысленно и целесообразно. Но и вокруг, на необозримых пространствах, которые не охватить ни взглядом, ни умом, жизнь тоже протекает по своему неизменному укладу, в своей осмысленности и целесообразности. Форт — это семя, брошенное в чуждую землю в надежде, что когда-нибудь оно даст всходы.
Но до поры… «Желтая лента песков, голые, невысокие горные кряжи, снова пески, жалкая растительность в виде саксаула, гребенщика и колючки, да чудная голубовато-зеленая вода, вот все, что может попасться глазу путника, чаще не по собственной воле попавшего в эти края…» 129
Эту границу (не между морем и берегом, а незримую — между двумя мирами) болезненно ощущал князь Бекович. Он как никто другой чувствовал огромность закаспийских пространств, он не мог преодолеть ощущения, что как только нос его самого первого бота уткнется в неведомый берег, из этой точки, как волны по морю суши, во все стороны побежит дрожь конских копыт, и не пройдет четырех-пяти дней, как все его возможные враги — куда более вероятные, чем неожиданные друзья — будут знать о его высадке. Ибо вся закаспийская Азия, несмотря на великое множество народов, населяющих ее, и различие в способах их бытования, давно срослась в единый клубок нервов, в единый организм, связанный кровными, династическими и экономическими узами. Бекович понимал, что стоит ему дотронуться хотя бы до мизинца ноги этого колоссального организма, как мозг незамедлительно получит этот сигнал и…
Предчувствия не обманули Бековича: в 1717 году он ступил в чуждые пределы и исчез навсегда. От обеих заложенных им на морском берегу крепостей, как, впрочем, и от войска, не осталось ни лопаты, ни пуговицы 130. Так что в последующие 117 лет российские государи и, по большей части, государыни, напуганные бессмысленной гибелью его экспедиции, не предпринимали более попыток проникнуть в азийские пределы и ограничивались строительством крепостей по южной «линии» русской границы, изо всех сил стремясь отгородиться от Азии, не слышать об Азии, ничего, по возможности, о ней не знать 131.
Эта страусиная политика блестяще провалилась, ибо на протяжении более чем двух тысяч километров — от Астрахани на Волге и Оренбурга на Урале до Семипалатинской крепости, находящейся в ведении Сибирского уже военного губернаторства — Империя граничила со Степью, которая тысячи лет жила по своим законам, не зная, да и не желая знать никаких правил, которые могли бы быть ей предписаны. Разбои, угон скота, военные набеги, захват и продажа пленных — были нормой жизни Степи, так более ста лет южная, степная граница России оставалась самой неспокойной из всех границ Империи. Только методическое строительство крепостей по всей «линии» да медленное совершенствование стрелкового оружия и артиллерии мало-помалу привели к изменению ситуации на границе и к первым попыткам отдельных казахских ханов в середине XVIII века вступить в российское подданство. Однако ситуация не изменилась сколько-нибудь существенно, покуда Россия не приступила к более решительным действиям в Азии.
В этом смысле первая попытка в 1834 году заложить на Мангышлаке крепость была важным знаком: сюда, в дальний конец залива Кочак 132, протянулось поначалу слабое, едва зацепившееся за выступ высокого берега щупальце империи, обозначив очень робкий еще вектор движения ее на восток. Этот вектор поначалу едва угадывается, он как будто размышляет: остаться ли ему точкой в крепостных стенах или все-таки продолжиться вовне? И поначалу замирает точкой. Сил гарнизона, состоящего из батальона солдат, присланных из Оренбурга, хватает лишь на то, чтобы нести службу и поддерживать жизнь крепости, выстроенной едва ли намного удачнее, чем укрепления Бековича. Для отыскания места под укрепление специально был послан натуралист и картограф, составивший лучшие Каспийские карты тех лет Г. С. Карелин. Но место для крепости выбрал он неудачно. Не разобрал нескольких второстепенных для картографа вопросов. Прежде всего — вопроса о качестве питьевой воды. В результате за зиму из-за плохой воды до трети гарнизона вновь выстроенной крепости безропотно вымирало. Это оцепенение сжавшегося, скукожившегося щупальца, оторванного от империи, заброшенного за 900 километров от «линии» в чуждое пространство, продолжается двенадцать лет. Вокруг — необозримый, неприветливый, пугающий своею суровостью берег. Одно представить — на восток от Волги, кроме Урала и Эмбы 133 до самого Ирана — на протяжении 1300 километров — в море не впадает ни одной речки, ни одного ручейка. Несколько родников и питаемых ими зеленых, годных даже для посевов проса или кукурузы долин есть, правда, в центре плато Мангышлак между хребтами невысоких гор Каратау и Актау. Но до поры до времени никто в крепости не имеет даже понятия о существовании этих гор и этих долин: все замерло под гнетом солнца, как неподвижные ящерицы-хамелеоны в ветвях колючего кустарника. Температура от — 30 °C зимой и + 50 °C летом делает всякую жизнь, и уж в любом случае, всякое движение непредставимым. Так продолжалось до 1839 года, когда власти, наконец, поняли, что на Мангышлаке им не нужно похожее на холерный карантин, обреченное на вымирание укрепление, и приняли решение выстроить новое в более подходящем месте на полуострове Тюп-Караган.
V. КАЛМЫКИ И ВЕЛИКАЯ СМУТА
После распада империи Чингизидов и соответственно среднеазиатского «удела Джучи», который в разное время в разных пропорциях разделяли между собой потомки Чингиз-хана и потомки Тимура, что многократно усилило династические притязания, столетиями раздиравшие этот край, в Средней Азии наступило настоящее «смутное время». Не было племени, которое бы на вполне законных «кровных» основаниях не претендовало бы на власть. В ту пору даже казахи, народ искони кочевой, захватив несколько бывших хорезмийских городов, объявили о создании своего кочевого «ханства» на юго-востоке современного Казахстана. В конце концов из всего этого хаоса сохранились лишь два феодальные владения, расположенные на территории бывшего Хорезма (и современного Узбекистана) — Бухарское и Хивинское ханства. Основное население Бухарии составляли узбеки и таджики, меньшую часть — туркмены. В оазисах Аму-Дарьи и Зеравшана раскинулись волшебные сады, бахчи, поля и виноградники. Кроме того, Бухара всегда славилась как ремесленный центр. Я сам наблюдал, как в кузнечной мастерской в Бухаре работают медники, колдуя над медью, как средневековые алхимики… Поэтому мне неудивительно, что, придя в восторг от этого непрекращающегося преображения материи, один из бухарских поэтов, С. Насафи, составил список, включающий сотни городских профессий: позументщиков, кондитеров, ткачей, гончаров, портных, мыловаров, оружейников, шорников, красильщиков, музыкантов, хлебопеков, переписчиков книг, миниатюристов, ковроделов, ювелиров, седельщиков, скорняков, каменотесов. Писчая бумага, сделанная в Самарканде и Бухаре, до XVII века считалась лучшей в мире и вывозилась в Китай и Индию, а через них — и в европейские страны. Бухарские купцы издавна торговали с Персией и, как только появилась такая возможность, стали торговать и с Россией, посылая караваны в Астрахань и в Оренбург.
Хивинское ханство, как и бухарский эмират, населенное в основном узбеками и туркменами, составляющими военное сословие, тем не менее существенно отличалось от своего соседа. Несмотря на плодороднейшие земли в дельте Аму-Дарьи, сельское хозяйство в Хиве было развито хуже — возможно потому, что было основано на рабском труде. Хивинцы наряду с виноградарством и хлопководством выделывали у себя шелк и выращивали табак, но на рынках продавали хивинский шелк и табак бухарские купцы. То же было и с хлопчатобумажными тканями. В результате Хива, проиграв Бухаре в торговле с цивилизованными странами, обратила свой взор к миру Степи. Неистощимыми потребителями ее товаров стали кочевники. Они же продавали в Хиву рабов. Туркмены совершали кровавые набеги в Персию. Казахи, населявшие огромные пространства от Урала до Тянь-Шаня и от Сибири до Каспийского моря, тоже знали, куда сбыть живой товар после своих набегов в Россию или на ближайших соседей 134. Мангышлакским туркменам, жившим обособленно от остальной Азии, тоже приходилось каждую осень снаряжать в Хиву караваны за хлебом и продуктами городского ремесла в обмен на ковры и изделия из кожи. И хотя внутренняя борьба за власть в Бухаре и в Хиве продолжалась несколько столетий, положение было, в некотором смысле, стабильным: и Бухара, и Хива, несмотря на ханские распри, как-то существовали, окруженные сотнями километров степей и пустынь и ордами кочевников, которые служили им непроницаемой защитной оболочкой.
Все изменилось, когда сама «хаотически-устойчивая» ситуация в Степи неожиданно зашаталась: в середине XVII века из Джунгарии в Среднюю Азию вторглись калмыки, числом не уступающие орде Чингиз-хана. Преодолев горные хребты, отделяющие Китай от Средней Азии, они спустились в Восточный Казахстан, прокатились по Ферганской долине и начали теснить казахские племена Большой орды, традиционно кочевавшие в Семиречье 135. Часть из этих племен, в том числе племя казахов‐адаев, с которыми нам придется еще иметь дело, ушло на север, в свою очередь, пройдясь кровавой бороной по кочевьям каракалпаков на Сыр-Дарье и в конце концов найдя пристанище в недрах ногайской орды, кочевавшей по степям северо-западного Казахстана. Другая часть казахских племен отпрянула на юг и вторглась в Бухарские владения, с чем обычно и связывают упадок сельского хозяйства Бухары в конце XVII века. Калмыков не интересовали оседлые цивилизации. Они сами были кочевники, им нужна была Степь. Поразительно, что за какие-нибудь пятьдесят лет они полностью подчинили пространства Степи своему влиянию, сделав почти номинальной власть казахских ханов Большой, Малой и Средней орд на всем грандиозном пространстве их традиционных кочевий. Это было почти неверояно!
Когда в 1814 году калмыки на мохнатых верблюдах, в островерхих меховых шапках и нагольных тулупах в составе русской армии проехались по Парижу — французы от ужаса перед таким воинством спешили плотнее закрыть ставни, чтобы не подвергать свои нервы чрезмерным испытаниям. Правда, привычным степнякам верблюд не страшен, в бою он не слишком-то повортлив, поэтому всадники на верблюдах не должны были никого испугать. Но испугали. И не на шутку. Некоторые казахские историки говорят о «тяжелой кавалерии» калмыков, чтобы хоть как-то объяснить их триумфальное шествие по Степи. Но и в «тяжелую кавалерию» верится с трудом: в рамках кочевой цивилизации доспехи и оружие для этого рода войск не могут быть созданы. И тем не менее, остановить калмыков не могло ничто. Скорее всего, казахи просто слишком расслабились, чувствуя себя хозяевами в «своих» степях, и не выдержали вторжения инородцев, которые пришли не как обычные в этих местах разбойники, но как беспощадные завоеватели. Калмыки, пройдя больше двух тысяч километров с востока на запад, смели ногайскую орду, к тому времени уже принявшую российское подданство, вышвырнули ногайцев за Волгу, в предгорья Кавказа, а сами расположились по обоим волжским берегам, достигнув, наконец, вожделенного рая кочевников: места, где широко и долго зеленеют степи, а солнце золотым сазаном блещет в воде многочисленных рыбных озер и волжских култуков, позволяя во веки вечные не думать о голодных зимах. В 1655 году калмыки добровольно приняли российское подданство, что не помешало им в 1716‐м разгромить почти трехтысячный отряд Бухгольца, заложивший было крепость на Балхаше: оставшиеся в живых солдаты и командир спешно сплавились вниз по Иртышу на своих дощаниках…
Проникли калмыки и на Мангышлак. Строгая выдержка, такт и высокое чувство собственного достоинства, которое поражает в туркменах, не могли, конечно, не затронуть и чувства калмыков, во всяком случае, они убедились, что на Мангышлаке обитает дружелюбный и спокойный народ, который они взяли под покровительство 136. Это сослужило туркменам самую скверную службу. Рано или поздно населению Мангышлака пришлось бы столкнуться со степняками, и прежде всего с казахами. Но для казахов туркмены были друзьями ненавистных калмыков и сразу были зачислены в стан врагов.
Во время персидского похода (1722–1723) Петр I заехал для серьезного разговора к калмыцкому Аюке-хану, убедил того никаких действий против России не предпринимать и, в качестве российского подданного, в Степь дальше положенного не соваться. Однако последнее слово в этих переговорах принадлежало все-таки не царю, а самим казахам, которые, объединившись под руководством Абул-Хаира, одного из ханов Малой орды, в 1728 году нанесли непобедимым калмыкам столь серьезное поражение, что калмыки вынуждены были признать восточной границей своих кочевий реку Урал и, надо сказать, с тех пор не осмеливались преступать рубеж, определенный в ходе переговоров. В 1732 году Абул-Хаир сам в первый раз присягнул России, что, впрочем, не удержало его от того, чтобы сделать это и во второй, и в третий раз 137. За годы своей бурной жизни он успел побывать и российским подданным, и хивинским ханом, но из опасения, что его просто зарежут очередные наследники престола, вновь бежал в Степь и погиб во время грабительского набега на каракалпаков.
В общем, нравственные обычаи Степи вполне выяснились во время смуты, толчком к которой послужили калмыки. И когда казахи адаевского рода, несомые ветром истории, вторглись на Мангышлак, заселенный туркменами, тут пошла такая резня, что туркмены не выдержали этого натиска и стали откочевывать к Хиве, где почти у каждого туркменского рода были родственники. Но в 1741 году к Хиве подступил Надир-шах — перед тем, как в шахматной партии, известной каждому завоевателю под названием «Весь Мир», сделать свой последний — и ошибочный — ход в Дагестан. Жестокость его была известна, и туркмены в страхе вновь потянулись на Мангышлак, уже занятый казахами. Туркмены бились отчаянно, но, несмотря на все попытки отстоять свое право жить и кочевать на земле, которую они называли «родиной» на протяжении столетий, они проиграли свою битву. Никто (тем более в наше время) не знает обстоятельств этой степной войны. Есть неприметные урочища, невысокие, ничем особо не примечательные плоские холмы, на которых происходили решающие сражения. Известно, что казахи, собирая по степи воинов, обычно не допускали в бой юношей с одной серьгой в ухе: это был знак, что воин — единственный сын в семье, еще не женат или, по крайней мере, не родил наследника.
Туркмены Мангышлака не раз и не два (во времена Петра и позже — в 1745‐м и в 1767‐м) просили принять их в подданство России. Один раз этому помешал крах экспедиции Бековича, в другой раз — что-то еще, в третий раз вопрос разбирала правительственная Коллегия иностранных дел. В августе 1767-го она предоставила Екатерине II доклад, в котором сообщалось о прибытии в Петербург туркменских посланцев с просьбой о приеме в российское подданство «по причине происходящего от киргиз-кайсак [казахов] притеснения». Вердикт коллегии гласил: «…Пока не сыщется удобное на восточном берегу Каспия место к заложению крепости, из принятия в подданство Вашего Императорского Величества трухменцов, не только при Мангышлакском мысе живущих, но и всех при оном береге располагающихся, по мнению коллегии иностранных дел, никакой пользы быть не может…» Императрица отнеслась ко всем этим соображениям безразлично. И только один раз туркменам свезло: в 1802 году мангышлакцы вновь отправили своих депутатов в Петербург, прося принять их в подданство России. И высочайшей грамотой нового императора Александра I в 1803-м они такое подданство получили, уехали на Мангышлак и, терпя привычные притеснения от казахов, в 1813 году несколькими родами переселились в Астраханскую область.
Но значительная их часть так и осталась на Мангышлаке. Возможно, Хива не хотела беспорядков в Степи и под угрозой силы прекратила междоусобицу. Возможно, свою роль сыграли и мангышлакские подвижники: один из них, туркмен Бекурды Ишан, жил как раз на мысе Тюп-Караган, близ которого предполагалось строительство нового Форта. Его одинаково уважали и туркмены, и казахи. По преданию, он учился в хивинском медресе вместе с главным святым казахского народа — Бекет-Ата. Нередко они состязались друг с другом в первенстве, но поняв, что их духовные силы равны, стали друзьями. Оба были страстными проповедниками мира между народами, а Бекурды Ишан, живя в непосредственной близости от районов промыслового лова рыбы, не раз выкупал у соплеменников русских рыбаков, захваченных на море в плен для продажи в Хиву…
VI. ХИВА
Хива, Хива… Раз возникнув в ходе нашего путешествия во времени, слово это стало звучать все чаще и чаще, пока не стало назойливым. Тем более что на первый взгляд серьезного отношения к истории занимающего нас пространства оно не имеет. Но первые впечатления обманчивы. И даже царь Петр, отправляя в Хиву «посольство» Бековича с вооруженным эскортом, не представлял себе, с каким опасным врагом имеет дело. Николай Муравьев, почти ровно через сто лет поле Бековича отправленный в Хиву с дипломатической миссией, удостоверился, что в лице тогдашнего властителя, Магомет-Рагим-хана, человека с явными склонностями натурального живодера, Россия никогда не будет иметь друга, ибо Хива помышляет не о торговле, а о том, чтобы властвовать над Степью. Поэтому любое начинание русских в Степи непременно будет разрушено Хивою или «послужит к возбуждению» против Империи кочевников, которые совершат набег на границу, уведут пленных, ограбят и сожгут суда на Каспии — в общем, не дадут сделать и шагу, оберегая тем самым преувеличенную роль Хивы как главного «распорядителя» во всей Средней Азии. Самовластье хивинского хана было гарантией безнаказанности приближенных к его двору казахских и туркменских «батыров», прославившихся своими разбойничьими подвигами. За два десятилетия XIX века всем губернаторам на «линии», военному министру в Петербурге и самому царю стало ясно, что за всеми бесчинствами разбойничьих «орд» или туркменских пиратов на море, как за ширмами, скрывается невидимый и недобрый кукловод. Как человек военный, Николай Муравьев после своей миссии в Хиву к подробнейшему отчету о природе, нравах и внутренних делах хивинского ханства присовокупил собственное суждение: чем разводить дипломатию, проще покончить с Хивой отрядом, численность которого нецелесообразно увеличивать свыше трех тысяч человек 138.
Но военная экспедиция тогда не могла быть скоро подготовлена: «линия» была еще слаба, конец Александровского царствия отмечен был какою-то вялостью и предчувствием событий роковых 139. Все затормозилось. Хива использовала этот момент, чтобы усилить свои позиции в Степи. Это удалось настолько, насколько вообще крошечному ханству можно раздуться в своих притязаниях и в желании казаться грозным. Вот лишь несколько примеров.
В 1820‐м Бухару посетила императорская миссия статского советника Негри и барона Мейендорфа с конвоем в 530 человек при 2 орудиях. Россия, не надеясь более на Хиву, решила вместе с Бухарой осуществить свои замыслы о торговле на востоке. Степь немедленно ответила волнениями и грабежами этих караванов.
В 1824‐м в Бухару снаряжен и отправлен большой вооруженный караван, который должен был стать «визитной карточкой» новой российской торговой политики. Караван сопровождало 625 человек при 2 орудиях. За Яны-Дарьею он был атакован всеми сборными силами Степи: 13 дней русские отбивались от казахов, хивинцев и туркмен, но, истратив боезапас, бросив товары, ушли. Так русская торговля с Бухарой была погублена в самом начале.
В декабре 1824 года, поскольку нападение на караван было организовано хивинцами, предпринята была рекогносцировка Усть-Юрта 140 под руководством полковника Берга. Хивинцы считали эту съемку неудачной попыткой завоевания Хивы. Тревога там поднялась страшная. Хивинцы отправили послов в Сарайчиковскую крепость со слоном в подарок царю. Миссия Хивы принята не была, подарок тоже, но было предложено: возместить убытки, выдать пленных и впредь русских рабов не покупать. Хан Хивинский эти предложения не принял. Разумеется, после этого смешно было бы считать Хиву хотя бы в какой-то степени «дружественной» России.
1828‐й. Во время очередной русско-турецкой войны турецкий султан попытался создать коалицию против России, обратившись к среднеазиатским владыкам. Новый хивинский хан Алла-Кули воспринял идею сочувственно и разослал своих эмиссаров в казахские кочевья, чтобы в очередной раз «возбудить» кочевников к пограничным беспорядкам.
1833‐й. Дерзость хивинцев дошла до того, что они прислали в Оренбург своего «зякетчи» — сборщика податей, для объявления купцам русским и бухарским, что их караваны будут непременно ограблены, если не пройдут через Хиву. При этом хивинские купцы, как и бухарские, свободно торговали в Астрахани и в Оренбурге.
1837‐й. Видя безуспешность предпринимавшихся на протяжении десятка лет «вылазок в степь», губернатор Оренбурга Перовский решил уничтожить «кукловода» и завоевать Хиву, бывшую, по его мнению, главной причиной всех неустройств в Степи. Его первой мерой было — задержать всех хивинских купцов, находящихся с товарами в России, пока хивинцы не отдадут наших пленных, содержащихся в Хиве на положении рабов. В результате в Астрахани и в Оренбурге было задержано 572 торговца. Хива вернула всего 25 человек, положивших жизнь на рабский труд. Хивинскому посланцу, привезшему этих несчастных, было заявлено, что никакие переговоры невозможны, пока все русские пленники не будут освобождены.
1838‐й. Несмотря на прошлые неудачи, была предпринята экспедиция в степь против мятежника хана Кампа и батыра Исетая; все сторонники их были разбиты, но батыры Исетай и Джулман ушли на Эмбу, а хан Камп бежал в Хиву, где он всегда отсиживался между своими нападениями.
1839‐й. Хива разослала эмиссаров к казахским и туркменским старшинам на Мангышлак, чтобы во время зимнего промысла тюленей русскими навредить этому делу. Повинуясь ханскому приказу, казахи и туркмены двинулись к заливу Мертвый Култук, где обнаружили суда с грузом продовольствия и всего необходимого, вмерзшие в лед не доходя до злосчастного укрепления нашего. Экипажи судов спаслись, добравшись до берега, но «самые суда по расхищении груза сожжены хищниками» 141. Гарнизон укрепления чудом пережил зиму. Морские разбои, поощряемые Хивой, в тот год достигли особого размаха: 158 рыбаков и промышленников было захвачено в плен и продано в Хиву. Видя, что хивинцы с каждым годом ведут себя все наглее, Оренбургский генерал-губернатор Перовский послал на мыс Тюп-Караган небольшой отряд для окончательного определения места под строительство на Мангышлаке форта, способного противостоять Хиве и сдерживать морские разбои. Сам же Перовский отправился в Петербург, чтобы убедить императора в необходимости безотлагательного похода на Хиву.
VII. ПОХОД МЕРТВЕЦОВ
Василий Алексеевич Перовский, губернатор Оренбургский, был одной из звездных фигур николаевского времени 142. Перовский был не только артистичен — его «письма из Италии» были опубликованы В. А. Жуковским в альманахе «Северные цветы» за 1825 год — но и честолюбив. На его генеральских эполетах тлел отблеск героического 1812 года — но тогда, во‐первых, Василий Перовский был слишком еще юн (ему едва минуло 17 лет), а во‐вторых, ему не повезло при оставлении армией Москвы попасть в плен к французам: он прошагал до Франции в обозе маршала Даву и сумел бежать только в 1814‐м, когда русские заняли уже Орлеан. Он отличился во время Русско-турецкой войны 1827–1828 годов, за взятие Анапы получил орден Святого Георгия 4‐й степени, но вскоре был тяжело ранен пулей в правую сторону груди. Губернаторство его начиналось блестяще 143. Но военные амбиции Перовского не были удовлетворены. Завоевание Средней Азии открывало перед ним неограниченные перспективы. Перовский был захвачен идей своего предприятия настолько, что по прибытии в Петербург сумел переубедить и сделать своими единомышленниками военного министра Чернышева и вице-канцлера Нессельроде, которые, не понимая ситуации в Азии, первоначально более чем скептически отнеслись к идее такого похода. План кампании составляли они уже втроем. По стечению обстоятельств воистину роковому припомнены были победоносные нашествия Чингиз-хана и Тамерлана, которые всегда начинали свои походы зимою — почему и решено было выступать незамедлительно, уже в декабре 1839‐го. По мере того как стратегический очерк, составленный в Петербурге, вступил в стадию практической разработки, оптимизм Перовского все возрастал. Как писал прекрасный знаток Среднеазиатских походов генерал Терентьев, то была экспедиция «беспримерная по подробности снаряжения» 144. «Заботливость Перовского об здоровье отряда не знала границ: пошиты были для солдат душегрейки-стеганки, куртки из сайгачьих шкур, холщевые шаровары для надевания поверх простых…» 145 Взято было много еды, табаку, боеприпасов и даже подарков для казахов и туркменов, собрано достаточно верблюдов, чтобы пехота не шагала марш-марш-пёхом по зимней степи, а ехала верхом. Отряд насчитывал 5325 человек при 22 орудиях и 4 ракетных станках, и хотя больше половины этого воинства составляли рекруты и ссыльные, настроение у всех было бравое и в удаче предприятия никто не сомневался: «…Хивинцев не считали воинственными, в верность [хивинскому хану] войска из туркмен не верили, в верность артиллеристов из русских пленных — еще менее, хивинского оружия не боялись, знали, что огнестрельного оружия в Хиве мало, что порох плохой, что ядра не отвечают калибру орудий и потому загоняются с войлоком. Вопрос состоял в том, чтобы добраться до этого разбойничьего гнезда, а уж разнести его никто не считал задачей» 146. После прочтения перед войсками пафосного приказа о выступлении, отряд в течение 4 дней — соответственно, 27, 28, 29 и 30 ноября — четырьмя колоннами торжественно вышел из ворот Оренбурга, чтобы вернуться с победой. В марте остатки отряда — чуть более 2000 человек, больные и обмороженные — вновь появились у городских ворот. В середине апреля — последним — с небольшим эскортом вернулся Перовский. Он сам был еле живой. Его черные кудри совершенно поседели.
Что же произошло?
О черт, об этом почти невозможно рассказать! Ну, как если бы, планируя завоевание Азии, забыли, что случаются суровые и снежные зимы. Непосредственно отряд Перовского ни разу не столкнулся с противником. Хивинцы, правда, выслали ему навстречу свое войско — что-то около 3000 конных, но оно зацепилось за небольшое степное укрепление Ак-Булак, в котором едва ли было 250 человек, способных держать в руках оружие. Три дня хивинцы атаковали его, но за всеми этими атаками даже не поранили ни одного солдата и вынуждены были уйти из-за начавшихся буранов: зима выдалась не просто суровая, а суровая в какой-то превосходной степени, и если в Хиву из 3000 человек вернулось лишь 700, то что говорить об отряде Перовского, который был много больше и, оказавшись в голой степи без топлива, за четыре месяца успел позабыть, что такое горячая пища?! Жестокие снежные бураны при морозе в —30–40 °C начались через десять дней после выступления отряда. Верблюды с порезанными о наст ногами падали и не вставали. Солдаты шли по колена в снегу со всей амуницией. Если бы на Эмбе не было заранее подготовлено укрепление, страшная развязка наступила бы раньше. Отряд пришел на Эмбу 4 января, пройдя 500 верст 147 в невероятных для человека условиях, но впереди было еще 750 километров заснеженной пустыни. По сути, на этом экспедиция и завершилась. Едва добравшись до эмбенского укрепления, корпус Перовского, еще недавно полный горячих и задиристых сил, оказался на «грани гибели». Последующие полтора месяца ушло на поддержание дисциплины в отряде и попытки как-то «собравшись с силами» двинуть его далее в степь. Но никакие силы не могли уже изменить роковой ход событий. Нет, солдаты не отказывались исполнять приказы. Они просто умирали. В укреплении отряд с самого начала застал оспу и цингу; потом к ним прибавились другие загадочные болезни: «…Одна начиналась прямо беспамятством и сумасшествием и оканчивалась иногда смертию, другая… состояла в том, что человека вдруг схватывало под ложечкой, дыхание с минуты на минуту затруднялось все более, затем иногда корчи и — смерть…» 148 Сам Перовский был болен: старая рана и отчаянная тоска доканывали его. В конце концов, собрав все свои душевные силы, он поднял-таки в поход остатки отряда, но лишь для того, чтобы через несколько дней поворотить назад: прибывший с Усть-Юрта отряд дружественных казахов‐назаровцев во главе с «султаном» Айчуваковым, а затем и разведка донесли, что на Усть-Юрте снега — коням по брюхо… Только сумасшедший в таких условиях погнал бы остатки корпуса вперед. И 14 февраля 1840‐го Перовский вынужден был отдать приказ о возвращении…
Узнав о неудаче экспедиции, Николай I написал на рапорте Перовского военному министру: «Жаль… Очень жаль, — но покориться воле Божьей должно, и безропотно…» Как ни странно, ужасная неудача Перовского имела большой резонанс. Во‐первых, она надолго утихомирила Хиву, которая наконец сообразила, что только погодные условия на этот раз уберегли ханство — и, по крайней мере, самих ханов — от верной гибели. Алла-Кули-хан выпустил фирман, в котором в выражениях, свойственных льстивой восточной дипломатии, заявил о том, что «…мы вступили с Великим Российским Императором в дело миролюбия, с твердым намерением искать его высокой дружбы и приязни…» 149. Хан первый отпустил русских рабов и призвал к тому же своих вельмож и землевладельцев: таким образом в Россию вернулось 400 человек, после чего Перовский согласился отпустить домой хивинских купцов, которые с 1837 года сидели у него в заложниках. Сразу — как по мановению волшебной палочки — прекратились разбои на море и в Степи. Состоялся обмен дипломатическими миссиями и торговыми караванами. И хотя русский караван в Хиве наторговал товаров на сумму довольно скромную для такого важного политического мероприятия, само присутствие русских купцов в Хиве так воодушевило Алла-Кули-хана, полагавшего теперь Россию чуть ли не своей союзницей, что он немедленно напал на Бухару, чтобы, наконец, преподать урок своему более «удачливому» соседу.
Однако вопрос о «границах» или, точнее, о разграничении «зон влияния» в Степи не был решен и, опомнившись от первого испуга, хан решил не уступать России ни пяди пространства, которое Хива продолжала считать своим, а Россия — своим. Было ясно, что при таких обстоятельствах «дело миролюбия» долго не простоит, что внезапно — и радикально — решило давно завязший вопрос о строительстве на Мангышлаке нового Форта.
VIII. ФОРТ
Дело началось с казуса: весной 1840‐го в доживающее свой век старое мангышлакское укрепление дошел слух, что на Мангышлаке появились англичане. Пока собирали казаков, чтобы перехватить незваных гостей, те — и откуда только дорогу сведали? — сами объявились под неказистыми, надо сказать, стенами укрепления. Старший — со свитой человек в 10 туркмен — отрекомендовался капитаном Эбботом, поверенным в делах от английского правительства при петербургском дворе. Комендант не сробел перед такими чинами и попросил приехавшего предъявить какой-нибудь стоящий вид, то есть документ. Эббот предъявил записку на французском языке, в которой чернилами было написано, что предъявитель сего следует из Герата (Афганистан) в Хиву, и карандашом добавлено: «и в Россию». Комендант отвел ему в крепости квартиру, но приставил к ней часовых. Видя такое дело, англичанин, облачась в свой лучший мундир, попросил объяснить, чем обязан такому к себе отношению.
— Порядки наши таковы, — объяснил комендант, — что ежели бы вы мне показали действительный вид, то я мог бы пропустить ваше великолепие через Астрахань в Петербург. Но поскольку кроме записки никакого настоящего вида предъявлено не было, то я могу вас отправить только в Оренбург под конвоем.
Тут англичанин забеспокоился, полез в свой походный чемодан и извлек-таки оттуда паспорт на английском языке за подписью и печатью Дерентодда, английского посланника в Герате. Комендант караул снял, но при первом же случае отправил Эббота подальше от греха в Оренбург Перовскому.
Перовский определил англичанина в лучшую квартиру в городе, но после катастрофы, постигшей его зимою, капитан Эббот подействовал на душу Перовского как язва. В секретном письме вице-канцлеру Нессельроде Перовский изобличил его как заведомого шпиона, который, явившись к Хивинскому хану, не только настраивал его на вражду с Россией, но, взяв с собой проводников из хивинского войска, достиг Мангышлака, собрал множество казахов и туркмен, говорил с ними о силе и влиянии Англии, после чего приехал в наше укрепление как лазутчик.
«…Англичане, пробиваясь из Индии все далее и далее на север, достигли, наконец, до последних пределов среднеазиатских владений и сталкиваются с нами — в нашей Кайсацкой степи, — закипая, писал Перовский. — Цель неутомимых эмиссаров их, преследующая с удивительным постоянством и пронырливостью предначертанный план, двоякая: торговая и политическая. Ту и другую достигают они успешно…»
В конце Перовский не выдерживает спокойного тона и выпаливает всю правду-матку: «…Осмелимся спросить у себя прямо: чего не достает миллиону всадников, обитающих между пределами Афганистана, Персии, России и Китая? Не достает единства, т. е. головы и оружия, а и то, и другое могут быть даны людьми и обстоятельствами… Три, четыре года назад… на Сыре и Аму не знали, что на свете есть англичане; теперь на Эмбе и на Илеке говорят об них, как о соседях…» 150
Перовскому не повезло как военачальнику, но ум его стал только беспощаднее от этой неудачи: он прекрасно понимал, что речь не идет, несмотря на все неудачи, о каком-то серьезном тягательстве России с Хивою. Силы слишком неравны, и если бы не расстояния и не климат… Но есть большая политика. Мировая. И в рамках этой мировой политики вопрос стоит так: кто будет владеть Средней Азией — русские или англичане? На каком языке будут говорить по ту сторону «линии» — на русском или на английском? Кто, наконец, полюбит этот край? Вот вопрос вопросов 151.
Появление Эббота так уязвило Перовского, что в нем всколыхнулись былые силы и он немедленно составил план новой кампании против Хивы на 1840 год. В походе на этот раз должно было участвовать уже 14000 человек, причем часть из них предполагалось перебросить морем сразу на Мангышлак, чтобы сократить путь до Хивы вдвое. Император, ознакомившись с новой пропозицией Перовского, заметил ему, что после степных буранов и морозов ему бы не помешало отогреться в Италии. Так неожиданно для себя Перовский потерял пост Оренбургского губернатора. В канцелярии военного министра пошучивали, что «для нынешнего царствования довольно и одного такого неудачного похода». На место Перовского назначен был генерал-адъютант Владимир Афанасьевич Обручев, человек, в сравнении с предыдущим губернатором края, выглядевший далеко не столь блестяще. Однако, именно он и довел ситуацию со строительством нового Форта до конца.
Летом 1844 года войсковой старшина Матвеев, флота капитан-лейтенант Кемецкий и инженер-капитан Жебровский прибыли на Тюп-Караган и «во всей подробности осмотрели означенный полуостров» 152. В отчете говорится о здоровом сухом климате местности, об источнике прекрасной питьевой воды, расположенном буквально у подножия обрывистого и совершенно неприступного с трех сторон плоского кряжа Курган-Таш, как будто специально предназначенного для строительства здесь крепости; указывалось, что в изобилии повсюду имеется камень-ракушечник, из которого легко можно выстроить крепостные сооружения. Стратегические выгоды тоже были очевидны: на мыс Тюп-Караган шла прямая караванная дорога из Хивы, которой хивинцы продолжали пользоваться, отправляя свои товары в Астрахань. Обручев предложил в будущем завозить на Мангышлак русские товары, чтобы привлечь на свою сторону местное население. Единственная проблема возникала с топливом. Временно решить ее можно было за счет зарослей высоченного камыша, который в изобилии рос на близлежащем острове Кулалы 153, но там уже тогда устроена была промысловая стоянка охотников на тюленей, и участники экспедиции справедливо указывали, что на всех камыша не хватит. Правда, топливо, в конце концов, можно было возить и из Астрахани…
В начале мая 1846‐го войска, назначенные для строительства крепости, благополучно прибыли на двух пароходах на Мангышлак в сопровождении оренбургского генерал-губернатора Обручева. В общем, Форт, как и идея последующей колонизации края русскими поселенцами, это было его детище, и Обручев, надо признать, вынянчил его с заботливостью хорошего отца. Упорно ходившие в Степи слухи, что Хива ни за что не допустит строительства на Мангышлаке укрепления и высадку десанта придется производить с бою, не подтвердились: Хива на этот раз спасовала.
После отъезда Обручева в Оренбург начальнику строительства Форта полковнику Иванину было доставлено письмо «главной духовной особы» мангышлакских туркмен Бекурды Ишана, которого русские рыбаки называли попросту «архиереем»: «Врагов у нас много; киргизы [казахи] делают между собой совещание отправить к хивинскому хану известие, но еще не посылали; будьте осторожны, киргизов не почитайте друзьями…» Он предлагал русским свою помощь. Но в целом и казахи, и туркмены боялись Хивы, все еще не веря, что она позволит русским обосноваться на Мангышлаке. «А ежели позволит, то скоро и Хиве конец» — такова была обычная присказка. Стремясь выйти из поля возможного столкновения России и Хивы, большинство казахов и туркмен в 1846 году попросту откочевали с Мангышлака. Это не помешало строительству крепости. Напротив, продвигалось оно споро: уже в июле каменной стеною длиной в 330 сажен 154 были обнесены деревянные казармы, лазарет на 60 человек, флигель для офицеров, гауптвахта, два каменных пороховых погреба со сводами…» 155 Осенью эти работы были завершены, и Иванин распорядился начать строительство деревянной церкви, кухни, угловых башен и пристани. Гарнизон укрепления составили две роты Оренбургского линейного батальона и две сотни уральских казаков при 10 орудиях и 4 мортирах.
В общем, Обручев твердо вознамерился оставить на Мангышлаке не усыхающее щупальце империи, а заколотить здесь такой шкворень, за который эту часть необъятного азийского материка можно было бы крепко притянуть к России. Здесь сказалась разница подходов: «блестящий» Перовский мечтал о завоевании Азии; «посредственный» Обручев — о колонизации. Его помощники также изучали прежде всего «мирные» возможности продвижения российской политики. Так, полковник Иванин писал военному министру: «…Всматриваясь внимательнее в быт киргизов, туркмен, я убедился, что политическая зависимость тех и других народов от хивинцев произошла преимущественно из-за того, что киргизы и туркмены, как народ кочевой, нуждаются в средствах мены в Хиве; им нужны для существования хлеб, выделанные кожи, халаты, бумажные и шелковые материи, деревянная посуда, металлические изделия, — все это получали они из Хивы, платя баранами, войлоками, шерстью и другими произведениями своего кочевого искусства…» 156
Уже на другой год после строительства Форта губернатор Обручев распорядился устроить тут две ярмарки: одну весной, другую — осенью, желая привлечь и степняков, и торговцев из Хивы, и русское купечество. Льготы были объявлены всякие, однако дело не пошло так быстро, как хотелось бы. В 1847 году завести торговлю в Форте изъявил желание лишь один «купец», Турпаев, и без того бывший в укреплении переводчиком. Однако в 1850 году купцов было уже пять; в 1852‐м — семь; в 1867‐м — восемнадцать; а в 1870‐м — двадцать девять 157.
В 1851 году из Форта на Мангышлак выступила первая экспедиция под руководством горного офицера А. И. Антипова для поисков каменного угля в горах Каратау. И хотя Каратаусская экспедиция ныне известна в основном потому, что в ее состав был принят рисовальщиком сосланный на Мангышлак поэт и художник Т. Г. Шевченко, о котором речь впереди, уголь она-таки нашла, чем и решила вопрос с отоплением форта и жилых домов при нем на многие годы вперед. В 1859 году экспедиция В. Д. Дандевиля 158, стартовав с Мангышлака, обследовала восточный берег Каспийского моря и залив Кара-Богаз-Гол. В 1874 году Н. П. Барбот де Марни 159, возглавляющий экспедицию общества естествоиспытателей, проследовав через Мангышлак и Усть-Юрт до Арала, нашел в горах Каратау, в урочище Тюбеджик, «черное сало» — стекающий по стене каньона размягченный жарою асфальт, что в последующие годы повлекло за собой целую серию экспедиций в поисках нефти, которые увенчались успехом только в 1961 году…
Так же медленно, но неуклонно продвигалось дело с созданием русской колонии. В литературе мелькают сведения, что вопрос о переселении на Мангышлак более полутора тысяч русских колонистов был решен губернатором Оренбургского края Обручевым в одночасье. Но Обручев, напротив, относился к идее переселения на новые места семей из России с большой осторожностью: он сам побывал на Мангышлаке и понимал, что ни сельское хозяйство, ни скотоводство — в виде, привычном для российского крестьянина, здесь невозможны. Он вообще полагал, что колонизацию Мангышлака могут осуществить только люди, еще в очень малом количестве присутствующие в России, да и то только в Астраханской губернии — рыбаки, причем зажиточные, способные на свои средства содержать одно или два мореходные судна.
Поселенцы приехали в 1849 году, и не из Астрахани, а из Саратовской губернии, вскоре к ним добавилось одиннадцать семей казаков Оренбургского казачьего войска. Вместе они образовали недалеко от гавани станицу Николаевскую. Для житья их из Астрахани было выписано 20 деревянных домов; 11 подрасшивных лодок и на 300 рублей принадлежностей для рыболовства. Первоначально это не дало почти никаких результатов: колонисты были незнакомы с рыболовным промыслом и два года жили на государственные пособия. Однако прошло 10 лет, и инспектировавший в 1868 году Мангышлак полковник Погорский сообщил, что поселян ныне 26 семейств, из них 25 занимаются рыболовством, имеют 109 лодок и крепко стоят на ногах 160.
Разумеется, в 1846 году, когда Форт оформился лишь в самых общих чертах, невозможно было и вообразить, что не пройдет и тридцати лет, как все колоссальное пространство Азии — вместе с Бухарой, Хивой и всем Туркменистаном — будет покорено империей и Форт, потерявший былое значение, скорее по привычке, чем по надобности, охраняемый сотней солдат Геок-Тепинского резервного батальона при нескольких устарелых медных нарезных орудиях, оказавшись за тысячу километров от новых границ России, превратится в тихий рыбацкий поселок, по старой памяти сохранивший за собою звание центра Мангышлакского уезда, должность почтмейстера, полицейского пристава и других чинов уездной администрации, да несколько предприимчивых торговцев рыбой, продаваемой в Астрахань или прямиком в Петербург.
«…Если сесть в Астрахани на пароход общества «Кавказ и Меркурий», — писал в 1902 году путешествующий аноним, — то приблизительно в сутки вы приезжаете в форт Александровский, перерезав море в юго-восточном направлении и сделав около 350 верст. …Хотя прибытие парохода считается здесь не редкостью, тем не менее, толпа ребятишек и взрослых встречает каждое прибывающее значительное судно. Что-то прочное, спокойное, положительное веет от этих русских приветливых лиц, от деревянных чистых домов, вытянувшихся в два ряда, как деревня нашей северной полосы, от седого столетнего старосты, от прекрасно построенной по великорусскому уставу церкви… Трудолюбивые… умные и смелые, [поселенцы] производят на приезжего самое отрадное впечатление. Взаимная выручка настолько развита среди александровцев, что во всем поселении нет не только нищих, но нет даже просто бедных; у всех есть достаток, а тем с кем случилась беда, немедленно помогают односельчане, особенно из богатых… Отважные и предприимчивые поселенцы вполне сжились с морем и представляют собой типичных, выработанных жизнью моряков; еще смолоду, будучи ребятишками, они приучаются управлять лодкой и парусами и справляться своими силами с разгулявшейся стихией… Киргизы-аборигены края живут своим особым миром, уходя на сотни верст вглубь степей Мангышлака. Благодаря тому, что они давно уже находятся под властью русского царя, они быстро переняли у соседей много полезных сторон, особенно те, которые так или иначе касаются практической стороны дела. Сознавая пользу в знании русского языка и грамоты, они охотно отдают своих детей в школы, где маленькие киргизята быстро учатся читать, писать и говорить по-русски. Женщины киргизки в большинстве случаев ходят открытыми и пользуются относительной самостоятельностью…» 161
Трудно даже вообразить себе, что до Форта, выстроенного на самой дальней границе империи, всего-то через пятьдесят лет можно будет в 24 часа добраться пароходом. При максимуме удобств: рюмка коньяка с лимоном и красные очки считались лучшим средством от качки. Как мало минуло времени. Как бесконечно много его прошло. Сменились цивилизационные парадигмы. На смену вечному, неизменному миру Степи пришел Прогресс.
IX. СТЕПНАЯ ТРАГЕДИЯ
Но если бы мы, продолжая свое путешествие во времени, отмотали бы назад еще лет тридцать, перенеслись из 1902 года в 1870‐й, то стали бы свидетелями картины далеко не столь идиллической.
С подходящего парохода, груженного казаками, орудиями и лошадьми, сквозь черный дым горящего угля можно было бы разглядеть разрушенные маяки, сожженные дома, разбитые лодки и рыбные промыслы и крепость, подающую о себе весть гулкими выстрелами орудий…
Переход в иное цивилизационное состояние никогда не совершается безболезненно. Это всегда конфликт, всегда драма. И то, что мы наблюдаем — адаевское восстание 1870 года — это последний бой Великой Степи с Цивилизацией. Исторически сложилось так, что именно здесь, на Мангышлаке, Великая Степь дала последний бой за то, чтобы оставаться собой, за право быть дикой. Об адаевском восстании историки подчас говорят чуть ли не как о национально-освободительной войне против колонизаторов… Это перевод разговора в какую-то двухмерную плоскость. На самом деле все глубже, все сложнее. Исторически казахам выгоднее было бы следовать за русскими — вперед, к прогрессу. Что подтверждается, кстати, цитатой из 1902 года: там все уже благополучно, конфликт с цивилизацией исчерпан, выгоды ее осознаны. Но никто не в силах отнять у человека право любить ту жизнь, которую он узнал, вылупившись из утробы матери, ту жизнь, которую в детстве он приучился любить, в которой была Воля — закон Степи, ее бесконечная протяженность в пространстве/времени, ее право на всё. Цивилизация зачем-то изменила этот мир, и изменила слишком быстро. Она по-своему размежевала его, разбила на часы и минуты, запретила разбой, ввела порядок. Разве она спросила у нас, степняков, хотим мы этого или нет? Так к черту цивилизацию!
Разрушить, сжечь, уничтожить все материальные объекты, все признаки цивилизации… В адаевском восстании 1870 года поражает не только ярость как таковая, но ярость против вещей… Rage Against Mashine… 162 Если бы восставшим удалось взять Форт, можно не сомневаться — они бы сровняли его с землей. То было великое восстание дикой степной воли против любых форм «цивилизации» и «порядка».
Россия не в первый раз сталкивалась с ожесточением подобного рода: на протяжении почти всех 40‐х годов XIX века Империя вела затяжную войну с одним из последних партизан Степи — самозваным «султаном» Кенисары Касымовым. Его бунт начался из-за того, что на казахских землях, которые присягнули России, империя начала создавать «приказы» — органы своей власти, которые перекраивали степь совсем иначе, чем она была размежевана в кочевом сознании. В ответ последовал бунт — «бессмысленный и беспощадный». В письме военному министру Оренбургский губернатор Обручев так описывал отряд Кенисары: «…Скопище султана Кенисары Касымова состоит из собственных его теленгоутов (до 1000 кибиток), которые достались ему в наследство от хана Абалая и приставших к нему бродяг и барантовщиков из разных родов… Башкирцев 4, татар 6, русских 5 человек. Башкирцы и татары — это ближайшие прислужники его, один обделывает вместе с беглецом из Кокан[д]а султанское оружие, другой башкирец, — оружейник и вьет стволы.
Султан во время бытности моей в аулах его приказал собрать с каждой кибитки по одному тагану и по одной мотыге с тем, чтобы башкирец сей из этого железа сделал ему пушку…»
Тут же еще одно характерное замечание: «Кенисары действует неограниченно; за малейшее преступление наказывает смертью или рассечением головы и потому страх к нему не имеет границы; он говорит мало и каждое слово его исполняется буквально; вместе с тем, однако, ближайшие окружающие его советники совершенно владеют его волею; он ни на какое важное дело не решается без совещания с ними…» 163 Из всего этого скопища способных к бою было очень мало: человек 500 вооруженных пиками и саблями, и до 100 человек со старинными бухарскими ружьями. Три больших ружья, перевозимые на верблюдах, постоянно были при нем. За годы стычек с казаками партизаны Кенисары изорвались так, что выглядели «хуже байгушей» (нищих казахов). Доводы благоразумия должны были бы привести Степного Султана к мысли о том, что сопротивление бесполезно. Но он плевать хотел на благоразумие. Он хотел быть правителем Великой Степи (прежней, невозможной, уже давно не существующей). Всю жизнь свою он прожил как степняк: он угонял скот, грабил, убивал. Он давал и нарушал клятвы, писал письма верности русскому царю, признавал себя его подданным и потом снова воевал с ним. За ним охотились, как за диким зверем. Многие родственники его поплатились, став заложниками. Однако ничто не могло остановить Кенисару: он воевал с Хивой, воевал с Кокандом, куда взят был заложником его отец Касым со всем семейством. Потом принял хивинское подданство и даже успел побывать хивинским ханом, чем, по-видимому, лишь испортил себе все дело: обложив народы Степи непомерными поборами он, в конце концов, сделался степнякам безразличен. Царское правительство до последнего хотело склонить его к миру, весной 1845‐го к нему отправили посольство, которое вернуло ему его жену Кунымжан. Кенисары ответил письмом с выражениями признательности, но сам на встречу не приехал. Он готовился к нападению на аулы казахов жапасского рода и к любым переговорам относился презрительно. В конце концов в одном из набегов в киргизские пределы (1847) он был убит. Что ж, смерть в бою — это то, о чем настоящий воин-степняк может только мечтать!
Обычно причиной Мангышлакского восстания 1870 года называют указ 1868 года, ограничивающий степную «волю» законами Империи и превращающий кочевников в исправных налогоплательщиков. Но кибиточный сбор в 3 р. 50 коп. в год не был неподъемной тяжестью, в свое время туркмены платили хивинскому хану в 4–5 раз больше. Казахи, правда, не знали регулярного налогообложения и, кроме своих старшин, не знали и власти над собой. Форт жил своей жизнью, которая никак не затрагивала жизнь кочующих родов, разве что лишала степняков одного врожденного права: на разбой. Требования восставших были абсолютно максималистскими: ничего не трогать, ничего не менять, не вводить никаких податей, не предъявлять никаких распоряжений, оставить казахов‐адаевцев в покое и дать им жить своею жизнью… Эти требования были, конечно, фантастичны, как попытка запустить время вспять. Видимо, именно вектор времени и определил тот факт, что восстание было сравнительно легко подавлено. Если беспристрастно проанализировать ход событий, то легко убедиться, что вооруженных столкновений с восставшими было всего четыре.
Восстание началось с того, что в середине апреля в степи с небольшим отрядом казаков был захвачен и убит мангышлакский пристав Рукин, а 16‐го взбунтовавшиеся степняки ворвались в Николаевскую станицу и осадили Форт (будем считать это первым вооруженным столкновением). Весть о случившемся скоро стала известна, и уже 22 и 24 апреля в Форт из замиренного к тому времени Дагестана были переброшены войска с Кавказа — пароходное сообщение было уже отлично налажено.
Прибывающие увидели с парохода совершенно разгромленное поселение возле Форта, а на горах вокруг — скопища гарцующих казахов. Понимая, что с конными пехоте не справиться, войска укрылись за стенами Форта. 30 апреля прибыла, наконец, конная сотня. Не сгружая ее с парохода, главнокомандующий прибывшими войсками граф Кутайсов принял решение спуститься на 100 километров на юг 164, чтобы немедленно силой конфисковать у кочевавших там туркмен верблюдов и приступить к преследованию бунтовщиков. По счастью, бывшие при нем местные офицеры провели дело миром: в самой вежливой форме туркменским старшинам было сказано, что государь помнит о них, прислал специальный отряд узнать об их нуждах, а заодно просил помочь и дать шестьдесят верблюдов. Туркмены рады были оказать услугу государю, и верблюды быстро были собраны; сотня немедленно тронулась к форту, но на пути ей встретилась конная толпа восставших, числом до 800, которые были разбиты полностью (все случилось 4 мая, и это, будем считать, было второе вооруженное столкновение с мятежниками). Пока сотня не вернулась в Форт, мятежники предприняли несколько ожесточенных попыток взять укрепление, но там уж сидели кавказские войска, и попытки эти были оставлены из-за больших потерь (третье вооруженное столкновение).
Наконец, 5 мая перегонявшая верблюдов для пехоты сотня, с которой был и Кутайсов, в 12 верстах от Форта была атакована массой кавалерии (до 5000 человек). Решившись мгновенным натиском проложить себе путь сквозь неприятельские толпы, Кутайсов бросился со своими всадниками вперед, завязалась рубка: заметив, что шашки не прорубают ваточных халатов, сотня выхватила кинжалы, чем и кончила бой. Это было четвертое и последнее столкновение войск с восставшими. Сотня потеряла в этом деле 9 человек убитыми и 14 ранеными, определить потери мятежников, разумеется, было нельзя, но судя по тому, что сотня прорубилась сквозь пятитысячный отряд, они должны были быть значительны.
Видя, что толпы казахов от Форта не уходят, а наоборот, увеличиваются, что весь край в полном восстании, главнокомандующий армией приказал, независимо от прибытия сборной сотни терского казачьего войска, перебросить в Форт две стрелковые роты Апшеронского полка, две сотни Дагестанского конно-иррегулярного полка и взвод конно-артиллерийской батареи Терского казачьего войска. Так в течение мая—июня мангышлакский отряд был доведен до восьми рот пехоты и пяти сотен кавалерии при четырех орудиях, не считая гарнизона и пушек Форта. После этого не было пролито ни капли крови. Само накопление армейских сил привело казахов к покорности.
24 июня на Мангышлак прибыл генерал-адъютант М. Т. Лорис-Меликов, который принял посланников нескольких адаевских родов и определил условия, на которых русские могли бы защитить от ярости соплеменников тех, кто сложит оружие. По предложению Лорис-Меликова для огласки объявления отправлен был в степь Мамбет-Сафар, пользующийся у кочевников большим почетом и уважением. Подобные же объявления были розданы и всем прибывающим к Форту казахам. Результат этих мер не замедлил сказаться: уже к середине июля более 1500 кибиток изъявили полную покорность и стали прикочевывать к Форту 165.
Как и на Кавказе, Лорис-Меликов оставил на Мангышлаке наместника, наиба из кавказских горцев — Хаджи Гуссейна, почетного гражданина Ункратля — и двух наиболее надежных и благожелательных юношей-казахов в виде конной стражи. Вот как было «усмирено» восстание 1870 года! Разумеется, власти требовали выдачи зачинщиков и убийц полковника Рукина, но те, как всегда, попросту бежали в Хиву 166. Лишь в 1873 году, когда Хива была, наконец, взята русскими войсками, сдались и Кафар, пытавшийся, правда безуспешно, взбунтовать Степь в 1873‐м, и один из вдохновителей бунта 1870 года Калбин.
Таков был финал долгой исторической драмы. Тысячи лет кочевье существовало параллельно с оседлыми цивилизациями. Ни Персидская империя, ни Рим, ни Хорезм не смогли ничего существенно изменить в извечном балансе сил между миром оседлой цивилизации и миром цивилизации кочевой. Больше того, шквал, поднятый походами Чингиз-хана, показал, насколько условно величие оседлых цивилизаций по сравнению с миром кочевья. Но именно с победой Чингиз-хана стал набирать силу обратный процесс: одержав победу, монголы и увлекаемые ими тюрки в свою очередь осели на завоеванных землях. Это произошло везде: в Китае, в Хорезме, в Персии, в Поволжье. Именно со времени побед Чингиз-хана пространство Великой Степи многократно сузилось и сила ее ослабла. Вот как легко история впадает в парадокс. К 1870 году Великая Степь (как особый род сознания) уцелела только в таком глухом, со всех сторон изолированном уголке пространства, как Мангышлак. Разумеется, казахи адаевского рода, поднимая восстание, не могли видеть неизбежного заката кочевой цивилизации как таковой. А с другой стороны, сама Цивилизация, подчиняя кочевников своей власти — тогда, глядя в зеркало, видела себя только в свете распространяемого ею прогресса. Хотя от Первой мировой войны, после которой стало правомерно говорить и о «Закате Европы», и о «Гибели богов», и о крушении Гуманизма, ее отделяли всего 44 года.
Наше путешествие во времени подходит к концу. Кому-то оно, возможно, покажется несколько затянувшимся, непропорционально-долгим по сравнению с тем быстрым и простым освоением пространства, которое дарует автомобиль. Но войти в пространство можно и через время. Разве время непричастно к этому повествованию? Напротив: пространство раскрылось в зримых, самой историей отобранных образах, в каких-то принципиальных взаимосвязях. Не будь этого, все наше дальнейшее путешествие по Мангышлаку напоминало бы нарезку непонятных клипов, лишенных и контекста, и смысла. Зато теперь ничто нам не мешает двинуться, наконец, вперед.
X. ПОЭТ И ЕГО САД
Солнце в зените царапает хрусталики глаз тонкими иглами своих лучей. Все племена здесь переплавлены в солнечном тигле. Саки были огнепоклонниками и в жертву огню приносили резвых кобылиц златогривых. Рахмет — рахмат — рагмат 167: подобие словесных форм похоже на подобье круглого, как солнце, хлеба. Ташакур, узорочье пены, покой рассудка, скрипучий осадок соли, сыпь известки… Улица пустынна. Слева — несколько русских изб, как-то неожиданно выстроившихся здесь рядком и давно уже, вместе с деревьями, вместе с тенью ветвей, вросших в эту засвеченную поверхность берега у залива, где до зимы ржавеют ледоколы. Хотя в этот полуденный час невозможно поверить, что море покрывается здесь льдом, а не известковой скорлупой. «Баутино тенiз сауда порты». Контора морского порта. Дом в два этажа, каменный, белёный, рядом другой — одноэтажный, тоже белёный, в пять окон с только что крашенным, будто новым, синим крыльцом, и рядом еще один — деревянный, словно окунутый в ту же свежую фабричную синеву вместе с решетками на окнах первого этажа (райотдел милиции) и голубым национальным флагом над крышей (райсовет). И, как в сказке — новые тесовые ворота. Как-то я умудрился в прошлый раз этих домов не заметить?
— Чьи ж это избы-то? — спрашиваю я Куралай.
— А это все хозяина здешних мест, рыбопромышленника Захара Кузьмича Дубского. Еще лодка была. Он ее в честь дочери назвал: «Ниночка».
Справа, во дворе музея — пушка с серой полубашней и стволом, задранным вверх, как у зенитки. Снята с военного судна. Может, с одного из кораблей волжской речной военной флотилии, в 1920 году прибывшей устраивать здесь свою песчаную революцию. Там командиром, что ли, был матрос — Егор Баутин. С тех пор слобода так и называется: Баутино. А что тут происходило — сказать невозможно. Документов нет. Память выцвела, выгорела. Лиловые брызги синих когда-то чернил, роспись, виньетка. Странные худые лица, бескозырки, кожанки. Один при маузере. Какой-то местный, в халате, смотрит мимо объектива. А уж ни слов не различить, ни почерка. Думаю, матросики все же поинтересовались теми, кто весной 20‐го продолжал тут жить в неподвижном покое времени до. Т. е. до революции 1917‐го. Как будто ее и не было. Ну, они часики почистили, стрелки подвели. Разобрались, наверно, и с «хозяином», и с Ниночкой. Кого-то же кокнуть надо было? Чтобы красный флаг вывесить, как положено. Красный флаг без крови что? Тряпка. Казахи купца Дубского уважали до такой степени, что один трех своих детей так и назвал: одного — Захар, другого — Кузьмич, третьего — Дубский. Но если в парке подойти к мемориальной стене, то видно, что фамилия не прервалась. Три брата Дубских погибли на войне. Всего фамилий 346. Абдуллаев, Агафонов, Азмаганбетов, Айдаров, двое Барановых (братья), Бекбаулиев, Бекжанов, Белов, Белунин, Бердиев, Бердысугиров, Деникаев, Дашманов и вот — Дубские, три брата. Хотя война до этих мест не дошла. В войну здесь для Сталинграда из старых шахт уголь отгружали: он по качеству был так себе, почти бурый. Самовозгорался легко. У одного капитана целая баржа этого угля так и сгорела: ну, того по-военному времени и вывели в расход, как вредителя. Бывают такие времена, когда на любой должности, вот хоть почтмейстера — ничего не стоит угодить под расстрел. Только без должности, без номера человек имеет шанс: и когда казахов начали раскулачивать в 1931 году — скот отбирать, колхозы устраивать — они снялись в одну ночь и ушли в Туркмению. Гуляй, уполномоченный! Ищи их в Каракумах. В тех местах выжить может только рожденный в пустыне человек, рожденная в пустыне овца и рожденный в пустыне верблюд. Ни воды, ни еды. Но ничего, прожили. Сейчас вот только, через восемьдесят лет, потомки их — здесь их зовут «оралманы» — обратно возвращаются.
А из всей экспозиции музея я с прошлого раза почему-то запомнил только раскрытую юрту да ржавую кольчугу, принадлежавшую какому-то казахскому батыру, который, вроде бы, крепко стоял за союз казахов с русскими. Очень важную роль сыграл в этом деле. Тогда в первый раз захотелось побольше узнать о нем — да мы все время торопились. А в этот раз заходим в музей — юрта стоит, а кольчуги нету. Я говорю: а кольчуга-то где? — Да, — отвечают, — она сейчас в запаснике. — А кому она принадлежала? Как звали этого человека? — Батыр Сиунгора. Потом выяснилось, что он умер в 1832 году и похоронен на богатырском кладбище Сисем-ата. Есть на Мангышлаке такой специальный некрополь для батыров и биев, уважаемых в народе людей. Но образовалась неопределенность: в 1832 году русских на Мангышлаке еще не было. И какова же тогда роль этого Сиунгоры? С кем устанавливал он тут добрые отношения? Все упорно повторяют: с русскими. История любит свои мифы. Так что еще одну историю все-таки придется рассказать. Ибо она посвящена поэту. Поэт в изгнании — это настолько сильная позиция, что нельзя ее просто «не заметить», обойти — тем более, что она касается такого большого и такого сложного дарования, как крупнейший украинский поэт Тарас Шевченко, сосланный в службу рядовым в заштатную крепость на Мангышлак в 1850 году. Помню, что после первого же посещения музея Шевченко у меня возник вопрос: была ли ссылка сюда бедой для него или она была спасением?
Вот его жизнь.
Дед, по словам самого Шевченко, в XVIII столетии был на Украйне гайдамаком 168, а внук родился в 1814‐м крепостным помещика П. Энгельгарта. Отсюда — непоправимый разлом его души: будучи рабом, он внутренне ощущал себя вольным, став вольным — не переставал ощущать себя униженным и оскорбленным. Все сошлось в одной точке: и ранняя смерть матери, и побои мачехи, потом смерть отца, жуткое блуждание по людям — тоже в основном за битье да за копейку денег. Желание учиться, как и желание рисовать, пришло к нему рано, но что значит для крепостного — учиться? Что значит — рисовать? Однако ж ему свезло: управляющий имением Энгельгарта, приметив разумного хлопца, отправил его из деревни в Вильно, барину в слуги-казачки. Тут-то Энгельгарт и застал его однажды за срисовыванием картинки с лубка: осерчав, выдворил из дому на конюшню, но как-то, наведавшись туда снова, заметил за рисованием и решил, что конюха из него не выйдет, а вот маляр — может. И отдал его в науку к маляру, а затем, по совету последнего, в учение к какому-то виленскому портретисту. Дальше — Петербург, восемнадцатилетний Шевченко, белой ночью срисовывающий статуи в Летнем саду… Тут и увидал его студент Академии художеств Сошенко. Он же привел Шевченко к Карлу Брюллову — тогда еще не академику, но уже автору полотна «Последний день Помпеи», подаренного известным меценатом Анатолием Демидовым государю в коллекцию живописи Зимнего дворца; а также свел с А. Г. Венециановым — тоже уже знаменитым живописцем и портретистом. Те сразу начали хлопотать об освобождении юного Шевченки от рабства, хотя известно было, что Энгельгарт скуп до невозможности. Решились сделать аукцион: К. Брюллов написал портрет В. А. Жуковского 169, с аукциона картина была продана за деньги почти баснословные — 2500 рублей — от которых и Энгельгарт не имел силы отказаться. То была цена свободы Тараса Шевченко, получившего «вольную» в мае 1838 года. Широчайшие перспективы открылись перед молодым художником. Он был не только введен в круг известнейших живописцев своей поры и проходил курс в Академии художеств; свели его и с поэтами, и с историками, и все принимали в нем живейшее участие.
Судьба и, что немаловажно, общество были благосклонны к талантливому самородку. Академия за успехи Шевченко в живописи наградила его медалью и званием «свободного художника», а первая книжечка стихов и поэма «Гайдамаки», напечатанные на родном украинском языке, вызвали восторг у любителей украинского слова. Ведь до этого стихи на украинском не печатались нигде и никогда! Видно, поэтому и потянуло Тараса на родину. В Киеве он сошелся с историком Николаем Костомаровым и писателем Пантелеймоном Кулишом, с их помощью получил назначение в археографическую комиссию с целью разыскания и срисовывания древних украинских памятников. Интерес к истории Украины был в Киеве тогда всеобщим, и Кирилло-Мефодиевское общество, куда вслед за Костомаровым и Кулишом вошел и Шевченко, ставило своею задачей этот интерес насыщать. Общество было, таким образом, просветительским. Но государь Николай I, на престол взошедший в день попытки государственного переворота, не делал разницы — просветительское общество или политическое, открытое или тайное. В 1847 году Н. Костомаров, П. Кулиш и еще несколько человек были арестованы. Правда, все отделались — учитывая вообще климат в империи — довольно легко 170. Кроме Шевченки. Тому, видно, заниматься только древностями показалось скучно, и он на досуге написал поэму под названием «Сон», а в ней живым пером, которое бежало прежде мысли, набросал образ страдающей крепостнической России и Украйны, а заодно и царя, и царицу отделал в жанре бойкого памфлета, что и обнаружилось при обыске в его бумагах. Ну что тут скажешь? Тридцать три года. Не мальчик уже: выкуплен на волю из крепостных. Если бы Шевченко не хотел, чтоб «Сон» его обнаружился — он бы его не написал. Вернее, не записал бы. А раз записал — значит, хотел, чтобы вирши его стали всеобщим достоянием, чтоб каждого, как и его самого, они «карали», мучили, не давали покою, чтоб слово «правды» дошло до всех. Даже до царя. Дед-гайдамак нашептал:
Так от де рай! Уже нащо
Золотом облитi
Блюдолизы; аж ось i сам,
Высокий, сердитый,
Выступае; обок його
Цариця-небога
Мов опьонок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешне
Хита головою… 171
Говорят, Николай I, прочитав строки о себе, посмеялся непривычно звучащим на украинском языке стихам и, помолчав, вдруг, свирепея, добавил: «Ну а ее-то он за что так?!»
Судьба Шевченки была решена: из «свободного художника» вмиг оказался он рядовым, высланным в Оренбургский край с запрещением писать и рисовать. Я не говорю: «судьба его решилась». Страдательный залог здесь неуместен: судьбу свою решил он сам, сам выбрал, как служить отечеству — на ниве ли искусств, просвещения, или, например, со всей дури — р-раз! — и резануть! Это же чистая гайдаматчина! Дедов запал. Но внуку ведь в степь не убежать, в гайдамаки не податься? Ему — отвечать. Его доля теперь — до конца дней своих исчезнуть с горизонта, стать изгоем империи. Разве что ругаться на существующие порядки мог теперь он сколько угодно. Попав в Оренбург, Перовского (с которым так и не довелось ему познакомиться 172) Шевченко называл не иначе как «сатрап». А сатрап-Перовский в это время, выслушивая доклад дежурного офицера, что рядовой Шевченко, несмотря на запрещение, продолжает писать и рисовать, грозно взглянув на доносителя, с выражением говорил: «Генерал, я на это ухо глух: потрудитесь повторить мне с другой стороны то, что вы сказали!» 173 Пока генерал обходил губернатора, смысл сказанного доходил до него и в другое ухо он начинал доклад по иной какой-нибудь теме.
Миновав Оренбург, Шевченко угодил служить «на линию», в Орск. А Орск — это дыра отчаянная. Безысходная. Но Шевченко вновь свезло: уже в 1848 году через Орск стартовала экспедиция по изучению Аральского моря. Благодаря благосклонному отношению генерала Обручева и в особенности капитана Бутакова, Шевченко было поручено для экспедиционных отчетов срисовывать виды аральского побережья и местные народные типы. За год работы экспедиции он сделал множество превосходных рисунков, писал стихи — теперь уж ни в чем себя внутренне не ограничивая. Только стихи получались все больше не обличительные, а грустные, исполненные такою тоской по родине, что тоска эта становится близкой и щемящей, пробирает до глубины сердца… По окончании экспедиции кто-то все же стукнул про стихи и рисование, Обручев и Бутаков по возвращении в Петербург получили выговоры, а Шевченко отправился в самое дальнее укрепление империи — на Мангышлак. В Форт.
Шевченко в роли отверженного был неотразим, и куда б он ни приехал, все сочувствовали ему. Первый комендант Форта Антон Петрович Маевский был человеком добрым и открыто содействовал Шевченко. Через год, в 1851‐м, он помог ему устроиться в Каратаусскую экспедицию рисовальщиком же… Обстоятельства, впрочем, большого значения не имеют. В какой-то момент Шевченко, конечно, осознал, что он — единственный живописец и рисовальщик на тысячу верст вокруг. И тут глаза его раскрылись, рука окрепла. Возникла задача. Сложился свой, неподражаемый стиль карандашной — единственно доступной ему — техники, с помощью которой он и создавал свои двухцветные живописные полотна. Он добился удивительного умения создавать живописный или акварельный эффект карандашом. В своих аральских, и вообще экспедиционных, рисунках он — акварелист, в сюжетных «картинах» — живописец. Это ставит его в уникальную позицию среди других художников эпохи.
В стихах он не мог преодолеть себя, и когда говорят, что Шевченко — прежде всего украинский поэт, невозможно не согласиться: поэт — украинский. В ссылке неизбывна его тоска по родной земле. Как рвется он сердцем в «темный садочок, на Украину»! Но сколько б он ни тосковал, срок ему не скостят. И тогда его душа вновь начинает говорить на языке карандашной «живописи» — языке универсальном, всемирном. Благодаря его экспедиционным «акварелям» мы обретаем первые образцы «азиатской» художественной эстетики, которая очень скоро по-иному явит себя в картинах Василия Верещагина, а затем — уже как настоящий эстетический манифест — в полотнах Павла Кузнецова.
Но Шевченко — первопроходец. В рисунках он впервые проявляет себя как действительно выдающийся художник, он внимателен и чувствителен к окружающему. Для этого он должен был полюбить место своего изгнания — и он его полюбил. Любил, ненавидя. Проклиная, любил. На языке его рисунков здесь, на краю мира, изъясняет себя Мировая Душа, Сострадание, понимание Красоты.
Второй комендант Форта — Ираклий Усков, его жена Агата и их сын искренне полюбили Шевченко и оставили жить при комендантском доме внизу, в слободе, за стенами укрепления. Сохранилась крошечная землянка, вырытая комендантом для отдыха в тени, которую Усков уступил ссыльному Шевченко: оконце, столик, топчан. Все, что нужно настоящему художнику для творения. Впервые после своего ареста он осознает, что именно здесь никто не помешает ему задумать и исполнить любое художественное произведение. Любое, которое он захочет. И поэт отблагодарил коменданта Ускова: день за днем, а точнее сказать, год за годом рядовой Шевченко подбирает росточки, лозиночки, сажает, поливает. Создает сад. Этот сад и поныне — единственный на Мангышлаке. Под его деревьями прячется прохладная тень, и запах разогретой зелени, травы, столь отличный от запаха горячего камня, манит отдохнуть, прилечь и покатиться в траве-мураве…
Здесь — в саду? в землянке? — Шевченко задумал замечательные художественные циклы. Один называется «Сюита одиночества»: его товарищами по несчастью становятся: «Телемах на острове Калипсо», «Мелон Кратонский», «Умирающий гладиатор», «Св. Себастьян», «Робинзон Крузо», «Диоген», «Нарцисс». Заглядевшийся на свое отражение Нарцисс — это совсем другая грань одиночества, нежели у умирающего гладиатора. А он-то, он, Шевченко — который из них? Когда-то он загляделся на себя, заслушался себя, подумал: крикнет — и мир содрогнется от этого крика. А мир живет себе… И таких, как он, Тарас, вон, полный гарнизон…
Удивительно, что творчество Шевченко понятнее всего здесь, на Мангышлаке, куда со всех музеев бывшего Союза собраны копии его работ. Сразу становится ясно, как развивался его талант, как увлекали его то здешние пейзажи, то картины кочевого быта, то старинная легенда о несчастной любви. В музее, который разместился в глубине сада в бывшем доме коменданта, есть еще одна пронзительная серия Шевченко-художника: «Притча о блудном сыне». Всего девять работ. Каждая картина — раздумье о собственной судьбе. Вот первая: «Средь разбойников». Лежит молодой человек на камне, рядом с ним — топор, которым его, видно, и зарубят, вдалеке костер, вокруг которого собрались и пируют пьяные разбойники, сняли с него крест и показывают товарищам, издевательски подмаргивая несчастному: «И куда тебя, дурака, понесло?» Другая картина: «Пытка в колодках» — двое солдат сидят, привязанные к столбу посреди казармы, в зубы им втиснута толстая палка. За что отдали их в рекруты? На двадцать-то пять лет! Значит, то ли сироты, то ли пропащие — некому было заступиться. И вся жизнь на казарму ушла. На колодки, на палки в зубах… Для того ли, мама, ты меня родила?! Еще одна дума: «На кладбище». Человек изготовляет могильные плиты. И вновь — ожигает пронзительное одиночество его и отверженность… Близки ему только мертвые. Лишь среди них он свой, на кладбище — его дом, его жизнь. «В хлеву» — несчастливый финал притчи о блудном сыне : человек с бутылью, спит пьяный на подстилке для скота. Разбросаны карты, на одной ноге башмак, другая разута. А сквозь пролом в стене видны люди, какой-то другой, недостижимый, прекрасный мир… «Проигрался в карты». Здесь — офицер, красавец… Пьян, деньги ушли, служит черт знает где… Ни семьи, ни жены. Годы. А ни ордена, ни чина… И зачем тогда? «Казарма», «В шинке». Тема плена… Ну и, наконец, знаменитая картина «Сквозь строй», или «Наказание шпицрутенами». Нарисована зимой: у солдат под фуражками шерстяные или хлопковые шлемы, как у детей. А солдатик, подлежащий наказанию, раздет до пояса, и сейчас ему спину вспорют и распашут до костей, так что и неясно: будет ли жив? На этой картине на вершине плоской горы виден Форт. Так что она написана здесь.
Когда Шевченко в 1857 году объявили «помилование» — он бросился к морю, к лодке, как будто боялся, что уплывут без него. Добирался до Астрахани вместе с освобожденными ссыльными поляками. На Украину так и не вернулся. Все его бывшие подельники жили в Петербурге. Николай Костомаров сделался-таки знаменитым историком. Шевченко тоже решил жить в столице, но получалось плохо: здесь он больше никому не был нужен. Его давно забыли. В результате — в четыре года он спился и помер. Нужным, единственным, незаменимым, просто первым, наконец — он оказался только на Мангышлаке; только здесь сумел он создать самое свое необычное произведение — посадить сад. Живой сад на краю пустыни. Здесь он нашел и свою аудиторию: казахи чтут Шевченко за то, что он первым посмотрел на их землю взглядом художника. Первым увидел в ней прекрасное.
Случай Шевченко небанален: лишившись всего, он обрел единственный, быть может, шанс сделать что-то, чего никто другой не сделает. Как только судьба стала к нему чуть милостивее — он погиб. До сих пор его имя, его жизнь, его невероятные превращения будоражат умы и чувства… Быть может, последний ход в этой игре был сделан черными — но пока черт обдумывал свой последний хитроумный ход на погибель его освобожденной души, Шевченко уже свершил все, что задумал Бог. Такая вот история…
Дольше всего рассматривал я небольшую картинку Шевченко «Долина замков». Поймал себя на мысли, что это — что-то невероятное… Будто готический собор, контрфорсы которого ваяли совместно Гауди и Дали. Причем каждый — по-своему. Гауди делал, скажем, правый контрфорс, а Дали — левый. Если вообразить себе что-нибудь в этом роде, то отчасти можно представить себе и место, которое зарисовал Шевченко. И я почему-то подумал, что завтра надо по-любому оказаться там. В этой сумасшедшей готике…
В саду, посаженном когда-то Шевченко, я наткнулся на черную стелу, на которой были выбиты фамилии и инициалы старших чинов отряда, участвовавшего в хивинском походе 1873 года, во главе с командиром, полковником Ломакиным. На лицевой стороне — 12 фамилий. По бокам памятника — еще двадцать одна. «Со значком начальник отряда Кабак-Бермамбетов». Врач отряда Одаховский. Если на пути в колодце вода попадалась с глауберовой солью, то у всех начинался понос. Это не так-то легко представить: пустыня, жара, у четырех тысяч человек — понос, и ты один — врач. Тут, по меньшей мере, необходимо непоколебимое хладнокровие. «Прусского генерального штаба лейтенант фон Штум»… Этот фон Штум в «Северо-Германской общей газете» потом опубликовал несколько восхищенных писем о русской пехоте, которую он наблюдал при переходе через пески. В 1873‐м отряд полковника Ломакина, выступивший с Мангышлака, как раз и достиг Хивы 174. Хива сдалась без боя. Но о последнем Хивинском походе рассказывать можно долго. И эту тему мы обойдем…
XI. В ГОСТЯХ У ТУРКМЕНОВ
Когда мы вышли из ворот музея, оказалось, что мы вышли, прежде всего, из тени. На улице, где не росло ни единого деревца, шпарило раскаленное железное солнце. Было время обеда.
Куралай, которая довольно уверенно вела нашу экспедицию вперед, спросила: что мы делаем дальше? Едем на Жыгылган, к провалу или зайдем к ее маме и пообедаем?
Она, как оказалось, родом из Баутино.
Я прикинул, что если мы пойдем к маме Куралай, то наверняка задержимся там, пока не выяснится, что лучше нам там же и заночевать.
— Нет, — сказал я. — Мы сейчас поедем совсем в другое место. Это где-то здесь, и времени много не займет.
Когда мы с Глазовым впервые попали в Форт, я узнал в музее, что в Баутино живет последняя семья мангышлакских туркменов. Я не знаю, почему мне так захотелось увидеть этих людей, поговорить с ними… Потому ли, что они были последними? Или потому, что они были туркмены? Туркмены в свое время очень помогли русским в Азии, хотя им и досталось за это. Они казались мне «аристократами степи», о чем говорила архитектура их некрополей, их работа с самоцветами и с серебром, их сказки 175… И все-таки для меня они остались загадкой. Поэтому я решил, что сейчас мы направимся к ним. — А, Баубековы! У них и пообедаем! — по своему истолковала мои слова Куралай.
Мы проехали немного в глубь поселка, в сторону от главной улицы. Дом оказался новый, справный, с широкими воротами и большим пустым двором, где лежала разомлевшая от жары туркменская овчарка-алабай. Никаких белобородых аксакалов, которых я вообразил было себе, никаких следов древности. Хозяйка, пожилая женщина за 70, приветливо встретив нас у входа, с явным любопытством проводила в гостиную. На ней был синий бархатный халат и покрывающий голову зеленый платок с цветами. По-русски говорила она бегло и чисто. Как и большинство домов на востоке, дом ее, лишенный громоздкой мебели, казался совершенно пустым: дверной проем обрамляли красные, в цвет ковров на полу, портьеры. На голых бежевых стенах даже батареи отопления казались деталями интерьера. Мы уселись на ковры вокруг низенького столика и принялись знакомиться. Помимо хозяйки, Куралай, Рената, Ольги и меня в комнату, не прерывая нашего разговора, мягко зашел и сел чуть в сторонке на ковер молодой мужчина — младший сын хозяйки. Ольга достала видеокамеру, но у меня все силы ушли на поддержание разговора: как нарочно, у хозяйки оказалось непростое или, во всяком случае, непривычное на мой слух имя.
— Рахимбиби?
— Рахимбиби, — спокойно повторила хозяйка, заметив, что мне трудно дается правильное произношение. — «Кызы» — это «дочь» по-туркменски. Нургельды-кызы — это, по-русски, отчество, Нургельдиевна.
— Нургерды…?
— Нур-гель-ды, — написал? Теперь пиши: Кы-зы.
Я, наконец, справился с этим заданием. Теперь надо было объяснить, с какой целью мы здесь. Фраза о писательстве, о книге, о путешествии вокруг Каспия почему-то не произвела на Рахимбиби особого впечатления. Хозяйка, которая держалась уверенно и, можно сказать, властно, не была удовлетворена:
— А как же вы пишете? — пристрастно спросила она. — По книгам, или как?
— По книгам, разумеется, тоже, — сказал я, стараясь держаться как можно достойнее. — Но для меня важны собственные впечатления.
— А-а! Вот, значит, как. До вас писали-писали, а теперь вы, — определила мою функцию Рахимбиби. — Не история вас интересует, а самый последок.
— Ну нет, я бы не сказал, — поправился я. На Востоке, если тебе безразлично прошлое, то рассчитывать на серьезное к себе отношение как к писателю трудно. — Просто одних книг недостаточно. Живые люди — вот что меня интересует. Скажем, основателем вашего рода был кто?
— Основоположником нашего рода был пра-прадед, святой человек, Молла-Нефес.
— Он какого племени?
— Абдал.
— О! — воскликнул я, вовремя припомнив одну поговорку. — В свое время старики говорили: «Когда есть абдал, разве другие могут быть ханом?» Он был мулла, Молла-Нефес?
— Он ахунд был, ахунд 176. Вот его эсаяк…
На стенке, вместе со старинным Кораном, висящим на гвоздике в прозрачной пластиковой сумке, была еще подвешена коробка с набором детских револьверов, сделанных «под старину», очевидно китайского производства, и черный, длинный, тонкий посох — эсаяк. Он-то и оказался подлинным. Почти два века этому посоху!
— Это для любого дела орудие в степи. И копье, и воду добывать.
— Он что, пешком ходил в Хиву?
— А как туда доберешься? Ходил пешком…
— А Ходжа Нефес… Случаем, не из ваших был?
— Наш, конечно…
— Он ведь предложил царю Петру завоевать Хиву…
— Вот его фотография, — торжественно произнесла Рахимбиби, извлекая откуда-то журнальную репродукцию картины свидания Ходжи Нефеса с царем Петром… — Конечно, наш предок, Ходжа Нефес…
— Он потом в отряде Бековича был…
— Да, — оживилась Рахимбиби, наконец удовлетворенная возможностью поговорить со сведущим человеком. — Он был переводчиком в отряде князя Бековича-Черкасского.
Она явно предпочитала называть исторических персонажей полными титулами.
— Предупреждали же его, — имея в виду Бековича, произнесла Куралай, — что Хивинский хан так просто его не отпустит…
— Это Аюка-хан, калмыки подговорили, — убежденно сказала Рахимбиби, словно помнила это со времен своей молодости.
Я понял, что в степи жива еще своя, некнижная память.
— Если пойдете на мыс, — там еще один наш предок похоронен. Святой Ходжа Мешан. Это пра-пра-прадед был. Убил его Сиунгора-батыр (я чуть не подскочил на месте), убил и обокрал…
Куралай заговорила по-казахски. Некоторое время Рахимбиби обменивалась с нею какими-то фразами, причем я в какой-то момент отчетливо понял, о чем идет речь: Куралай говорила, что Сиунгора не убивал Ходжу Мешана, может быть, только ограбил. А Рахимбиби не соглашалась: убил, говорит. Убил и обокрал.
Так вот, значит, какие подвиги совершал тут Сиунгора, чья убранная в запасники музея кольчуга когда-то призвана была подтвердить давнюю дружбу казахского народа с русским…
— Междоусобица была между туркменами и казахами, — увидев, что я слежу за разговором, пояснила Куралай.
— Ну это-то я понял, — усмехнулся я и вновь обратился к Рахимбиби. — А Ходжа Нефес, Ходжа Мешан — они, часом, не родственники?
— Ну да, — с достоинством произнесла Рахимбиби. — Они — рода ходжа. У нас в семье абдалы с ходжой породнились.
— Редкое сочетание, — оборонил я.
Рахимбиби оценила это замечание. И через полчаса я знал все об ее отце, дедах и всей ее нынешней семье: у нее четверо сыновей и шестеро внуков, младший сын Нурмурад живет с нею, привез жену из Ашхабада, у них двое детей. Работает Нурмурад в компании «Дженерал электрик» по газокомпрессорным установкам. Старший сын Ходжамурад живет в Актау, у него тоже двое детей и своя турфирма…
Было ясно, что Рахимбиби расположилась к нам.
— Хотите посмотреть драгоценности? — вдруг спросила она. Все, разумеется, захотели. Почему-то среди кочевников Средней Азии туркмены отличались тем, что умели ткать очень хорошие ковры, строили купольные мавзолеи (сами продолжая жить в кибитках) и выделывали очень выразительные, массивные украшения из серебра. Понятия не имею, как в Степи можно было делать такое, но даже если это делали немногочисленные оседлые общины туркменских ремесленников где-нибудь в Горгане или в Хиве, у всех туркмен есть фамильное серебро. Определенно, туркмены знали в нем толк: чувствовали красоту серебра, умели ее использовать, создавая крупные, но четкие формы, украшенные ошлифованными круглыми бляхами светло-коричневой, похожей на панцирь черепахи, яшмы.
Куралай, поддавшись ворожбе металла, протянула руку и примерила браслет. Руки у нее были изящные, тонкие, браслет сел на руку только где-то около локтя, но все равно это было очень красиво.
— А это манлай называется, — сказала Рахимбиби, закрывая свой лоб сплошным каскадом вытянутых серебряных подвесок.
Куралай принадела манлай, вплела в волосы накосные украшения — сасвар, повесила на плечи куппа´ — два колокольчика с серебряными подвесками…
— Вот это серебро, — с гордостью произнесла Рахимбиби. — Чистое коренное серебро…
Как странно: туркмены и казахи — братья по крови, тюрки. И тем не менее, никакой степной архитектуры казахи (по крайней мере, казахи Мангышлака) не знали, только рисовали на стенах туркменских мавзолеев вооруженных луками всадников да коней с налитыми яйцами; а туркмены знали свойства камня, глазури, кирпича, умели свести свод… Казахи боялись моря — туркмены чувствовали себя в нем совершенно свободно. И серебро: одни, как говорится, «знают толк» в серебре, другие — абсолютные профаны. По Куралай и Рахимбиби это очень видно.
Сейчас во всем Казахстане очень большой интерес к своей национальной идентичности. Казахов интересует — кто они? Есть несколько больших родов, несхожих меж собою. Огромное количество народу делает ДНК-экспертизу, анализирует свои гены. Получаются очень интересные результаты: больше всего, разумеется, генов монгольских и тюркских. Перекочевавшие в Среднюю Азию монгольские батыры набирали целые гаремы из тюрчанок и так становились родоначальниками племен, многие из которых имеют монгольские названия. При этом уже дети завоевателей говорили на «материнском» (тюркском) языке. Недаром родной язык у казахов называется «ана тiлi» — материнский язык. Но любители покопаться в генном материале отыскивают связи и с Русью, и с Персией, чуть ли не с Тибетом. «У меня сейчас на руках подробный анализ аутосом трех казахов, — пишет один интернет-автор на эту тему. — Я вижу по своим данным, что хоть мы вобрали в себя монголов и иранцев, все казахи имеют единый корень. Если сравнивать казахов глобально, то генетически ближе всего к нам уйгуры, хазарейцы, кыргызы. Остальные тюрки, в том числе и ногайцы, чуть дальше. Ну, а тюркский корень наш в Южной Сибири — Алтае».
Поразительно, что в том же вопросе туркмен не станет интересоваться хромосомами: он тщательно выверит все по традиции. Традицией же следует считать генеалогию туркмен — предание изначально устное, но затем зафиксированное в нескольких сравнительно поздних источниках, как, например в «Родословной туркмен» хивинского хана Абу-л-Гази, написанной между 1650 и 1660 годами. Она абсолютно мифологична и в то же время — наиболее востребована. Это — гид в туркменском мире. Благодаря этому гиду, если ты туркмен, то назвав свое имя, род и племя, ты сообщаешь собеседнику полную, исчерпывающую информацию о себе. Весь туркменский мир сложен огромными, подобными органическим, молекулами племен и родов. Назвав племя — ты называешь молекулу. Назвав род — называешь отрезок, который занимает в ней род, назвав имя — свое место в этом отрезке. Только чужестранец может не понимать этого.
По традиции все туркмены происходят от легендарного Огуз-хана, который является прародителем той ветви тюрок, к которой принадлежат туркмены, азербайджанцы, турки и уйгуры 177. Огуз-хан — внук Татар-хана и Могол-хана (в его лице «тюркская» и «монгольская» составляющая крови изначально примирены) 178, а также, если верить Абу-л-Гази, очень дальний потомок Яфета, сына Ноя. В древней уйгурской рукописи «Огуз-Наме» Огуз-хану приписываются космогонические свойства: он — прародитель солнца, луны, звезд, неба, гор и моря. У Абу-л-Гази он просто невероятно религиозен. Но и авторы древнего эпоса, и Абу-л-Гази, как историк, соглашаются в том, что Огуз-хан был выдающимся полководцем. Перед ним склонялись все народы, которые когда-либо побеждало тюркское оружие. То ли одновременно с Чингиз-ханом, то ли лет за пятьсот-шестьсот до него он завоевывает Хорезм, Туран и Персию, захватывает Бухару, Самарканд и Ташкент. Походы эти описаны с некоторыми характерными подробностями, но бесполезно искать им прямые аналоги в истории: скорее, речь идет о мифе, в который была облечена коллективная память народа о событиях тысячелетней или даже полуторатысячелетней давности. И если Абу-л-Гази сообщает читателю подробности мифических битв, то только потому, что и сам верит в безусловную реальность мифа. На обочине этой реальности остаются народы, не имеющие кровного родства с Огуз-ханом, но так или иначе причастные к его демиургической деятельности. Так внутри дуплистого дерева во время грозы наложница одного из батыров хана родила мальчика, который стал родоначальником кыпчаков. (Кыпчак, чыпчак — по-тюркски «дуплистое гнилое дерево»). Сами туркмены зачинаются где-то в пространстве между реальной и мифической историей: Огуз-хан двигает свои войска в Сирию и Египет, завоевывает Афганистан и Кашмир. Когда Кашмир сдается, Огуз-хан, покорив все страны и народы, возвращается к себе на родину, в Моголистан, в свой юрт, чтобы устроить великий Той (пир), на котором и завершает творение мира, разделив его между тремя старшими и тремя младшими сыновьями и двадцатью четырьмя внуками. На этом пиру каждый род получал свое имя, место в боевом порядке, свою тамгу и узаконенный кусок конины на общем пиру. Например «Игдыр» — это внук Огуз-хана, и все его потомки, чье имя означает «прекрасный» и «великий». Тамга рода — омгон-сокол; доля мяса — ляжка. Чоудоры, Иомуды, Ерсары, Эссен-Или и Сакар и большинство еще неназванных туркменских племен так же естественно возводят свое происхождение к Огуз-хану и его потомкам. Но ни абдалов, ни ходжа нет между ними! Это пришлые, чужие племена, которые тем не менее получили в туркменском мире очень высокий статус. Одни — как обладающие правом на власть, «прирожденные цари», другие — как вожди духовные, обладающие чуть ли не врожденной святостью. Представьте только, в какое перекрестье «голубых кровей» нам случилось попасть!
Абдалы — одна из древнейших макромолекул туркменского мира — происходит от племени хе-бдал, которое упоминается в древних тибетских рукописях, а у европейских этнографов получило название «эфталиты». Изначально это ираноязычный народ индоевропейского типа, живший оседло в плодородной долине Эфталь в северо-восточном Афганистане. Им удалось собрать множество племен и образовать государство, главенствующее во внутренней Азии и некоторой части Индии. В Азии противостоял им Тюркский каганат. К VI веку все равнины Азии были уже завоеваны тюрками. В 567 году они добрались и до эфталитов, разгромили их государство и получили свободный проход к низовьям Аму-Дарьи. При этом одна часть эфталитских племен ушла в Афганистан и вошла в состав ираноязычных афганских племен, а другая, приняв тюркскую кровь — в туркменский народ. Племена с названием «абдал» есть и в Туркмении, и в Афганистане, и в Казахстане, и даже в Киргизии!
Ходжа — пришельцы в тюркский мир из Аравии: их считают сейидами, потомками Фатимы, которые на заре мусульманской истории отправились проповедовать новую веру. Они прошли Персию и Хорасан, потом Туран, обретая языки — персидский, чогатайский, туркменский… Они не потеряли веры, но неизбежно растворялись в крови, в мощной кровеносной системе среднеазиатского пространства. На Мангышлаке ходжа имели право не участвовать в военных походах туркмен и Хивы, только оплачивали эту привилегию повышенным налогом. Ходжа везде выполняли роль пассионариев, религиозных учителей.
Разумеется, узы крови очень ограничивают человека. Но зато до поры до времени они крепко держат его, не дают упасть. Нужно захотеть пройти долгий путь европейской цивилизации, чтобы избавиться от уз крови. Но в действительности для туркмена такое избавление непредставимо. Туркмен сознательно выбирает мир, ограниченный кровными узами. Этот мир не так уж мал, но туркмен знает о своих собратьях во всех странах. И ему хватает этого: это все свои, на них, по крайней мере, можно положиться. Чувство локтя в этом мире — не так-то просто сегодня найти его! А для туркмена это не проблема. Надо лишь отыскать сородича. Что еще? Степь, белый звездопад, скачка, «козлодранье» — древняя игра ловли и раздирания на куски живого козла — нынешняя замена азартному набегу на владения соседей… Добрый дом, красивый ковер, верная и нежная красавица-жена, здоровые дети, быстрый конь — хороший автомобиль. Твердое понятие — что нужно, а что необязательно человеку. Вот на чем стоит удивительное туркменское достоинство.
Через некоторое время на столе возник обед: пельменевый суп и уместный по погоде зеленый чай. Блюда приносила очень миловидная скромная молодая туркменка, Джаннат 179 — жена Нурмурада, за которой он специально ездил в Туркмению, в Ашхабад. Во все время обеда она не проронила ни слова, только улыбалась.
Рахимбиби тем временем не спеша рассказывала про деда:
— Мой дед, Бериджан, возле Махачкалы утонул на пароходе… Он хлопок торговал, в Туркмению ездил… У него таких вот ковров (показывает на свои) — восемьдесят было.
— А ковры — это важно? Это признак богатства? — спросил я.
— Богатства… — прочувствованно, с придыханием произнесла Рахимбиби. — Ковер — это ручная работа, кто ткет, как будто университет закончил, даже намного выше. Сколько ниток есть, сколько узоров, как их ткать… Ковер — не шутка дело! Ковер, собака алабай, лошадь аргамак — вот все туркменское богатство!
Она не сказала «нефть». Она не сказала «газ». Она сказала только о том, что было всегда. И трех богатств: ковра, коня и собаки — хватило, чтобы народу всегда было что продать, чтоб обменять на хлеб. То были честные мены.
— Говорят, туркменские овчарки со времен Римской империи известны? — неудачно попыталась поддержать разговор о собаках Куралай.
Рахимбиби возмущенно фыркнула:
— Римской империи не было здесь! Алабай — это умная собака, не трогает человека, не кусает, если она почувствует в человеке что-то плохое — вот тогда она двигается. А если в человеке плохого ничего нет — она не трогает. Как мужчина, одним словом. Мужской характер у нее.
— Но ведь какая зверюга, — не выдержал я, — его не остановишь.
— Почему? Зло не употребляй. Если поласкаешь — он понимает. Но если ты ее чуть заденешь — она уж свое возьмет…
— Это точно…
Расстались мы с неподдельным чувством удовлетворения: само общение было удачным, не пустым, и люди хорошие… Больше всего они были рады, что туркменская история на Мангышлаке не забыта. И на знание этой истории отвечали благодарностью…
XII. В СТЕПИ
За всеми этими разговорами вымотались мы порядочно, и когда из Форта нас снова вынесло наконец в степь, меня и Ольгу просто вырубило. Где-то на час. А когда через час я пришел в себя, было ясно уже, что мы заблудились. Все степные дороги когда-нибудь да раздваиваются. Указателей в степи, естественно, нет. Выбрав на развилке направление наугад, минут через пятнадцать доезжаешь до следующей, и так — до бесконечности, покуда не начинает казаться, что по этим дорогам в принципе никуда доехать нельзя, что они — просто ловушка удвоения… Потом — линии степного рельефа… До того как я задремал, они сопровождали нас, тянулись параллельно нашему движению. А после того как очнулся, они только мешали двигаться, накатывали одна за другой, как волны — поперек. Вокруг было по-прежнему пусто. Дорога, задравшаяся несколько вверх, давно превратилась в глубоченные колеи, и Ренат с трудом продирался по ним на своем Сruiser, e, пока не стал цеплять защитой горб между колеями.
— Стоп, — сказал он. — Это дорога, пробитая КамАЗами. Мы не проедем…
Все вчетвером мы высыпали из кабины. Куда ехать, никто не знал. Куралай ни разу не возила экскурсии в провал, а у Рената не было навигатора, чтобы определить, где мы находимся. Карта была только у меня, но слишком крупного масштаба, чтобы всерьез помочь нам. Тем не менее я извлек ее из рюкзака.
— Когда мы были в Сауре, ветер был с моря. И в Баутино с моря, я заметил. Значит — с запада. Солнце было на юге, когда я снимал… Сейчас оно сдвинулось на юго-запад, но в целом… Мы едем не на север, а на восток… — резюмировал я.
На Куралай жалко было смотреть. Ей давно казалось, что мы потерялись, и она предложила ехать на юг, до пересечения с главной дорогой: там она все знала…
Возможно, разговоры вокруг провала Жыгылган произвели на меня слишком сильное впечатление 180, и мне казалось, что он не может быть далеко.
— Доедем до следующего горизонта, — сказал я, разглядывая окрестности через объектив фотоаппарата, как в бинокль. — И если не увидим моря — все, возвращаемся на юг.
Внезапно в объективе промелькнуло что-то. Так, так, так… Какие-то строения… Непослушным, дрожащим, выпученным глазом объектива я попытался остановить картинку: крошечные белые домики. Два. Рядом — никого, будто никто не живет.
Мы все-таки решили подъехать к домикам, в надежде, что найдется хоть один человек, у которого можно будет спросить… Но никого не оказалось. И внутри было пусто: ни кровати, ни стула, ничего. Голый земляной пол. Невесомые, потерявшие плотность дерева, вымороженные, иссушенные солнцем двери из поседевших досок были приперты камушками, чтобы не болтались на ветру.
Похоже, провала нам не видать.
От стойбища действительно открылся новый горизонт, и стала видна долина за гребнем, на котором стояли домишки. Но моря на всем обозримом пространстве так и не было.
Я забрался на крышу домика и огляделся еще раз. Это ничего не прибавило. Разве что, ища опору для ноги, я наткнулся на самодельное сито для просеивания песка, которое заставило бы почтительно замолчать любой музей современного искусства. То был сложенный в виде противня кусок ржавого железа, размером, наверно, полметра на метр, к которому каким-то невероятным образом были приделаны четыре деревянные ручки: чтобы четыре руки могли держать эту штуковину и трясти. А чтобы просеивался только мелкий песок, в железном дне противня гвоздем были пробиты дырки. Восемьсот пятьдесят с чем-то дыр. По пятнадцать в каждом ряду. Все вместе: и это сито, и сырцовые, местами уже оплывающие кирпичи, из которых эти домишки были выстроены, и невесомые, иссушенные ветрами двери — было свидетельством жизни, в которой люди лишены всего, к чему мы, даже довольствуясь самым малым, уже привыкли, как к текущей в кранах воде. Никакой воды тут не было. И сито — это был не арт-объект, не агрессивный экспрессионизм, а нормальный рабочий инструмент, оставленный тут, видимо, до лета. Мы явно заехали в покинутое летнее стойбище.
Снова степь. Развилка. Теперь мы знали, где север, но ни одна из дорог не была строго ориентирована по сторонам света. Поэтому мы двигались галсами. Минут через сорок мы въехали в какой-то сюр: сначала увидели стоящий на брюхе старый автобус без колес. Фары были разбиты, окна выбиты, из них пучками торчало сено. К автобусу, как к коновязи, были привязаны две гнедые лошади. Вытягивают сено из окна, жуют.
Потом вдруг — клац! — и леденящий душу вой хищного зверя, раздосадованного своим промахом, пронесся мимо. Вот это псина! Желтые глаза, полные ненависти. Эта тварь чуть не отщелкнула мне руку. Да их тут две прыгают вокруг! Ощущение такое, что если открыть окно, одна из них запрыгнет внутрь машины и порвет нас всех.
— Хозяин! Хозяин!! — пытаясь перекричать лай этих монстров, приоткрыв свое окошко, заорал Ренат.
Из домика — там был, значит, домик, как раз нормальный, из кирпича, крытый шифером — выскочили два парня лет по семнадцать и побежали на нас, спотыкаясь, будто слепые. Оба были укурены вусмерть. Держались они на ногах еле-еле и ничего объяснить не могли. Только вот собаки при них притихли.
— Где хозяин-то? — повторил свой вопрос Ренат.
— В бане, — глухо сказал один из парней и, покосившись в нашу сторону, вдруг бросился обратно к дому. Другой побежал за ним, опасно кренясь, как будто бежал он в каком-то замедленном кино и против ветра. Не знаю, за кого они нас приняли.
— Каракалпаки, — убежденно сказала Куралай.
В это время откуда-то (как оказалось, из землянки, сверху заваленной ветками) появился человек. «Русский человек после парной» — это можно было не объяснять, капельки пота и выражение счастья были у него на лице…
Мы сказали ему «с легким паром», спросили насчет провала.
Он, толком и не взглянув на нас, без интереса показал куда-то на север и пошел в дом, к своим обкурившимся каракалпакам. Что-то внутри хотело остановить его, сказать: куда ты, брат? Там никого нет, кроме мальчишек-каракалпаков. Постой с нами еще минутку, поговори. А с другой стороны — минуткой больше он с нами постоит, минуткой меньше — не все ли равно? Мы — это просто миг. А обкуренные каракалпаки — это надолго. Это его жизнь, его ближние, его собратья по человеческой доле. С ними ему есть, спать, гуртовать баранов, стричь их и резать, принимать в подарок водку от хозяина этих стад и, выпив огненной воды, радоваться минутной легкости бытия…
Не успел он закрыть за собой дверь домика, как псы, лежащие у порога, с утробным воем бросились на нас, как вурдалаки. Не дожидаясь, пока они вцепятся зубами в шины, Ренат нажал на газ…
Мы решили ехать на юг, к трассе. Что-то произошло. Провал Жыгылган явно не хотел, чтобы мы его обнаружили. Да и я-то, не знаю — хотел бы? Он был такой огромный, что весь остаток нынешнего дня, да и весь день завтрашний, мы бы убили в его каменных лабиринтах в поисках озера, следа саблезубого тигра или трехпалой лошади. Что-то противилось тому, чтобы мы тратили время на такие «достопримечательности». Что-то явно толкало нас на другой, не столь нахоженный путь.
Вскоре мы вновь увидели вдали очертания каких-то сооружений.
— Ага! — вскричала Куралай. — Это Уштам! Ну, теперь хоть ясно, где мы!
Некрополь Уштам оказался весьма необычным местом. За невысокой оградой от скота стояли три купольных мавзолея XIV века. Когда видишь такое в степи первый раз, это невольно производит впечатление: туркменские мавзолеи, до сих пор сохраняющие классическую правильность форм, сложены из массивных желтоватых блоков известняка. Их размеры — высота метров шесть — по сравнению с размерами жилья кочевников очень внушительны. Мы, не сговариваясь, вылезли из машины, с удовольствием разминая ноги. Было чувство, что мы снова попали на свой путь, в свой коридор в пространстве. Оно возникало из ощущения, что нам не нужно больше торопиться.
Куралай объяснила, что один мавзолей — это родовой склеп, другой — медресе, а третий — мечеть с узким ходом внутри стены, по которому мулла поднимался на крышу и сзывал своих учеников и прихожан. Я подумал, что когда-то поблизости должны были разбивать свои шатры кочевники, чтобы голос муллы был услышан и на урок пришло нужное количество мальчишек. Туркмены не знали особенно дальних перекочевок. В некотором смысле они вели уже не кочевой, а полукочевой образ жизни, и некрополи, подобные Уштаму, выполняли роль центров, вокруг которых собиралась кочевая цивилизация. Возможно, именно из таких сгущений и вызревали в других местах зародыши городов…
Повсюду было много разбросанных камней и забытых надгробий, заросших серо-голубым лишайником. Меж ними, спрятавшись от ветра, пристроились невысокие, по колено, кустики караганника — листья только-только еще показались, а вот цветы — желтые, похожие на цветки акации, с брусничной краснотой у основания воронковидного соцветия — уже горели вовсю.
Когда казахи пришли на Мангышлак, они по-своему «пометили» место, выцарапывая на стенах туркменских мавзолеев свои знаки и рисунки. Я дошел до фамильного склепа. Набор изображений был, в общем, типичный: кони, всадники с луками 181, символы мужского и женского, солярный знак в виде креста, наконечник стрелы (родовой знак казахов‐адаев), многократно обведенная ладонь левой руки (оберегающий знак) и, если приглядеться, несколько едва прочерченных изображений правой. Девять лет назад, в некрополе Ханга-Баба 182, я видел на стене мавзолея подробно выцарапанное изображение большого морского корабля в разрезе. Разумеется, изобразить такое никакой казах не мог: то был наш соотечественник, матросик с инженерным, старательным мышлением, которому засвербело увидеть свой корабль как на чертеже. И он постарался. Интересная вещь получилась: большой пароход со всеми трюмами, отсеками, машинным отделением, каютами и надстройками. Но что еще интереснее, что, практически, невероятно — так это то, что я тогда этот корабль не сфотографировал. Сфотографировал выцарапанный на стене куст конопли с человеческими глазами, очертания небольшого судна под парусом, все изображения, которые явно были сделаны казахами. А пароход в разрезе, похожий на чертеж для сборки модели, показался мне тогда неинтересным. Вот ведь странно устроен человек.
Когда я вернулся к соседнему мавзолею — «медресе» — и заглянул внутрь, там явно совершался какой-то обряд, которым руководила Куралай. В центре помещения, свод которого давно обрушился, было несколько могильных плит, меж них был вбит высокий прямой шест — символ тюркского «мирового древа». Внизу было что-то вроде алтаря: во всяком случае, и земля пола, и уголки могильных плит были залиты жиром самодельных свечей, в котором застыли обгорелые фитили. Смысл обряда был в том, чтобы три раза по часовой стрелке обойти вокруг могил, сохраняя внутреннее молчание. После этого нужно было взяться за шест, поднять глаза к небу и загадать желание. Куралай верила, что желания, загаданные на Уштаме, сбываются. Ренат, Куралай и Ольга уже завершили свой путь. Вот Ольга подошла к шесту. Обхватила его руками. Взглянула вверх…
Какое желание она загадала? Я бы дорого дал, чтоб узнать. Мне кажется, мы здесь уже тысячу лет, но мы не то что поговорить, мы едва-едва успели пару раз словом перемолвиться за этот день…
А какое желание загадал бы я сам? Как всегда, единственное, чего я по-настоящему хочу в таких случаях — чтобы место «открылось». Но теперь я не один. И больше всего мечтаю о том, чтоб это место открылось для нас обоих, чтобы Ольга запомнила его на всю жизнь — как мое признание в любви…
Когда все вышли из мавзолея, Куралай улыбнулась:
— Вот такой у нас, казахов, ислам…
— Любите вы чудеса, — улыбнулся я.
— А как же? Когда я однажды из кузова машины выпала, я сразу почувствовала, что не разобьюсь, потому что упала в облако… Мягкое такое… И оно меня осторожно, аккуратно на землю и положило: ни одного синяка, ни одной царапины. Это — чудо или нет?
— Чудо, конечно.
— Значит, чудеса случаются?
— Конечно, случаются.
— Значит, у нас правильный ислам.
— Конечно, правильный… Я уже несколько исламов видел, и каждый — правильный. Только вот в городе… Две девчонки, с ног до головы — в черном. Раньше такого не было…
— А-а, это секта… — сказала Куралай. — Вах… Вахха… Законники, короче. Мы, казахи, природные суфии…
Четко она определила. Казахи очень пластичны, динамичны и в жизни, и в мышлении. Такой логический сушняк, как ваххабизм, должен им быть непереносимо скучен. Есть размерности ислама гораздо более просторные и… волшебные!
XIII. МАРШ ВСЕХ СВЯТЫХ
Постепенно мы забирались все дальше и дальше на северо-восток и незаметно въехали в страну каньонов. Здесь покрывающий полуостров известковый панцирь начинает расползаться кривыми разломами, пробитыми, возможно, чередующимися подъемами и отступлениями моря, или иначе как-то связанными с кропотливым колдовством воды. Первым на нашем пути, и вообще первым, который Ольга видела в своей жизни, был каньон Султан-Эпе. Мы прошлись по краю. Ощущение было немного голливудское, преувеличенное и фантастическое. Внизу не было ни человека, ни автомобиля, который помог бы определить масштаб этих исполинских трещин; только тело боялось края, инстинктивно зная, что внизу — смерть. Глядя на противоположную стену каньона, хорошо различаешь серый «плащ» сцементировавшихся сверху пород, закрывающий более мягкие толщи под ним, напластованные, будто страницы книги или книг… Меня не оставляло ощущение, что я оказался в какой-то исполинской библиотеке: вот здесь страницы уложены ровно, срез четкий, белый. А здесь время сделало свое дело, страницы потемнели, приобрели цвет топленого молока, сильно потрепались и начали крошиться, образуя внизу завал камней, сверху кажущийся искрошившейся, иссохшей бумагой. Среди меловых гор есть колоссальные собрания томов, занимающие километры и многие залы книгохранилищ. А есть почти совсем съеденные эрозией останки сочинений, которые, вероятно, и прочесть-то уже невозможно: отдельные строчки, буквы, рассыпанные на полу Библиотеки Вечности. В свое время Хайдеггер взял на себя смелость по одному (и не полностью сохранившемуся) изречению Анаксимандра, древнейшего из греческих философов, реконструировать основные понятия и антитезы западной философской мысли, если уподобить размышление над этим отрывком «стихослаганию истины бытия в исторически-былом собеседовании мыслящих». Это исторически-былое собеседование мыслящих здесь, на Мангышлаке, оставило несколько прекрасных текстов, в разные годы XIX столетия написанных геологами-первопроходцами. Страницы их путевых дневников напоминают диковинные палитры или восторженные картины, в которые вкраплены обломки буквиц меловой и триасовой эры, или, точнее, обломки раковин, кокколитов или корненожек, встречающихся в толщах, называемых белой свитой, под которой покоятся пласты еще более древние и дремучие — серые глинистые пески, пески мелкозернистые желтовато-зеленоватые, глины малиново‐красные и зеленые, зеленовато-серые и фиолетовые, сарматские известняки, то плотные, то оолитовые, то сплошь состоящие из ядер Macra podolica Eichw. и Cardium protractum Eichw., или синесерые мергели, тонкослоистые, иногда совсем листоватые…
Но хватит о библиотеке камня. В конце концов в каньон нас привело имя Султана-Эпе: это не топоним. Султан-Эпе, давший имя местности — это суфий, который пришел из города Багиргана, с Аральского моря, и жил здесь лет триста назад. Увы! Эти сведения ни для кого, кроме жителей Мангышлака, ничего не значат. А следовательно, нам опять потребуется короткое историческое отступление. Просто невероятно, какие толщи минувшего могут нарасти в столь отдаленном и в общем-то, пустынном краю, как Мангышлак. Иногда в это совершенно невозможно поверить, но даже этот «край земли» был ареной исторических потрясений и духовных революций!
На Мангышлаке приоритеты мусульманской веры выстраиваются довольно своеобразно. «Главным» в исламе считается пророк Мухаммад (что неудивительно). Но сразу вслед за ним следует ученик его ученика Ходжа Ахмед Яссауи, роскошный мавзолей которого был выстроен Тимуром Тамерланом в городе Туркестане. А поскольку от Туркестана до Мангышлака около полутора тысяч километров, здесь поклоняются не самому Ходже Ахмеду Яссауи, а его посланцам и ученикам, среди которых первое место занимает Бекет Ата 183. А Султан-Эпе, Шопан-Ата, Караман-Ата, Шекпак-Ата и другие считаются главными подвижниками мусульманской веры. Места, с ними связанные, до сих пор являются объектами поклонения. Если имя Бекет-Ата или Ходжа Ахмеда Яссауи ни о чем вам не говорит, это значит только, что вы не с Мангышлака и вообще не из Средней Азии. Помню, как после первой поездки я тщетно разыскивал в библиотеке хоть какие-нибудь сведения о Ходже Ахмеде Яссауи, получившем благословение от одного из учеников Пророка. И нигде не находил ни строчки. Ни в большом словаре Larousse, ни в «Британнике», ни в энциклопедии «Ислам на территории бывшего СССР», ни в работах Мирчи Элиаде по истории религий. Нигде Ходжа Ахмед даже не упоминался! А ведь на Мангышлаке он почитается не меньше, чем преемники Пророка: первый имам Али в шиитских странах или праведный халиф Абу Бекр — у суннитов.
В чем тут дело? Чтобы рассказать об этом, потребуется предание, потому что Клио здесь не помощница — фактически не известно ничего, из повествования вываливаются целые века. А согласно преданию дело было так: незадолго до своей кончины, но еще в полной мере ощущая сладость земного бытия, Пророк со своими сподвижниками ел хурму. Спелые плоды лежали в серебряном блюде, но один все норовил скатиться и выпрыгнуть из блюда, сколько его не водворяли на место. Внезапно Мухаммад услышал откровение: «Эта хурма предназначена для мусульманина Ахмеда, который родится через 400 лет». Пророк спросил у окружавших его, кто возьмется передать хурму тому, кому она предназначена. Никто не вызвался. Пророк повторил свой вопрос. И тогда один из его сподвижников, Арыстан-Баб, сказал: «Если вы у Аллаха выпросите 400 лет жизни, то я передам хурму». Пророк ответил: «Ты проживешь сказанное мною число лет».
— Как же я узнаю того Ахмеда, которому ее следует поднести? — спросил Арыстан Баб.
— Когда народ в Туркестане станет собираться в мечеть, то он войдет в нее первым, а выйдет последним, — сказал пророк.
Когда Арыстан-Баб, прожив еще триста семьдесят три года, отыскал наконец в великом Хорезме, в городе Туркестане, того, кому предназначалась хурма, от нее осталась только косточка. Ходжа Ахмед Яссауи, приняв от Арыстан-Баба благословение пророка, съел косточку и с того самого дня ничего не ел. Хотя после смерти Арыстан-Баба он прожил еще долго и кончил свои дни только в 1166 году: сперва он отправился в Бухару, где обучался у суфийского мастера Абу Юсуфа Хамадани 184, а потом основал собственное суфийское братство, «Яссавийя», духовным хлебом которого стали «Хикметы» — собственные стихи Ходжи Ахмеда, положенные в основу зикра — текста совместной молитвы братьев во время суфийских радений. Одни говорят, что у Ходжи Ахмеда было 14 тысяч мюридов, другие — что только три тысячи триста шестьдесят. Как бы то ни было, однажды наставник на глазах у них изо всех сил швырнул свой эсаяк далеко-далеко в степь и велел своим ученикам отправляться на поиски посоха и не возвращаться без него. С тех пор минули века. Пришли монголы, и великий Хорезм пал, став уделом Джучи. Потом наследников Джучи подмял под себя Тимур, потом и он умер. В это время — в XV, XVI, XVII веках — на Мангышлаке стали появляться странные люди, аскеты, проповедники. Это были пра-пра-пра-правнуки тех, кого Ходжа Ахмет Яссауи отправил в Степь с благовестом истинной веры. Эти-то проповедники и нашли эсаяк Ходжи Ахмеда Яссауи возле старой хивинской дороги, где за прошедшие годы он пустил корни и превратился в могучее дерево…
Так гласит предание.
Еще предание гласит, что Мангышлак — это край, где жило 363 праведника. И хотя находки ученых говорят, если я не ошибаюсь, только о 36, предание пропускает это мимо ушей. Никакие доводы недействительны против этого: неважно, что «нашли» ученые и что «доказали». 363 — и точка. Этим край как бы духовно приподнимает себя.
Видит сам себя духовно значимым.
Султан-Эпе был как раз одним из этих праведников: он поселился в пещере на спуске в каньон. О чудесах, которые он совершил, до сих пор ходят легенды, но больше всего он прославился как покровитель пиратов и рыбаков, всех путешествующих и страждущих, как наш Николай-угодник 185. Поэтому поток паломников к его могиле не иссякает.
Девять лет назад место здесь было еще нетронутое. Ближе к краю каньона был колодец — дыра, в глубине которой блестела вода. Помню, нам с Глазовым захотелось заночевать здесь. Дождаться, когда Айнди уедет, стихнет шум мотора его автомобиля, в тишине достать воды ведром, лежащим возле домика для паломников, отпить свежий глоток, заварить чай, сесть на пороге и, смакуя чай, смотреть на гаснущее над каньоном синее небо… Могила Султан-Эпе представляла собой две невысокие каменные ограды, сделанные одна в другой: внутренняя была завалена камнями, которые удерживали вертикально пять поседевших деревянных шестов, которые я принял тогда за аллегорию мачт корабля. Разросшийся куст терновника мешал навязывать на шесты обетные лоскутки материи, но несмотря на колючки, все «мачты» на высоту человеческого роста были сплошь в этих лоскутах, как забинтованные. Чтобы повязать свой лоскут, надо было «поклониться»: встав на четвереньки, вползти на коленях в низкое отверстие, оставленное для этой цели во внешней ограде…
Но тогда мы уехали, так и не насладившись тишиной ночной степи. А теперь я не мог решить, имеет ли смысл проделывать очередную работу над ошибками. В смысле, оставаться здесь на ночлег. Я заглянул в домик паломников: керосиновая лампа с жестяным отражателем, пара синих шерстяных одеял… Прикинул, сколько блох может быть в этих одеялах. Блохи живут на песчанках — маленьких пустынных грызунах — которые нечувствительны к Pasteurella pestis и являются своего рода хранителями чумы.
В это время раздался голос Куралай. Она звала нас с Ольгой.
Мы стали спускаться к каньону, и тут только я заметил, что ниже края плато, где раньше за густыми деревьями можно было разглядеть какие-то развалины, теперь очищена и выровнена площадка, на которой стоит невысокое здание из розового ракушечника, без окон и без дверей, но с плоскими башенками, похожими на смотровые башни танка с узкими амбразурами.
Это был восстановленный «монастырь» для братьев‐суфиев, который вырубил в склоне каньона ногайский мальчик Хейрулла: Султан-Эпе привиделся тому во сне и повелел сделать это.
— Как же я сделаю это, Султан-Эпе, ведь камни такие тяжелые? — вопросил Хейрулла во сне своего учителя, к тому времени давно погибшего 186.
— Если тебе станет тяжело, скажи только: Султан-Эпе, помоги! — и все получится…
Мы прошли до входа в подземелье.
— Сейчас мы спустимся вниз, — сказала Куралай. — Это необычный монастырь. Там в конце есть хана´ка, келья для отшельника. Внутри ее совершенно темно. Внизу увидите. Ну что — готовы?
— Готовы, — сказали мы.
— С чистыми помыслами, с чистыми пожеланиями… — проговорила за всех нас Куралай. — Сначала заходят мужчины, потом женщины.
Я разулся. Босые ноги почувствовали чуть отсыревший, покрытый мелкими крошками камня ковер. При свете вспышки фотоаппарата удалось разглядеть, что ковер этот зеленый. Также внутри было несколько круглых белых колонн, которые поддерживали «потолок», единую громадную желтоватую каменную плиту. Видимо, мальчик Хейрулла нашел в каньоне место, где совсем мягкие породы образуют довольно значительную прослойку между более твердыми слоями известняка или глинистого сланца. И выбрал всю эту мякоть. Уже потом для крепости потолок в двух местах поддержали колоннами…
Мы прошли в камеру, над которой был купол, откуда сочилось немного света. Сели кружком на пол. Некоторое время все молчали. Потом Куралай сказала, что можно пройти в ханаку — темную камеру дервиша — и почувствовать, какие ощущения придут там. Я нащупал низкий проход и полез в кромешную тьму, благо руки чувствовали все превосходно: сухой прохладный камень стен, потом расширение… Впрочем, небольшое… Вот уже и противоположная стена чувствуется… Теперь попробовать встать… Это удается. Высота небольшая, над головой еще сантиметров двадцать. Почему-то полз я с закрытыми глазами, тут их открыл — а ничего не изменилось. Тьма кромешная. Ни крупицы света. Вдруг я ощутил себя в спасительной темноте. Почему спасительной? Она не была обычной, эта темнота, в ней, внутри каменного мешка, я чувствовал себя как в утробе матери. Как зародыш, еще не ведающий света, ощущал уютную тьму материнского лона, свое одиночество (не душевное — скорее телесное — и свою слабую, тонкую оболочку плода). И покой. Из всех чувств остался только покой. Потом я услышал, что по тому же ходу, что и я, ощупью пробирается Ольга. Вот, заползла, нащупала меня, встала. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь нарушал мое одиночество в космосе материнской утробы. Мой покой, предшествующий рождению…
— Дыши тише, — попросил я.
Ольга совсем, казалось, перестала дышать, и я вновь ощутил, как тьма мягко объяла меня…
Это было непередаваемое ощущение…
Ольга потом говорила, что здесь, в темноте, ее сильно потянуло наверх — куда-то в запредельность…
Всего под землей мы пробыли шестнадцать с половиной минут. Если бы меня спросили, сколько времени прошло, я бы сказал, что минут сорок. Бывают моменты колоссальной плотности или искривления времени, когда оно течет не по прямой, а образует своего рода петли: оказавшись в такой петле, ты проживаешь бо´льшую длительность, чем фиксируют часы. Как будто плывешь в лодке по бесчисленным изгибам реки, любуясь ее берегами, очень незначительно при этом продвигаясь по прямой. Весь этот день был спутан такими вот петлями времени: когда мы выезжали из Баутино, было часа четыре. А потом все время было пять. На покинутом стойбище было пять, у каракалпаков тоже было пять, и на Уштаме. И когда мы подъехали к могиле Султан-Эпе, тоже было пять, не больше. Только солнце немножко остыло. Уже не так сильно палило.
А когда мы вылезли наверх из «монастыря», вдруг сразу стало семь. Вокруг была живописная каменная гряда, заросшая редким кустарником — и повсюду этот вечерний уже, розоватый, свет. У нас было еще часа два. Темнело в девять.
— Ну что, — неуверенно выдавил из себя я, решившись-таки исправить старую ошибку. — Может, нам заночевать здесь? Место красивое. Вода…
— Ну нет, — решила вопрос Куралай: всякую неуверенность она отсекала сразу. — Тут недалеко уже Шекпак-Ата. Там нормальный дом для паломников, нас встретят, накормят, положат спать…
У нас не было намерения превращать свой день в паломничество по святым местам. Но в степи, за исключением редких и, как выяснилось, негостеприимных стойбищ пастухов, ночевать было негде. Ближайшим подходящим для ночлега местом был дом для паломников. Шекпак-Ата — так звали очередного святого, во владениях которого мы теперь очутились. Говорят, что заметив недругов, Шекпак-Ата так начинал клацать своими когтищами, что искры летели снопами и суеверный ужас охватывал врагов. «Шекпак» — по-казахски — кремень. «Ата» — дедушка.
Мы сели в машину и поехали. Довольно скоро увидели колоссальные ворота каньона Кампасай и вдалеке — море. Машина медленно спустилась на укрытую вечерней тенью приморскую равнину. Дорога была довольно скверная, куда ехать, ни Ренат, ни Куралай толком не знали. Внезапно мы заметили впереди человека на лошади и десятка полтора верблюдов.
Мужик оказался русский, с длинными волосами, клочками торчащими из-под вязаной шапки, с красно-коричневым обветренным лицом.
Мы спросили его, как проехать на Шекпак-Ата.
Он стал объяснять, как мы быстро поняли, дорогу на Султан-Эпе.
— Нам к Шекпак-Ата нужно, — сказала Куралай.
— Шекпак-Ата? Эх-ха! Этот, наверное, туда, — указал он могучей рукой на холм позади нас.
— Второго уже русского в степи встречаем, — заметил я, когда мы отъехали.
— А многие сейчас уходят в степь, — сказала Куралай. — В городе работу потеряет, бомжевать не хочет, дома сидеть не хочет, пить не хочет, вот и идет в пастухи. Чем не жизнь?
По дороге нас вновь пристрастно облаяли какие-то псы. Остро пахну´ло овечьим загоном. А потом как-то вдруг мы приехали. Время немножко крутанулось назад, потому что там, куда мы приехали, по-вечернему, но еще довольно ярко светило солнце.
XIV. ГОСТИНИЦА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ В ПРЕКРАСНОМ
Мы оказались около трех небольших домиков, возле которых стояли на улице люди. Когда приезжаешь на новое место, всегда возникает впечатление, что ты опоздал на незнакомый спектакль, действие уже в разгаре и надо по-быстрому разобраться, что к чему и включаться в это действие уже на правах нового участника, потому что по правилам театра жизни в спектакле участвуют все. Два одноэтажных домика справа от дороги были за оградой из гнутых железных труб; третий, от дороги слева, стоял особняком. Мне казалось, что когда я вылез из машины и поздоровался, вокруг было много людей, которые все пожимали мою ладонь и говорили: «Салам!», «Салам!». Но кучность, видимо, создавали дети. Из взрослых был почтенного вида старик в очках, в крахмальной белой рубахе, в жилетке и в тюбетейке. Рядом в халате, который когда-то был синим, стоял круглолицый, загорелый мужик лет сорока. Проехать вперед нам мешала «девятка» со снятым колесом, с которой возился еще один, лет пятидесяти, мужчина в красном рабочем комбинезоне и такой же красной бейсболке. Сочувствовал и давал ему советы какой-то местный персонаж, приехавший на старом мотоцикле, марку которого я не берусь определить. Помню только, седло у него было утеплено овчиной, так что сначала показалось, что поперек мотоцикла брошена овца. Он был загорелый и очень дремучий: когда Ольга направила на него камеру, он сразу закрыл лицо рукою, а потом, не дожидаясь, чем кончится дело, натянул на лицо зимний шерстяной шлем с прорезями для рта и для глаз, вскочил на мотоцикл и был таков! По его реакции ясно было, что забрались мы уже действительно далеко…
Куралай пошла выяснить насчет ночлега. Я огляделся внимательнее: справа, метрах в пятидесяти от ближайшего домика, под открытым небом, как это принято у казахов, дымили две обмазанные глиной печки, на которых жарилось что-то. Рядом были большие, крашенные краской-серебрянкой цистерны. Там возились какие-то парни, наполняя цистерны водой.
Мы с Ренатом открыли багажник джипа и стали выбирать из него вещи, которые нам здесь пригодятся, и наоборот, укладывать на дно машины все, что нам ни к чему: я достал спальники, зубную щетку, пасту и мыло, но почему-то в тот момент меня больше всего волновал вопрос — куда нести привезенные продукты. Мне, видимо, не терпелось стать полезным, войти хоть в какую-нибудь роль. Правда, еще утром, осмотрев покупки, которые мы сделали на рынке в Актау, Куралай отнеслась критично к нашему выбору: гречка и тушенка ее не вдохновили. Только потом до меня дошло, что крупы — как класс продуктов — на Мангышлаке почти неизвестны. Ни пшеница, ни гречка, ни овес, ни ячмень здесь не растут. Все, необходимое для выпечки хлеба, на протяжении многих веков доставлялось сюда в виде муки. Хлеб и макароны — вот что здесь реально котируется. Но мы купили на рынке не только гречку и тушенку. У нас были яблоки, помидоры, огурцы, сыр. Неплохо было бы угостить ими детей.
Я, как дурак, стоял с полным пакетом огурчиков‐помидорчиков, не зная, у кого спросить, куда их отнести. В это время из дома, стоящего особняком, вышел паломник в заношенном халате. У него было такое круглое, приветливое лицо, что я показал ему пакет и спросил: куда, мол?
— Да отнеси пока в дом, — мотнул он головой и, не задерживаясь больше, пошел на двор, где стояло несколько разноцветных бочек из-под краски.
Я вошел в дом. Никого не было. Дом был явно мужской, и я так понял, что это — как раз для паломников мужского пола. Мне, значит, придется спать здесь. Не сказать, что это меня обрадовало, я терпеть не могу дух общежития — но делать было нечего, я положил пакет с овощами и яблоками на стол в коридоре и вышел, чтобы понять, что делать дальше. И тут натолкнулся на Ольгу, которая была примерно в том же состоянии, что и я.
— Знаешь, — сказал я ей. — Похоже, спать нам придется отдельно. Там, — я кивнул в сторону дома, — ночуют мужики. Здесь — наверно, женщины.
— Вот повезло-то, — сказала Ольга. — Ну ладно, одну ночь…
У нас была с собой палатка, но лучший способ завоевать доброе отношение незнакомых людей — разделить с ними все, что в данный момент соединило вас вместе: еду и кров, разговоры, откровенность… Я совсем не думал о третьем, самом большом доме, потому что заметил над ним купол. Это была мечеть. Неожиданно именно из этого дома, из мечети, появилась Куралай и воскликнула:
— Ну, что же вы встали? Я вас там дожидаюсь…
Дом с куполом оказался не только мечетью: под молитвы в нем была отведена только одна комната. А еще три, выходящие в один коридор, были предназначены для приезжающих.
— Вот, — распахнула дверь Куралай. — Эта пустая. Годится? Все здесь уляжемся…
Отлично! Я даже не ожидал, что все обернется отдельным номером для участников нашей экспедиции. Мы принесли вещи и спальники и расстелили их на видавших виды коврах. Никакой проблемы ночлег более не представлял.
Солнце алым шаром клонилось к горизонту. На гребне ближайшего чинка — совсем недалеко от нас — в последних закатных лучах был виден каменный куб: наземная часть мечети Шекпак-Ата. Не думал, что увижу ее снова. Если бы мы не заблудились в степи, мы бы тут не оказались. И я радовался, что Ольге тоже предстоит повидать один из самых удивительных храмов мира.
Потом настало время ужина.
Половину маленького домика, который я принял за «женский», составляла кухня, а другую половину — комната с низеньким столом, вокруг которого на традиционных стеганых одеялах, курпе´, сидели обитатели гостиницы. Была там семейная пара с маленьким мальчиком, которого мать укачивала, положив на вытянутые ноги, как в колыбель. Слева от меня сидела одинокая женщина из Узеня, была еще пара молодух, которые в тот момент сновали туда-сюда, накрывая на стол. На ужин был хлеб и огромные куски жареного сазана. На десерт — чай, баранки и конфеты. Почему-то ни огурцов, ни помидоров на столе не оказалось. Да и сам паломник в синем халате, для которого было оставлено место во главе стола, запаздывал. Потом он вошел, лихо сбросив галоши со своих мягких юфтевых сапог, так же молодечески уселся на свое место и, кажется, даже собирался что-то сказать… Но я был обеспокоен судьбой помидоров и огурцов. В конце концов, они были нашим вкладом в общую трапезу. Поэтому, не успел круглолицый раскрыть рот, как я, наклонившись к нему, аккуратно напомнил, что отдал ему огурцы-помидоры и почему бы нам их не выставить сейчас на стол?
Он немного замялся, потом сказал:
— Что, сейчас хочешь кушать?
— Дети пусть поедят…
— Что, на стол принести?
— Да принести, конечно, раз сели ужинать! — сказал я, удивленный какой-то вязкой медлительностью паломника.
Он резко встал и вышел.
Странный малый: сам же мне сказал отнести все в дом, а выходит, там и заныкал. Забыл, наверно.
Он вернулся очень быстро, как будто бежал.
Я принял огурцы и помидоры, прикинул, сколько нас за столом, и нарезал ровными дольками. Дети сразу потянулись к зелени, старик тоже взял, громко разгрыз хрустящий огурец большими желтыми зубами.
Я, наконец, почувствовал себя удовлетворенным.
В конце трапезы женщины убрали брошенные на скатерть рыбьи кости и корки хлеба.
Старик прочистил горло.
Было понятно, что приближается торжественный момент.
— Ай, Алла! — громко пропел старик и коротко проговорил несколько фраз по-казахски.
Незадачливый паломник в это время прикрыл глаза и, сложив ладони чашей, вдруг нараспев, с характерным гунением, которое ему удавалось и потому особенно нравилось, стал читать молитву по-арабски.
Он, значит, и был тут главным.
А я его сгонял за огурцами…
Неловкая ситуация.
— Ты представляешь себе, где мы? — спрашивает Ольга в темноте. Мы, наконец, остались вдвоем. Уже почти совсем темно, у нас с собой фонарик, но мы не включаем его: дорогу ноги сами как-то находят, зато видно, как одна за другой загораются в небе звезды…
— Теоретически, да. Могу показать на карте. Но я понимаю, о чем ты… Мы — в космосе.
Птички питюкали в низких кустах караганника. Бесшумно, резкими галсами чертили над головой фигуры летучие мыши. Где-то журчала вода.
— Знаешь, я даже в России ни разу в доме паломников не ночевала, не то что на Мангышлаке, при мечети, — сказала Ольга. — И вообще: эти каньоны, эти звезды… Ты понимаешь?
Я понимаю. Понимаю, что она принимает мой дар. Мы идем, взявшись за руки. Мы влюблены. Мне — 51 год. Моей любимой — 42. Я чувствую себя молодым. Немного даже робким. Чутким. Я знаю: молодым признания такого рода отвратительны. В 18 лет или даже в 25 невозможно еще представить себе, что в пятьдесят любовь может быть даже чище и глубже, чем на заре туманной юности…
По сторонам дороги раздается какое-то серебристое цвирканье… Ветер, что ли, свистит в проводах… Точно, ветер…
— Смотри, созвездия проступили. Вот он, ковш… Прямо над нами… Льет воду на нас…
Мы не курили весь день и стали отыскивать местечко, чтобы спокойно сесть и выкурить по сигарете. Слева от дороги оказались пески, из которых выступали вылизанные ветром белые, как огромные, прорастающие из темноты шампиньоны, вспученности мела. Курить пришлось сидя на корточках: мел гладкий, будто литой, но на него не сядешь…
Я гладил нагретый днем округлый камень, когда сверху мне на ладонь легла её рука.
Ужинали трижды: в первый раз ели жареного сазана, во второй раз — привезенную нами кефаль, в третий — еще через часок — бешбармак. Мы с Ольгой как раз вернулись с прогулки в столовую, приготовившись слушать бесконечные «паломнические» рассказы. Но разговор шел почему-то о бешбармаке: какие куски баранины лучше варить, какие специи добавлять, какой гарнир предпочтительнее. Оказалось, что Куралай захватила с собой жойму — тонкие листочки теста размером сантиметров шесть на восемь — и сейчас все дружно нахваливали гарнир, соглашаясь в том, что и рис — не то, и макароны — не то, и единственное, что может еще сравниться с жоймой — это самодельная лапша, вручную нарезанная ножом.
— Послушайте, — сказал я. — «Беш» — это ведь пять? А «бармак» тогда что? Пальцы? Я видел гору Бешбармах в Азербайджане, и там ее название означало «пять пальцев». Но только пальцы — при чем они здесь?
— В столовой бешбармак называют «баранина по-казахски», — слабо отозвалась одинокая женщина из Узеня.
— Да при чем тут «по-казахски»? — не согласился плотный мужик моего возраста, на лбу которого от обильной еды выступили капельки пота. — Бешбармак он называется потому, что берешь его всей пятерней, как лопатой — и в рот! — С этими словами он загреб рукой кусок мяса и горсть жоймы и, широко раскрыв рот, вложил всё это туда.
— Вот это да, — сказал я, чтоб поддержать мужика.
— Всегда мы это едим, — продолжил беседу о бешбармаке почтенный старик в очках и в жилетке.
— Что, и летом тоже? — спросил я. Летом жара в 50 °C — обычное явление на Мангышлаке.
— И летом…
— Но в жару невозможно заставить себя есть… — возразил было я.
— Возможно, — сказал мужик, прожевав свой бешбармак и отерев тыльной стороной ладони пот со лба. — Поэтому-то казахи такие здоровые… — Он поискал глазами салфетку, чтоб отереть жирные руки, нашел тряпку, обтер ею ладони и продолжал. — Раз ехали мы поездом с двумя из какого-то фонда. Думали — русские. Оказалось — американцы. Они нам так и сказали: вы по-русски с нами не разговаривайте. Мы по-русски сами не понимаем. Давайте по-казахски. Знаешь, что они сказали?
— ?
— Что самое отличное казахское кушанье — это и есть бешбармак…
Мужик засмеялся, полагая, что удачно поставил точку во всей этой истории с бешбармаком.
Точку он действительно нашел, но явно — болевую. «Не говорите по-русски»! Вот ведь дрянь. По-русски они отлично говорят, их этому обучают. Кашаганское месторождение — одно из последних крупнейших, мирового значения, открытий нефтяной эры — вот что их интересует. А бешбармак… Ну, на каком еще языке им объясняться с казахами? О чем говорить? Тем для разговора они еще не нажили, поэтому — о бешбармаке…
Не скоро еще принесет свои культурные плоды Кашаганское месторождение. Да и принесет ли? Казахи для американцев — просто аборигены постсоветского пространства. Зато нефть! Тут есть за что побороться. Кашаган — это один из самых колоссальных нефтяных резервуаров мира, откуда только на первом этапе предполагается черпать до 20 миллионов тонн нефти в год. В два раза больше, чем добывает сейчас Азербайджан. А будет — 70 миллионов тонн. Причем это единственное в Казахстане месторождение, которое удерживает за собой консорциум американских компаний. Все остальное уже прибрал себе Китай…
…Когда-то именно через Россию казахам открылся выход в иной, бо´льший мир. Вся мировая культура, собственно, стала им доступна благодаря русскому языку и общей системе образования. Я не говорю про технологии, про город Актау, атомную станцию на быстрых нейтронах… Мало ли чего мы тут придумали и построили! Да и Кашаган, если уж на то пошло, наши геологи разведали еще в советское время. Прошло всего-навсего двадцать лет, и американцы, приезжающие на новое месторождение, открыто говорят: бросьте этот русский язык, теперь это в прошлом… Теперь мы — ваш выход в большой мир. Мы — ваши технологии, деньги, процветание, ваша духовность…
Что можно этому противопоставить? Только заинтересованность этим пространством, его людьми… Только сознание того, что мы здесь не чужие. Сознание того, что у нас есть здесь миссия. Какая? Не знаю, как у других, но моя миссия — книга. Люди очень чутко ощущают, что я здесь не просто так, а по делу. Книга — не шутка дело — сказала бы Рахимбиби. Жизнь идет, книга строится, нащупываются связи, которых ты даже не предполагал, сюжеты прорастают в жизнь и так получают свое продолжение… Благодаря книге мы с Ольгой сегодня здесь и опять влюблены. Это и есть тайна творчества: ты пишешь книгу, книга пишет тебя, ты собираешь опыт, а опыт испытывает тебя, каждый раз заставляя тебя доказывать, что ты пришел не о бешбармаке говорить, а для того чтобы понять что-то, что не лежит на поверхности…
С тех пор как я взял билет, чтобы лететь в Азербайджан, случилось так много всего, что некоторые максимы, с которыми я отправлялся тогда в поход — «в поисках общих смыслов» — стали выглядеть наивными. Ведь общие смыслы — они везде, где есть люди. Все люди радуются, горюют, едят, спят, работают, влюбляются, любят своих малышей, оберегают стариков, скорбят по ушедшим… Даже в жажде наживы — эти общие смыслы. И если ты пьяница — то ты легко найдешь себе собутыльника, если чревоугодник — еще проще, но если ты ищешь смыслов высоких — тебе придется потрудиться… Но, постаравшись, ты, опять-таки, найдешь… Сегодняшний день в этом, кажется, исчерпал себя. Только откуда мы знаем, кто или что ждет нас завтра за очередным поворотом?
Мы с Ольгой так устали, что решили лечь спать, рассчитывая на то, что время позднее и паломники тоже скоро угомонятся. Забравшись в свои спальники, с наслаждением растянулись на полу после этого невероятно долгого дня. Ольга, кажется, сразу уснула. Я попытался повторить этот трюк, но скоро понял, что заснуть мне не удается. Сначала я думал, что виноват спальник. К его температурному режиму я никак не мог приспособиться. Не теплый, но душный… Но дело было даже не в спальнике — мою голову, лежащую на сложенных джинсах, разрывало от пережитых за день впечатлений. Ко всему этому в коридоре что-то то ли лопалось, то ли с треском билось о стены. Я надел джинсы, нащупал сигареты и вышел из комнаты. Тут же здоровенный жук-скарабей ударился мне в голову и со стуком, как яблоко, свалившись на пол, стал, царапаясь, зарываться под ковер. Кто-то зажег в коридоре свет и оставил открытой входную дверь — вот они и налетели… Я поймал одного, другого — оба тут же заскрипели лапками — и выбросил во тьму. Потом вывернул лампочку из патрона, чтобы никому не пришло в голову снова ее включить, зажег свет с внешней стороны над входом и закрыл дверь. А то если к Ольге такой жук приползет и начнет под нее зарываться, она языка лишится от испуга…
В кухне по-прежнему светилось окно. «Общие смыслы». Да вот они: еще три, четыре часа назад люди не знали друг друга, а теперь готовы сидеть за полночь и рассказывать друг другу чудесные истории своих и чужих паломничеств…
Я достал из пачки сигарету и ушел со двора в темноту. Во всю ширь, от края до края небосвода, протянулась граница диска — Млечного пути — нашего космического дома, нашей галактики… А мы находились на Земле — крошечной пылинке во всей этой звездной механике, да и на Земле-то — бог знает где…
Вернувшись к дому, я увидел одинокую женщину из Узеня. Она сидела на лавочке в темноте, почти незаметная, если бы не белый платок, повязанный на голову. Я знал, что возвращаться сейчас в комнату и пытаться заснуть, когда сон отлетел от меня — бессмысленно, но в то же время не был уверен, что, заговорив с нею, я не нарушу какой-нибудь неписаный устав, хотя до сих пор никаких проблем общения у нас не возникало. Мы просто старались быть вежливыми, радушными, отзывчивыми и этого было достаточно, чтобы люди отмыкались и шли на контакт. Эту женщину я совсем не знал. Всего несколько часов назад даже не подозревал о ее существовании. Но здесь все люди, в некотором смысле, встретились, чтобы стать попутчиками на коротком отрезке жизни: все они не случайно приехали сюда из разных мест. Возможно, всё здесь не случайно. Я решился:
— Можно?
— Садитесь, если хотите.
— Я спрошу, а вы мне скажете, если не захотите отвечать… Вы для чего сюда приехали?
Она потупила голову и начертила носком немодной туфли полукруг на песке.
— Он поможет. Душа у него хорошая, чистая. Молитвой поможет…
— Кто поможет? — спросил я, не ожидая, что разговор сразу низринется в пучину загадок и глубоко затаенной боли.
— Как кто? Самалхан, конечно. Хозяин.
— А за что он молиться будет?
— Болезнь прогонит, спасет хотя бы брата…
— Вашего брата? Извините, что я спрашиваю…
— Нет, мужа брат. С тех пор, как мужа убили, он с ума сходит. Темнота его накрывает. Вы ничего не почувствовали?
— Когда?
— Когда с ним разговаривали. Ну, про бешбармак.
— Так это он?
— Да.
Выходит, тот мужик в светлой рубахе с коротким рукавом, что отирал пот со лба. Нет, ничего я такого не заметил. Я бы сказал, нормальный мужик. Но вот муж… Темная, возможно, история… И как об этом спросить? С тех пор, как езжу, я еще в таких ситуациях не оказывался.
— А с мужем как это случилось?
Она вдруг резко повернулась:
— А вы там в Москве что — ничего не знаете? Про Жанаозень? Про забастовку? Про расстрел — ничего не знаете?!
Такая боль зазвенела в ее словах, что я как-то сразу вспомнил. Вспомнил, как мы с Ольгой зимой, что ли, смотрели по телеку передачу про Назарбаева — как поднялся при нем Казахстан, как мудро и продуманно он руководит страной. И как под руководством умного, опытного президента страна может окрепнуть и расцвести. А уже на следующий день — сообщение, что в Жанаозене правительственный ОМОН расстрелял бастующих нефтяников. Убито 15 человек. Без комментариев. И больше ни про Назарбаева, ни про последствия этого расстрела никогда никаких сюжетов не было. Я тогда даже не понял, что фильм про Назарбаева показали ко Дню независимости Казахстана, и нефтяников этих постреляли, значит, в честь праздника. Вот! В день независимости их и расстреливали… Будто молния сверкнула у меня в голове, и все связалось…
— Так его, значит, тогда…
В глазах женщины сверкнули слезы.
— Тогда…
Она помолчала, как будто решала — говорить ей, или нет. Потом сказала:
— Его ранили сначала. Он лежит, не понимает, что с ним, а у него нога прострелена. Кричит: «Братцы, поднимите меня!» Они стали поднимать. А по ним бьют из автоматов, в упор. Всех там и положили. Я закричала. Все разбежались кто куда…
— Сколько же погибло? У нас передали — пятнадцать человек.
— У нас тоже передали, что шестнадцать. Но сколько в самом деле — мы не знаем. И не узнаем, наверно. Сколько женщин ходило с портретиками мужей, сыновей: «Моего не видали?» Сначала по знакомым. Потом по моргам. Я его в морге нашла: ему пуля попала в затылок, лица вообще не было у него… Я его по наколке на предплечье опознала. Стою над ним, даже слез нет, а мне сзади дубинкой по спине: почему после комендантского часа ходите?! Чего ищете?! До дому еле доковыляла. Ночью позвонил из морга наш родственник: так и так, говорит, давай скорей забирай своего мужа.
И вот, ночью. Сказала сыну: ты машину умеешь водить, поехали отца забирать. А ему — пятнадцать лет. Отца на заднее сиденье с ним запихивали. Потом — поминки. В мусульманских странах справляют их широко, обычно десятки, сотни людей собираются, а тут — дали нескольким близким родственникам отметить это дело в квартире, потом по-быстрому зарыли его на кладбище — и чтоб молчок. Официального числа погибших никто не отменял — 16 человек. А трупы… Трупы, уже гнилые, потом находили в подвалах домов… Туда их, значит, растаскивали…
Она рассказала это каким-то помертвелым голосом и замолчала.
Я тоже молчал, не зная, что сказать или, может быть, сделать.
Но она сама как-то собралась с силами и, преодолевая горловые спазмы, завершила:
— С тех пор семья так и не оправилась. Брат его из Алма-Аты приехал, как открыл гроб — сразу почернел. Сын еле девятый класс закончил. Про себя не говорю. На нем, значит, все держалось. А Назарбаева мы с другими вдовами отпели. Всё. Умер он для нас. Нет у нас никакого президента…
Я собрался с духом и сказал:
— Если я боль причинил вам — простите…
— Нет, — сказала она. — Пусть люди знают. Вы писатель. Пусть знают. Я здесь давно вас ждала. Знала, что не уснете. Такая боль в сердце — никто, наверно, не уснет… Вот, сказала вам — и будто легче стало. А вам, наверно, тяжелее, да? Или все равно?
— Ну что вы… — выпалил я. — Как вас зовут? Калима? Простите меня, я не знаю, как вас утешить… Можно ли утешить… Но то, что вы попросили — я сделаю. Я расскажу…
Потом ночь все-таки настала. Где-то в час пришла Куралай, приоткрыла дверь, постояла — и отправилась спать в свободную комнату. Тогда, наверно, я и заснул. В три проснулся с судорогой во всем теле. Выходил, курил, снова ложился. В четыре начал хныкать ребенок, которого мать укачивала весь вечер. Ему почти три года, а он не говорит. Ну, это разве беда — с мальчиками часто бывает такое. Старик. Какую историю он привез сюда? Или у него все в порядке, как костюм и крахмальная рубашка? Просто — бродит по святым местам, молится, пьет чай, разговаривает с разными людьми, собирает мудрость в копилку… Мужские шаги грузно протопали к выходу. Минута забвения — и вот уже я слышу, как молится Самалхан в соседней комнате-мечети. Пятичасовой намаз. Я подождал, пока он закончит, скинул с себя смятый бессонницей мешок и стал одеваться. Ольга, спрятавшись в спальник, как куколка бабочки, еще спала на полу. Нашел в рюкзаке щетку, пасту и диктофон. Хотелось поговорить с нашим хранителем. После ночного разговора с женщиной из Узеня я совсем иначе стал к нему относиться.
XV. СУФИЙ
Он легко согласился на разговор, как будто даже ждал этого, но держался с тем напускным спокойствием, которое сразу выдавало его неопытность. Разговаривали мы в его домике: в окошко было видно, как быстрой походкой прошла на кухню Куралай, а оттуда появился бодрый, в свежей рубашке и жилетке дед, оглядел двор. Остальные, по-видимому, еще спали, причем все — и мужчины, и женщины — спали в одном месте, на кухне, вернее, в большой комнате вокруг стола, где у стены вчера были свалены стеганые одеяла, которые, видимо, и пошли в дело, как только пришло время ложиться. Я подумал, что безнадежно испорчен цивилизацией, привыкнув спать в тишине и в одиночестве — и это делает меня легко уязвимым. А эти люди просто легли там, где теплее — и спокойно проспали всю ночь, не вскакивая с нервной судорогой во всем теле и не прислушиваясь к шороху каждого жука. Но тут я вспомнил Калиму. Спала ли она? И брат ее мужа, с такой страстью рассказывавший вчера про бешбармак, возможно, только для того, чтобы спастись от безумия и тьмы, что шла за ним по пятам — он спал ли? Откуда мне знать? Вот мужик в красном рабочем комбинезоне показался. Что привело его сюда? Не пройдет и пары часов, как все мы разъедемся, разлетимся в разные стороны, так толком ничего и не узнав друг о друге. Чтобы разобраться в сплетении судеб оказавшихся вместе (и очень близко) людей — надо бы остаться здесь еще на день-другой. Мы снова слишком торопимся, даже когда кажется, что все делается не спеша. Но что поделаешь? У нас все расписано. И даже билет обратный куплен. Я хотел купить билет в одну сторону, хотел оставить нам возможность выбора, немного свободы — но свобода оказалась так дорога, что пришлось все же взять билеты туда-обратно. Может быть, сейчас самый свободный человек — это наш хозяин, Самалхан: здесь он чувствует себя на своем месте, делает свое дело, никуда не торопится, никого не подгоняет. Бедность? Но если к ней правильно отнестись, это тоже своего рода свобода. Самалхан, кстати, один из немногих, кто это понимает.
Биография у него была самая обычная: родился в 1975 году, в Актюбинске закончил двухгодичный курс в медресе, совершил хадж в Мекку, после чего стал имамом одной из городских мечетей — в общем, все шло у него как надо, пока он не заболел. Вот: заболел. Почему-то я мгновенно отреагировал на это слово:
— Как заболел?
— Ну, душевно наверно, духовно.
— Почему?
Если он человек духа, то должен знать, почему судьба его дала трещину.
— Трудно там… наполнять… заполнять… Держать себя духовно. На суету много времени уходит.
Так, так. Его, значит, переломало. Духовно… Су-е-та…
— А что для вас главное в исламе?
— Человек. Не просто-так-человек, а как духовное существо.
— Поэтому Мангышлак выбрали?
— На все воля Аллаха. Паломником был, по святым местам. Кроме святых мест, чистых мест на земле не осталось. Или в степь, в гору идешь. Люди слабые стали. Грязные стали. Ни во что не верят, кроме денег. И я остался на святых местах. Семь лет на Султан-Эпе работал. Теперь уже год — здесь. Люди приезжают — я направляю. Потому что люди даже на святых местах не могут понять-разобраться, что правильно, а что неправильно. Им сначала успокоиться надо, очиститься надо. Надо пожить здесь маленько. Кому три дня, кому — неделю. А уж потом отправляться — к Шекпак-Ата или к Султан-Эпе. Потому что иначе они их энергию не почувствуют даже.
Вот как. Непростой человек этот хранитель.
— Вы сами выбираете, когда туда человеку идти?
— Да, говорю: поживите пока два, три дня, недельку… Духовно приподняться немного…
— Интересно, что вы обо мне скажете.
— Понимаешь много, а как в клетке живешь. А жить нужно, как в старину суфии жили.
— Все верно, но вы же сами из города убежали, значит, понимаете.
— Да, многое без слов понятно.
— Расскажите про этих ребят молодых. Они вчера только работали, за стол даже не сели. В послушниках, что ли, у вас?
— Да, пока в послушниках. Они из Туркмении вернулись. Знаете про восстание 1931 года? Когда коллективизация здесь началась? Много людей тогда с Мангышлака со своим скотом в Туркмению ушло, в Иран. Сейчас возвращаются. Я их заметил на святых местах. Сюда позвал.
— В Шекпак-Ата с ними были уже?
— Нет. Готовлю только.
— А вот этот, в комбинезоне? Он как здесь оказался?
— Приехал помолиться. Я ему сказал, чтоб дольше оставался. Но он решил: помолится — и уедет. А уехать не может: машина сломалась у него. Он чинил-чинил, потом говорит: «Ладно, раз Аллах не отпускает, останусь».
— Про ваххабитов слышали?
— Это против религии настоящей. В жизни не бывает два цвета — черный и белый. Не внешний закон человека человеком делает, а внутренний. Они говорят: пусть будет, как при Пророке было. Нет. Пусть будет, как есть. Это роли не играет. Главное — чтоб у человека душа была чистая.
— Это точно.
— Я тебе сейчас помочь не смогу — у тебя все мысли уже вперед убежали. Но если время будет, приезжай обязательно. На неделю хотя бы. Тогда не будешь спрашивать, сам все будешь понимать…
В этот момент в прихожей появились ребята, о которых мы только что говорили.
О чем-то сказали по-казахски.
— Ну вот, — с облегчением произнес Самалхан, легко вскакивая на ноги. — Пора мне.
— Спасибо за разговор.
— Инш Алла! 187
Вот и повстречался я с современным суфием — простоватым, но мудрым проповедником. Наставником. Этого дара я в нем не разглядел, не думал, что разговор с ним будет интересен. А вот как повернулось.
Потом все собрались в трапезной. Я поглядел на Калиму. Она выглядела посвежевшей, отдохнувшей после сна. В мою сторону она даже не посмотрела — как будто и не было этого ночного разговора. Вот деверь ее выглядел действительно неважно. Теперь, когда рассуждения о бешбармаке не воодушевляли больше его лицо, он выглядел как подраненный голубь, который не может взлететь. В дневном свете становилась видна и глубоко залегавшая под глазами чернота. Не синь — свидетельство тоже не слишком воодушевляющее, а именно чернота, в которой было что-то пугающее. В последний раз мы попили чаю, помолились вместе со всеми, попрощались навсегда — и отправились в мечеть. Ренат загрузил наши вещи в багажник и поехал нижней дорогой, а мы с Ольгой отправились верхней, пешком. Мужик в красном комбинезоне шел впереди нас под водительством Самалхана. Откуда-то сбоку, пробираясь средь могил древнего кладбища, возникла Куралай со стариком. По такому торжественному случаю она надела прямо поверх джинсов белую юбку и повязала голову платком.
XVI. МЕЧЕТЬ ШЕКПАК-АТА
Чувствительное похолодание климата, случившееся в конце мелового периода — около семидесяти миллионов лет назад, привело к революционным изменениям на третьей по счету планете Солнечной системы, не имевшей еще тогда своего нынешнего и столь привычного названия — Земля. Крушение царства рептилий, безраздельно, хладнокровно и бессмысленно господствовавших на Земле 200 миллионов лет, дало толчок быстрой эволюции млекопитающих, в том числе и приматов, одним из наиболее совершенных — а потому и опасных — представителей которых со временем стал современный человек. Гигантские папоротники, хвощи и вообще вся сопутствующая царству динозавров флора Триаса и Юрского периода сменились растениями современного типа. На обочине этих грандиозных изменений остался — кратковременный к тому же — триумф мшанок над коралловыми полипами. И те и другие представляют собою простейшие колониальные морские организмы, главным органом которых является ротовое отверстие и желудок. И те и другие, как и абсолютное большинство живых организмов, строят себе скелеты, используя кальций. Правда, скелеты эти внешние: живой «мешочек» кораллового полипа (как и «червячок» мшанки) сидит внутри своего скелета, как в убежище. Отличие в том, что коралловые полипы — рифостроители, порожденные ими бесчисленные формы кораллов сложны и с трудом поддаются описанию, что знает каждый, кто хоть раз воочию видел коралловый риф. Мшанки — обрастатели. Их построения много проще. Грубо говоря, они напоминают известковые соты с дырочкой, откуда сидящий внутри зооид высовывает свои люминесцентные щупальца, приманивая микроскопических обитателей моря. Наслаиваясь друг на друга, такие «соты» образуют корки, а со временем — колоссальные толщи известняка. Именно благодаря крошечным дырочкам, в которые залетает ветер, пыль, а потом и песок, выполняющий роль абразивного сверла, мшанковые известняки образуют поразительные формы выветривания. В конце мелового периода чинк, в котором вырублена мечеть Шекпак-Ата, представлял собою большую морскую колонию мшанок, что спустя миллионы лет и породило тот великолепный фасад, который встречает путника, подошедшего к храму. Этот фасад десяти тысяч изваяний и миллиона раздутых, рассверленных ветром отверстий — едва ли менее впечатляющ, чем само упрятанное внутри горы сакральное пространство, являющее собою торжество аскезы — гладко вытесанное в толще чистого белого известняка помещение в форме креста, единственным украшением которого являются четыре толстые полуколонны с незатейливо украшенными капителями. Мусульманский михраб, позднее добавленный в этот интерьер — почему храм и стал называться мечетью — тоже ничем не украшен и представляет собою обычную нишу в стене.
Самалхан первым поднялся к входу и, подождав, когда все остальные поднимутся вслед за ним, встал на колени и приготовился читать молитву. Куралай сложила перед лицом ладони и с трепетом ждала начала. Ей явно нравилось все мистическое. Рядом с нею стоял дед в полном костюме, с вниманием и готовностью следивший за действиями нашего гуру, как будто ждал, что в какой-то момент Самалхан пригласит его присоединиться, позовет хотя бы вскричать — «Ай, Алла!» — вместе с ним. Но этого не произошло. Свое право быть единственным проводником к Богу хранитель мечети оберегал довольно ревнительно, и дед долгое время так и оставался на положении экскурсанта. Мужик в красном комбинезоне на большее и не претендовал. Он не силен был в вопросах религии и опасался только пропустить неизвестный ему главный момент действа, став свидетелем которого он оправдал бы свою паломническую миссию. Я после бессонной ночи решил, что мистики с меня довольно.
Самалхан прочитал у входа очистительную молитву, и все по очереди поднялись в мечеть. За девять лет здесь мало что изменилось, разве что стопка влажноватых стеганых одеял, которыми укрывались ночующие прямо в мечети паломники, огарок свечи, потеки воска и другие следы человеческого обитания исчезли, помещение было аккуратно выметено, да откуда-то явились безвкусные ярко-малиновые занавески с блёстками, которые никак не соответствовали аскетическому духу храма.
Самалхан, сняв калоши, вновь преклонил колени против михраба и стал читать молитву. Дед был рядом с ним, но молчал, поскольку не знал арабского, и только убедившись, что молитва закончена, собравшись с духом, вонзил: «Ай, Алла!!!» — чем, по-видимому, был полностью удовлетворен.
Затем настала очередь Куралай. Она повела себя как опытный гид: обратила наше внимание на некоторые детали в устройстве храма — очаг в центральном зале с прорубленным над ним в куполе отверстием, куда утягивались следы копоти, изображения лошадей, быков и других животных, в разное время оставленные здесь кочевавшими на Мангышлаке племенами, и, наконец, несколько глубоко процарапанных контуров раскрытой человеческой ладони — «руки Фатимы», которая с древнейших времен выполняет функцию мощного оберега. Одна такая ладонь была выцарапана в известняке действительно, кажется, давно, внутри ее контура сохранились арабские буквы. Мужик в красном комбинезоне, потеряв, по-видимому, надежду понять, когда же наступит главный момент церемонии, устроенной Самалханом, услышав про «руку Фатимы», решил, что это-то и есть главная святыня храма, своего рода USB-порт для прямого соединения с Аллахом. Подойдя к стене, он накрыл своей могучей дланью небольшой, по размерам явно женский контур левой ладони, несколько раз с силой надавил на него, как будто посылая Господу сообщения, которыми он хотел с ним поделиться, после чего отошел от стены с чувством явного облегчения и чего-то наконец свершившегося.
По каменной лестнице мы поднялись наверх и оказались на плоской вершине чинка и, соответственно на крыше храма. Здесь сохранились развалины еще одного сооружения, прикрывавшего дымоход — тот самый куб, который мы с Ольгой и видели в час заката.
— Вот, — сказала Куралай торжественно. — Вы были в Азербайджане, видели Атешгях 188, храм огнепоклонников?
— Видел.
— Правда, похоже?
— На мой взгляд, совершенно не похоже. Атешгях весь прозрачный, у него с четырех сторон арки, чтобы огонь виден был отовсюду. А здесь — стены глухие… Да к тому же алтарь-то, очаг — находится внизу, а эта постройка, в лучшем случае, работала, как печная труба… Какой нормальный огнепоклонник станет прятать огонь под землей, а наружу выпускать дым? К тому же я не понимаю, что тут можно сжигать… Колючки? Их хватило бы только на то, чтобы Шекпак-Ата мог приготовить себе еды. Да и копоти на стенах маловато для большого огня…
Не помню, когда у нас с Куралай завязался этот спор об изначальном происхождении храма — зороастрийский он или христианский, но похоже здесь, на крыше мечети Шекпак-Ата, Куралай решилась предъявить мне решающие аргументы.
— В Х веке Мангышлак был хорезмийским владением. Здесь был большой город — Кызыл-Кала. В Хорезме родился Заратустра, его «Авеста» написана там…
— Милая Куралай, Кызыл-Кала я видел — это не город, скорее большой караван-сарай на пути из Хорезма в Хазарию… Х век для зороастризма — уже глубочайший упадок… В общем, я не хотел бы спорить, не зная досконально вопроса 189.
Но остановить Куралай было нелегко.
— Но оссуарии? — она прошлась по плато, тут и там усеянное высеченными из известняка надмогильными плитами и, наконец, нашла одну, несколько сдвинутую в сторону, так что в могиле, вырубленной в камне, можно было отчетливо различить человеческий скелет.
— По-моему, это обычная могила. И потом, огнепоклонники вообще не хоронили своих умерших в могилах… Как-то по-другому с ними обходились… 190
— Но кости потом куда-то надо было девать?
— Здесь не кости, здесь одиночное погребение, скелет отлично сохранился, как его положили, так и лежит…
По счастью, Куралай мудро решила прекратить спор. К тому же и дед, тоже вместе со всеми бодро поднявшийся на «крышу» храма, неожиданно обнаружил натертое паломниками каменное «кресло», в котором, по преданию, любил посидеть Шекпак-Ата. Кряхтя и счастливо улыбаясь, дед, опираясь на палку, стал усаживаться в это кресло. Отзывчивая Куралай бросилась ему помогать.
Вид оттуда в самом деле открывался отличный: вот дорога, по которой мы пришли, золотая крупинка солнца на куполе мечети, в которой мы ночевали, дальше — далеко-далеко — свежая утренняя полоска моря. Кажется, с вершины этого чинка мы и видели море в последний раз. Но мы еще не знали, что этот раз будет последним: не знали, что море раз и навсегда сбылось уже вчера. Я до последнего дня верил, что это была еще не встреча, а так — подготовка…
Потом тем же ходом через мечеть спустились вниз и некоторое время разглядывали фантастический фасад храма. Я хотел все-таки поснимать его и потом сравнить то, что получится, со съемкой 2003 года. В результате ни одного похожего снимка я не сделал. Почему-то меня увело в частности, в детали, слагающие это немыслимое целое. И вот что стало понятно: архитектурное «лицо» этого фасада определял абсолютный хаос. Но он-то и создавал ощущение гармонии. Не было орнамента, с которым можно было бы сравнить созданные природой украшения фронтона: орнамент основан на повторяемости, а здесь повторяемость отсутствовала принципиально. Здесь царила неевклидова геометрия. И если некоторые детали поверхности и можно было сравнить с ноздреватой фактурой блина, испеченного из дрожжевого теста, то и этот блин нужно было бы еще подрастянуть, подвыпучить лупой или фильтрами Photoshop, a, чтобы вставить в этот фасад. Ни одной одинаковой дырки, ни одного равного угла, растяжка и скручивание всей координатной сетки, уподобляющее твердую поверхность морским волнам… Колонны немыслимой формы, раздутые ветром «слуховые окна» величиной в таз, в котором прячется пять или шесть отверстий поменьше, величиной с чайное блюдце, а дальше, глубже — диаметром с яйцо, с наперсток, со спичечную головку, с игольное ушко. В одном месте я обнаружил неправильной формы нишу, в которую сверху вниз прорастали корни дерева — только каменные. В другом вместо корней оказалась надпись, похожая, пожалуй, на арабскую каллиграфию, но при этом написанную все-таки Природой на неизвестном языке. В третьем — скопление геометрических форм, опять заставляющее вспомнить некоторые картины и рисунки Дали. Возле Шекпак-Ата Дали все время маячит на горизонте — но при этом и он слишком еще буквален в своих искажениях, в самой цели своего артистического опыта. Здесь природа решила задачу несравненно более сложную — ввергнуть все в космический хаос — и при этом выйти на новый уровень художественной гармонии.
Когда мы вернулись с Мангышлака в Москву и у нас появилось время для обсуждения пережитого, Ольга сказала, что наиболее сильное впечатление на нее произвела «степная мечеть», которую мы видели на Уштаме: это действительно уникальное по лаконичности решение храмового пространства. Прямо на земле, в степи, плоскими, размером с мужскую ладонь белыми камнями выкладывается эллипсовидное — отделенное от мира — сакральное пространство. О том, что это мечеть, можно догадаться по тому, что на юго-востоке, в вершине эллипса и в направлении Мекки, установлен вертикально стоящий камень, заменяющий собою нишу-михраб.
Я люблю хаосы — это мое слабое место. Но то, что Ольга отдала предпочтение наиболее лаконичному архитектурному высказыванию, ничуть не смущает меня.
XVII. МИМОХОДОМ
Мы простились с Самалханом, стариком и человеком в комбинезоне, который почему-то долго и с чувством жал мне на прощанье руку, хотя мы так и не узнали друг друга по имени, и стали спускаться вниз. Ренат ждал нас у машины. Вот, выходит, и все. Наше пребывание на Шекпак-Ата закончилось, мы прожили здесь свою короткую жизнь с людьми, которые вчера вечером вдруг стали нам близкими. И вот тонкий кокон человеческих отношений, укрывавший нас простодушной сердечностью все это время, прорван словами прощания. Мы вновь бесконечно далеки, да никого уже и нет рядом — ни Самалхана, ни Калимы, одинокой женщины из Узеня, доверившей мне свое горе как задание, ни ее деверя, ни чу´дного деда в жилетке…
Во время первых поездок по каспийским берегам я больно поражался обретениям и утратам путешественной жизни, но потом понял, что ничто и никто не забывается. И все важные встречи и люди, встретившиеся неслучайно — они остаются в тебе и меняют тебя. Нельзя не измениться, путешествуя с открытым сердцем. Нельзя не измениться, путешествуя по планете людей, ведь человеческое общение — это и дар, и испытание. Или даже так: только тогда дар, когда испытание. Уйти по-английски, не оставив следа, можно только из сообщества равнодушных. А здесь, как выяснилось, люди не научились еще равнодушию, они естественно несут свою долю — быть человеком. Не отрекаясь от нее ради карьеры или ради денег. И уж тем более не придумывая никаких философий высокого индивидуализма. Простые люди чуждаются этого. Они — люди улья. Испытывая тебя, они хотят знать — достаточно ли ты простодушен, чтобы воспринять свое человеческое служение как должное? Чтобы пройти через улей, не чувствуя себя униженным своим положением рабочей пчелы и утесненным в проявлениях своей якобы неповторимой индивидуальности? В этом — главное различие между людьми Востока и людьми Запада.
Мы катили уже по дороге в глубь каньона.
— Ну, — повернулась к нам Куралай. — Какие планы на сегодня?
— У меня только одно желание, — сказал я. — Оказаться внутри рисунка Шевченко «Долина замков». Помните, я показывал?
— А-а, — это Айракты-Шоманай, — сказала Куралай.
— Далеко отсюда?
— Километров сто будет, — сказала Куралай. — Тогда я предлагаю… Раз мы все равно поедем через Каратау — заехать к мавзолею Адай-ата, там пообедаем, съездим в «долину замков». Оттуда недалеко и до «долины каменных шаров», и до горы Шеркала…
— Посмотрим по времени, — сказал я.
Каньон все глубже всасывал нас в себя. Помню белые чинки, что вставали вокруг нас, и синее — я не могу даже передать, насколько синее, и нагнетание прилагательных превосходной степени ничего не прибавит — небо над ними, еще не поблекшее под лучами полуденного солнца… Как я хотел, чтобы Ольга своими глазами увидела всё это! Помню ворота в каньон, стреноженного молодого верблюда, которого нам пришлось сгонять с дороги в каком-то прогретом солнцем и уже запушившемся зеленью уголке между скал, его трогательно-рыжую, молодо блестящую шерсть, его симпатичную отрешенную морду и изорвавшиеся на заднице зимние «штаны», свисающие рваными лоскутами…
Потом мимо прошествовали лошади, вырвавшись из загона, обнесенного простой веревкой. Дюжина стройных каурых и гнедых лошадей на фоне белого чинка под ослепительно-синим небом. Особенно хорош был белый жеребец: сильный, непокорный, бунтовской — это он проломил своему гарему путь на волю, перепрыгнув через куст, в котором веревка, удерживающая лошадей как магическая петля, была не видна. Они рванулись за ним и высвободились из плена петли, и он, гордый своей победой, пошел-пошел было иноходью, пока не услышал сзади тихое ржание. Там, в загоне, осталась одна кобылка. Он остановился, стал звать, но лошадь беспомощно стояла перед веревкой, провисшей почти до земли, и жалобно смотрела на красную тряпку, навязанную на эту веревку. Он развернулся и пошел к ней. То ли это была его любимая рыжая кобылка, то ли он был не из тех, кто готов поступиться тем, что считает своим — но он старался. Минут пять, если не десять, они ходили голова к голове, ухо к уху, глаз к глазу вдоль этой веревки, только он — с одной стороны, а она — другой.
— Ну, что же ты? Давай, глупенькая! — вместе переживали Ольга и Куралай.
А я никак не мог понять, почему он не может переступить веревку и показать ей, как просто это делается, и почему она, видя, что весь табун уже на воле, не может закрыть глаза — если уж веревка для нее означает непреодолимость — и просто сделать шаг к нему вслепую. К его теплу, к его запаху. Один шаг, а дальше все пойдет само собой.
Это была своего рода притча о сознании.
Жеребец и его кобылка так и застыли по разные стороны веревки, табун лошадей тоже встал, сбившись в кучу и, в общем, было очевидно, что здесь битва за свободу проиграна. Через несколько минут на повороте дороги на нас налетел мотоциклист, в таком же, как у вчерашнего, вязаном шерстяном шлеме с прорезями для глаз и для рта и кожаной нашлепкой, прикрывающей отверстие для носа. Темные, похожие на очки авиатора начала XX века, окуляры, поднятые на лоб, завершали невообразимый костюм этого фантомаса. Из-за маски нельзя было сказать — тот ли это мотоциклист, что мы видели вчера, или какой-то другой.
— Вы шлагбаум не поднимали? — закричал фантомас, не глуша мотора.
— Нет, — крикнул в ответ Ренат.
— Хорошо, — сказал фантомас и, клацнув педалью сцепления, поддал газку и скрылся в облаке пыли.
Мы тоже поехали.
— А что ты ему не сказал, что лошади ушли? — спросил я Рената.
— А он не спрашивал, — спокойно ответил Ренат.
Потом я увидел какие-то странные, бутылкообразной формы останцы, сложенные бурыми глинами, несколько чужеродно выглядевшие в этом белом каньоне, и пошел было посмотреть. Но не успел я пройти и нескольких шагов, как услышал один за другим вскрики Куралай и Рената. Я обернулся: они держали в руках черепаху, едва не раздавленную колесом нашей машины. Они убрали ее с дороги, положили на обочину и нетерпеливо ждали, когда она оправится от испуга и снова высунет голову. Меня растрогала такая детская заинтересованность черепахой. Но, видимо, та чувствовала нетерпение людей и плотно закрылась в панцире.
— Ты не видел, у нее во рту травинка была? — поднял ко мне свое круглое лицо Ренат.
— Да я вообще ее не заметил, — признался я. — А какая разница — была травинка или нет?
— Ну как же?! — вскричала Куралай удивленно. — Если увидишь черепаху с травинкой во рту и успеешь ее выдернуть — счастье и удача на всю жизнь!
Только что Куралай в мечети Кремневого Деда жаждала подключиться к его чистой, как молоко небесной коровы, пране, погружалась в молитву и верила… Верила. Так же как верила в то, что можно, бродя по степи, найти свое счастье — черепаху с травинкой во рту…
Каньон Шекпак-Ата-сай довольно долго тянется узким ущельем, которое в конце вливается в правильной формы круглую котловину. Лучше всего представить себя в огромном — километров пять в диаметре — каменном цирке. Посреди этого каменного цирка есть островок. Остаток сплошного известнякового панциря, сумевший выдержать неустанное выветривание и размывание твердых пород. Останец этот привлекает правильностью формы: в плане он круглый, высотой примерно с пятиэтажный дом. Если представить себе пень дерева с мощными и узловатыми корнями, раскинутыми в разные стороны, то просто будет понять, что это такое. Ходы и лазы между корнями, их гладкие, будто ошлифованные формы, подчас странно похожие на те невероятные фигуры, которыми украшал крыши своих домов Гауди — все это было так потрясающе, что хотелось затеряться в этом лабиринте. Сыграть в нем в прятки. Короче, у меня был фотоаппарат, а у Ольги — камера. И задача, с одной стороны, была — поймать друг друга в кадр на фоне этих изваяний. А с другой — спрятаться в сплетениях каменных корней. Что-то важное происходит, когда в нас просыпается ребенок и начинает играть в давно позабытые игры: во всяком случае, я чувствовал себя счастливым. Но дело не в этом. Видеокамера, помимо изображения, пишет звук. И в какой-то момент, когда объектив камеры поймал меня, Ольга засмеялась. Так радостно. Так нежно. И камера это записала. Короткий, негромкий, никому, естественно, не адресованный смех женщины — любящей и любимой — что может звучать слаще? Нас накрыло какой-то легкой, пенистой, беззаботной, молодой, шалой волной…
Вся поездка на Каратау не стоила обеда, который мы там съели под мавзолеем Адай-ата 191. Зато потом, действительно, началась страна чудес. Все кайфово. Все почти невероятно. Помню, как мы буквально въехали в пространство, где земля цветет — там какая-то сумасшедшая минералогия и, соответственно, цвета — зеленый, желтый, фиолетовый, розовый. Чистые цвета, будто сухая акварель накрошена. И рядом — одинокое дерево посреди этого минерального цветника. Страж долины цветущих камней. Раздутый ветром до охры и, глубже, до нежной желтизны бугор, за ним это дерево — и серый склон горы за ним. Мы не успели переварить впечатления от долины, как показалась еще одна гора: спереди она была похожа на купол, сзади — неожиданно открывалась как замок, спрятанный в горах. Так неотделимы от ладшафта замки катаров на юге Франции. И дальше повсюду были рассыпаны фантастические миражи культуры… Особенно запомнился «Парфенон». Это было громадное, длинное — в несколько сотен метров — плато, действительно напоминающее Парфенон, только сотворенный не человеческими руками, а руками… Ну, кого бы? Древнегреческие аналогии сгущаются: могучая сила и сумеречный мозг циклопов, возможно, одноглазых, а возможно, таких же безнадежно слепых, как Полифем, ставший жертвой Одиссея, могли только сотворить это воистину циклопическое подобие главного храма древних Афин. Старательно, но неумело изваянные колонны в самом деле походили на работу слепца: храм был вырублен могучей, чуткой, ощупывающей рукой из цельного массива известняка. Но внутри его не было ни Ники, ни Афины — только толща темной, мертвой материи, и вокруг — степь, а не афинский Акрополь.
XVIII. АНАБАЗИС
Впрочем, то была уже не степь, а пустыня. Тут Куралай ожила и стала что-то говорить Ренату по-казахски, показывая направо. Как выяснилось, нам пора было поворачивать, гора Шоманай-Айракты появилась из-за «Парфенона» и маячила от нас километрах в пяти. Мы пролетели нужный поворот. Это не заставило Рената вернуться — он был беспечным степняком, а в степи дорог много, и продолжал ехать вперед до следующего поворота, пока опять не застрял в колее. Большие песчаные кочки, покрывающие все обозримое пространство, делали невозможным движение по ландшафту. Ренат задумался… И решил, что искать выходы из создавшегося положения он не будет. Он преспокойно закрыл окна, включил кондиционер и в таком положении замер, считая, видимо, свою водительскую работу выполненной. Он даже не попытался вернуться к повороту, который мы проехали. Он просто отключился! Это было предательство. Куралай помалкивала. Однако, я не собирался на этом основании отказывать себе в возможности посмотреть «долину замков». Я почувствовал, как внутри меня закипает жгучее раздражение, и, не желая, чтобы мои эмоции вырвались наружу чересчур брутально, выскочил из машины, схватив рюкзак и фотоаппарат. Сказал, что пойду пешком. И пошел. Минут через десять оглянулся — Ольга шагала за мной. Внутренне я с облегчением вздохнул: в любой ситуации она оставалась со мной! Я стал сбавлять темп, чтобы поравняться с нею. Нас теперь было двое. Мечтал же я побродить с Ольгой вдвоем? Вот моя мечта и сбылась. А нам, судя по всему, предстояли испытания. Потому что, выскочив из машины, я от злости забыл взять с собой воды. А поход нам предстоял нелегкий. Гора не приближалась. Она была далеко. И солнце стояло в зените.
Мы начали свой путь в пространстве кочек, образовавшихся как намёты гипса и соли в колониях колючего кустарничка. Сначала шли на «Парфенон», громаду без тени. Цель наша, гора Айракты-Шоманай, издали была похожа — нет, не на замок, а на пиратский фрегат, несколько столетий назад форштевнем уткнувшийся в море песка.
Огромная земля на своем гумне катит, полна до краев,
Свои угли, гаснущие под золой… 192
Уже жар этих углей прожег подошвы башмаков, уже сняты рубахи, майки сняты, и головы покрыты скрученной ветошью одежд наших.
Власть над каждым знаменьем земли… 193
Кость верблюда, куски невесомого белого гипса, верблюжий след, летящий, как песчаная бабочка, на тонкой ножке из песка, обточенной ветром — верблюд прошел, а след остался. Свежий верблюжий помет, обильно исторгнутый, сухой и крошащийся, как трут. Здесь прошли караваны веков, здесь рассыпались в прах кольчуги и стремена всадников сновидений.
О, тщетные дороги, дыханьем обращенные к нам… 194
Солнце, безжалостное, как лучник, пускающий золотые стрелы в миндалины наших глаз! Без труда дошли мы до грубо обтесанных колонн «Парфенона» и здесь увидели хорошую, проезжую дорогу, по которой не так уж и далеко казалось до «фрегата», чуть-чуть подросшего в размерах и, значит, все же приблизившегося. У его разбитого форштевня были различимы, как кипящее кружево белой пены, формы «замков», которые рисовал когда-то Шевченко. Мы исполнились надежды. В дрожи жара, поднимающегося от земли, были видны темные силуэты верблюдов, пасущихся среди синих и желтых башен на горизонте. Машина издалека казалась теперь звездочкой, лопнувшей на ветровом стекле. Но напрасно махали мы майками, подпрыгивали и указывали вниз руками. Ренат, видимо, спал.
Я никому не приказывал ждать! Я всех вас нежно
ненавижу… И что сказать о песне этой, которую
вы исторгаете из нас? 195
Мы поднялись на берег сухого потока. Мы перешли затвердевшее, белое от соли осохшее русло — и сделались окончательно невидимыми для тех, кто остался в машине. На пути к «фрегату» лежала плоская равнина, редко поросшая теми же невысокими кустарничковыми растениями, только не в колониях, а поодиночке, отчего они смотрелись как крошечные сизые деревца. Их-то и перемалывают дрёмою вечности верблюды, исторгая потом огромные кучи сухого, как опилки, помета. У Ольги была с собой видеокамера, но я заметил, что с того момента, как мы спустились с песчаного гребня, она перестала снимать. Я слишком хорошо знаю свою жену, чтоб не понять, что настроение ее потемнело. Я не хотел этого. Ведь немного усилий — и мы у цели. Вспоминать будем целую жизнь.
Тому, кто не пил, восхваляя жажду, воды песков из шлема,
не склонен верить я, как торговцу душой… 196
Я нарочно вспоминал любимые строки Сен-Жон Перса, чтобы настроиться на высокий стиль нашего перехода. Но вот — «Анабазис». Какое странное название. Я никогда не задумывался, что оно значит, достаточно было красивого звучания. Но как раз перед отъездом я решил-таки докопаться до его смысла. Я еще не делился с Ольгой своими открытиями и решил, что момент подходящий.
— Помнишь «Анабазис» Сен-Жон Перса? Знаешь, что это значит?
— Не знаю. Что-то греческое?
— Разумеется, греческое. Изначально это военный поход из низменной местности в более возвышенную, например, с берега моря вглубь страны.
— И что?
— А то, что мы и совершаем сейчас такой поход. От моря — вглубь. Недостает насилия, «медных всадников», разрушенных городов, бегущих племен…
— При чем здесь «медные всадники»?
— Это — поэзия пустынь.
Несколько шагов, может быть, десятков шагов, молча.
— Невыносимая жара.
— Это — тоже поэзия пустынь… Но я рассказал не все…
— Не все?
— Римский консул Флавий Арриан, решив написать историю походов Александра Македонского, свою компиляцию из греческих историков назвал «Анабазисом Александра». Но самое интересное даже не это.
Молчание.
— Самое интересное, что «анабазисом» называется растение, которое растет повсюду вокруг — видишь?
— Да.
— Никогда бы не подумал. По-гречески слишком торжественно. По-русски — ежовник. Злая колючка. Характерен для Средней Азии. Отсюда, из названия — пустынная поэма Сен-Жон Перса…
Ольга казалась задумавшейся.
— А вот у Платонова — «такыр», — произнесла она неожиданно. — Помнишь, в «Джан»? Там люди жили на такыре. Какой он?
Я огляделся. Кочки кончились. Кончился песок, в котором, как в тлеющих углях, в раскаленных гранулах кварца горели ноги. Сейчас мы шли по твердой, легкой для ходьбы поверхности.
Глина. Трещины. Соль.
— Ну вот, ты идешь по такыру…
— Аа-а, — сказала Ольга и замолчала.
Больше не произнесла ни слова.
Минут сорок мы шли молча.
Потом это все-таки случилось. До «фрегата» оставалось каких-нибудь полчаса. Уже были хорошо различимы его разрушенная и почерневшая корма с задранной вверх каютой и мостиком, его обломанный белый бушприт… Внизу белела какая-то известняковая кипень, не слишком, боюсь, отличавшаяся от тех «корней», в которых мы лазали утром.
И вдруг Ольга встала.
— У тебя есть вода? — спросила она.
— Нет, — сказал я.
Это ее удивило.
— И как ты себе это представляешь? — сказала она. — Мы идем по жаре уже больше полутора часов. Еще полчаса — и будет два. Туда и обратно — четыре. А у тебя даже воды нет.
— И что? — сказал я. — Это повод повернуть назад?
— А что делать?
— Я тебе скажу, что делать. Идти дальше. Ведь мы зачем-то приехали сюда, так? И не затем, наверно, чтоб повернуть за несколько шагов до цели?
— Я больше не могу.
Я остановился, чтобы подобрать слова.
— Мы гуляем по пустыне. В первый раз в жизни и, возможно, в последний. Моя вина, что я не взял воды. Но четыре часа мы продержимся… Даже сейчас жара — не убийственная. А там и вовсе солнце пойдет на закат…
Чем больше слов я говорил, тем краснее и несчастнее становилось ее лицо.
Я понял, что наша прогулка, наше «свадебное путешествие» превращается черт знает во что.
— Посмотри вокруг… Ведь это — красота, которую…
Я осекся.
Ольга посмотрела мне в глаза.
— Послушай, — сказал я тихо. — Скажи, что тебе в кайф, и пойдем. Или меня просто порвет на куски!
Секунду она колебалась.
Потом подошла и поцеловала в щеку.
— Не беги так, — сказала она.
И мы пошли.
А потом… Мы шли и шли, заранее смирившись с тем, что нам предстоит на пути туда и обратно, и даже проникнувшись какою-то особенной нежностью один к другому, как люди, за много лет хорошо научившиеся пониманию. Она поняла, что мне, человеку чрезвычайно упертому, легче сдохнуть от перегрева, чем повернуть назад, особенно учитывая, что Ренат повел себя непрофессионально. А потом… Ведь мы действительно гуляли в сказочном ландшафте… 197 Уже видны были ажурные кружева, окружавшие севший на рифы «фрегат», и глаз все точнее выверял размеры этих экзотических кружев, они казались все больше и все достижимее…
Как вдруг земля начала разъезжаться прямо на наших глазах…
Сначала — будто тонкая, ломкая трещина, черной линией пробежавшая по стеклу. Не имеющая к нам отношения, внезапно и досадно лопнувшая фотопластинка. Но с каждым шагом трещина все неотвратимее становилась частью пейзажа, в котором мы шли, делалась все глубже, все шире, и когда мы в конце концов подошли к ней, я увидел длинный — что налево, что направо — провал с отвесными стенками. Метров шесть-восемь шириной. И глубины такой же. Вроде не широко, а не перепрыгнешь.
Оставив Ольгу, я пошел вдоль провала. Обидно было в виду «долины замков» разворачиваться и топать обратно, так и не побывав там. Трещина бежала ломаной линией, что в перспективе создавало иллюзию, что где-то там, на сгибе, трещина заканчивается. Но ничего подобного! Стоило приблизиться, как трещина расползалась на глазах, сохраняя неизменные параметры ширины и глубины. Она тянулась, казалось, через всю пустыню.
В некоторых местах ее, правда, основательно засыпало песком: можно было, пожалуй, спрыгнуть в этот мягкий песок, подняться по нему до противоположной стенки… И что? До края эти песчаные наносы никогда не доходили — всегда оставалось метра два, два с половиной… Вскарабкаться. Но если песок рыхлый, сыпучий — тогда всё…
Пройдя вдоль трещины метров пятьсот, я понял, что преодолеть провал нам не удастся.
Когда я вернулся, Ольга спросила:
— Ну что?
— Скажи, мы играли честно? — в свою очередь спросил я.
— Да, мы играли честно, — сказала Ольга.
— Мы столкнулись с непреодолимым препятствием. И нам надо повернуть назад.
Не знаю, что в большей степени выражало в этот момент Ольгино лицо — облегчение от того, что я не буду тащить ее за собой дальше, или горечь от того, что наши усилия пропали даром.
Я подошел и поцеловал ее.
— Мы играли честно, — повторил я. — Мы прошли до конца. И теперь имеем право сказать: вот какова она — пустыня…
— Почему бы ей не предупредить нас на полчаса пораньше? — слабо улыбнулась Ольга.
— Потому что пустыня — коварная женщина. Именно это она и хотела сказать нам… Слишком уж запросто, по-городскому мы вторглись в нее. Это ее обидело…
Мы тронулись в обратный путь. Через минуту я обернулся. Трещины как не бывало, даже шва никакого не заметно.
Назад, по собственным следам.
Внезапно далеко (теперь мы знали, что это далеко), под самым «Парфеноном», мы увидели автомобиль. Не было сомнений, Ренат и Куралай устали сидеть в кабине и решили поехать поискать нас. Мы замахали руками — но автомобиль продолжал движение.
— Они не видят! — догадался я. — Сними платок, маши им, маши скорей, мы для них сейчас не больше муравьев…
Ольга сорвала с головы яркий оранжевый платок и закружила им над головой. Я тоже махал черной майкой, хотя и подозревал, что мои сигналы останутся незамеченными.
Нет! Заметили наконец… Остановились. Разворачиваются… Это они зря. Я заставлю-таки Рената доехать до «долины замков»!
Минут через сорок мы дошли до машины. После пустыни мы были такими распаренными, что первым делом пришлось просить Рената выключить кондиционер. Выглядел он недовольно. Только Куралай, кажется, испытывала облегчение от того, что мы нашлись. Потом я все-таки настоял, и мы тронулись вперед, в надежде, что найдем-таки место, где трещина заканчивается. Но у каждой неудачи есть своя неумолимая логика: и десяти минут не прошло, как машина Рената снова «села».
Видимо, сюжет поездки был исчерпан.
Но все-таки мы получили в подарок пустыню.
Два часа мы владели ей, а она — нами.
И еще — два часа мы пробыли наедине друг с другом…
Еще через два часа, в половине восьмого, мы простились с Ренатом и Куралай у гостиницы «Три дельфина». Нам надо было срочно решить вопрос о завтрашней поездке на Усть-Юрт.
XIX. СКОРОСТИ ЭТОГО МИРА
Плато Усть-Юрт — удивительнейшее место на планете, площадью в 180 тысяч квадратных километров (что вдвое больше территории Португалии) и при этом менее исследованное, чем некоторые места Антарктиды или бассейна Амазонки. По Усть-Юрту проходит на мыс Тюп-Караган так называемая «хивинская дорога» — в далеком прошлом «дорога Хорезм-шахов», вдоль которой сохранились развалины города, караван-сарая и крепости. В 1873 году во время похода на Хиву это безжизненное пространство пересек отряд полковника Ломакина. Описание этого беспримерного перехода от одного колодца до другого, едва-едва способного напоить за ночь такое количество людей, лошадей и верблюдов, вряд ли может оставить равнодушным человека с живым сердцем. Кажется, сама природа своею суровостью здесь веками хранила себя от человека. Красноречивые названия отдельных урочищ и солончаков, вроде Барса´-Кельме´с 198, подтверждали, что шутки с этим пространством плохи. Но при этом Усть-Юрт — это настоящая симфония камня, сравнимая по величавости и красоте с Большим каньоном плато Колорадо. Несколько натуралистов и палеонтологов, исследовавших в разное время Усть-Юрт, добавили красок в описание этого загадочного места, но по существу, оно так и осталось малоизученным: сам образ этого пространства так и не сложился. Большой каньон давно и во всех ракурсах снят и для журналов типа National Geographic, и для настенных календарей, не говоря уже о фильмах. Представить себе Большой каньон не составляет труда. Он стал достоянием культуры. А вот Усть-Юрт для абсолютного большинства живущих на Земле людей так и остается тайной за семью печатями.
С самого начала я выстраивал маршрут по Мангышлаку так, чтобы 2/3 его пришлись на Усть-Юрт. Однако, переписка с фирмой «Турист» ничего не принесла, что-то не связывалось. Только в Актау я понял, что у фирмы нет ни собственного маршрута по Усть-Юрту, ни знающих местность водителей.
Отклонение от «идеального» маршрута неизбежно и, может быть, составляет самую суть путешествия. В пути случайность чаще всего оказывается незримым творцом непривычного порядка, который и воспринимается как новизна, «терпкость» мира. В чем мы и убедились, отправившись в Форт. Но теперь, кажется, нас ждала новая неожиданность: увидев нас, Евгения Михайловна просияла так, будто готовилась преподнести нам долгожданный подарок.
— Ну я же говорила! — с акцентированной радостью произнесла она. — Все образуется!
Выяснилось, что пока мы ездили в Форт, в Актау приезжал директор Усть-Юртского заповедника, имеющий свой интерес в туристах, который «отдал» нам в распоряжение одного из своих егерей, предупредив, что у того единственная машина — УАЗ с тентом вместо крыши, и если москвичи не очень боятся отбить себе задницы…
Легкий тентованный УАЗ — обычная машина военных и экспедиционных начальников, это лучшее, что можно себе представить для езды по бездорожью. Только пыли в него натягивает многовато.
У нас оставалось два дня. Два дня и четыре часа. В четыре часа утра в среду у нас самолет на Москву. Что мы можем успеть за это время? Ну… Ну только взглянуть на Усть-Юрт одним глазком. Лучше все же, чем ничего. Мне ни за что не хотелось уезжать, не повидав Усть-Юрта.
— Тогда я звоню, — торжественно объявила Елена Михайловна.
Некоторое время разговор шел на казахском. Он разогревался весьма постепенно, но вдруг дошел до точки кипения:
— У меня был ваш директор, он обещал, что вы, Берик, заедете за ними и заберете! — вскричала Евгения Михайловна, покрываясь апоплексическими пятнами.
Ее собеседник тоже, по-видимому, немного повысил голос, потому что его вдруг стало слышно.
— Ну, тогда пусть директор и забирает, раз обещал, — спокойно сказал неведомый Берик. — Я сейчас в степи, за 80 километров от Узеня, дотемна и в Узень не успею…
Егерь. В степи. Егерь и должен быть в степи, а не мчаться по первому зову за какими-то москвичами…
— Вообще-то тентованный УАЗ — не для шоссе машина, — сказал я. — Сколько до Узеня? Двести пятьдесят? Ему и за три часа не добраться. Спросите, куда подъехать завтра утром, а там что-нибудь придумаем.
— Он говорит, что будет ждать в конторе заповедника.
— Я вызову такси на девять утра…
Мы вернулись в гостиницу и заснули как убитые.
По дороге на Узень еще держался асфальт советской поры, изношенный сверх всякой меры. Ухудшить дорогу можно было, только латая его. Я не без любопытства пронаблюдал, как это делается. Сначала дорожные рабочие разводят костер, варят в больших котлах битум, потом бросают в него асфальт, мнут его досками и затем, навалив получившуюся массу на оголившийся кусок дороги, теми же досками разминают комья асфальта, утаптывая его ногами и поливая гудроном. Такой первобытный метод укладки я видел впервые. Было не очень понятно, почему у рабочих нет хотя бы дорожного катка.
Мангышлак не раз переживал революционные изменения: главное из них случилось, когда время вечности, в котором пастухи перегоняли отары овец и стада верблюдов по коловороту бесчисленных лет, было внезапно ввергнуто в поток времени исторического. В ночь с 4 на 5 июля 1960‐го шестая геологоразведочная буровая, производившая работы в голой степи в урочище Жетыбай, неожиданно стала сотрясаться, пока не была сорвана ревущим фонтаном ударившей из скважины нефти. Фонтан был такой силы, что вокруг на многие километры стоял гул и дрожала земля. Кочующие неподалеку казахи были уверены, что из-под земли вырвался черный дракон, разгневанный действиями нечестивцев‐геологов, и спешили откочевать подальше от дурного места. Больше двух дней неукротимо ревел нефтеносный фонтан, возвещая начало новой эры в истории полуострова. Буквально через полгода огромные запасы нефти и газа были обнаружены возле колодца Узень, потом стали раскрываться все новые и новые месторождения… Беднейшая, полупустынная окраина республики в исторически ничтожный, колоссально-сжатый срок должна была превратиться в процветающий нефтегазоносный район. Открытиям на Мангышлаке радовалась вся страна. Спешно, через единственный порт, связывающий Мангышлак с внешним миром еще с царских времен — а именно через Форт, где была, по крайней мере, гавань, почта, телеграф и телефонная связь — на Мангышлак начинает поступать оборудование для нефтепромыслов, тысячи людей и тысячи тонн грузов, необходимых для строительства столицы Западного Казахстана — нынешнего Актау.
Ленинградские архитекторы получают заказ и с белого листа проектируют новый город. Скорости колоссальные. Преград нет. Хотя вокруг — безводная степь. Ну и что? Город будет напоен опресненной водой моря. Чтобы заработали опреснители, в районе бывшего залива Александр-Бай начинается строительство МАЭК — атомной станции на быстрых нейтронах — гигантского термального котла, ставшего здесь, в пустыне, источником света и тепла для города и гигантского опреснителя морской воды. Десятки делегаций из самых передовых ядерных держав приезжали взглянуть на это чудо. Ни одной стране мира еще не удавалось построить такой большой и современный город в пустыне. Почти все архитектурные и технологические решения при строительстве Актау были сверхновыми, экспериментальными. Это была революция! Квартиры со всеми удобствами, детские сады, школы, библиотеки, театры, институты… Это был настолько немыслимый, неожиданный шаг в будущее, такая красивая победа над природой, что он требовал какого-то нового осмысления мира. Вернее, осмысления новой задачи в овладении миром.
Недавно, читая дневники академика Сергея Курдюмова 199, я вдруг поймал себя на том, что мысли, высказываемые им, собственно, и подразумевают постановку такой задачи: они запросто могли бы родиться и на Мангышлаке, где так остро ощущение одновременности существования и даже взаимопроникновения совершенно разных миров. При этом — миров с различными скоростями, «темпо-миров», как пишет Курдюмов.
«Сложная структура объединяет… структуры, существующие в разных темпо-мирах. Усложнение структур мира идет по пути объединения все большего числа структур из все более далеких по времени темпо-миров!» 200 Чтобы сложное целое не разваливалось, Курдюмов предложил обществу «режимы с обострением»: своего рода гимнастику для управленческих систем и экономики. Таким «режимом с обострением» могли бы быть конкурентные отношения в социалистической экономике или напряжение, связанное с решением больших экологических задач. Всякое развитие конфликтно. Конфликт заложен в природе мира и может потерять заключенную в нем разрушительную силу только в том случае, если сам будет «окультурен» и примет для общества форму испытания или цивилизационного задания.
Никто из руководителей тогдашнего СССР не мог понять задачу такой степени сложности. Она была слишком масштабна для высшей номенклатуры КПСС, ибо ставила перед обществом вопросы принципиально иного порядка: целью общественного развития объявлялся уже не «коммунизм», а непонятное «динамическое равновесие», которое, в свою очередь, ведет к «единому состоянию материи, состоянию точки Омега, брахману, сверхорганизации» 201.
«Динамическое равновесие» описывается все той же мыслью Уайтхеда: «Мир сталкивается с парадоксом, по крайней мере, в своих высоких проявлениях, — он жаждет новизны и в то же время страшится утратить прошлое, все то, что в нем знакомо и любимо…» 202 Новизна и порядок должны быть взаимообусловлены, но этого мало. Как и куда двигаться дальше, когда человек обрел полную власть над природой и может одним нажатием кнопки уничтожить и себя, и всех своих врагов?
Только вглубь.
Курдюмов делает выписки из Вед:
Нравственная задача возведена в степень общечеловеческой проблемы.
Мир создан актом жертвы.
Круговращение мира: «нужно готовить пищу для всех».
Процесс проявления [развития] мира рассматривается, как карма…
Алкание истины, преданность и вера в идею, в путь, в цель! 203
Курдюмов предлагал утвердить кафедры «сравнительной мистики» Запада и Востока, чтобы воспитать человека, готового овладеть сверхсложной единой системой под названием «планета Земля». Аналогичные задачи ставились тогда и на Западе. Идея «планетарного разума», по крайней мере, в среде ученых, не казалась тогда фантастикой…
У нас запредельное торможение началось в самом центре управляющей системы — в Политбюро ЦК КПСС. Старческий маразм лидеров и циничная инертность молодой партийной номенклатуры сковывали всю жизнь общества. При такой дегенерации центра и центробежном движении «окраин» социалистическая империя не могла не разрушиться. На Мангышлаке сложная структура, когда-то созданная для СССР, оказалась не нужна и быстро разрушилась. Атомная станция на быстрых нейтронах, когда-то давшая жизнь Актау, была переведена на газ, чтобы не возиться с ее уникальным устройством. От химического комбината, построенного во времена СССР, сохранилась только мастерская по производству асфальта в одном из цехов. Сложные структуры повсюду регрессировали к максимально примитивным…
Идея «планетарного разума» отошла на далекую периферию сознания.
Измельчали смыслы, масштабы задач, масштабы вопросов…
Спираль развития нашего ушла в тень, в помрачение, в первобытные инстинкты — словно из страха перед уже давно возникшими глобальными задачами. Но мы не отдаем себе в этом даже отчета. Тем более любопытно, какими словами через каких-нибудь двадцать-тридцать лет будет охарактеризовано наше время? Что скажут люди будущего о нашей беспечной, но бескрылой жизни «в кредит», о ненасытной и пошлой игре в комфорт, «в домики», «в автомобильчики», о какой-то детской беспомощности перед любым искушением и духе стяжательства, охватившем целые народы? О «Большой политике», вдруг оказавшейся «по ту сторону добра и зла»? Боюсь, им просто нечего будет сказать. Может быть, правда, они согласятся, что время было скверное и нам суждено было пройти сквозь самые темные, духовно обездоленные, пустые времена…
Часа через два, миновав громадину газоконденсатного завода, мы приехали на какую-то пыльную площадь. Это и был Новый Узень. Жанаозень, как говорят казахи. Выглядел он не как поселок нефтяников, а как поселок собирателей кизяка — настолько у него был затрапезный вид. Трудно было поверить, что сияющая огнями хрустальная Астана, новая столица Казахстана, выстроенная на нефтяные деньги, и этот поселок — звенья одной цепи. Я думал, что у нефтяников хотя бы супермаркет должен быть, крытый бассейн, кинотеатр. Но ничего подобного у них как раз не было. Только пыльная зелень, гудки тепловозов, остановившееся время начала 60‐х…
Берика мы нашли в гараже управления заповедника, разместившегося в беленом одноэтажном домике — впрочем, все дома вокруг были одноэтажными. Он оказался мужчиной лет сорока пяти, мощного телосложения с симпатичным, загорелым, выразительным лицом степняка. На нем была камуфляжная куртка и такие же штаны, заправленные в высокие шнурованные ботинки. Его видавший виды УАЗ стоял на ремонтной яме.
— Вот, — сказал он, поздоровавшись с нами и откинув тент для того, чтобы мы могли забросить в кузов свои рюкзаки. — Сцепление полетело.
— Ну а новый-то диск купили? — поинтересовался я.
— Да, вот сейчас прилаживаю.
— Тогда сколько у нас времени? Час?
— Примерно час.
Значит, через час поедем, а приедем-то уж под вечер…
Время, разогнанное в дороге, вновь стянулось маслянистой каплей.
Мы зашли в привокзальное кафе — кособокое заведеньице, внутри которого стояли покрытые голубым пластиком квадратные столы и летали мухи. Здесь можно было, не рискуя всерьез расстроить живот, заказать лагман, хлеб и чай. Официантка, равнодушно взглянув на нас, ушла на кухню.
Не дожидаясь пока к нам подойдут — а это могло случиться нескоро — я протиснулся вслед за нею. Там официантка и повариха что-то жарили на плите и мыли посуду в грязных алюминиевых тазах.
— Два лагмана, два чая и хлеб, — попросил я официантку.
По неписаному обычаю столовок нам сначала принесли чай (почему-то с молоком), потом хлеб. Еду в последнюю очередь.
Ольга стала протирать салфеткой чашку с чаем и вдруг объявила, что есть здесь ничего не будет.
Чашка была жирная. Ложки тоже были жирные. Но это был такой формат обслуживания, ничего с этим нельзя было поделать, и поскольку нам все равно надо было где-то поесть перед дорогой, я попросил Ольгу съесть лагман и не делать из этого проблему.
В этот момент повариха-посудомойка и официантка, словно нарочно пытаясь опровергнуть мои доводы, пронесли к выходу полную жирных помоев бадью.
Один чай мы попросили без молока. Нам принесли.
Лагман был жидкий, но в советское время я и не такое едал, поэтому посчитал, что мы еще очень удачно отделались. А ложки Ольга вытерла салфеткой.
Рядом с этой столовкой на площади была парикмахерская: на вывеске местным художником были изображены масляной краской молодой казах в войлочной шапке и девушка-казашка с длинными черными косами.
Не поселок, а какие-то декорации к фильму о… О расстреле? Ведь если люди, нефтяники, так здесь живут, не протестовать для них было бы просто малодушием.
Неожиданно возник Берик.
Он закончил с машиной и мы, наконец, поехали.
— Берик… А полное имя какое же? — спросил я. — Я знаю, есть имя Серик. Боксер был, Серик Конакбаев.
— Ну вот, — сказал Берик. — Брат у меня Серик, а я — Берик.
— Это полное имя?
— Да.
Долго ехали вдоль нефтяных полей, протянувшихся на десятки километров. Все было как девять лет назад: старенькие качалки, насколько хватало глаз, поднимали и опускали свои механические головы. Под ними была желтая, ободранная земля. Не то чтобы там, на нефтяных полях, были разливы нефти и т. п. Просто была голая земля, даже без скудной пустынной растительности. Мертвая земля. Потом еще был поселок, весь желтый. Одноэтажные дома из темно-желтого камня, покрытые такой же темно-желтой глиняной обмазкой. Газовая разводка на уровне крыш. Ни деревца. Ни куста. Желтая засохшая грязь на разъезженной улице. В голом загоне желтый, пыльный, косматый верблюд. Я стал думать — как это: родиться здесь, пойти в школу, влюбиться, жениться, прожить жизнь и умереть. Жить и умереть в Казахстане.
В этом поселке Берик остановил машину и зашел в магазин. Взял несколько буханок хлеба, чай и пару банок концентрированного молока. Ничего такого, существенного, не купил.
Когда Берик узнал, что в нашем распоряжении всего полтора дня и четыре часа, он даже изумился:
— Так какой же смысл был ехать? На Усть-Юрт меньше, чем дня на четыре, и соваться незачем.
— Я и хотел дня на четыре. Не получилось. Теперь — что успеем, то и увидим. Что-то же мы можем успеть увидеть?
— Кое-что можно, — подумав, сказал Берик. — Если повезет — спустимся с чинка у Карамая´. Потом, пещера есть… Пещер не боитесь?
— Нет, — ответил я, радуясь, что предприятие наше не совсем безнадежно.
XX. ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ
Потом асфальт кончился, пошел грейдер. Это было даже лучше: шуму в кабине прибавилось, но трясти стало меньше. Солнце никак не могло пробиться сквозь странную белую мглу, которая застила небо еще в Узене. Я все надеялся, что к середине дня оно поднимет эту белую завесу, но вот уж минули часы наибольшей солнечной активности, а мгла так и не рассеялась.
Потом мы увидели на обочине дороги павшую корову. Стервятник кружил в небе. Мы въехали в другой темпо-мир. Мир без человека. Очень долго дорога тянулась по слегка всхолмленной местности: по обеим сторонам простиралась обычная степь темно-серого, графитового цвета, который мы уже видели. И здесь природа еще не пробудилась к жизни. После полутора-двух часов медленного подъема мы достигли долины, над которой поднимались невысокие чинки, совершенно розовые наверху и белые снизу. Помню ощущение мгновенного самозабвенья, почти счастья от этой красоты… Впрочем, слово «красота» ничего здесь не объясняет. Сухая, покрытая мелкими камнями желтоватая глина у подножья утеса, куст саксаула, несколько кустиков ежовника, и эти розовые, красные обрывы, кровянистые потеки в морщинах белого подножья — это просто код, с помощью которого душа открывается миру, сливается с ним, собственное «я» исчезает, и ты становишься частью пейзажа, как любая песчинка или несомый ветром клубок перекати-поля…
Вскоре дорога стала задираться все круче вверх и наш УАЗ выехал на вершину чинка. Мы остановились, чтобы размять ноги. Рядом как раз был участок — почти ровный круг — цветущей степи. Здесь росли какие-то странные, прежде невиданные растения — «верблюжий лопух» с тонкими, будто целлофановыми, блестящими листьями, желто-зеленые кустики кура´я — его ни животные не едят, ни в пищу он не употребляется, но, как сказал Берик, в Туркмении из него отжимают сок и пьют в малых дозах… Берик выкопал дикую морковь — она была желтого цвета и мало чем отличалась от той «туркменской моркови», которую мы видели на рынке в Актау. Вообще, судя по частоте употребления слов «туркменский» и «Туркмения», мы оказались в ином пространстве, нежели то, в котором пребывали до сих пор. Усть-Юрт — это и есть граница с Туркменистаном, граница между сравнительно еще мягким по климату Мангышлаком и полным безводием Больших Пустынь, подступающих с юга.
Здесь, наверху, мне наконец стало ясно, что такое «чинки» Усть-Юрта. Это длинные плато, остатки степи, плоской, как стол, которые тянутся на несколько сотен километров в направлении с юго-востока на северо-запад. Западный чинк узкий — от 20 до 40 километров шириной. Восточный, пожалуй, местами доходит до 100. Внизу между чинками — гигантский каньон, промытый в древности океанскими водами, в котором остались «острова» в виде различных по форме гор. Так как долина между чинками представляет собою огромный сор (солонец), то проехать по заповеднику даже на УАЗе можно только летом. И все заповедные места, как сказал Берик, мы сможем увидеть только с края чинка, глядя на них сверху вниз и издалека…
Берик затормозил в последний момент, так что сердце оборвалось — и впереди, затянутое мутной белесой мглой, сквозь которую так и не смогло пробиться тусклое оловянное солнце, открылось… Невероятное. В описании диковинных пейзажей, виденных мною вокруг Каспия, я столько раз употребил слово «инопланетный», что воспользоваться им еще раз было бы пошлостью. Если уж на то пошло, это и была наша планета, наша Земля, явленная нам в своем космическом величии. Мы стояли на краю обрыва — здесь его высота была никак не меньше 100–150 метров — а дальше, на всем пространстве до Восточного чинка, простиралась долина сказочных изваяний, проступающих из беловатой мглы. Силуэты горных останцов слегка напоминали японскую живопись на шелке Ватанабе Казэна 204, на которой вершины едва очерченных гор как бы подвешены в воздухе, а подножия тонут в тумане. Правда, белая пелена, которая застила нам даль, не была туманом. Если это и был туман, то какой-то необъяснимо сухой. Но японскую живопись я вспомнил весьма кстати, решив, раз уж природа так распорядилась, снять «страну силуэтов».
— Подальше от края! — бросил нам в напутствие Берик. — Тут восходящие потоки воздуха есть, может унести…
Кстати, любимым занятием самого Берика, как мы вскоре заметили, было прохаживаться по самому краю обрыва или даже в полнейшем спокойствии полеживать на этом краю, свесив ногу в пропасть.
Интереснее всего были разрушающиеся края чинка. В некоторых местах они оформились во вполне завершенные колоссальные изваяния, имеющие даже собственные названия, как, например, Боз-Жира — останец, напоминающий исполинскую голову двурогого носорога. В другом месте от тела чинка отделялась гигантская, неправильных форм, колонна, обнажая срез наслоений, сформировавших огромное тело известняка, а заодно и свежую палитру тонко подобранных цветов: белого, желтовато-охристого, буроватого, красного или лимонно-желтого. Какие соли рождали эти пигменты? Какими словами описать все это безудержное буйство форм, порожденных хаосом и сведенных, тем не менее, в единую гармоническую, почти симфоническую тему? В какой-то момент у меня возникло ощущение, что дать реальное представление об этой сокровищнице форм и цвета нельзя при помощи фотоаппарата, или этому надо посвятить не несколько часов, а несколько месяцев, может быть, годы. Еще лучше — вернуться сюда с кинокамерой и снять фильм, отслеживая каждый изгиб камня, его фактуру, плотность, многообразие форм. Глубоко и извилисто прорезанные в известняке сухие русла, каждое из которых завершалось столь же безводной, но разветвленной дельтой, покатые вершины гор, уходящие в мутную даль подобно каравану верблюдов, ущелья, трещины, палитры солонцов и, конечно, слои. Книгу известняка. Известняк во всем своем величии, во всей тяжести своей, во всей неисчерпаемости форм и развернутых панорам — сегодня предъявленных нам в белой мгле, а завтра на рассвете… Можно было только воображать себе игру алых лучей восходящего солнца на непорочной белизне известняка и убегающие в неровности белых стен голубые тени… А если представить себя углубившимся в эту страну изваяний, гор-останцов, в то самое неведанное, что так и хранило себя от человека, как отдаленные уголки амазонской сельвы, то от одной мысли об этом захватывало дух…
Усть-Юрт, да и вообще Мангышлак — это место, где хорошо проводить инициацию в каспийское пространство. На Усть-Юрте чувствуешь себя совершенно оторванным от людей. И если ты хочешь общения, то оно возможно только с Землей, с пространством. Формы, цвет, запахи, осязание, какие-то тонкие вибрации… Здесь нужно почти всегда быть немного шаманом, чтобы почувствовать энергетику этих пространств. Но именно здесь человек, как нигде, способен ощутить ритм Вселенной… Ведь Усть-Юрт, в некотором смысле, есть грандиозная книга о жизни планеты Земля. Книга о вечном круговороте материи, круговороте и взаимном превращении мертвого и живого.
Когда отряд полковника Ломакина, направляясь в Хиву, пересекал Усть-Юрт, один из офицеров заметил, что природа здесь уж очень сурова.
— Да что вы, ваше благородие, — отозвался кто-то из солдат-пехотинцев. — Здесь природы вообще никакой нету!
Чинки, на первый взгляд, действительно кажутся совершенно безжизненными. В одном месте я стал спускаться немного вниз, чтобы снять несколько отколовшихся от чинка вертикальных колонн и, видимо, первым прошел там после зимы, после того, как земля оттаяла. Это была серая, перемешанная с камешками глина, так жестко отдраенная ветром и запеченная солнцем, что упасть на такую поверхность было бы все равно, что упасть на напильник. Однако и из этой спекшейся глины в двух-трех местах пробивались зеленоватые стрелки какого-то растения. Высохшие, похожие на пепел прошлогодние побеги веером рассыпались вокруг. У растения не хватало сил распространиться вширь, вбросить семена в эту спекшуюся кору, взломать ее корнями и таким образом создать хотя бы подобие растительного покрова. Другой представитель местной флоры, прозрачно-зеленые стебли которого ветвились, как кораллы, сидя в ямке, скорее напоминал существо из минерального мира.
Парадокс заключался в том, что, несмотря на внешнюю безжизненность, весь этот мир спрессованных отложений, все эти немыслимые толщи известняка, как, впрочем, почти вся современная поверхность Земли, сами были порождением планетарной жизни. Миллиарды раковин крошечных моллюсков были перемолоты морем, чтобы сложить эту белую твердь. Некоторые раковины были совсем миниатюрными, как, например, покровы одноклеточных родичей амеб — фарамениферов. Еще меньше были похожие на крошечные запонки известковые крышечки микроскопической водоросли кокколитофариды, с помощью которых она собирала рассеянный в воде солнечный свет. Разумеется, морские ежи, рыбы, моллюски и прочие, более крупные и привычные нам создания тоже участвовали в этом грандиозном строительстве известковых толщ, но по сравнению с массой микробиоты их «вес» оказался меньше на несколько порядков. Разрушение известняков и вынос кальция в море запускает новый цикл биологически активной жизни известняка в виде микроскопических раковин, оболочек, рыбьих скелетов и ракушечек побольше. Построение которых из карбонатов — соединений кальция и углекислого газа — является, кстати, главным регулятором уровня углекислоты в атмосфере Земли: так много СО2 поглощают химические реакции, связывающие углекислоту с известняком в морях и океанах. Когда ракушечки и водоросли умирают, их раковины оседают на океанское дно, где образуют новые отложения известняка. Под собственным колоссальным весом эти толщи постепенно погружаются в мантию Земли и плавятся. В конце (или в начале?) цикла некоторая часть СО2, содержащаяся в расплавленной породе, снова извергается вулканами наружу и запускает следующий круговорот Жизни на Земле. С этой точки зрения «мертвое» может быть названо таковым лишь условно, поскольку оно не в меньшей мере ответственно за Жизнь на нашей планете, как и то, что мы по привычке называем «живым». Жизнь не может существовать в виде отдельных организмов или оазисов в пустыне. Живой — или мертвой — может быть только вся планета целиком…
В конце концов эти размышления прервал Берик, сказав, что солнце клонится к закату, и нам пора наведаться на кордон заповедника.
XXI. ВЫБОР
Мы отъехали от края чинка и через некоторое время оказались опять как бы в ровной степи, погруженной в полный покой. Вечерело. Кордон оказался маленьким домиком с плоской крышей: два окна, одна дверь…
Берик, подъехав к домику и выйдя из автомобиля, первым делом воскликнул:
— Ну что ж они — не полили!
На сильном, порывами налетающем ветру у входа в дом трепетало несколько тоненьких, обведенных круговой насыпью, молодых деревьев. Не разбирая багажа, Берик пошел с ведром к резервуару с водой, наполнил ведро, другое и бережно полил растения. Одно деревцо было побольше. Остальные — ну, может, по пояс…
— А что это за дерево, Берик? — спросил я, когда он поливал высокое деревцо.
— Это? Береза, — без тени сомнения сказал Берик.
— Какая же это береза? — изумились мы с Ольгой на два голоса.
— А что? Какие вообще березы бывают? — спросил без обиды Берик.
— Ну, разные, — взялась объяснять Ольга, — карликовые бывают, карельские, наша лесная — как ее? Но они все белые… Бер-бел… Индоевропейские корни… В общем, само слово «береза» — оно происходит от корня, обозначающего «светлый», «белый».
По-видимому, для тюркского уха Берика было неочевидно, что береза должна быть белая, корни «бер-бел» не уравнивались у него. Береза — это было просто название, без обозначения цвета. А может, он никогда и не видал берез. Разумеется я знал, что белизна березы проступает не сразу и молодое деревце долго рядится в кору темно-вишневого цвета. Но у этого кора изначально была зеленоватой.
— Это на тополь похоже, — сказал я. — По листьям.
— Узбеки, которые рассаду продавали, сказали, береза, — не из упрямства, а просто потому, что дело было так, сказал Берик.
— И все же тополь, наверное…
— Пусть будет тополь…
— А это, — показал я на лозиночку с узкими листочками, — карагач?
— Не-ет, карагач вон у меня, — сказал Берик и показал росток, на котором листья еще не распустились.
И все равно я порадовался, что возле дома будет и карагач. Карагач — это первое дерево, которое я узнал в Средней Азии, а узнав, сразу полюбил.
— Зачем же они батарею в дом внесли? — спросил Берик.
Солнечная батарея размером 1,25 на 1,6 м стояла в коридоре. Ее поверхность покрывал слой белой пыли.
Берик сунул в розетку концы двух проводов — и под потолком загорелась лампочка.
Он посмотрел на огоньки, высветившиеся на панели аккумулятора, и спокойно произнес: «нам хватит».
Итак, у нас был газ, свет, вода поблизости, три кровати в одной комнате, но самое главное — мы были на кордоне втроем. Работники заповедника, которые дежурили здесь в эту неделю, куда-то уехали. Не отскочили минут на сорок, а именно уехали — еды не приготовили, батарею в дом внесли…
На единственной конфорке газовой плиты, подсоединенной резиновым шлангом к громадному красному баллону, мы вскипятили чайник и заварили чай. Я достал походную смесь, которой неизменно пользуюсь со времен Колгуева (изюм, курага, грецкие орехи), сахар, сыр, какую-то еще закуску. Берик выложил печенье и хлеб. Он с удовольствием пил крепкий чай с молоком, но к еде был почти равнодушен. Съел кусок хлеба, потом попробовал кураги, потом опять съел хлеба и потом еще несколько раз достал по сухой ягоде абрикоса. И все. Этого ему хватало. И даже вечером совсем, когда Ольга сделала гречку с тушенкой на ужин, он ковырнул, чуть-чуть поклевал, но было видно, что своим чаем он и так обошелся бы. Вообще, Берик был абсолютно самоценный степной человек. Настоящий Следопыт. Он не просто любил природу, он жил в ней. Я же был обычный любитель. Мы с Ольгой были любителями. Но, кажется, наш неподдельный энтузиазм в конце концов все-таки склонил его суровое сердце в нашу пользу. Берик не обнаруживал своих чувств, но все-таки теперь относился к нам с явной симпатией.
Внезапно идиллия наша была нарушена.
Заревели моторы, рванул ветер со степи, захлопали дверцы: это вернулись законные хозяева кордона. Без особого энтузиазма мы вышли их встречать.
Прямо напротив входной двери стоял еще один УАЗик и грузовик, в кузове которого лежала стреноженная мохнатая верблюдица с верблюжонком. Я побежал к ней разглядеть получше, увидел жесткий кожаный ремень удил, продернутый через ноздри, беспомощный, слезящийся от напряжения и страха огромный черный глаз. Сначала я и не заметил, что приехавшие в стельку пьяны…
— Вишь, как белым затянуло-то все? — горячо дыхнул мне в лицо один из них. — Говорят, ступень упала, гидрозин 205 по всей степи разнесло, вот мы и пьем: так радиация лучше выходит.
Берик тихонько поговорил с ними, они оживились, загомонили в ответ, а потом расселись кто в грузовик, кто в УАЗ, приветливо помахали нам и уехали в неизвестном направлении.
Когда все стихло, мы втроем присели на лавочку у домика. Солнце село в серебряную мглу. Небо стало меркнуть. Потом — на полупрозрачном еще своде его зажглась одна ослепительная звезда. Не могло быть сомнений, что эта та самая звезда, которую мы разглядывали, гуляя в Подмосковье по протаявшим тропинкам вечера еще неделю назад. Удивительно яркая.
— Это Венера, — сказал Берик.
— Я же говорила, — сказала Ольга.
— Но Венера же — утренняя звезда, — сказал я единственное, что знал по этому вопросу.
Потом все больше становилось звезд на небе, все темнее вокруг.
— А что, правда ступень упала? — спросил я. — Откуда эта белая мгла?
— Да это просто ветер дует с солонца, — спокойно сказал Берик.
Как все просто: ветер поднял мельчайшие чешуйки известковой пыли и соли — вот вам и весь «сухой туман». Пусто-пусто было вокруг. Один мчался по степи и, натолкнувшись на дом, недовольно подвывал и свистел ветер.
Берик рассказал, что был девятым ребенком в семье. А у него сыновей только трое. Все, кроме младшего, выросли, разъехались. А когда-то жили здесь, на кордоне.
— Хорошо здесь, — сказала Ольга, закрывшись от ветра капюшоном штормовки. — Как это? «Хуторок в степи»? Откуда это?
— Да повесть была для юношества, — вспомнил я. — Я не читал.
— Название красивое.
— Да, красивое…
Мы помолчали.
Еще Берик рассказал про разных интересных людей, которые приезжают на кордон. Меня, в частности, заинтриговал некий венгр: ему лет семьдесят, он приезжает сюда уже третий год. Сначала прилетает в Туркмению, там нанимает два джипа, двух водителей-туркменов. Одна машина полностью забита экспедиционным и фотооборудованием, в другой — он. В этом году пробыл здесь восемь дней. При этом ему заповедник дает гида, гид ему все показывает, он — фотографирует. Я заподозрил, что это какой-то крупный фотограф европейского или даже мирового класса, который открыл здесь для себя новую натуру (ну не все же снимать Гранд-каньон в Штатах?) и вообще ищет новые горизонты, новые ландшафты.
Все темнее становилось вокруг, все больше звезд высыпа´ло на небе…
Мы затихли под этой мерцающей скрижалью.
Черный ветер по-прежнему налетал из степи, опутывал своими волосами, скомканными рваными звуками отзывался в ушах… Он не хотел причинить зла, но демонстрировал безразличное равнодушие ко всему на свете. Плевать ему было на пыль, которую поднял он с солонца; он проснулся, он потягивался, он играл с каждым камешком, с каждым листком, с каждым лепестком огня, с каждой песчинкой этой пустыни.
Внутри домика ветер пару раз отозвался гулом железного ставня, ударившегося о стену.
Он и о крышу бился, но не мог нигде как следует зацепиться за нее.
Под эти глухие удары ветра я и уснул.
В эту ночь не повезло Ольге. Я проспал до утра, как убитый, а она спала плохо, что в результате и сказалось. Но все-таки три дня очень сурового ритма она выдержала. И самое главное — ей нравилось, и я ощущал настоящее блаженство дарителя. Проснувшись утром в прекрасном настроении, я уже предвкушал, как завершится сегодня наша поездка главным приключением — маленьким путешествием в глубь Усть-Юрта.
Берик вел себя столь естественно-непринужденно, что я как-то не подумал, что мы, в общем-то, уезжаем на целый день — и даже походной смеси не взял с собой. Только бутылку воды.
Небо было голубое, почти совсем ясное, только у горизонта залегала похожая на облако белёсая полоса. Ничего такого особенного, по сравнению с тем, что мы уже видели вчера, не было. Как только мы подъехали к краю чинка, Берик сказал:
— Вот это и есть Карамая…
Внизу, в долине между чинками лежал красиво обточенный горный хребтик. Твердый выход каких-то древних, темных, синеватых пород, подсвеченных золотистым солнцем.
— «Карамая» значит «черный одногорбый верблюд», — сказал Берик. — «Ка´ра» — ты знаешь. А «мая´» — это как раз и есть одногорбый верблюд.
Хребтик, действительно, черным горбиком лежал посреди белого, как снег, солонца.
Я сделал пару снимков, но решил, что лучше разгляжу его потом, когда мы спустимся.
Мы вышли из машины. Здесь по краю чинка остались построенные охотниками неолита загоны для архаров. Грубо говоря, сложенное из камней заграждение по колено высотой: вертикальные опоры и горизонтальные перекрытия. За десять тысяч лет многие перекладины обвалились, но в целом ловушка могла бы еще работать: дикий баран, архар, никогда не перепрыгивает неизвестное препятствие, бежит вдоль него. Поэтому ловушка имела вид стрелы — со стороны степи в раскрытую часть этой верши древние охотники загоняли архаров, а в конце, где загонные стены сходились в острие, архаров в откопанных и обложенных камнем ямах уже поджидали охотники…
Потом мы прошли несколько километров по дуге, описывая почти правильный полукруг вокруг лежащего внизу хребтика, и в конце концов вышли то ли к его хвосту, то ли к голове. Здесь внизу чинка из-под известняка выдавило более древние, глинистые сланцы — и это, скажу вам, было зрелище! Как на палитре художника, на земле смешивались яркие, совершенно нехарактерные для белизны Усть-Юрта цвета: охристый и красный, желтый, зеленый, небесно-голубой… Край чинка был здесь сильно разрушен, не обрывался отвесно вниз, а просел полого, громоздясь россыпями камней. Я подумал, что здесь мы и спустимся на дно каньона.
— Нет, здесь не спустимся, — убежденно сказал Берик.
Он оставил машину в распадке, где она была совершенно не видна. Здесь в лощине оказался небольшой сарайчик (в котором в случае чего можно было бы и переночевать), колодец «с самой вкусной водой на Усть-Юрте» и небольшой садик, посаженный, как легко догадаться, Бериком, но в его отсутствие засохший. В живых осталось только одно деревцо, как раз вроде тополя.
Берик предложил ущельем спуститься вниз. Я думал, что вниз — это вниз до конца, до упора. Но он хотел только проверить, есть ли вода еще в одном колодце. Небольшой крючочек туда-обратно — для него это не имело никакого значения. Но нам эта прогулка обошлась неожиданно дорого. Ничего не зная про колодец, мы бодро пошли вниз. Ущелье было красивое: саксаул, немного зеленой травки, выросшей вдоль влажного еще русла высохшего ручья, цветы, огромные камни в виде чечевицы, разноцветные глины русла… Здесь мы встретили следы волчицы с волчонком, увидели сову, черепаху. Потом показался старый, выложенный камнем колодец диаметром сантиметров шестьдесят и глубиной, наверное, метров семь.
По очереди мы заглянули в него.
— Сухой, — сказал Берик. — Чистить надо.
От колодца вниз ущелье расширялось, вокруг вставали отвесные стены из красной глинистой породы, по-разному источенной водою, так что «ворота» в ущелье были украшены красными колоннами с желтыми капителями, похожими на фигуры воинов. Все это было очень красиво, и настроение было приподнятое, но тут выяснилось, что путь вдоль русла ручья не ведет вниз. Пути воды и пути человека в горах чаще всего не совпадают.
И надо подниматься.
Солнце уже здорово припекало, и чтобы не тратить понапрасну времени, Берик стал подниматься наверх по крутому склону. За ним шла Ольга. Я замыкал шествие. Подъем был крут и утомителен, тем более, что под ногами был мелкий камень или крошащаяся сухая глина.
Берик сказал, что люди, привыкшие к обычным горам, оказавшись на Усть-Юрте, говорят, что подъемы здесь трудные, «будто к земле прилипаешь». Это из-за того, что порода мягкая: сланцы крошатся, сыплются, нога вязнет, соскальзывает вниз. Здесь не ступишь твердо с камня на камень, не толкнешься вверх. И вот на этом подъеме Ольгу стало заклинивать. Стоило нам чуть-чуть подняться над ущельем, как она уже спиной чувствовала страх высоты. Я помню момент, когда она испугалась и ухватилась рукой за кустик ежовника, мгновенно проколов себе ладонь колючками. Боль и страх высоты пригнули ее, и она замерла, вцепившись в крутой склон всеми четырьмя конечностями.
— Сними рюкзак, отдай мне, — пытался подбодрить ее я. — Не волнуйся…
Мы к этому моменту поднялись по склону до высоты, примерно, этажа седьмого. Человеку равнины, чтобы привыкнуть к горам, нужно время. Я избавился от страха высоты только в Кабарде, лет двадцать пять назад, пережив несколько унизительно-подлых состояний полного оцепенения. Потребовалось дня два, чтоб эти приступы прошли.
Я почти забыл об этом неподконтрольном ужасе. Теперь тот же страх вцепился в Ольгу. Я видел это по скованным движениям, которые она делала, пытаясь освободиться от рюкзака, по капелькам пота, мелким бисером выступившим на ее лице, по медленным, качающимся движениям, которыми она пыталась стронуться с места. Что делать — жена моя родилась в маленьком степном городке на юге России и всю жизнь прожила вдали от мира вертикали. Она впервые оказалась на склоне, сравнимом по высоте и опасности со склоном горы.
Вот ей удалось освободиться от лямок рюкзака. Я подполз к ней, чтобы принять его, чтобы она не глядела туда, вниз, где ей мерещится бездна.
Она дернулась, как подломившая ногу лошадь, но встать не смогла. Глаза потухли. Она воспринимала мои слова как простую помеху в эфире ее взбунтовавшихся чувств.
— До конца этого склона осталось метров тридцать. Там, наверху, страх пройдет. Двигайся наверх, не застывай, двигайся…
Когда мы выбрались, наконец, на вершину, оказавшись на небольшой плоской площадке у края чинка — у Ольги было совершенно несчастное, изможденное борьбой с этим нутряным ужасом лицо.
Понемногу она освоилась, в движениях исчезла деревянность, она взяла свой рюкзак, сделала несколько шагов… Пластика восстановлена… Лицо очистилось от пота, глаза ожили…
— Ну и колючий он, этот ежовник, — произносит она первые слова. — Я руку в трех местах проколола.
— Ничего, заживет.
Берик, возможно, даже не заметил, как совершалась эта маленькая драма. Он лежал на краю чинка в своей излюбленной позе, свесив одну ногу вниз, и щурился на солнце.
Здесь в одном месте чинк тоже был сильно разрушен и обломки его громоздились по склону и у подошвы обильными навалами камней.
— Спустимся, дойдем до Карамая, в трещину сходим, там родник есть, водички попьем, умоемся, часа четыре побродим — и тогда уже домой.
— Я не пойду, — вдруг сказала Ольга.
В ее голосе была такая твердость, что я взглянул на нее с изумлением.
Как же так… Ведь мы приехали сюда только для того, чтобы спуститься… Чтобы не просто посмотреть с высоты чинка на живописные окрестности, как последние туристы, а чтобы хотя бы на пядь заступить за… Войти хотя бы чуть-чуть в это пространство…
Я еще раз посмотрел на Ольгу. За девять лет совместной жизни я изучил все степени ее упрямства и прекрасно видел, что она не тронется с места. Мне бы надо было обнять и поцеловать жену, сказать ей слова утешения, сказать, что я не виню ее, что я люблю ее даже в слабости — и, разумеется, не могу просить ее еще раз испытать животный страх, от которого она только-только отошла…
И все-таки в какой-то момент я почти ненавидел жену за слабость.
Ведь мы больше никогда не окажемся здесь, никакого другого шанса не будет…
Она смотрела в сторону каким-то чужим, невидящим взглядом.
Сейчас для нее этот склон, этот спуск, любая возможность рецидива этого ужаса — невозможна. А мы ведь приехали на Мангышлак в наше свадебное путешествие, и было бы гадством превращать его в дорогу ужаса…
— Берик, мы не спускаемся вниз, — глухо сказал я.
Берик посмотрел на нас непонимающе, потом взгляд его потух, и в нем опять засквозило то же отчуждение, которое было вчера, когда мы только повстречались и он увидал двух типичных «туристов» московского, к тому же, разлива, от которых нечего ждать ничего хорошего. Вчера он было изменил свое мнение, но теперь его жесткий взгляд, казалось, говорил: э-эх, я в вас поверил, а вы оказались таким фуфлом…
Теперь уж следовало принимать все: в том числе и презрение этого столь симпатичного мне человека.
Он молча встал и зашагал к машине.
— Плох тот муж, который бросает одну свою жену, — произнес я в свое оправдание.
— Одну ее я не имею права здесь оставить, — отсек он.
Подарил индульгенцию.
— А если я пойду один? — спросил я не слишком уверенно.
— Один ты не спустишься, — твердо сказал Берик.
Невинные увалы, незаметные расщелины там, внизу, обрывчики, которые сверху кажутся просто осыпями… Все это был лабиринт, в котором ориентировался только сам Берик.
В общем, мне не надо было объяснять это дважды. Позавчера мы уже налетели на трещину в земле, которая не пустила нас в «долину замков»…
Не глядя друг на друга, мы сели в УАЗ и поехали обратно. В машине Берик, против обыкновения, закурил, из чего можно было заключить, что он крайне недоволен тем, что ему в попутчики попались такие слабаки. Столько восторгов, и в результате — ничего… Даже небольшого приключения он не сумел пережить с нами. Только погонял машину туда-обратно.
— Заедем в пещеру? — предложил я.
— В пещеру хотите? — повернулся Берик. Словно сомневался, что после случившегося у нас хватит смелости сунуться еще и в пещеру. Но мне было нужно хоть что-то, чтобы доказать, что мы не так плохи. Нельзя было оставлять его в ощущении, что мы попросту обломали хорошо подготовленное им и вполне безопасное путешествие. А про страхи объяснять ему не было смысла: он-то изжил их так давно, что наверняка даже не помнил этого времени.
Снаружи пещера показалась было невысоким, полого уходящим вниз лазом. Там действительно была заваленная камнями плоская площадка, усыпанная катышками бараньего помета: в жару здесь отдыхали архары. Отсюда все обрывалось вниз, свет фонаря тонул в темноте и различал только близкие глыбы камня, меж которыми предстояло пробираться. Я не люблю пещеры, но теперь положение обязывало, надо было спуститься до самого низа. Пещера оказалась небольшой. Мы спустились метров на сто, там был высокий красивый зал и внизу вода. Такая чистая, прозрачная вода, что камень, который лежал близко под водой, казалось, висит в воздухе прямо перед глазами. И в то же время, пытаясь дотронуться до него, я попадал пальцами в воду. Она была такая чистая, что здесь, под землей, границы между воздухом и водой не было. Лишь в глубине возникал едва ощутимый оттенок голубого. Я зачерпнул воды: пресная, вкусная, не очень холодная.
— Смотри, — сказал Берик, — течет куда-то. Не стоит неподвижно.
— Может быть, там дальше есть еще зал. Спелеологи обычно на такой случай имеют снаряжение: куда вода — туда и они. Надо только пройти «сифон», дырку, через которую проходит вода, и вынырнуть уже в другом зале…
Единственной достопримечательностью пещеры были минеральные кристаллы, напоминающие то ли иней, то ли снег… Такую снежную газообразность… Я потрогал один пальцем, думая ощутить холод, но это был не снег, а известняк: какие-то невидимые нити смялись под пальцем, но холода я не почувствовал.
После пещеры Берик малость отмяк, получив подтверждение хотя бы моей решимости (с женщины, по-казахски, спрос небольшой — зачем вот только брал с собой?). Он вновь пунктуально обвез нас по «смотровым площадкам» на краю чинка, после чего мы покатили в Узень. Берик не торопился. Заехал к другу за шубатом — верблюжьей простоквашей — и хотя мы с утра ничего не ели, он, казалось, и здесь пробовал нас на прогиб: скажем мы что-нибудь по этому поводу или нет. Мы смолчали. В результате в Узене при расставании он дал свой телефон.
— Ну, может, приезжай…
XXII. СИДЯ НА КРАСИВОМ ХОЛМЕ
Мы в воздухе. Ольга, уткнувшись мне в плечо, спит на высоте 10 000 метров где-то над Волгой. Мы прожили удивительные дни. Хотя я не взялся бы судить, в каких, на самом деле, реальностях мы побывали. Что за духи, что за силы окружали нас в гостях у туркменов, в темной келье аскета, в гостинице для путешествующих в прекрасном? На Усть-Юрте мы оказались в одном из самых странных мест на Земле. В мире колоссального. Душа была восхищена и опустошена.
Мы очень много успели. Не успел я только одного: как я мечтал, сесть где-нибудь у моря на красивом холме и не спеша подумать о своем каспийском путешествии. Вот и Мангышлак стал прошлым, из мечты обратился в воспоминание, потом ему предстоит еще одна метаморфоза — превращение в текст. Но это нескоро. К тому же я настолько переполнен впечатлениями и мыслями после поездок в Азербайджан, в Дагестан, в дельту Волги — что и не помню толком, о чем я уже говорил, а о чем еще нет. И сидя на красивом холме, хотелось, чертя палочкой по песку, не торопясь подбить кое-какие итоги.
Хотя что могу я «подбить»?
Единственная правда этой ночи — в том, что я чувствую ее голову, уткнувшуюся мне в руку. И ничто не мучает меня. Значит, все правильно. Эти дни на Мангышлаке мы потом запомним как счастье, над которым пришлось поколдовать, потрудиться нам обоим… И именно за то, что мы переплели здесь свои судьбы, наколдовали это счастье, а не что-то иное, я чувствую сейчас особую благодарность, особое нежное доверие к своей жене…
И еще одно важное ощущение — с этим путешествием конец книги не стал ближе. Книга жила в нас, мы — в ней, и все это только еще предстояло прочувствовать и осмыслить, чтобы облечь словом. Поэтому и последний отрезок моего пути — Иран — казался теперь почти столь же отдаленным от финала, как тот первый мартовский вечер в Баку, когда я впервые в незнакомом пустом городе курил под стенами Девичьей башни. Чем дальше я продвигаюсь к концу замысла, тем более хрупким, уязвимым я ощущаю себя как хранитель собранных в пути уникальных смыслов, связать которые вместе могу только я один. Если что-нибудь случится со мной, то никто не допишет, не свяжет, не сплетет эту книгу, даже Ольга. Останется только мой компьютер. Файлы и папки. Написанные тексты. Заготовки. Разработки отдельных тем. Первоисточники. Достроить книгу из этого материала нельзя. Увы, только в начале путь представляется простым, линейным — из точки А в точку Б. Но стоит лишь ступить на землю и отдаться на волю случайностей, как ты внезапно осознаешь, как он извилист, твой путь. Какие странные обстоятельства и переживания наматываются на географию, как разрастается и сгущается пространство, на преодоление которого нужно все больше сил: а ведь силы я не закладывал в маршрутный план, когда все путешествие еще было мечтой. Единственный шанс победить в таких обстоятельствах — самому стать легче и вновь отправляться в путь с открытым сердцем, не боясь, что оно не удержит того, что назначил Господь, сделав наше сердце вместилищем, а жизнь — преодолением… Теперь, когда осталось совсем немного, мне действительно важно знать про себя — способен ли я пройти эту книгу из конца в конец? И что там, в конце? Прежде чем я это узнаю, я должен пройти сначала километраж маршрута, потом толщу текста — и вот только тогда, возможно, откроется что-нибудь по-настоящему важное… Или важно — всё? Весь путь от начала до конца? Я не узнаю, пока не пройду…
ПЕРСИДСКИЙ ДНЕВНИК
I. ПРИБЛИЖЕНИЯ
В зазоре между сном и пробуждением вдруг возникает тревожный зуммер: где-то я не здесь… Нащупываю часы, смотрю на стрелки. Они показывают какое-то несуразное время. Алые, в цвет маковых лепестков, портьеры на окнах. Того же цвета атласные покрывала на кроватях, свернутые в изножье. На стенах с тиснеными бежевыми обоями — две картины, изображающие цветущие маки. Лепестки цвета крови, как портьеры и ковер на полу. Итак, я в Иране. Два кресла из темного дерева, «под старину»; кофейный столик, накладные панели на стенах, имитирующие красновато-коричневую текстуру благородного дерева…
В этой несколько декадентской обстановке я очутился в полпятого утра, по дороге целый час проговорив со встречавшим меня молодым директором Института по изучению Кавказа, господином Хусейни, о литературе. Что характерно, на английском языке. Английский я никогда не учил. Мой активный словарный запас ограничен, как я полагаю, полутысячей слов, почерпнутых в эпохе рок-н-ролла: попадаются среди них весьма специфические словосочетания — «Трубач у врат зари», «Суп из головы козла» или «Сучье варево» — но об основах языка я имею смутное представление и испытываю жестокую нехватку в глаголах. Все ресурсы моего сознания и подсознания я вложил в этот ночной разговор, так что он показался мне (а может, и был) достаточно содержательным. Г-н Хусейни уже знал, что я писатель, и поинтересовался, что за книгу я пишу. Я изо всех сил пытался объяснить, он — понять. Но так или иначе мы остались довольны первыми впечатлениями от встречи. Мне было приятно, что г-н Хусейни оказался столь любезен, что встретил меня глубокой ночью, приятно, что он оказался человеком, с которым есть о чем поговорить. И лицо у него было хорошее: умное, приятно загорелое, интеллигентное, с мягкими европейскими чертами. Помню, что под утро уже на его видавшем виды «Пежо» мы въехали в какие-то странные кварталы: это был старый, черно-белый город, неуловимо похожий то ли на Тбилиси, то ли даже на Париж, но все же другой. Не Европа, не Азия… Иран. Г-н Хусейни сказал, что нарочно провез меня по этим сохранившимся кварталам северного Тегерана, чтобы я понял какую-то изначальную подлинность города. На улицах не было ни души. За закрытыми ставнями еще не горел ни один огонек. Потом я так и не увидел больше этих кварталов…
Переводчик должен был зайти за мною в час дня. Теперь на часах было только десять.
Я наскоро выпил чаю и выскочил из номера. Мне не терпелось увидеть Иран таким, каков он есть, Иран за завесой телевизионного экрана.
За месяц до этого я позвонил в посольство Ирана в Москве и договорился о встрече. На следующий день меня принял заместитель атташе по культуре Сейед Хусейни Табатабайи: невысокого роста приветливый и умный человек в очках. Он понимал и немного говорил по-русски, но все-таки до конца понять друг друга нам помогла переводчица, Юлтан. Очень скромная, но полная глубокого внутреннего достоинства красивая девушка. Когда она появилась, я как-то сразу настроился на верный тон, внятно и коротко рассказал господину Табатабайи о замысле «Каспийской книги», о том, как я поднимал этот проект, пока шаг за шагом не обошел все каспийское пространство, кроме Туркмении и Ирана.
— С Туркменией, по-видимому, ничего не поделаешь, — подытожил я. — Но без Ирана этот проект нельзя считать ни законченным, ни даже попросту состоявшимся.
Г-н Табатабайи внимательно выслушал, покивал понимающе головой и спросил, знаю ли я, что именно я хочу увидеть в Иране.
У меня было два варианта маршрута: «большой» трехнедельный и «малый», сильно усеченный, протянутый с востока на запад вдоль южного берега Каспийского моря от Гюлестана на востоке через Мазандеран до Гиляна 206 на западе.
Г-н Табатабайи изучил прорисовку маршрутов на карте и в глазах его появился какой-то азартный блеск. Похоже, затея эта ему начинала нравиться.
На следующий день я принес в г-ну Табатабайи письмо на имя культурного атташе и прописанный маршрут. Еще днем позже я узнал, что письмо мое прочитано и идея такой поездки в общем одобрена.
Я чувствовал, что если не попаду в Иран сейчас, то не попаду уже никогда. Каждая книга имеет свой срок для созревания и воплощения. Если замысел не исполнен вовремя, то он может и умереть. Стать безразличным для своего создателя. Книга словно устает от самой себя, не хочет больше писаться и, как перезревший плод, просто расползается при любой попытке двинуть ее вперед. А автор… Лучше даже не думать о том, что может статься с автором…
Вопрос с визой решился через пару дней.
В общем, на все понадобилась неделя.
Оставалось разобраться с самим собой. С начала каспийского проекта — то есть с 1999 года — я начал собирать сведения по Ирану. И их накопилось немало. Особенно много я прочитал литературы о мусульманском сектантстве. Это, в общем, объяснимо: иранцы любят поперебирать бусинки богословских четок. Как результат — колоссальное количество ответвлений, «толков» ислама, сект, поэтических прорывов и политических смут, казней, прокоммунистических ересей, мистических ожиданий пришествия последнего имама — Махди — который, по одной из еретических версий, не возвестит новое пророчество, но сделает так, что все прежние пророчества будут поняты в их истинном — и, возможно, общем — значении. Так или иначе, в Иране было пролито немало крови, чтобы мыслить свободно в рамках ислама. Сектантство предопределило культуру спора, обогатило аргументирующую функцию языка, что обеспечило развитость диалога в обществе. Несмотря на репрессии шахской службы безопасности, в 1960–70‐е годы Иран был очень свободной, во всяком случае, свободомыслящей страной. И как бы нам из своего далека это ни казалось странным, именно это свободомыслие и привело к исламской революции 1979 года.
«Исламская революция», осуществленная имамом Хомейни и его сподвижниками, случилась, когда мне было девятнадцать лет. Я был второкурсником факультета журналистики Московского университета и помимо учебы интересовался всерьез только музыкой и одной любовной проблемой, которая осталась таковой даже тогда, когда я решил покончить с нею при помощи женитьбы. Об исламской революции мы, студенты, не имели никакого представления. Впрочем, и об исламе тоже. С точки зрения марксизма-ленинизма, который мы штудировали вместо философии, такое определение революции, как «исламская» было абсурдно. Религиозная революция. Непредставимо. Поэтому я запомнил только несколько обрывков телевизионных трансляций, записавшихся на подкорку мозга: тяжелую фигуру аятоллы Хомейни на каком-то возвышении, колыхание черной толпы вокруг. Несмотря на архаический облик исламского пророка, он страстно говорит, тяжело опуская руку, как Ленин. В мозгу отпечатались возбужденные, бьющиеся в тесноте городских улиц и площадей толпы… Бронетранспортеры, стреляющие в толпу. Толпа студентов, похожих на… обезумевших обезьян, но никак не на студентов университета, штурмует американское посольство…
Но в общем, по молодости и по глупости, мы не вникали в суть происходящего в Иране. Вот агрессия Китая против Вьетнама очень нас возмутила. Была зима, но десятки тысяч студентов пришли на улицу Дружбы, где размещается в Москве посольство Китая, и страстно выражали свое возмущение. Мы с друзьями купили чернильницы и под общий шум разбили их о стену посольства КНР. Никому и в голову не приходило, что и Иранская революция, и агрессия Китая — это важные черты нового, грядущего миропорядка. Китай, видимо, первым из всех стран мирового коммунизма понял, что на этом коммунизме далеко не уедешь, и, наплевав на принципы учения, сделал важный ход — попытался в государственном масштабе экспроприировать чужую территорию и ресурсы. С тех пор Китай — да и не только он — неустанно занят именно этим, только захваты свои осуществляет уже без помощи танков. Тогда же случилась революция в маленькой латиноамериканской стране — Никарагуа. Вот к ней я отнесся с большим сочувствием. Особенно когда лидер этой революции, Даниэль Ортега, изгнав диктатора, имя которого уже неважно для истории, объявил в Никарагуа свободные выборы. Он избавил революцию от крови и насилия, предоставив народу самому решить, нужно ли ему строить социализм и кому быть президентом. Президентом в результате стала Виолетта де Чаморро, которая была главной противницей сандинистского фронта и до самой своей победы не верила, что свободные выборы состоятся и что она на них победит. В свое время русская революция пошла прямо противоположным путем: по приказу Ленина революционные матросы разогнали Учредительное собрание, которое тоже должно было избрать законное правительство. После этого ничто уже не препятствовало диктату большевиков. Ленин оправдывал массовое насилие. Он говорил, что революция должна уметь защищаться, ибо «революция», вернее, власть — и есть главное завоевание народа. Я хорошо знал ленинские работы, которые мы обязаны были конспектировать. И все же оставался при своем мнении: что такое «революция», если не свобода? Свобода важна, как возможность большей глубины, большей полноты жизни. Если этого нет, то ни декларации о «свободе» не нужны, ни революция ничего не стоит. Я был явным диссидентом среди своих однокашников. В революционном движении мне нравились только идеалисты: парижские коммунары, Кропоткин, Элизе Реклю, испанские анархисты 1936‐го года, Антонио Грамши… То есть как раз те, кто не мог одержать убедительной исторической победы. Но может быть смысл революции — вовсе не в победе, а в обогащении сознания новыми смыслами? В закваске идей, которая потом исподволь изменяет общество? Самыми великими революционерами были Будда и Христос, ибо они начали переворот в сознании, который не завершен до сих пор. А Мухаммад с самого начала был практиком, устроителем земных законов и теократического государства, подобного тому, что много позже попытался создать Хомейни.
В 1977 году, когда Иран уже потрясывало накануне настоящего «землетрясения», Clash и Sex Pistols взорвали гранату под названием punk в зале славы рок-н-ролла, который настолько уже стал частью масс-культурного истеблишмента, что все герои рок-сцены стали похожими на экспонаты музея восковых фигур. В общем, героев хорошенько забрызгало дерьмом. Сейчас я совершенно не представляю, почему это так нас занимало, но делать нечего, остается признать это: мы, студенты, интересовались всем, что происходило на Западе. Разочарование пришло потом. А в 1980 году началась эпоха «Аквариума» 207, и за пять лет до начала горбачёвской перестройки мы с некоторым опозданием пережили историю хиппи, «рок-революции» и прочитали сочинения Карлоса Кастанеды, переведенные безымянными переводчиками и размноженные на запрещенных тогда чудо-копировальных машинах — ксероксах. Кастанеда был невероятным духовным прорывом в стране, где классики марксизма по-прежнему считались вершиной философской мысли, как будто не было ни Шпенглера, ни Хайдеггера, ни «бунтующего человека» Камю, ни «Спонтанности сознания» Налимова, ни структурной лингвистики, ни открытия Грофом неизвестных измерений человеческой психики. Но Грофа так никто бы и не прочел, кроме специалистов, если бы благодаря «Путешествию в Икстлан» и «Дару Орла» Кастанеды мы не увидели этот мир как тайну. Тайну силы. Горбачёву нечего было прибавить к этому прозрению. Я это понял в первый же раз, когда увидел его общение с народом на Невском проспекте в Питере. Перестройка, новое мышление, ускорение научно-технического прогресса… Все это можно было воспринимать всерьез, пока не запустились стихийные и тайные процессы истории, о которых ни наши коммунисты, ни мы сами не имели ни малейшего представления…
Мир стоял на пороге глобализации, и некоторые глобальные процессы уже пробивали себе дорогу через любые границы. Мир готовился вступить в третье тысячелетие и становился все сложнее, все запутаннее. Все труднее становилось понимать его.
Одной из таких «непоняток» была Ирано-иракская война. Она началась в 1980‐м, когда я впервые женился. А в 1988‐м, когда моя семейная история закончилась крахом, я с удивлением убедился, что война все еще идет. Иранские орудия монотонно обстреливают Ирак химическими снарядами. Иракские самолеты монотонно бомбят иранские города. С той и с другой стороны линии фронта солдаты, умирая, запекшимися губами шепчут мусульманские молитвы. Это было настоящее безумие. Все эти годы война не прекращалась ни на секунду! В Тегеране сохранялась светомаскировка. Еды не хватало. Крестьяне и подростки, взятые на фронт ополченцами, создавали «живые волны» наступлений иранской армии и гибли тысячами. Но солдаты, идущие вслед за ополчением, добились победы.
Причиной конфликта был небольшой спорный клочок земли — правда, нефтеносной — в низовьях реки Адвандруд (которая образуется в месте слияния Тигра и Евфрата). То, что за это можно положить чуть ли не миллион человек 208, со стороны казалось невероятным и кошмарным сном. Я долго не понимал, почему Хомейни отказался от мира с Ираком, когда через неделю после начала войны Саддам, захватив богатый нефтью «спорный участок» на ирано-иракской границе, предложил Ирану заключить мир. Теперь я, может быть, догадываюсь, в чем дело:
…Иди и гибни безупречно. Умрешь недаром:
Дело прочно, когда под ним струится кровь… 209
Исламская революция в Иране обошлась малой кровью: активных сторонников шаха, казненных по приговору новой исламской республики, было всего полторы сотни человек 210. На самом деле эта цифра, как и все цифры, касающиеся любой революции, в значительной мере взята с потолка. Но существенно важно не это. Среди сторонников революции были люди, которые возлагали на нее очень разные и даже противоречивые надежды. Азербайджанцы в Тебризе хотели не столько возвращения к социальной доктрине ислама, сколько чего-то вроде национальной автономии и современных демократических свобод. В результате резиденция азербайджанского аятоллы Шариат-Мадари была подвергнута обстрелу «неизвестными лицами». Центральный комитет прокоммунистической Народной партии Ирана поддержал курс Хомейни на создание исламской республики, но проявлял чрезвычайную озабоченность демократическими правами и политическими свободами граждан, сферой деятельности партий и профсоюзов и требовал создания коалиционного правительства. Один из ближайших сподвижников Хомейни, аятолла Телегани, склонявшийся к той же идее политического многоголосия, неожиданно получил удар в спину: «неизвестными» были арестованы и отправлены за решетку два его сына. Позднее выяснилось, что к этому делу имеет прямое отношение корпус «стражей исламской революции». Курдская демократическая партия Ирана не менее азербайджанцев была озабочена курдской национальной автономией… В общем, если бы не агрессия Саддама, вполне могло бы статься, что между вчерашними союзниками по исламской революции пробежали бы глубокие трещины и дело кончилось бы таким компромиссом, который был, с точки зрения Хомейни, совершенно неприемлем при создании «исламского государства». Хомейни написал книгу с одноименным названием, он вынянчил свою идею и жаждал ее воплощения в чистом виде. Для этого разнородную революционную массу надо было сплотить. А что крепче всего сплачивает народ? Как показала история, общая нужда и страшные бедствия. Война дала и то и другое. Хомейни превратил «Навязанную войну» в «Священную оборону». В результате автономисты были уничтожены, коммунисты и сторонники компромиссов оказались за решеткой или вынуждены были публично отречься от своих взглядов по телевидению. Кое-кто отделался домашним арестом. Зараженная «западничеством» интеллигенция, много университетских профессоров и студентов покинули страну, но зато идея исламского государства осталась как есть, без изъяна. Миллион погибших — неплохая цена за чистоту замысла. И тем не менее Хомейни добился своего. Народ был сплочен. Более того, мрачный пафос шахидства — подлинное торжество смерти, как сказал бы Ницше — на время стал определяющим настроением в обществе. Один из многих революционных поэтов того времени выразил этот настрой, как упрек влюбленным, которые думают о счастье…
Удивительно
Видеть влюбленных, дорожащих своим телом.
Неудивительно, если жертвуют жизнью,
Удивительно, если ее сохраняют… 211
Во всякой революции есть изнанка. Хомейни был жестким политиком и революционным лидером. Совсем иного толка, нежели Даниэль Ортега. Хомейни хотел дать миру новый шанс, который несла в себе социальная доктрина ислама. Ни на Западе, ни в СССР его не поняли. В 1989 году, незадолго до смерти, он направил М. Горбачёву содержательное письмо, свидетельствующее о ясной и неординарной позиции иранского лидера. Экс-президент СССР на это письмо ответил. Тогдашний министр иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе лично передал Хомейни ответ Горбачёва, но Хомейни остался глубоко разочарованным ответом советского лидера. Тот воображал себя любимчиком Запада, этаким маленьким лордом Фаунтлероем, которым на самом деле не являлся и, кажется, даже не понял главной мысли Хомейни: что строительство нового общества есть прежде всего духовная задача…
В девяностые сама Россия пережила невероятный стресс, связанный с развалом Союза, распадом хозяйства и неожиданной, хотя и вполне логичной, переменой отношения к нам со стороны горбачёвских «друзей» — Соединенных Штатов и Великобритании. Своего они добились и теперь им, в общем, стало наплевать на Россию. Хотя желательнее было бы все-таки добить ее окончательно. Так что России было не до Ирана. И что там происходит, ведал лишь узкий круг специалистов‐ядерщиков, которые доводили и запускали атомную электростанцию в Бушере. От них приходилось слышать, что Иран стремительно набирает обороты после закончившейся, наконец, войны и исполнен решимости выстоять, какие бы санкции ни применяла против него Америка. Говорилось и о том, что новый аятолла Али Хаменеи — Высший руководитель Ирана с 1989 года — является покровителем ядерной энергетики и современных исследований в биологии; он же издал фетву [разъяснение, истолкование], в которой говорилось, что использование или накопление ядерного оружия запрещено исламом. С начала 2000‐х занавес стал приоткрываться. Настало время любопытных: среди моих знакомых это были в основном журналисты, набравшиеся смелости взглянуть, что изменилось за двадцать лет исламской революции. Все, кто в это время побывал в Иране, возвращались с благоприятными впечатлениями, хотя и европейская, и американская пропаганда делали все, чтобы такие впечатления не могли возникнуть. По крайней мере, у цивилизованных людей, считающих себя «западниками» и демократами. Им должно было быть стыдно говорить об Иране что-нибудь хорошее. И тем не менее все мои друзья, побывавшие в Иране, говорили хорошее. Один из них, фотограф Андрей Семашко, сделал фоторепортаж для журнала «Вокруг света» об иранских канатах. Канаты — это древняя система водоводов, прорытых под землей. Вода забирается с верхнего горизонта в горах и по каналам самотеком идет вниз, в города. Во многих кварталах, особенно богатых, канаты проходят прямо под домами. Спускаешься метров на двадцать вниз с кувшином и пожалуйста: чистейшая, живая, природная вода. Протяженность канатов Ирана достигает многих тысяч километров. И создавались они несколько тысяч лет. Андрей был в музее воды в Йазде и совершил путешествие по канатам этого города вместе с человеком, который со своими сыновьями смотрит за системой древних водоводов. Это один из самых уважаемых людей в городе. После этого рассказа у меня возникло ощущение, что если эти канаты сохранились и профессия «смотрителя воды» является по-прежнему одной из самых уважаемых, значит, несмотря на революцию (которой я, повторяю, не понимал) уцелело что-то главное. Глубинные слои культуры народа остались в сохранности. Иран — страна очень древней и очень глубокой культуры. И эта культура не могла быть в одно мгновение сметена событиями иранской революции и войны, которые запомнились мне по телетрансляциям.
Незадолго до моего отъезда мы с Ольгой попали на спектакль режиссера Амира Реза Кухестани «Среди облаков». Хотелось понять уровень рефлексии иранского режиссера, уровень художественного и философского осмысления мира. Спектакль превзошел все наши ожидания. Собственно говоря, делают его двое — мужчина и женщина. По сюжету, они пробираются из Ирана в Европу. Он — странный, полумифический персонаж, которого мать зачала от Духа воды, когда, стоя в реке, оплакивала утонувшего мужа. Кто знает, может быт, из-за двойственной природы вся жизнь его сложилась сложно и трудно. Ему пришлось бежать из родной страны, и теперь он оказался в Хорватии, уборщиком и прислужником в каком-то баре… Он настолько опустошен крушением своего прошлого, что вряд ли чего и ждет от тех лет, что ему еще суждено прожить. Поэтому довольствуется крышей над головой и даровой похлебкой. А женщине, беременной от святого, нужен напарник, ибо она хочет одного — донести свой плод до «настоящей Европы», до Италии или Франции, чтобы родить его там, где новорожденный по закону будет считаться настоящим европейцем. Это, собственно, преамбула, некоторое предварительное условие задачи, которую этим двоим потерявшимся в мире людям предстоит решить. Нет смысла пересказывать спектакль. Действия мало, оно сведено к нескольким символическим сценам и длинным диалогам, раскрывающимся в поле мифов или сновидений. В спектакле нет политики. Все решено на более высоком, символическом уровне. И хэппи-энда нет. Мы так и не знаем, что в конце концов ждет героя и героиню. Важнее, что вдвоем они нашли выход из анабиоза души, обрели любовь и волю к жизни, полной опасных и даже гибельных поступков, но все же поступков, достойных человека.
Амир Реза Кухестани — настоящий театральный новатор — гастролирует со своей труппой по всему миру. Театр патронирует иранская «театральная кампания Mehr Group», и спектакли его с успехом идут в Тегеране. Я опять вспомнил о глубине культуры и понял, что если удержусь на этой глубине, то все будет нормально.
Спектакль успокоил меня, ибо больше всего я боялся, что ничего толком не смогу ни понять, ни даже просто увидеть там, в Иране. Я не боялся, что ко мне приставят «стража исламской революции» и он повсюду будет сопровождать меня. Но боялся непонимания, несовпадения каких-то важных культурных кодов. Боялся, что если мой сопровождающий станет мне врать, я не смогу отличить ложь от правды. Времени не хватит разобраться в этом. Как-то, засыпая, я поймал себя на мысли, что если очередное осеннее обострение отношений между Ираном и США закончится войной и, следовательно, налетами славных американских ВВС, которые своими бомбежками разнесли на куски уже не одну страну мира, то бомбы меньше напугают меня, чем молчание Ирана, недоверчивость и подозрительность Ирана, несбывшееся ожидание Ирана как чего-то все же прекрасного. Война — она все скажет сама за себя. Даже спрашивать ни о чем будет не нужно: я все увижу собственными глазами 212. Думал о том, как буду пробираться от Тегерана к азербайджанской границе (аэропорты, конечно, будут разбомблены, и «выходить» придется через пограничный пункт в Астаре), сольюсь с толпой беженцев, увижу, как говорится, народ «в лицо»…
Подал документы на визу в пятницу, 19 октября. В тот же день мы с Ольгой побывали на концерте суфийской музыки, исполняемой группой знаменитого музыканта Мохаммада Эгбала, вдохновленного поэзией Руми. Сам он был уже далеко не молод и частенько «недотягивал» голосом. Но на флейте играл превосходно. Жена его, европейка, в пении вторила мужу на европейских языках и играла на арфе. Был еще перкуссионист, элегантно одетый мужчина лет шестидесяти, который сидел на сцене, скрестив ноги в белых джурабах 213 и работал с двумя бубнами. И виолончелистка, которая совершенно потрясла мое воображение. Она была одета в красивое платье из красного бархата, но главное — каждый звук своей виолончели она переживала со сладостной мукой. Не смотреть на нее, когда она играла, было невозможно, а смотреть — все равно, что наблюдать женщину в любовном исступлении. Музыка была превосходная. Аплодировали бешено. Примечательно, что концерт состоялся в том же зале Политехнического музея, где 99 лет назад, в 1913‐м, чуть ли не день в день, суфийская музыка впервые прозвучала в России. Интерес тогда тоже был колоссальный: присутствовал Константин Скрябин, автор симфонической «Поэмы огня», кто-то еще из поэтов, из композиторов…
Поразило благородство лиц музыкантов, их простая, но очень изысканная светлая одежда, мощь этой негромкой, но доходящей до самого сердца музыки. Мохаммад Эгбал — один из тех, кто после исламской революции уехал из Ирана. После концерта я успел купить в фойе один компакт-диск. Несколько месяцев потом слушал его, получая все большее наслаждение. Это была утонченнейшая музыка, в своем роде — тоже «поэма огня», но огня просветленного сердца.
Визу мне сделали быстро, но всего на двенадцать дней. «Большой» маршрут, таким образом, отпал сам собой. Я забрал паспорт с визой, на которой необъяснимым образом стал похож на китайского мальчика, и поехал за билетами. Времени что-либо исправлять или сомневаться больше не было. Руми сказал об этом так:
Даже если у тебя нет подходящего снаряжения
продолжай поиск;
снаряжение не обязательно на пути к Господу.
Когда увидишь любого, вовлеченного в поиск,
стань ему другом и склони перед ним голову… 214
Был последний светлый день октября, Москву залила пестрая красота причудливо выцветающего хлорофилла: облетающих уже парков, бульваров, разноцветных кленовых листьев на газонах. Земля клумб была заново перекопана и кое-где присыпана под зиму разноцветными опилками. Синими, желтыми, розовыми. По бульвару не спеша шли люди: это были наши люди, и я примерно знал, куда и зачем они идут, что выражают их лица, их одежда, что они думают. Вместе с ними я включен в общее поле сознания большого города, в котором я родился и прожил всю жизнь. Я вспомнил, что где-то записал имя настоятеля русской церкви в Тегеране, отца Александра, и решил обязательно сходить к нему. Потому что он давно живет на крошечном островке за оградой русской церкви в этом чуждом мне, зыбком, как море, городе-сознании и, следовательно, имеет основания для такого выбора и такой жизни. Наверняка, он настолько освоился там, что обрел свое служение, и зыбкость, как я изволил выразиться, давно уступила место твердой почве под ногами. И мне любопытно — чем он живет? Кто он — миссионер, филантроп или просто нашел себе тихое место и нехлопотную работу? В любом случае, у него есть причины добровольно жить в чужой стране и понимать ее обитателей…
В тот же день я купил билет на Тегеран в крошечном агентстве на Тверской. Рейс был с пересадкой в Баку. Я сразу позвонил Азеру и сказал, что 29 октября вечером прилечу в Азербайджан и он может, если хочет, встретить меня. Поболтали бы пару часов в каком-нибудь кафе.
Азер никак не мог врубиться, все спрашивал, откуда я лечу — из Ирана?
— В Иран, в Иран, — отвечал я, — Днем 29‐го. Рейс «Азербайджанских авиалиний» 63–55. Как всегда. Прибытие в Баку — в 17.30.
Я два или три раза повторил это, но уверенности, что он понял, так и не появилось.
Когда я вышел из агентства, погода резко изменилась, задул злой холоднющий ветер, и вся природа сразу прищурилась, съежилась под этим ветром, и уже не верилось, что только вчера мы с дочерью, Фро, гуляя, ловили солнечный свет на лимонно-желтых листьях в ботаническом саду и весь мир состоял из светящихся цветных пятен. Сейчас он лепился из накрапывающего дождя, подслеповатых сумерек и погасших красок, напоминающих о близости темных зимних месяцев. И ничего нельзя было с этим поделать…
В ночь на 28 октября выпал снег. Мы с Ольгой заклеили на зиму окна в доме, я собрался в дорогу. Сначала я попробовал приспособить для этого дела чемодан, где хранились географические карты и фотографии, но потом все-таки решил, что поеду налегке: то есть с рюкзачком и одной маленькой сумкой. Возьму минимум вещей, фотоаппарат, диктофон и записную книжку. На дне чемодана мы неожиданно наткнулись на несколько фотографий, о которых давно забыли. Я и мой брат Саня сняты за столиком пивной в Гурзуфе. Только что мы похоронили в море прах отца. На следующий день мы, значит, уехали в Симферополь и сели на вечерний поезд, а наутро я сошел с поезда, не доезжая 200 километров до Москвы, на станции Тула. После чего прошел еще час — и мы встретились с Ольгой. То есть этот снимок сделан меньше чем за 48 часов до нашего знакомства. И мы еще ни-че-го не знаем друг о друге. Не знаем, что неисследимым образом нашим судьбам суждено вскоре пересечься, чтобы… Чтобы вот эта жизнь, длиной в девять лет, состоялась. Чтобы замысел книги получил новое дыхание, затрепетал в два сердца — и вышел на стадию воплощения. И теперь мне просто надо пройти последнюю дистанцию, чтобы сказать: знаешь, милая, я все-таки сделал это. Отчего-то было чувство, что я уезжаю надолго, чуть ли не навсегда, хотя виза была всего на двенадцать дней. Мы мало говорили в тот вечер. Все, что можно было сказать, было, видимо, уже сказано.
II. ДЕНЬ ДЛИНОЙ В ДВЕ ТЫСЯЧИ МИЛЬ
В полете моим соседом оказался мужик лет пятидесяти, назвался Эдиком. Выяснилось, что он бакинец, не был на родине 15 лет. Жил в Москве. О большем не распространялся. Но нервничал. За обедом выпил плоскую бутылку джина Befeeter, купленного в duty-free. Немножко размяк, повернулся ко мне и сказал:
— Вот сейчас приеду, возьму такси, доеду до дома и три дня не буду выходить…
— ?
— Тихо-тихо буду сидеть. Выяснять, что с кем стало. К кому можно, а к кому и не нужно стучаться в дверь…
Помню, в бакинском аэропорту я очень быстро прошел все процедуры и направился к выходу в зал прилета, отделенный от внутренних помещений аэропорта стенкой из матового стекла. Не терпелось увидеть Азика, узнать, что стало с ним за эти два (уже два!) прошедших года.
Стеклянные двери разомкнулись передо мной, таксисты, поджидавшие клиентов за хромированным поручнем, наперебой стали предлагать свои услуги, но я только отмахнулся:
— Не надо…
В зале было довольно много народу, из-за близорукости я не различал ясно лица, но все еще был убежден, что не успею я достать из рюкзака очки, как Азер подойдет ко мне и, похлопав по плечу, скажет «привет!».
Но его не было. Я сел в пластиковое кресло, достал очки и огляделся внимательнее. Большая часть пассажиров уже прошла. Толпа таксистов заметно поредела. Последними выходили мамаши с несколькими детьми и люди с большим количеством багажа. Потом и их не стало. Таксисты разобрали пассажиров и разъехались до следующего рейса. В зале осталось всего два-три человека. Справа в глубине был бар, где можно было скоротать время за кружкой пива, слева — обменник валюты. Появился охранник в штатском, пристально вгляделся в меня, как будто запоминая, но ничего не сказал.
Я не выдержал и достал телефон. Набрал номер Азера. Почти разу услышал его характерное: «Алé!»
— Ты где, Азик? — с изумлением спросил я.
— А ты где? — зачем-то спросил он.
— Я здесь, в зале прилета, в аэропорту.
— А, — сказал Азик. — Ну тогда выходи через южное крыло, мы прямо тут и стоим. Белая машина.
— Азик, откуда я знаю, где южное крыло?! Ты не мог бы просто подойти в зал прилета? Сразу меня найдешь: я тут один.
— Просто иди на выход из этого зала и снаружи сразу нас увидишь: белая машина…
О черт! Что еще стряслось? Азер раньше так бы не поступил.
Я подхватил сумку и под взглядом охранника, который внимательно вслушивался в наш разговор, пошел к выходу.
Худшие мои предположения подтвердились: Азик был пьян. Я ни разу не видел его даже слегка выпившим, и почему-то это поразило меня. Когда я забрался в машину — огромный, безвкусный и роскошный белый джип — он обнял меня и облобызал. И прежде чем представить своим друзьям, почему-то сказал: «а это — мои телохранители». И сам же засмеялся.
Видимо, это была шутка.
Один, Эльдар, был громадный темнокожий талыш 215. Он еле умещался в салоне, такое все у него было огромное: огромная голова, огромное тело, руки, кисти, даже пальцы рук. На лице, темном, как у Иблиса, сверкали белки глаз. Другой был тщедушного сложения и рядом с Эльдаром казался просто седовласым мальчиком. Как, впрочем, и я.
— Мы встречали тебя вчера, — нетвердо сказал Азер. — Нам сказали, что рейс задерживается до пяти утра. Мы сели в баре и стали ждать. Какой-то идиот обманул. Рейс в пять часов тоже не пришел.
— Я же сказал, что прилечу сегодня вечером, — зачем-то сказал я. Хотя любые объяснения были бесполезны: было видно, что Азик пьет. И уже не первый день.
Мне хотелось выяснить, как складывается его жизнь, что с его отъездом в Германию, что с работой, что с мамой и что мы будем делать эти четыре часа до рейса на Тегеран.
— Может быть, просто заедем к тебе? — спросил я.
— Не-э, — сказал Азер. — О черт, у меня даже язык заплетается… Перед мамой я в таком виде не покажусь… — Он подумал. — Лучше посидим где-нибудь спокойно, а потом я тебя отправлю в аэропорт, а нам надо отогнать эту тачку в Исмаилы. Помнишь Исмаилы? Тот ресторанчик в горах, где мы обедали? Вот, хозяин хочет взять эту тачку.
Мы доехали до какого-то дешевого кафе на девятом километре, Азик заказал мне ужин. Сам есть отказался, но, правда, выпивать тоже не стал. Эльдар сказал, что оставит нас на часок, а потом заедет за Азером и увезет его: уже темнеет, а путь неблизкий и дорога горная.
— Ладно, — сказал Азер.
Я очень хотел узнать, как у него дела, но он только отговаривался:
— Ешь, ешь…
В конце концов я понял вот что: с тех пор как Азика уволили, найти работу он так и не сумел. Два года сидит без работы. Иногда перегоняет машины из Турции в Азербайджан. Дети выросли. Недавно приезжал из Германии старший сын, сказал, что хочет завести там дело, попросил денег. Азик отдал последние 15 тысяч евро. Мама не уехала ни к брату в Батуми, ни к сестре в Торонто. Видимо, семья решила, что ей лучше остаться на родине. Под это дело родственники скинулись Азеру на новую квартиру в новом доме…
Азер был уже не пьян, но как-то совершенно растерян. Ведь, рассказывая мне о своем житье-бытье, он сам как будто подводил итог этим двум минувшим годам. И что же? Работы нет, жены нет, детям он больше не нужен… Вот мне он был искренне рад, и я был рад. Особенно потому, что когда-то назвал его другом и никогда не сожалел об этом. Но вот — плохо другу моему. И история до банальности обычная — погибает хороший человек…
В кафе работал телевизор, сообщая о разного рода бедствиях во всем мире: в Париже — снег. В Штатах — какие-то невиданные наводнения. Наводнения в Польше, в Малайзии… 29 октября 2012 года — можете проверить по газетам. Затем пошли новости из Карабаха. У нас в России не знают — да никого это и не интересует — что там продолжается какая-то тайная война. Показывали азербайджанских беженцев с их жалкими пожитками, переправляющихся на глохнущем, захлебывающемся грузовике через реку. Загнанных в реку, беспомощно разбредающихся коров… Мост, захваченный боевиками. Правда или вранье эта передача? Кто эти боевики? Армяне? Наемники? Они вооружены армейским оружием, у них тяжелые пулеметы…
Кому это выгодно? Кто на самом деле хочет, чтобы это продолжалось? Кто хочет, чтобы война все время тлела? Хотя бы в телевизоре. Хотя бы в умах. Поди-ка, ответь. Дагестан, Армения — Азербайджан, ситуация вокруг Ирана — все это трещины, из которых сочится кровь и безумие…
Через час вернулся Эльдар и, наклонившись к Азику, сказал, что пора ехать.
Лицо Азера исказилось какою-то горькой гримасой:
— Сейчас, сейчас… Только посажу Василия в такси.
Машина пришла через десять минут.
— Когда ты обратно? — спросил Азер. Он вдруг сообразил, что все кончилось. И мы можем с ним больше не увидеться. Никогда.
— Обратный билет у меня на десятое ноября. Но если получится, я бы на денек раньше приехал сюда через Астару. Тогда бы, может, и поговорили по-человечески.
— Приезжай, — сказал Азер. — Обязательно.
— Я постараюсь.
— Обязательно приезжай.
Я сел в такси, он — в этот дурацкий джип, и мы разъехались в разные стороны.
Шофер уже знал, что надо ехать в аэропорт.
— В Москву летите? — спросил он, чтобы не скучать.
— Нет, в Иран.
— В Иран? — не удивился он. — Интересная страна.
— Почему интересная? — спросил я.
— Ну… Там как-то люди не боятся работать…
Он сказал эту фразу, как будто подумал вслух — и замолчал. А я ее, естественно, запомнил, но понял только потом. Вот, скажем, в Азербайджане человеку неловко сказать, что он работает на стройке каменщиком. Или наладчиком оборудования. И уж тем более рабочим. Сельскохозяйственным. Это непрестижно. Назвавшись рабочим, он выставляет напоказ свою бедность, отсутствие «связей» в обществе, отсутствие друзей, которые бы ему помогли занять пост почище. Уважаемый человек должен быть как минимум бизнесменом, а еще лучше — крупным государственным чиновником и бизнесменом в одном лице. А в Иране все совершенно иначе… Это вопрос сознания и ответственности. Вопрос, если хотите, справедливости… И на самой глубине — это основной вопрос исламской революции… Право на труд и на достоинство трудящегося человека.
В аэропорту уже собирался народ на ночной рейс в Тегеран. И первый иранец, которого я увидел, это был мужчина лет сорока пяти, элегантно одетый до самых носков, с первой сединой в волосах и глубокомысленным раздумьем на красивом лице. Он держал на коленях ноутбук и, как мне показалось, был погружен в работу. Еще был парень — не такой элегантный, но тоже с планшетом: играл в шахматы. Много было простых людей, вот как бы советских. Я таких хорошо знал, ничего о них не могу сказать плохого. Они, может быть, не в курсе новинок моды и культуры, но зато не испорчены, трудолюбивы, обычно отзывчивы. Один был тяжело больной старик, кажется, раковый. Он лежал на скамейке с полузакрытыми глазами и иногда вздыхал, ощущая сильную боль. Может, он из Баку летит в Тегеран лечиться? Медицина там, говорят, хорошая…
Минула полночь.
Объявили посадку на рейс. Старуха стала будить заснувшего старика. Мужчина, элегантно одетый до самых носков, наморщил лоб: похоже, сигнал прозвучал не вовремя, что-то так и осталось недоделанным в его работе, какая-то мысль безнадежно «зависла». Направляясь к выходу, я еще раз взглянул в его сторону. Экран компьютера еще светился. На нем видна была недоигранная партия в нарды.
И еще была красавица… Нельзя без красавицы. Я заметил ее, когда всех уже слили в «накопитель» — крошечный зал с сотней кресел. Она села прямо напротив меня. Синие туристские ботинки на грубой рифленой подошве, джинсы, обтягивающие красивые ноги, желтая майка с вырезом, часы в зелено-фиолетовом ремешке-корпусе; поверх майки — клетчатая мужская рубаха-ковбойка, поверх ковбойки — длинный черный свитер, закутавшись в который, она легко могла скрыть приметы своего модного «вольнодумства». Густые волосы распущены, висок подбрит, музычка в наушниках, но, опять-таки, на шее — какой-то клетчатый платок, в который она могла мгновенно спрятать свою вызывающую красоту. Кожа смуглая, сама тоненькая, карие глаза… Невероятная красавица! Сидела, скучала, потом, перехватив мой взгляд, достала из рюкзака отличный Nicon и от скуки стала фотографировать ползающую по полу муху. Так ли ей нужна была муха? Или она хотела показать себя во всей красе?
Винтовой двухмоторный самолет стоял на поле аэродрома в свете прожекторов. Все по очереди уже втянулись по трапу в брюхо самолета. Но я жду. Не хочу подниматься прежде, чем поднимется она: игру надо доигрывать до конца.
Только мы вдвоем стоим теперь у трапа.
— Ну что же вы стоите, проходите, — сказал я по-русски и сделал приглашающий жест.
Жест она поняла и победительно улыбнулась в ответ…
Чернота. Ночь над Каспием. Потом на дне этой ночи становятся видны россыпи огней. Как будто колонии каких-то светящихся микроорганизмов на дне моря. Все побережье мерцает скоплениями облепивших его желтых и зеленых фосфоресцирующих бактерий. Потом опять черный провал — пролет над горами — и Тегеран: гигантский светящийся организм, во всю видимую ширь раскинувший разноцветные волокна своих нервов.
III. ТЕГЕРАН БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА
Первый человек, которого я встретил, выйдя из отеля Ferdowsi Palace, был какой-то идиот, который схватил меня за рукав, сунул мне в руки визитку, что-то прокричал по-английски и стал разворачивать перед лицом альбомы с фотографиями. Он оказался гидом, платным гидом по Тегерану, и тут же, при гостинице, имел свой офис. Я быстро улизнул от него и, пройдя вперед пятьдесят метров, смешался с уличной толпой.
Трескотня, которая разбудила меня, оказалась трескотней мотоциклов. Их здесь десятки тысяч. Правил дорожного движения почти не существует. Но улица! Какое-то неуловимое смешение восточного города с… Ночью я так и не нашел подходящего слова. Жалюзи магазинчиков напоминали Европу, хотя сами лавочки здесь выглядели победнее и продавали не модные бренды одежды или посуды, а весь вещный мир в его странных и подчас парадоксальных формах: я видел морской якорь, корабельные цепи и цепи для собак, книги, орехи, инструменты новые и старые, бутики очень хорошо сшитой и очень недорогой одежды, развалы фруктов, овощей, радиодеталей — будто весь город был невероятных размеров рынком. За три часа я прошел по главной улице вдоль открывающихся лавочек, посмотрел, как мужчины толпятся у газетного киоска, увидел небольшую, человек в шесть-восемь, очередь за хлебом, где тоже были одни мужчины. Потом мимо меня проехал мотороллер с прицепом, в котором сидела целая команда мусорщиков в желтой униформе. Когда я навел на них фотоаппарат, они радостно захохотали и стали приветственно размахивать руками. Обычно те, кого я снимал, спрашивали меня: «Where are you from?» — и когда я отвечал «From Russia» — это искренне радовало их, так что некоторые даже поясняли соседям: «Ру´ссия, ру´ссия». С точки зрения английского языка это было неправильно, но для персов, видимо, так звучало привычнее.
Потом я куда-то свернул, прошел узким переулком, где сфотографировал несколько магазинчиков женской одежды, зашел в пекарню, где два парня как раз готовили свежую партию хлеба, и пытался поговорить с продавцом медицинских тонометров: у него был маленький офис и он сидел в нем за столом, заслоняя своею массивной фигурой весь дверной проем. Он поразил меня своей стопроцентной европейскостью. Большой с залысинами лоб, голубые глаза, абсолютно правильные, выразительные черты лица, аккуратно подстриженная седая бородка европейского профессора. Он хотел мне что-то показать, объяснить, как пройти куда-то, но из этого ничего не вышло, его английский был еще хуже моего. Из всего, что он сказал, я понял только одно слово — «house». Я улыбнулся, кивнул и пошел по переулку дальше.
Ну и под конец через красивые, с литой чугунной решеткой ворота я вышел на широкую, мощенную серым камнем площадь: с одной стороны ее возвышалось исполинское, тоже серое здание, которое не могло быть не чем иным, как зданием правительства. Над входным порталом были распростерты стилизованные под барельефы царственной династии Ахеменидов 216 крылья орла, капители массивных колонн поддерживали свод крыши затылками дородных быков, а лестницу, спускающуюся к площади, украшали барельефы копьеносцев, скопированные со стен Ападаны, дворца Дария I в Персеполе. Короче, вся громоздкая символика Персидской империи была пущена здесь в ход, чтобы придать этому зданию неприступный и величественный вид. Через площадь, в тени парка, помещалось здание в два-три этажа, несоразмерно маленькое по сравнению с серой правительственной твердыней, но куда как более красивое. Двухэтажные крылья цвета песка, узкие окна, по сторонам украшенные голубыми, на бухарский вкус, изразцами, разбитые сетью позолоченных рам, дробящих стекла, как витражи, на множество геометрических фигур. Венчали здание купола небесного цвета.
Здание это было обнесено решеткой, и пройти в него можно было, только миновав пост охраны.
Я решил, что это не что иное, как шахский дворец…
Я повторял ошибки всех путешествовавших, в первый раз нырнувших в мир незнакомого города: меня интересовало все. Газеты, их названия, их отношение к официозу, их независимость; марки автомобилей и мотоциклеток («Райка», «Рмоз», «Аршиа» и «Хонда» иранской сборки). Первые встречи, первые реакции людей всегда кажутся особенно важными, и неудержимо тянет про них рассказать, хотя, как легко догадаться, эти впечатления только потому так врезаются в память, что они — яркие, первые. Но поверхностные. И неоткуда взять глубины в этот первый день. Со своим нулевым опытом ты обречен наблюдать кипящую поверхность жизни города. Большого, многослойного города, имеющего свой такт и ритм, свои неудержимые потоки и тихие заводи, нервные узлы и зоны расслабления, центры кипящей активности и всеми, кажется, позабытые улочки с двумя-тремя прохожими вдалеке. Единственное, что я понял хорошо — а я бывал в разных городах Европы и Азии и могу точно сказать — есть в городе стрём, или нет. Так вот, в Тегеране для меня никакой опасности не было.
А первые впечатления были об одежде: обычная одежда мужчин (джинсы, кроссовки, футболка) резко контрастировала с громоздким, как казалось, облачением женщин, с ног до головы одетых в черное. Нет смысла углубляться в эту тему, но, как и каждого, кто впервые приезжает в мусульманскую страну, меня заворожили силуэты женщин в черном и сама одежда, в которую они облачены — чадор. Носят его и матроны довольно почтенного возраста, и молодые красавицы, подчас еще закусывая головную накидку, как это при жизни Пророка делала его дочь Фатима. Дело не в чадоре — его ношение не обязательно — а в выборе стиля. Часть иранских женщин сознательно этот строгий «черный» стиль выбирает. Другие — студентки и молодящиеся — дамы нередко довольствуются эвфемизмом, то есть коротким, чуть выше колена, легким плащом, платком и джинсами (нужно, чтобы ноги были закрыты). Но есть и отклонения от этого канона. Наиболее дерзок стильный наряд девушек из состоятельных семей, куда обязательным элементом, как у вчерашней красавицы, входят горные ботинки, джинсы, мужская рубаха навыпуск и фотоаппарат Nicon. Именно Nicon, а не какой-нибудь другой. Платок при этом может схватывать лишь пучок волос на голове (так в 60‐е ходила в Москве Белла Ахмадулина), главное, чтобы он был. Но я успел заметить, что иранские женщины редко пытаются выйти за рамки принятого большинством стиля. Хотя магазины предлагают им десятки, если не сотни, вариантов одежды, облачась в которую они не погрешили бы против правил, предписываемых мусульманской моралью. Модные шляпки, береты, пальто всевозможных фасонов, газовые платки, модные туфли — все это есть и предлагается в изобилии. Но иранки не спешат сменить старые наряды на новые. Очевидно, самовыражение в одежде им не слишком-то свойственно, или они относятся к этому иначе, чем женщины Европы.
Глазея по сторонам, прогулял я так долго, что мне пришлось чуть не бегом бежать в отель, где уже должен был ждать меня переводчик. Я вернулся в Ferdowsi Palace. Поинтересовался у дежурного, не спрашивал ли меня кто-нибудь. Нет, никто. Я отправился в номер. Подождал минут пять. После чего не выдержал и стал звонить г-ну Хусейни. Однако прорыв в английском языке, который я совершил вчера ночью, окончательно подорвал мои силы, и теперь я тщетно пытался выразить свое недоумение тем, что времени — час, а переводчика все нет. Г-н Хусейни вяло отбивался от моих попыток быть красноречивым и наконец, не выдержав, передал трубку кому-то другому:
— Скажите, что мы можем сделать для вас, и мы сделаем, — сказал приятный голос по-русски. — Переводчика вашего зовут Мохсен Руста, он уже выехал и задерживается, вероятно, из-за пробок. Эта информация вас удовлетворяет?
— Да, — сказал я. — Мохсен Руста. Я выйду в бар и выпью кофе. Передайте ему, если он будет звонить.
— Хорошо. Мы ждем вас.
То, что я по привычке назвал «баром», таковым, конечно же, не являлось: в Иране спиртные напитки запрещены и, как я был убежден, нет ничего хуже, чем с запахом алкоголя изо рта попасться в руки полиции (хотя за все утро я так и не увидел ни одного полицейского). Так что «бар» был просто кофейней или маленьким ресторанчиком, который работал круглые сутки, в то время как второй, большой, закрывался после завтрака и открывался снова только в пять вечера.
Я написал записку переводчику: «Уважаемый г-н Руста!.. », в которой указал свое местонахождение, и повесил ее на ручку двери.
Черный, плотный, как борец, распорядитель или хозяин кофейни мигом очутился передо мной, до блеска надраивая полотенцем кофейную чашку.
— I want one coffee cup and some cake… — попробовал я.
— One turkish coffee? — поинтересовался хозяин.
— Yes. One strong, one good coffee and pie.
— Delicious, — заключил он и добавил, что и кофе, и пирог мне сейчас доставят.
Я думал, что «по-турецки» мне сварят тут же, в джезве на песке, но пришлось подождать, пока чашка густого, ароматного кофе с куском политого шоколадом кекса спустится ко мне на грузовом лифте.
Я огляделся вокруг.
«Кофейня» представляла собой зальчик неправильной формы, где умещалось столиков девять или десять. Некоторые были совсем низкими, и рядом с ними любители восточной неги могли возлежать на коврах. В углу висела накрытая платком клетка с канарейкой, которая несколько раз с силой пробовала свой голос. Напротив была низкая сцена с тремя стульями. Но для музыки было еще рано. Попытки расплатиться поставили меня в тупик: традиционная иранская валюта — риалы — настолько обесценилась, что министерство финансов собирается ввести ассигнации нового порядкового достоинства — туманы, которые позволили бы сократить несколько лишних нолей. Скажем, доллар стоит 10 000 риалов, и ничего с этим не поделаешь, как бы сурово не смотрел с купюры аятолла Хомейни. Но пока министерство собирается, народ давно уже считает деньги туманами. В общем, мне сказали сорок два, я и дал сорок два. Девушки на кассе заулыбались и стали мне говорить, что я сделал что-то не так.
— How much? — еще раз переспросил я.
— Fourty two tumans, — сказали они.
У меня не было никаких туманов, поэтому я просто сунул руку в карман и, достав из него целую жменю бумажных денег, протянул девушкам. Они, как птички, выклевали из моей ладони почти все, что в ней было, отдали мне чек и отпустили в легкой растерянности.
IV. МОХСЕН
В холле гостиницы я заметил двух пассажиров вчерашнего самолета, которые с видимым удовольствием сидели под листьями украшающих холл растений, утопая в мягких зеленых креслах. Просто сидели, блаженно улыбаясь. В Баку номер в такой гостинице стоит долларов триста, а то и больше, а здесь — всего сорок пять, поэтому бакинцы могли потешить себя роскошью. Угловым зрением я заметил, как какой-то парень поднялся из такого же кресла и, не спуская с меня взгляда, тронулся ко мне. Я остановился.
— Господин Голованов?
Видимо, г-н Хусейни сообщил ему мои приметы.
— Мохсен Руста?
— Да, да…
— Что ж, давайте знакомиться…
Мы прошли в номер. Мохсену, как выяснилось, было двадцать три, но навскидку я дал лет около тридцати: он уже утратил прогонистость фигуры, животик круглился под светлой рубашкой, каштановые волосы начали редеть со лба, очки с сильными плюсовыми диоптриями заметно уменьшали его глаза. Казалось, они слишком близко посажены. Мохсен принадлежал как раз к европейской, белокожей породе персов. Я вспомнил людей, которых повидал за три часа утренней прогулки: то была настоящая галерея самых разных человеческих типов и племен. Я быстро стал отличать собственно персов от родственных им, но более сухих, поджарых афганцев, индусов, арабов, армян и тюрок. Последние были представлены азербайджанцами из иранского Азербайджана и туркменами с Востока — из Гюлестана и Хорасана. Их оказалось не так мало: то и дело на улицах попадались круглолицые девушки, завернутые в черный чадор, с узким разрезом глаз. Кипение разнородных этнических типов, собственно, и делало Тегеран похожим на сказочную столицу Востока…
Улыбка, которая растягивала губы Мохсена, делалась все напряженнее и все беспомощнее. Он, видно, не мог «включиться».
— Что, трудно было добираться? — спросил я. — В Тегеране пробки? Как и в Москве?
— А-а, — наконец, выдавил он из себя, ловя брошенный мною спасательный круг. — Нет, я добирался недолго. Просто мне позвонили в университет во время занятий — срочная работа. Сказали, что вы остановились в отеле «Фирдоуси». Но в Тегеране четыре отеля с таким названием. И пока я выяснял…
— Мохсен, а вы… Может быть, лучше на «ты»? Ты учишься? В университете? На каком факультете?
— Факультет иностранных языков, — ответил Мохсен. — Изучаю русский и французский. Мне сказали, что вы говорите также и по-французски? И я подумал, что раз так, то мы обязательно поймем друг друга. Parlez-vous français?
— Oui, je parle français, mais il me semble, qu, il fallait mieux, si nous allons tout de même parler russe. Au moins, tu pourra enrichir ta langue… 217
— Mais oui, oui…
— По-моему, нам надо сейчас отправляться в Институт изучения Кавказа. Они ждут нас. Ты знаешь, где это? Знаешь директора, г-на Хусейни?
— Нет, я с ним не знаком. Но адрес у меня записан.
— Сейчас уже без пятнадцати два. В два мы должны быть на месте.
V. ВОПРОС РЕБРОМ
Мы вышли на улицу, Мохсен быстро выловил в потоке машин такси, и мы поехали в институт. Почему-то, возможно, вследствие нашего ночного разговора с г-ном Хусейни, я полагал, что мне придется прочитать сотрудникам краткую лекцию о современной русской литературе. В этой уверенности я пребывал, когда мы приехали в незнакомый квартал и позвонили в дверь офиса. Два этажа, несколько комнат, кулер в коридоре, ксерокс, на котором я попросил скопировать мой маршрут для Мохсена, и превосходные карты Каспийского моря на стенах. Именно те, о которых я мечтал — где море и его «окрестности» представлены целиком, а не кусками, в зависимости от пограничного размежевания примыкающих к нему стран. Все сотрудники, включая директора, были молоды, думаю, не старше сорока. С господином Хусейни мы познакомились еще ночью. Он по-прежнему был в джинсах, свежей белой рубахе и тонкой синей кофте. Другой сотрудник — Махмуд Ахмадиниа, на визитке которого значилось, что он-то и возглавляет сектор Кавказа, был одет еще более свободно — вместо рубашки на нем была футболка и неопределенно-серого цвета легкая куртка. Он прекрасно говорил по-русски.
— Как странно, — сказал я. — У России масса проблем с Кавказом, а института, изучающего эти проблемы, нет. А у вас нет проблем с Кавказом, но институт Кавказа есть. Как вы это объясните?
— Я думаю, Россия начинает не с того конца, — мягко улыбнулся он, но за этой мягкостью чувствовалась довольно твердая убежденность знающего вопрос человека. — Если бы Россия сперва поняла, в чем дело, и только потом принимала решения, вы получили бы на Кавказе другие результаты…
— Хорошо сказано, — вынужден был согласиться я.
Третьим оказался Али Калирад, лет тридцати с небольшим, в оранжевой рубашке навыпуск и кепке, лихо сдвинутой набок на рыжей голове. Это был парень что надо! Давненько не видал такого веселого и лукавого лица. Как потом выяснилось, он был уроженцем Мазандерана, одной из северных провинций, которые нам и предстояло посетить. Больше из института никого не было. Судя по количеству рабочих мест, в нем работало еще человек пять.
Когда церемония знакомства подошла к концу, я спросил, с чего мы начнем. Мысль о лекции, которую я должен прочитать, терзала меня: с каждым часом, с каждой минутой я чувствовал себя все дальше от русской литературы. Поэтому когда г-н Хусейни, вежливо кашлянув, сказал, что начал бы все-таки с обеда, поскольку они давно дожидались нас и ничего не ели, я испытал нежданное облегчение. Бог даст, эту проклятую лекцию вообще не придется читать… Мы спустились на этаж ниже и оказались в столовой, где, действительно, на длинном столе стояли еще горячие контейнеры из фольги: рис с курицей и немного овощей. Обед в институт привозила какая-то фирма. Следующим пунктом программы был поход в дружественное турагентство, владелец которого был специалистом по северным провинциям и любезно согласился в подробностях рассказать, как нам стоит ехать, где останавливаться и что смотреть.
Но мне не хотелось ускорять процесс. К этому времени — а прошла уже большая половина дня — у меня созрел вопрос. Я уже рассказывал, что последним моим «воспоминанием» об Иране были сюжеты теленовостей тридцатилетней давности. Я сказал, что давно интересуюсь Ираном, но следить за тем, что делается в стране, извне сейчас очень трудно. Не знаю, кто составляет сводки российских видеосюжетов и world news. Но впечатление от них об Иране — довольно мрачное. А в Европе 99% населения уверены, что иранцы — фанатики, от которых можно ждать чего угодно, а в самом Иране творится черт знает что. И вот, — завершил я, — я приезжаю в страну — и что вижу? Нормальная страна. Спокойная, доброжелательная…
— Так в чем же вопрос? — спросил г-н Хусейни, видимо нервничая.
— Он спрашивает, в чем вопрос, — перевел Мохсен.
— Вопрос можно сформулировать так. Об Иране абсолютное большинство людей ровным счетом ничего не знает, хотя считает нормальным относиться к нему с предубеждением. Никто не знает, что такое «исламская революция». На памяти остались только кадры тридцатилетней давности, когда весь Тегеран ходил ходуном и революционеры казались слепыми фанатиками. Никто не представляет себе, что значит — перестроить общество, исходя из религиозных принципов. Но я вижу, что Иран, что бы там не говорили, — нормальная страна. Это чувствуется по людям. По их поведению. По атмосфере на улицах. Выходит, за тридцать лет произошли большие изменения. Вот я и хочу знать: что такого произошло, что Иран снова выглядит нормальной страной?
Вопрос неожиданно выскочил ребром. Вот, как будто я поскользнулся, упал на пол и сломал себе ребро. И все сотрудники института смотрят на меня, не смея поверить, что все это действительно произошло. В глазах их читаются жалость и сострадание: шло, шло вроде нормально — и вдруг такой неловкий вопрос. Не знаю, что на меня нашло. Но, видимо, тогда вопрос о революции занимал меня всерьез. И я не стал подыскивать для него какую-то политкорректную форму, высказался напрямик.
На минуту в комнате воцарилась оглушительная тишина.
Потом г-н Хусейни, вежливо кашлянув, позволил себе как директору института первым взять слово. Начал он издалека и отметил, что в Иране изначально авторитет духовных правителей был выше авторитета светских властей мусульманского мира — багдадских халифов. И, например, каждому человеку в Иране известно, что когда халиф Мамун ар-Рашид, персонаж сказок «Тысячи и одной ночи», в 809 году отправился в Бухару и Самарканд усмирять мятеж Рафи-ибн-Лейса, он не смог добиться силою оружия ровным счетом ничего и вынужден был обратиться за помощью к имаму Ар-Ризе, духовному вождю. При котором край сам собою затих 218. И с тех пор позитивный, деятельный шиитский ислам прокладывает себе дорогу. Во время конституционной революции 1905 года мусульманское священство тоже было на стороне народа.
— Наши улемы 219 приняли тогда участие в новом устройстве Ирана, в создании нашей конституции, — почти торжественно произнес г-н Хусейни. Впрочем, это был переломный момент во всей его речи. — Во время конституционной революции имам Хомейни был маленьким ребенком. И какой-то, пусть детский, опыт переживания революции у него был. Шах тоже стремился к модернизации в Иране, но не путем развития науки, а путем подражания американскому образу жизни…
Поняв, что сейчас мне будет рассказана вся история иранской революции, я попытался спрямить разговор, сказав, что я в курсе политики последнего шаха.
Но г-н Хусейни упорно довел свой рассказ до конца, рассказав о железной дороге, построенной по велению шаха на колоссальные деньги, но абсолютно ненужной Ирану.
— Лишь когда в 1941‐м советские войска и войска Великобритании заняли Иран, мы поняли — сказал он, — для чего она, эта дорога…
Еще на стадии проработки маршрута я обратил внимание на то, что железнодорожные пути протянуты по северу Ирана в виде большой восьмерки. Такая схема железных дорог идеально подходила для быстрого вторжения русских войск в северные провинции, которые с конца XIX века считались российской зоной влияния, тогда как на юге распоряжались англичане. Соперничество России и Англии за Персию и, в более широком смысле, за преобладание на Востоке было в начале ХХ века столь острым, что война между ними не случилась, можно сказать, только благодаря чуду. Но судьбе было угодно, чтобы и в Первую, и во Вторую мировую войну русские и англичане воевали как союзники. И тогда железная дорога пригодилась совсем для других целей…
Г-н Хусейни был директором научного учреждения и речь свою выстроил в форме доказательного доклада, который нельзя прервать, не рискуя нарушить цепочку рассуждений. К тому же прерывать руководителя было бестактно. Он добавил, что после Второй мировой войны все отрасли экономической и политической жизни Ирана подмяли под себя американцы. По инициативе президента Кеннеди шах провел ряд реформ, получивших название «белой революции» или «революции шаха и народа». Традиционная экономика Ирана не была готова к жесткой капитализации. Появилось множество очень бедных людей. Импорт разнообразных товаров с Запада угнетал промышленность и торговлю, это всех возмущало. Традиционная иранская семья отказывалась принимать то, что пропагадировалось шахским телевидением. Офицеры армии ненавидели американских военных советников. Преподаватели и профессора в университетах противились «вестернизации», которая привела к расслоению общества и распущенности нравов…
…В общем, когда протест назрел, единственным человеком, который имел козырную политическую программу переустройства общества, был имам Хомейни. В 1963‐м он был арестован, затем выслан в Турцию, оттуда перебрался в Ирак, в священный шиитский город Неджеф, а еще через 14 лет — во Францию. И уже оттуда, после того, как по стране, не утихая, пошли волнения, он вернулся в январе 1979‐го, чтобы возглавить революцию и придать ей специфически-религиозный характер. Это была единственная возможность, которая могла изменить неустойчивое и зависимое положение Ирана. И победа революции стала новым посланием, адресованным миру. На меньшее Иран (и имам) были не согласны. Они чувствовали себя провозвестниками новой эры…
Не успел г-н Хусейни закончить свою речь, как рыжий хитрован Али Калирад, лукаво улыбнувшись, предложил мне взглянуть на то, что произошло, с разных сторон. Он сказал, что революция — это не что-то безличное. Это прежде всего множество людей, которые в ней участвуют и по-разному ее воспринимают.
— Если бы мы оказались в России во время революции, то мы бы, наверно, тоже пошли в Красную армию. Хотя лет через десять мы, скорее всего, все равно погибли бы в Сибири…
И он рассказал несколько притч, которые по-своему красноречиво свидетельствуют о людях и о времени.
Отец Али родился в деревне в горах, которые отделяют Иран от северных провинций. У них в селении женщины никогда не носили хиджаб и испокон веков здоровались с мужчинами за руку. А мать Али родилась по другую сторону этих гор, в провинции Мазандеран. Ее родители были религиозные люди. Они хотели, чтоб она носила хиджаб и чадру, как это было принято у них в деревне: только глаза было видно. Между этими селениями тридцать километров. А вся жизнь устроена по-разному. И когда мать Али вышла замуж за его отца и переехала в деревню мужа, она была удивлена и изумлена — как это мужчины и женщины здороваются за руку? И поначалу не пожимала руку мужа. Хотя она была образованная женщина. Но такова сила традиции. Не нужно никакой революции, чтобы сменить один обычай на другой. Но чтобы вся страна жила в согласии — необходимы общие принципы.
Вторая история повествует об участии Али в исламской революции. Он родился в 1980 году, в деревне отца. Поблизости была другая деревня, откуда был родом шах, Мохаммед Реза Пехлеви. И все жители этой деревни до революции с гордостью носили фамилию Пехлеви — как у шаха. Когда Али подрос и стал шестилетним сорванцом, революция в основном победила. Шах Мохаммед Реза бежал в Каир, где вскоре и умер. Но всем же хотелось побыть революционерами. Мальчишкам тоже. И вот они отыскали на родине пехлевийцев старуху. Они заставляли ее повторять: «Шах плохой, шах плохой», но она даже слышать не хотела этих слов, говорила, что о шахе так нельзя говорить, а под конец приходила в бешенство. И задача мальчишек как раз и заключалась в том, чтобы взбесить ее. Это был их вклад в общую революционную борьбу. Навряд ли старуха даже понимала, что шах не только покинул Иран, но и умер. Она была сумасшедшая.
И третья притча: про ветерана. Али знает в родной деревне человека, который работает охранником в супермаркете. Он часто рассказывал своему сыну, что когда началась революция, он мечтал присоединиться к революционерам. Он и его друзья создали отряд для защиты революции и спустя некоторое время этот человек стал милиционером. Когда началась война между Ираном и Ираком, он ушел добровольцем на фронт в первый же день. Он это сделал как боец исламской революции, поступил согласно своим убеждениям. Потом прошли годы. Война закончилась. Сейчас он снова работает охранником в супермаркете, как будто ничего не изменилось. Не имея государственной работы даже. Так что в его жизни после революции все осталось по-прежнему. Он озабочен теперь тем, чтобы его сын получил хорошую государственную работу…
— Вот, — завершил свой рассказ Али Калирад и хитро усмехнулся из-под козырька кепки. — Я рассказал вам три притчи, три мнения, три воспоминания о революции. Так что сколько людей, столько и мнений, все по-разному ответят вам на вопрос: что произошло, как было и как стало. Когда-то казалось, что в теократическом государстве рок — рок, да? — я говорю об иранском роке — это невозможно… А теперь оказывается, что он есть…
Разговор явно грозил затянуться, и я уже сожалел, что так некстати всколыхнул потаенные глубины сознания моих новых знакомых. Но теперь уж делать было нечего. Настала очередь Махмуда Ахмадиниа. Он высказался взвешенно. Он напомнил о времени: с 1979 года прошло уже больше тридцати лет. Те, кто были тогда солдатами революции или воевали на войне, частью состарились, а частью умерли. Сменились поколения. Как ни странно, сами «борцы исламской революции» часто не знали арабского письма, чтобы правильно читать Коран. Среди них было много энтузиастов, которых мир считает фанатиками. Наверно, в этом есть доля правды. Они требовали отменить музыку, потому что она не имеет отношения к исламу. Но теперь, когда они собираются на праздник годовщины революции, они поют песни. Те песни, которые они пели в молодости, отправляясь на фронт. Музыка — это память об их молодости, об их подвигах. Новые поколения — тот народ, который вы сейчас видите на улице — намного больше знакомы с основами ислама, с Кораном. У молодежи иное понимание того, что такое религия. Я, — сказал Махмуд, — поступил в университет в 1998 году. Тогда большинство девушек носило полный хиджаб. Прошло двенадцать лет. Я отучился в университете, прошел магистратуру и аспирантуру. И что же? Лет десять назад девушки почему-то перестали носить хиджаб. Они носят только платок. Незаметно все изменилось. Но чадру вы больше в Иране не увидите. Еще пример: когда я учился и жил в общаге, ректор университета как-то проходил по коридору и вдруг услышал за дверью одной из комнат музыку, которую тогда называли «неподобающей». Он забрал у студентов кассеты, и вообще, их поведение расценивалось… ну, почти как преступление. Эта история стала даже известна. Прошло тридцать лет, и на экраны выходит фильм, где звучит та же музыка, и никого это даже не удивляет. Так что же изменилось? Что, главное, изменилось в сознании, внутри? Когда вы спрашиваете: что произошло? — это повод подумать для самих нас. На такой вопрос с ходу не ответишь…
Все высказались. Я от души всех поблагодарил. Это был непростой разговор. Непростой прежде всего для моих новых знакомых. После этого поход в дружественную турфирму казался сущей безделицей. Все облегченно вздохнули и заулыбались. Напоследок мы сфотографировались все вместе на память.
Офис туристской фирмы оказался под боком, и мы дошли до него пешком. Хозяин агентства, Садех Хейдариниа, выглядел как аристократ. Длинные волосы обрамляли его худое благородное лицо с большими глазами. Тонкие пальцы с холеными ногтями перебирали принесенные нами карты. Он сообщил две неприятные новости: во‐первых, из-за религиозных праздников у людей образовалось три свободных дня и все поспешили ими воспользоваться, чтобы съездить домой или навестить родственников. На север билетов нет ни на поезд, ни на самолет. Остается автобус, но он идет до Горгана (города на юго-востоке каспийского побережья) чуть ли не девять часов. И второе: попасть с каспийского побережья в Казвин, чтобы посмотреть оплот исмаилитов — замок Аламут — невозможно. Только на карте кажется, что там есть дорога. На самом деле через горы, как известно, есть только две автомобильные трассы. И с этим ничего не поделаешь.
— В Аламут надо ехать из Тегерана, — сказал он. — Но на этом вы потеряете полтора дня.
Тонкая бровь его приподнялась, он повернулся ко мне, как бы желая знать, готовы ли мы пожертвовать своим временем, чтобы взглянуть на остатки орлиного гнезда «старца горы» Хасана ас-Саббаха.
Я отрицательно покачал головой. Сколь бы ни была оригинальной богословская доктрина исмаилитов, создавших внутри ислама учение, по духу противоположное ортодоксии, — принести в жертву время мы не могли. Кто знает, как пойдет у нас движение по основному маршруту? Уложимся ли мы в отведенные нам дни? Лишнего времени у нас не было, и я попросил Мохсена перевести г-ну Хейдариниа, что мы были бы ему очень благодарны за консультации по основной части маршрута. Садех Хейдариниа в знак согласия медленно склонил свою большую голову на тонкой шее и пошел говорить как по писаному. Благодаря ему в нашем маршрутном листе появились новые названия: крайняя восточная точка маршрута — туркменский городок Гондбад-е-Кавуз в предгорьях Аладага, замок Баладе и деревенька Юш к северу от Нура (приморского городка, где мы планировали остановиться), замок Рудхан и горное селение Масуле — тоже в горах, но к северу от Решта.
Мохсен едва успевал записывать за нашим гидом-наставником. Все остальные, в том числе и я, убаюканный воркованием непонятной мне речи, еле удерживались, чтобы не заклевать носом. Я не помню ни конца нашего разговора, ни того, как вновь очутился в гостинице. Помню, что Мохсен был рядом. Он попросил отпустить его в общежитие, чтобы он мог привести себя в порядок и приготовиться к завтрашнему дню, который я рассчитывал провести все же в Тегеране, так как в первый день не успел даже мало-мальски оглядеться.
VI. КАНАРЕЙКА
Мало прожить день, надо прожить и вечер. Вернувшись в номер, я заварил себе крепкого чаю и долго потягивал из кружки бодрящий напиток. На улице стемнело, хотя время едва перевалило за шесть. Сидеть в гостинице не имело смысла. Я решил на свой страх и риск пройтись по Тегерану вечером. Как выяснилось потом, ни страха, ни риска никакого не было. Для начала я заглянул в магазинчик компакт-дисков. Он был мал и беден. Разобраться, что за музыка продается, было нелегко. Надписи арабскими буквами ни о чем мне не говорили. По-видимому, все это была традиционная иранская музыка: сетар — трехструнный инструмент с круглым, как у банджо, корпусом и характерным «скользящим» звучанием, напоминающим гавайскую гитару; флейта и бубны. Допускаю, что в Иране отношение к музыке, как к некой универсальной гармонии, в которой слышится голос самого Бога, сохранялось дольше, чем в Европе, и отлилось, как и в поэзии, в традиционные жанры. Однако я не был уверен, что предо мною — музыка традиции. Встречались диски с маркировкой sufi music и все равно, пяти-шести компактов было недостаточно, чтобы потеснить современную сладкоголосую эстраду, предлагавшуюся в изобилии. Из известных мне мировых исполнителей рок-музыки, джаза, соул, реггей, фанка, французского шансона или совсем уж безобидного, «фонового» стиля «эмбиент» не было никого. Ничего этого иранцы к себе просто не пустили. Даже невинных, как дети, Beatles. Даже лучших из лучших — Майлза Дэвиса, Нила Янга. И даже Кэт Стивенс, который в 70‐е написал несколько хороших альбомов, а потом заявил, что музыка для него была только этапом на пути к Аллаху (он стал правоверным мусульманином и даже сменил имя на Юсуф Ислам), не нашел себе места на прилавках магазина в Тегеране. Зря старался. Он англичанин, а англичанин здесь в первую очередь ассоциируется с Западом, и только в последнюю — с мусульманством. Поэтому ни фильмов западных, ни мультиков, ни «Рэмбо», ни «Ледникового периода» — ничего этого не было вообще. Не говоря о «Криминальном чтиве», «Прирожденных убийцах» и других жестоких культовых кино западной цивилизации. Нелегко отстраниться от продукции масс-культуры, которую потребляет чуть ли не весь мир. Но, как выяснилось, возможно. Тем более в такой огромной и богатой творческими закоулками Империи Культуры, как Иран. Другое дело, что общество, уже не состоящее из «призывников исламской революции» первого поколения, как правило, не обходится без собственной масс-культуры. Сладкоголосые певцы — это только одна сторона вопроса. По большому счету масс-культ ислама — это индустрия паломничества в ее современном виде.
Самым трудным оказалось перейти улицу. Я родился в Москве. Более того, мой отец и мой дед родились в Москве. В нашей генной памяти запечатлелся как первый автомобиль, который по случайности мог сбить и покалечить пешехода, так и сверкающие лавины машин, своею беспощадностью напоминающие мясорубку. И все же в Москве я всегда могу перейти улицу. А в Тегеране у меня не хватало духу шагнуть в сплошной поток автомобилей и мотоциклов. Нигде не было ни «зебры» перехода (впрочем, вряд ли она произвела бы хоть малейшее впечатление на водителей), ни спасительных светофоров. Дорожной полиции тоже не было. Я постоял на краю тротуара, наблюдая. Несколько человек, выжидавших, так же как и я, выбрали момент и бросились в стремнину железной реки. Вскоре я понял, что главное — это подловить едва уловимый, в долю секунды, зазор между автомобилями и без страха бросаться вплавь через бурный поток. Между водителем и пешеходом существует своего рода договор: если пешеход «поймал момент» — его право. Водители и мотоциклисты притормозят, пропуская его, и это так же верно, как то, что в Берлине или в Париже водитель остановит машину, даже если ты переходишь улицу не в том месте. Короче, я набрался духу и шагнул вперед. Первая половина пути далась мне довольно легко, я только пару раз, как тореадор, сделал энергичные движения тазом, чтобы не быть по случайности задетым — и вот уже я на разделительной полосе. Теперь они едут с другой стороны. Полагая, что главное — смелость, я уже без страха шагаю вперед и… о, ужас. Прямо на меня несется мотоцикл, поперек которого, на багажнике, лежит двухметровое бревно. Торчит на метр с одной стороны и на метр с другой. И мне надо как-то успеть до того, как ударом этого бревна я буду смят, опрокинут и брошен под колеса встречному потоку.
— Стой!! Стой!!! — дурным голосом заорал я по-русски и воздел руки. Какая-то машина тормознула, я спрятался за нее, и мотоцикл с ковром поперек багажника (это бревно оказалось скатанным ковром, черт возьми!) пронесся мимо.
Некоторое время я раздумывал над тем, как буду переходить эту реку вспять. Ведь ужасно глупо в самом конце странствий быть сбитым ковром в Тегеране и отправиться на тот свет или в больницу, так и не узнав, зачем ты сюда приехал.
Место, куда я попал, перейдя улицу, представляло собой небольшую площадь, от которой расходились улочки менее оживленные. На площади, несмотря на обилие разных магазинчиков, не утихала уличная торговля. У одного на лотке была целая россыпь полудрагоценных камней. Другой, по-цыгански хитро заглядывая в глаза, раскручивал светящиеся волчки. Третий продавал колокольчики. Наконец кто-то потянул меня за рукав и что-то горячо зашептал на ухо. Уж не гашиш ли он продает? Я медленно повернулся к неизвестному искусителю. Он раскрыл лежащий на земле чемодан. В нем… о, господи… Пустые болванки CD и DVD, в точности такие же, что продаются в лавочке напротив.
Продают деньги из раскрытых чемоданов 220.
Продают (а люди победнее покупают) пластиковые контейнеры вареной фасоли, жареную кукурузу, разные орехи, донар-кебаб. Я хотел попробовать на обратном пути, но когда минут через сорок вернулся на площадь, все уже было распродано и от начинки донара оставались одни поскребыши. В общем, мне не повезло: улица, которую я выбрал для прогулки, была скучновата. Она вся была отдана под электронику. Целые кучи мобильных телефонов, детали компьютерных процессоров, акустические системы, батареи, бытовая электроника, свет…
Самым необычным оказался магазин, где продавались провода и кабели. На витрине, оформленной в стиле внутренностей подводной лодки, были куски и жгуты кабеля разной толщины и разного сечения. Никаких красот. Жесть. Провода, оплетка и клеммы. Самым уютным оказался магазин по соседству, где продавались люстры, торшеры, настольные лампы и ночные светильники. Блестки, блики, тонкое гранение света, свободно льющийся тонкими струйками хрусталь, пронизанный светоносными прожилками, какие-то светящиеся кораллы всех возможных расцветок и форм, оплетка из световолокна, напоминающая мерцающие в темноте искусственные лианы… Изобилие. Современный магазин, одним словом. Мое внимание привлекли две женщины, которые выбирали светильник. И хотя обе были молоды и обе красивы, одна была в чадоре, а другая — в плаще, модных туфлях и цветном платке, подчеркивающем высокую стильную прическу, которую делают себе иранские модницы. Глядя на них, я подумал, что вопрос о «традиционной» или более современной одежде на глубинном уровне, несомненно, подразумевает различное отношение женщин к эротике. Спрятать — или открыть? Сгладить или подчеркнуть? Привлечь цветом или завернуться в черный чадор? Зрелая красавица прячет плоть своего тела, чтобы привлечь любимого распаковкой желанной награды. А молодежь нетерпелива, потому девушки простодушно подчеркивают свои сокровенные изгибы обтягивающими джинсами и другими деталями одежды. Но кто выигрывает? Когда-то и европейские ловеласы возгорались страстью, увидев лишь щиколотку женской ножки, которую молодая особа «случайно» обнажала, садясь в карету после утренней мессы…
За магазином светильников улица была темна: почти все лавочки уже были закрыты. Но не было чувства, что там, в темноте, таится опасность. Осмелев, я заглянул в длинный, может быть, проходной, двор. Одинокий фонарь в глубине освещал шелудивые, давно не крашеные стены домов, покрытые граффити, которые я не умел разобрать. Зеленная лавка, возле которой был припаркован старый «Шевроле», отбрасывала мутный свет на желтые стены домов, железные двери, мусор на мостовой. В глубине двора, сидя на картонных ящиках, переругивались два бомжа. Мне показалось, что они в неадеквате. Приняли какого-то яду. Мало ли их, ядов?! Сама их жизнь на дне города, вне человечества не есть ли такой яд? Вопросы, вопросы. Первый день в новой стране — это настоящая пытка вопросами. Только потом каким-то чудом начинаешь кое-что понимать…
Еще был человек, который привлек мое внимание на полутемной Улице Электричества: аккуратный, интеллигентного вида мужчина. Я заметил его, еще направляясь туда, в глубь квартала. Тогда меня удивило, как целенаправленно он подошел к мусорным контейнерам и начал рыться в них. Через полчаса, когда я возвращался обратно, он уже все рассортировал: стопкой были собраны газеты, в сумке поблескивали алюминиевые банки из-под безалкогольных напитков. Теперь он бережно складывал свою добычу в рюкзак. Кто он? Что он? Почему он так? Есть среди вопросов и те, на которые я без языка никогда не узнаю ответ. Они могут быть очень простенькими, эти ответы. Но они для меня недоступны. А эти пекари?! За пару слов, сказанных на ломаном английском, они впустили меня в пекарню на углу площади и разрешили поснимать. Один из них — тот, что месил тесто — был очень похож на моего младшего брата, а другой, который, собственно, лепил хлеб и выпекал его в электрической печи — был небольшой, живой, черноволосый, итальянского типа курчавый уроженец каспийских провинций с улыбкой от уха до уха. Он улыбался мне как лучшему другу, которого давно не видел…
Ну и, наконец, та семейная пара. Просто картина передвижников: «Отец притомился». Она — высокая, статная молодая женщина, в современном цветном платке, с пышной прической, в черной приталенной тунике, джинсах и модных туфлях. Их ребенок: очаровательный мальчуган лет четырех, в голубых джинсиках и курточке с капюшоном. И отец семейства, похожий на недоумевающую собачку. Жена стояла над ним, как судьба. А от судьбы не уйдешь. Я навел на них аппарат — и тут он повернулся и посмотрел прямо в объектив долгим, полным неизъяснимой грусти взглядом без надежды…
Я вернулся в гостиницу и опять заглянул в «кофейню»: там уже дым валил коромыслом. По счастью, не все столики были заняты, хотя народу было много. Оживленную болтовню компаний отчасти заглушали звуки играющего на сцене оркестра. Сетар, флейта и бубны выстраивали простую щемящую мелодию, но главное… Оркестру на все лады вторила канарейка! В свое время я написал небольшой текст под названием «Тайный язык птиц». Главная идея была в том, чтобы сплавить птичье пение с человеческой музыкой. Близкие подходы были у Ийена Андерсона и у Pink Floyd, но глубоко развить эту тему, написать, скажем, птичью сюиту, они так и не смогли. Или не ставили себе такую задачу. Всю весну и лето 2009‐го я записывал птичьи трели. Потом стал подыскивать музыкантов, которые загорелись бы этой идеей: сыграть вместе с птицами. И в результате нашел, как мне показалось, общий язык с Владимиром Тарасовым — авангардным ударником и перкуссионистом, который способен сыграть все что угодно. Он — гений. Но для решения подобной задачи и нужен гений. Я отдал ему свои записи, чтобы, если замысел придется ему по вкусу, он бы придумал, как сплести птичий хаос с ритмом, без которого нет человеческой музыки. Ведь человек и птицы по-разному ткут музыкальную ткань. Некоторое время мы переписывались и даже перезванивались, но качество моих записей было, естественно, невысокое, а других он не нашел или не стал искать, так что в конце концов по тону наших телефонных разговоров и по переписке стало ясно, что идея так и умерла… А мне было невероятно любопытно, как люди могли бы сыграть музыку вместе с птицами. И вот подходящий случай. Канарейка и оркестр. Особенно птичку воспламеняла флейта и эротические звуки сетара. Бубны, напротив, действовали ей на нервы. Я бросился в номер за диктофоном. Мне повезло: когда я вернулся, оркестрик как раз сделал перерыв, а потом начал настраиваться. Едва заслышав дрожащий звук сетара, канарейка выдала такую виртуозную трель, что ей позавидовал бы любой саксофонист. И потом они пошли все вместе — птица, сетар и флейта — и это было что-то неописуемое! Я положил диктофон в корзиночку с хлебом, которую поставили передо мной, и с замиранием сердца слушал. По стилю трели канарейки напоминали игру саксофониста-виртуоза, владеющего ассонансным джазовым звучанием — в первой же пьесе птица оказалась подлинным солистом, люди только задавали тему и чуть-чуть расцвечивали ритм. Я настолько был поглощен происходящим, что не заметил, как ко мне подошел официант и положил на столик меню. Потом он потрогал меня за плечо и показал глазами на диктофон, лежащий в хлебнице. Я тоже показал глазами на канарейку и музыкантов и покивал головой. Официанта это удовлетворило. В меню я отверг roasted chicken & rice и заказал какого-то супчику с чем-то. То есть, слово soup я понял, а все, что было написано дальше — нет. Я подумал, что это не так уж и важно. Ну и в результате мне принесли тарелку супа с сухариками и громадную — высотой в полметра — колбу с длинным горлом и объемистым (литра в два) резервуаром, в котором плескалась мутная беловатая жидкость. Я открыл притертую пробку и осторожно понюхал содержимое. Пахнуло сивухой. Это был, черт возьми, кумыс. Забродившее кобылье молоко. Которое вошло в иранскую кухню, когда в Иран из Средней Азии хлынуло подряд несколько волн кочевников‐скотоводов. Еще одну колбу с кумысом я заметил на столике возле сцены. Зарозовевшие лица и улыбки, то и дело пробегающие по лицам трапезничающих, свидетельствовали о том, что эта бражка уже ударила им в голову. Пяти процентов алкоголя, заключенных в этом пойле, вполне достаточно, чтобы слегка запьянеть. В конце такого дня я и сам бы с удовольствием выпил. Но не кумысу. Этот сивушный дух… Я мгновенно представил утреннюю головную боль. Нет. Интересно: был ли разрешен кумыс в годы «культурной революции»? Очень сомневаюсь. Если уж имя Фирдоуси не упоминалось лишь потому, что он был домусульманским поэтом… А теперь я живу в Ferdowsi Palace, и по городу есть еще три отеля с тем же наименованием! Наверное, так же со временем вернулся и кумыс — под видом «традиционного блюда» тюркской кухни.
Как изменился Иран за тридцать лет после революции! И как долго — те же тридцать лет — он готовил себя к ней. Время течет себе и течет, и до поры ничего, как будто, не меняется. Но и не остается неизменным. Вся исламская революция вызрела в 60–70‐е годы, когда иранская интеллигенция (а как же без интеллигенции?) взрыхлила и подготовила почву для взрыва. В этом смысле показательна фигура Але Ахмада, талантливого публициста, из-под пера которого вышел манифест будущей бури: книга «Западничество». Западничество — это не просто образ жизни. Это смертельная болезнь, подрывающая основы традиции 221. Болезнь, присущая Ирану со времени присутствия в нем колониальных держав, и прежде всего — США. Але Ахмад прошел обычный для иранского интеллигента путь: до 1963 года он был членом Народной партии Ирана, но потом отрекся от идеи классовой борьбы и вернулся в лоно мусульманской традиции. Не он один выступал против «механической» цивилизации Запада, навязывающей Ирану сомнительные ценности «общества потребления». Многие одаренные драматурги, писатели, режиссеры той поры сделали это, пожалуй, еще талантливее. Но политический памфлет Але Ахмада, написанный страстно и просто, был понятен всем, именно он распространялся в списках, именно благодаря ему «западничество» стало синонимом довлеющего над страной проклятия, от которого нужно освободиться любой ценой. Он затрагивает самые больные темы: упадок и отсталость Ирана, «служение и предательство» интеллигенции, ее бездуховность и пустоту, замену традиционных духовных ценностей «ценностью» мира вещей.
Источник зависимости от Запада, источник всех бед и неудач Ирана Але Ахмад видит в том, что с начала ХХ века «наша политичекая, экономическая и культурная судьба оказались в руках иностранных компаний и государств. Духовенство же, по-существу, остававшееся последним оплотом, противостоящим иноземному… под натиском машинизации спряталось в кокон, из которого его невозможно было бы извлечь вплоть до Судного дня… Мы, как народ, отчуждены от самих себя. В одежде, в пище, в привычках, в писаниях журналистов и, что самое страшное, в культуре. Мы действуем на иностранный манер и думаем на иностранный манер, и решение любой проблемы ищем на иностранный манер…» 222 Але Ахмад писал, что девяносто процентов населения Ирана не верит власти, но живет в неразрывной связи с религиозными представлениями и навыками. Все места религиозных и общественных собраний — от мечети и хранилищ воды до центров паломничества, — писал Але Ахмад, — становятся местом, где демонстрируется полное отсутствие уважения и доверия к государству и его делам, где люди поверяют друг другу свои ожидания пришествия Махди, единственного правителя века, который придет, если они будут правильно молиться… 223
Западник никак не связан с народом. Он плывет по воле волн. «Он не соотнесен с историей, и лишен какого-либо понятия о будущем. Зато он заботится о себе, о своей внешности, обуви, машине и доме… Ежегодно он меняет машину на более современную модель, и если раньше в его доме было летнее холодное помещение, были подвал с бассейном, терраса-айван и крытая галерея, то сейчас дома все более стандартизируются. Они — словно виллы на берегу моря, со множеством огромных окон, лампами дневного света. Следующая партия домов напоминает не виллы, а кабаре, набитые показной мишурой… Каждый уголок в таких домах непременно заполнен иностранной продукцией: в одном углу — магнитофон, радиоприемник, в другом — телевизор, в третьем — пианино для дочери, дальше — стереофонический проигрыватель…» 224 В 1961 году, когда Але Ахмад написал эти строки, большинство населения России жило в коммунальных квартирах и двухэтажных бараках с «удобствами» на улице. О «стереофоническом проигрывателе» бесполезно было даже и мечтать. Но время — странная штука: уже в 90‐е эти слова в России прозвучали бы злободневно, как будто были списаны с нашей новой «натуры». Критика Але Ахмада не ахти как глубока. Но главная ее боль — то, что мир духовных ценностей подменяется миром вещей, миром похоти — звучит страстно и убедительно. «Западничество» стало настоящим революционным манифестом. Хомейни надо было только дождаться, когда плод созреет и сам упадет в руки. Культурная революция 1979–80 годов стала временем полного и демонстративного отказа иранцев от всех ценностей западной цивилизации. После этого не стоит удивляться тому, что Иран не признал «демократии» современных Европы и Америки, священным правом которых стало вмешательство в дела других государств и переделывание мира по одному шаблону, который только в культурной и политической среде Европы и Америки может быть назван удачным…
Ну а потом маятник революции достиг крайней точки отрицания и стал возвращаться в равновесное положение. К чему это приведет, мы не знаем. Однако Ferdowsi Palace существует, кумыс продается, а улицы Тегерана, забитые лавками и более современными мини- и макси-маркетами, вновь и вновь возвращают нас в «мир вещей»…
К примеру, бубнов. Не все ли равно, что выхватить из вещного мира? Чем плохи бубны? Я все еще сидел в кофейне, слушая оркестр: бубны в буквальном смысле слова удолбили канарейку и заткнули ей глотку. Она сидела нахохлившись, с ненавистью вслушиваясь в их самодовольный рокот.
Я почувствовал вдруг страшную усталость.
Этот бесконечный день все-таки подошел к концу.
Оставалось выкурить сигарету и отправляться спать.
Я вышел из отеля.
Несколько фонтанчиков, подкрашенные синим, желтым и красным светом, умиротворительно журчали в темноте. Я чиркнул зажигалкой и прошел чуть дальше от подъезда гостиницы. У тротуара напротив притормозила машина. Из нее вышла девушка без головного убора, с неестественно светлыми, видимо, крашеными волосами.
Бесконечный день.
Я понимал, что не нырнул сегодня дальше поверхности, но как мне забыть тех людей, которые потрясли мое воображение? Старика-букиниста в лавке, заваленной книгами с загадочными, написанными арабской вязью названиями. Строгий пробор в его седеющей шевелюре, старомодные бачки, такие же старомодные, подкрученные вверх, но безупречно ухоженные усы…
В этот миг сзади меня что-то шевельнулось.
Я обернулся. Это была ослепительная блондинка.
— Hallo, — сказала она. — Are you turkish?
— Нет, — сказал я, поворачиваясь к ней.
— А откуда же ты? — спросила она, игриво улыбаясь.
— Из России.
— Из России? — она наморщила лобик, словно силясь представить себе, где это — Russia. Но не представила. Мой не слишком приветливый вид, казалось, должен был уже ясно сказать ей, что здесь у нее нет шансов поймать добычу. Я старше, чем выгляжу, и возможность провести время с проституткой представляется мне не лучшей перспективой, чем питье пахнущего сивухой кумыса. Но она еще не поняла, что дело безнадежно…
Я докурил сигарету и аккуратно загасил окурок в земле цветочной клумбы.
— Так почему же ты так похож на турка? — задала блондинка очередной бездарный вопрос, пытаясь продолжить флирт.
— Listen, baby, wont you let me free?
Она посмотрела на меня красивыми голубыми глазами — внимательно, с непониманием. Потом резко развернулась, перешла улицу и села в машину.
VII. ТЕГЕРАН-43.
Утром мы с Мохсеном отправились в русскую церковь. По незнакомому городу я всегда хожу пешком, чтобы «протоптать» хотя бы несколько узнаваемых маршрутов в его лабиринте. На этот раз тропа пешехода первым делом привела нас к российскому (бывшему советскому) посольству. Само посольство когда-то разместилось в усадьбе богатого персидского вельможи. С того времени тут сохранился тенистый парк с огромными кедрами, живописными ивами, отражающимися в прудах, и могучими платанами, в узловатых корнях которых освежающе журчит арык. Но из-за бетонного забора ничего, кроме высоких кедров и более поздних построек из кирпича и бетона, видно не было. Прямо напротив располагалось посольство Великобритании. Как известно, именно такое расположение посольств, которое позволяло, перегородив улицу, создать единый и защищенный со всех сторон комплекс, в свое время повлияло на выбор места для первой конференции «Большой тройки» (Рузвельт, Сталин, Черчилль), которая должна была решить вопрос об открытии Второго фронта против фашистской Германии и обсудить некоторые вопросы послевоенного устройства мира…
Конференцию решено было провести в одной из нейтральных стран. По понятным причинам Европа отпадала. Вся Азия и Океания были охвачены огнем войны, Африка, после разгрома американцами танкового корпуса Роммеля, едва успела остыть. Сталин ни за что не согласился бы на перелет в Западное полушарие в одну из Америк. Таким образом Иран, в августе 1941‐го занятый одновременно советскими и английскими войсками, был, в некотором смысле, идеальной площадкой для встречи.
С началом Второй мировой войны в Тегеран, пользующийся славой цивилизованного и чуть ли не европейского города, в большом количестве стали приезжать состоятельные «беженцы от войны». В том числе и из Германии. Правда, после ввода советских и английских войск новый шах Мохаммед Реза Пехлеви — тот самый, что был низвергнут исламской революцией — подписал правительственный указ о высылке всех германских граждан из Ирана. Но интернациональный коктейль беженцев стал от этого ненамного менее терпким. Они перевели сюда деньги, открыли бизнес и, удалившись от фронтовых сводок, переживали свой «пир во время чумы». Тогда в Тегеране «шикарная жизнь» была нормой, хотя дороговизна была страшная. Все, кто попадал сюда с территорий, хотя бы немного задетых войной, бывали поражены. Переводчик советской делегации на переговорах «большой тройки» Валентин Бережков, в ноябре 1943‐го прибывший сюда из Москвы, где еще сохранялась светомаскировка, а большая часть зданий, включая МИД, не отапливалась, так описывает впечатление от своей первой прогулки по городу: «…Я шел наугад по направлению к центру. Улицы становились все более людными. Здесь уже совершали свой моцион состоятельные жители столицы: нарядные изящные женщины в темных очках, закрывающих почти половину лица, — мне подумалось, что это своеобразная ультрамодная паранджа. Впрочем, в отличие от многих пожилых персиянок, кутавшихся в просторные черные одежды, эти модницы щеголяли в цветастых платьях, плотно обтягивающих фигуры. Их сопровождали не менее модно одетые солидные господа с густо набриолиненными и гладко зачесанными волосами. Массивные кольца на руках мужчин, дорогие серьги, ожерелья и браслеты, украшавшие женщин, — все это как бы выставлялось напоказ, символизируя довольство и богатство, особенно кричащие в этом городе, где рядом давала себя знать нищета… Выйдя на центральную площадь, я свернул в сторону рынка. Его близость чувствовалась. Мимо роскошных лимузинов медленно плелись тощие, тяжело навьюченные ослики…» 225
По каким-то неведомым причинам Рузвельт изначально отказался от предложения Черчилля стать его гостем 226 и поэтому неизбежно должен был стать гостем Сталина. Сейчас с трудом верится в это. Но Сталин постарался. Тем более, что Рузвельт был запуган слухами об агентуре Абвера — немецкой разведки — которой действительно удалось сохранить резидентов на территории Ирана. Больше того, немцы планировали захватить всех трех представителей «тройки» в ходе операции «Большой прыжок», руководить которой должен был любимец фюрера Отто Скорцени. Это был дерзкий и талантливый военный авантюрист, в 1943 году похитивший захваченного американцами Муссолини. Вместе с группой из ста опытных диверсантов Скорцени на планерах особой конструкции неожиданно приземлился возле горного отеля «Кампо императоре», куда, после того, как режим Муссолини был сокрушен американскими дивизиями, был доставлен дуче… Вокруг имени Скорцени поднялась невероятная шумиха. «Его окружили ореолом мистической легенды, превозносили как идола германской расы» 227.
Но и Скорцени не ожидал такой глухой «круговой обороны» в Тегеране. В результате от операции «Большой прыжок» пришлось отказаться, и встреча «Большой тройки» прошла в спокойной, почти идиллической обстановке. В советском посольстве апартаменты Рузвельта, который из-за болезни ног не мог передвигаться иначе как в кресле-каталке, были устроены так, что из своих комнат он мог прямиком попасть в зал конференции. С ним оставались «его собственные повара и официанты-филиппинцы, состоявшие на службе в военно-морском флоте США, но всегда находившиеся при Белом доме и прибывшие в Тегеран вместе с Рузвельтом» 228. Черчилль расположился напротив — в британском посольстве, члены американской делегации — в посольстве США. Благодаря близкому «соседству» Сталин получил от Рузвельта одну дополнительную беседу с глазу на глаз.
Сначала они обменялись соображениями о положении на фронтах. Рузвельт сказал, что хотел бы оттянуть на себя с Восточного фронта 30–40 германских дивизий (в 1943 году на Восточном фронте, где дрались русские, их было 183). Сталин выразил удовлетворение по этому поводу. Сложность для американцев была в том, что им надо было снабжать войска численностью в два миллиона человек на расстоянии трех тысяч миль от американского континента. Впрочем, — добавил Рузвельт, — эту проблему мы решим, так как суда в Соединенных Штатах строятся удовлетворительным темпом…
Разумеется, вступление США в войну резко приблизило конец Третьего рейха. Америка к 1944 году была уже промышленной сверхдержавой. Во всяком случае, количество судов, построенных Америкой, соизмеримо с количеством торпед, выпущенных Германией…
С позиции сверхдержавы Рузвельт высказался о будущем Франции:
— Французам придется много поработать, прежде чем Франция действительно станет великой державой…
На самом деле ему не нравился де Голль, возглавлявший в Англии Национальный комитет сражающейся Франции. Он хотел, после победы в Северной Африке, установить военное и политическое господство как над этой территорией, так и над французским Сопротивлением, которое, с другой стороны, через коммунистов, старался прибрать к своим рукам Сталин. Был специально оговорен вопрос о будущем колоний, в том числе и британских, — в том смысле, что после войны потребуется новый подход к проблеме колониальных и зависимых стран. Америка уже чувствовала свою силу и размышляла — устами Рузвельта — о возможности передела мира под себя.
Было сказано о взаимной заинтересованности США и СССР в послевоенном сотрудничестве. Сталин сказал, что СССР после войны будет представлять собой большой рынок для Соединенных Штатов. Рузвельт живо отозвался, сказав, что Америке «после войны потребуется большое количество сырья, и поэтому он думает, что между нашими странами будут существовать тесные торговые связи. Сталин заметил, что если американцы будут поставлять нам оборудование, то мы им сможем поставлять сырье…» 229.
Совещание в Тегеране получилось необыкновенно удачным. То был редкий случай в истории, когда добрая воля наконец восторжествовала. Рузвельт — как он сам выразился, «по праву младшего» — открыл конференцию словами:
— Как самый молодой из присутствующих здесь глав правительств я хотел бы позволить себе высказаться первым. Я хотел бы заверить членов новой семьи — собравшихся за этим столом членов настоящей конференции — в том, что мы все собрались здесь с одной целью, с целью выиграть войну как можно скорее… 230
Кто знает, может быть, если бы Рузвельту удалось прожить дольше — весь ход послевоенной истории сложился бы иначе? И Сталин не был бы отброшен враждебностью вчерашних союзников в свою обычную паранойю? Может быть, даже репрессии прекратились бы, страна получила бы иной — нормальный, экономический — стимул для роста, нужда в даровой рабочей силе отпала бы, а партнерские отношения связали бы «психиатрический» характер правления Сталина?
Сколько же таких вот тщетных «если…» накопилось в нашей истории…
Но по правде говоря, я не испытал никакого трепета, стоя у ворот, за которыми произошла историческая встреча. Вот в Берлине, возле Рейхстага, купол которого до сих пор представляет собой обглоданную огнем арматуру, чувства были отчетливыми. Было ли это торжество? Нет-нет. Разумеется, я понимаю, чего стоило дойти до Берлина и выиграть войну. И мы по праву говорим о том, что выиграли ее мы, наши солдаты. Но как только слово «мы» произнесено, в самый момент произнесения, происходит подмена. Да, войну мы выиграли, но не мы-нынешние, а мы-тогдашние, наши деды и прадеды. Они выстояли. Они сломали хребет дракону. И нечего нам примазываться к их славе. В Берлине я чувствовал только восторженный ужас перед их, наших дедов, неостановимым уже напором. Не хотелось бы, чисто по человечески не хотелось бы оказаться на их пути к Рейхстагу, когда они рвались вперед сквозь железный ветер, а артиллерия пробивала через городские кварталы сквозные просеки к Бранденбургским воротам…
Я не испытываю восторга ни перед историей, ни перед политиками. Особенно современными. Политиков я, по правде сказать, побаиваюсь. Очевидная недоразвитость человеческой составляющей личности компенсируется у них неимоверной волей к власти, которая и является для политиков единственной ценностью. И этим психам, по иронии судьбы, вверена судьба планеты Земля и населяющих ее людей. Не знаю, что с этим можно поделать. Может быть, все не так, или не совсем так, а может, и вправду мир от начала времен так и устроен. Не знаю.
Но я бы не занимался этой книгой, если бы не считал важной свою миссию, свое путешествие и живое общение, в котором для меня и раскрывается мир. Важна музыка, открытая всем созвучиям, новый сплав, новый джаз. Новый совместный поиск смысла нашего присутствия на Земле. Этот-то джаз нам и придется играть в ближайшие дни вместе с Мохсеном…
VIII. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ
Болтая, мы прошагали полтора километра до бывшего американского посольства. По иронии судьбы в нем теперь разместилась организация, занимающаяся пропагандой ислама и издательской деятельностью в этом роде. Русская церковь с золотой маковкой-веретеном оказалась прямо напротив. Небольшой храм уютно стоял среди высоких раскидистых сосен и выглядел очень красиво. К сожалению, он был обнесен сплошной, гладко побеленной каменной оградой, так что кроме луковки и ската крыши, считай, и видно-то ничего не было.
Мы подошли к воротам и стали стучать. Никто не вышел. На калитке висел замок.
Мне как-то не приходило на ум, что результатом нашего похода может стать такая вот полная неудача. Но Мохсен не склонен был отступать. Чем больше я приглядывался к своему спутнику, тем больше он мне нравился: он рад был, как говорится, стараться. В длинной боковой стене, за которой были какие-то примыкающие к церкви постройки, он обнаружил еще одну дверь и при ней звонок. Долго не отпирали, потом дверь открылась, перед нами возник молодой человек, назвавшийся Мануэлем. Он сказал Мохсену по-персидски, что отца Александра Заркешова сейчас нет.
Я поглядел дальше во двор и увидел там двухэтажный дом и столик под платаном, за которым несколько стариков играли в нарды. Еще было что-то вроде садика — там тоже гулял кто-то. Здание в глубине двора оказалось домом престарелых. Тут жило несколько стариков‐ассирийцев, несколько армян.
— А скоро ли отец Александр вернется? — спросил я.
— Он в Дубае, — перевел ответ Мохсен.
Вот как. В Дубае. Он, выходит, совсем прижился здесь, отец Александр, настолько прижился, что ему и не нужно выезжать за пределы мусульманского мира 231. И служение его тоже здесь…
За спиной Мануэля я разглядел еще женщину. Когда она услышала, как Мохсен переводит мне по-русски, она чуть разволновалась и даже спросила: «кто такие?» — будто у себя самой. Но выяснять не стала и больше по-русски ни слова не произнесла. Мануэль сказал нам «хода´ хафиз» 232, что следовало понимать как «до свидания», и дверь в стене затворилась.
Ничего не оставалось, как возвращаться назад. В планах на сегодняшний день было еще посещение шахского дворца и музея современного искусства. Мохсен был родом из Шираза и Тегеран знал довольно приблизительно. Во всяком случае, мы отправились искать шахский дворец туда же, где я, предположительно, «нашел» его вчера. И он меня не поправил. Прошагав половину расстояния, мы присели возле уличного фонтанчика отдохнуть. Надо было бы выпить кофе и как-то взбодриться, но ни одного кафе нам по пути не встретилось, и мы просто отдыхали в теньке от жары…
Помню, мы говорили о Руми, когда какая-то клемма переключилась в моем мозгу, и мне стало ясно. Принцип стал ясен. На котором здесь все стоит. Дело в том, что уже в глубочайшей древности, по крайней мере, со времен Александра, когда была разрушена империя Ахеменидов, Иран побывал в руках бессчетного количества светских правителей, по большей части чужеземных. Все они в борьбе за власть травили ядом, кастрировали, выкалывали глаза и жестоко убивали соперников и ближайших родственников. Так продолжалось больше двух тысяч лет. И невольно у народа возникла своего рода установка: светская власть — порочна и бессильна. От нее не дождешься справедливости. Да и можно ли ждать справедливости от клятвопреступников, убийц, живодеров и сластолюбцев? Иное дело — люди веры… Помнится, мы в беседе о Руми коснулись того, что мистики ислама очень глубоко разработали учение о человеке. Они досконально, не хуже йогов, изучили человеческую душу и всю палитру страстей человеческих. Ибо если ты пришел в этот мир, чтобы встретить Бога — каким должен ты быть, чтобы не сгореть в Его свете? Чистым. Почти прозрачным, вот каким. Ну и отсюда — вся теория и практика очищения, «внутреннего джихада», ибо, как сказано в хадисе, «твой злейший враг между твоих ребер» 233. Одним из самых опасных врагов человека суфии почитали ту часть души, которая склонна к самолюбованию и называется нафс (она женского рода), чьи уловки могут принимать не только очевидные формы чувственных вожделений, но и с трудом распознаваемые обличья лицемерия или религиозного рвения. Чрезмерное благочестие почти наверняка окажется ни чем иным, чем проделкой нафс. Поэтому, следуя по пути, ученики обязательно останавливались на стоянке нафс и изучали ее свойства. Окончательно избавиться от нафс не считалось возможным (эта часть души связана с честолюбием, а честолюбие — это генератор внутренней энергии), и учителя советовали своим ученикам постепенно очищать нафс, не придавать ее лести большого значения и направлять ее энергию для достижения добрых целей. Но знания о душе и знание о Пути не обретешь в книгах. Необходим наставник. Руми говорил:
Тому, кто странствует без руководителя, потребуется
двести лет на двухдневное путешествие…
Вера в наделенного мудростью духовного водителя, имама, проходит красной нитью через все миропонимание шиизма, через все шиитские ереси, а ожидание последнего праведного имама — Махди — через всю историю Ирана с момента принятия этой страной мусульманства.
Представление о деятельном духовном вожде мусульмане-шииты возводят к пророку Мухаммаду. Мохсен рассказал мне притчу: в эпоху первоначального ислама было несколько мужчин, близких к пророку, которые, восприняв его вероучение, решили целиком посвятить себя религии и ушли в горы. Их жены пришли к Мухаммаду и рассказали об этом. «Наши мужья решили целиком отдаться твоей религии и оставили нас». Мухаммад выслушал и отправился к отшельникам. Он сказал: как же так? Я — пророк. Но я не удаляюсь от людей. Вера идет бок о бок с жизнью, и я должен прежде всего заботиться о своей семье, о жене и детях, а не удаляться от них. Решайте сами, кто тут прав, но ведь я пророк все-таки…
В шиизме невозможно следование «букве», догме религии. Одна из пословиц гласит: если ты положенное число раз совершаешь намаз, но при этом не помогаешь людям — ты можешь не считать себя мусульманином. То же самое высказано в притче о дочери пророка: однажды Фатима вынуждена была в течение десяти часов отвечать на вопросы женщин. Настало время намаза. Кто-то из женщин напомнил ей, что пришло время молиться. Она ответила: если после нашего разговора вы поняли что-то лучше и глубже — это и есть мое служение. Большего мне не надо…
Теперь ясно, почему исламская революция, свергнув власть шаха, перекипев вопросами политического устройства, обратилась к исконным представлениям народа об истинном духовном вожде. И по сей день президент Ирана и парламент (меджлис) занимаются текущей политикой, финансами, вопросами образования и промышленного развития. Они не выходят за эти, весьма ограниченные, рамки. Духовный лидер следит за нравственной силой и здоровьем общества. Он на ином уровне, нежели политики и действующие министры, рассматривает ситуацию в мире, судит о духовном равновесии общества и мерах, необходимых для его поддержания. Иначе говоря, первой фигурой в Иране является все же духовный наставник (осенью 2012‐го это был семидесятитрехлетний имам Али Хаменеи). Президент выполняет важные государственные и международные представительские функции, он даже может по каким-то принципиальным вопросам вступить в дискуссию с имамом. Но он не считает себя духовидцем. В обществе живо представление о духовной иерархии. Это важно: понимать, что мир делится не только на богатых и бедных, не только на начальников и подчиненных, но и на тех, кто прошел долгий путь духовного развития, и всех других, чей духовный опыт значительно меньше. Каждый иранец знает это.
В Иране есть все компоненты работающего демократического механизма. Другое дело, что иранская демократия не приемлет ценностей, которые волнуют западную «сифилизацию» 234. Это может нравиться, может не нравиться, но нелепо думать, будто либеральные ценности Запада, особенно в их сегодняшнем виде, являются универсальными. Для большинства иранцев очевидно, что такое «завоевание демократии», как однополые браки — это даже на уровне биологии есть обычное отклонение от нормы. Гомосексуалы есть везде, в Иране тоже, но важно чувство меры: здесь никому и в голову не придет делать из этого знамя. Потому что такое знамя есть знак вырождения — и ничего более. Идея искусственной матки, которая будет рожать людей от доноров — это бездушный и, видимо, опасный для плода эксперимент, возможный только в больном обществе, которому материнство кажется то ли непосильным бременем, то ли непозволительной роскошью. А журнал Playboy, при шахе издававшийся в Иране — вовсе не символ демократии, а масс-культовый журнал с набором статей, характерных для снобистского «глянца», и фотографиями голых женщин. И всё. Ничего более. Если понять хотя бы это, ситуация в Иране сделается, наконец, объяснимой. Тогда-то и возникает к ней подлинный интерес. Тогда иранский опыт и может быть рассмотрен, как опыт нового общественного устройства, впервые поставленный в мусульманском мире. Опыт новой справедливости. Здравого смысла. Мудрости. Открытости новому. Способности противостоять давлению мирового «большинства». Во всей мусульманской цивилизации нет ничего, подобного Ирану. Именно поэтому опыт Ирана для меня так же интересен, как опыт Японии и Китая, Германии или Франции — стран, где черты Дальневосточной и Европейской цивилизаций проявились наиболее ярко…
В какой-то момент мы достигли понимания. У меня в блокноте было выписано несколько афоризмов Руми, и я зачитал один из них Мохсену:
Усердствуй, чтобы твоя каменность уменьшилась,
Чтобы камень твой осветился качествами рубина… 235
— Вот что важно, если хочешь…
— Но это и есть ислам, — сказал Мохсен.
— Я тоже так думаю.
— Но тех, кто так думает, исламские экстремисты убивают. Недавно взорвали поезд в Ширазе, погибло 15 человек, из них — семеро детей.
— У вас в Иране тоже взрывают? За что?
— Они верят, что если убьют шиита, то сразу попадут в рай.
Я с трудом нашелся что сказать:
— Знаешь, как сказал один умный человек, религий всего две: религия любви и религия ненависти.
— Ты думаешь, люди когда-нибудь поймут это?
День был жаркий, да еще мы с Мохсеном своими разговорами-дискуссиями подняли внутреннюю температуру до отметки, когда кофе стал абсолютно необходим.
— Неужели нет ни одного места, где можно было бы выпить кофе, Мохсен?! — возопил я.
— Знаешь, кофе — это экспортный товар, предмет роскоши. Поэтому в этой части Тегерана мы его не найдем. Кафе есть только в более престижных кварталах…
Пришлось зайти в небольшой магазинчик, где продавались прохладительные напитки и соки. Меня заинтересовал напиток из алоэ. Я подумал было, что у него должен быть очень своеобразный горький вкус, который, может быть, наилучшим образом утолит мою жажду. Но ничего подобного! У напитка из алоэ вкус был приятный, свежий, чуть сладковатый… Так я обрел «Алоэ-Вера» — спасительное питье на все время путешествия.
IX. ЖЕНЩИНА В МУЖСКОМ ВАГОНЕ
В конце концов в поисках шахского дворца мы очутились в том же комплексе зданий, одно из которых я вчера окрестил «правительственной резиденцией», а другое «шахским дворцом». Но если в отношении первого я ошибся лишь отчасти — «резиденция» оказалась зданием Министерства иностранных дел — то в отношении другого догадки мои не оправдались. Дворец, который я вчера принял за шахскую резиденцию, оказался музеем древностей, созданным в 1871 году иранским меценатом и просветителем Хусейном Малеком. Он же собрал здесь библиотеку книг и редких рукописей и превратил свой музей в центр иранистики. Все это мы узнали, уже покупая билеты. В музее я посмотрел на карту Персии времен Ахеменидов, когда величайшая империя мира простиралась от Босфора и Египта до Индии. Потом — на Персию при Сасанидах (время второго расцвета Ирана). Именно в те почти что сказочные времена персидские наместники правили не только Самаркандом и Бухарой, но и Мангышлаком. В музее Хусейна Малека было самое время задуматься, как много раз Персия переживала периоды «сжатия» и «саморазвертывания». Например, государство турок-сельджуков, владевших Ираном в XI–XII веках, было очень обширным — от Сирии и Египта до Средней Азии. Династию сельджукидов смели монголы, которые обосновались в Иране всерьез и надолго. И их владения, как легко понять, тоже были распахнуты от утренней зари до вечерней. А потом что-то случалось, Иран снова сжимался, последовательно перемалывая одно нашествие за другим, одну пришлую династию за другой — и при этом все время оставался Ираном… В этом смысле музей древностей до глубины души потряс меня. Я понял, что если мы задержимся в удивительном собрании Хусейна Малека еще хотя бы на пять минут — нам уже не уйти отсюда. Поэтому, поглядев на монетки из чистого, желтого золота и чудную, дивно украшенную рукописную книгу, заключавшую в себя газели Хафиза, я… решительно развернулся вспять.
— А знаете ли вы, какая коллекция древностей здесь собрана? — укоризненно сказала мне девушка-экскурсовод, видя, что я настроился уходить.
— Да, — сказал я, — но мы ищем Музей современного искусства.
— А вас не интересует наш музей?
— Меня интересует современность.
Когда мы оказались на улице, Мохсен, которому неторопливый, распевный зачин экскурсии по музею древностей явно пришелся по вкусу, стал спрашивать меня, что уж такого я надеюсь найти в Музее современного искусства.
— Понимаешь, — сказал я, — в этом музее сразу будет видно, насколько общество восприимчиво к новому. Насколько новое является для него ценностью. Насколько поиски художника, не всегда даже понятные, важны для социума. Это касается глубины сознания. И в этом смысле неважно, произведения какого именно художника мы увидим…
Мохсен задумался.
В конце концов в Музей современного искусства мы попали только под вечер, часа за полтора до закрытия, перед этим добравшись-таки на такси (такси довезет!) до шахского дворца и, потеряв надежду отыскать ресторан, пообедав на базаре. О дворце почти нечего сказать — вплоть до того, что и я, и Мохсен до самого конца гадали, какому именно шаху принадлежал этот дворец, был ли он главной или только зимней резиденцией правителя. Гладко вычищенные, смахивающие на английские мундиры высших чинов персидской армии, выставленные в экспозиции одного из залов, указывали на то, что дворец мог быть резиденцией Каджаров в последние десятилетия их царствия 236. Дворец давно уже стал музеем, и ощущение музейной заброшенности прочно поселилось в его полупустых залах. Посетителей можно было пересчитать по пальцам. Зато здесь было тихо. Вся территория вокруг дворца, выстроенного по периметру обширного парка, засаженного могучими соснами, грецкими орехами и красивыми южными породами деревьев, была редким уголком тишины и умиротворения посреди шумного, кипящего города. В бассейне с гладкой как шелк прозрачной водой отражался «Зеркальный портал» дворца. Лабиринт отражений, в свою очередь, отразившийся в живом зеркале воды.
Штучка в духе Х.-Л. Борхеса.
Под тихое журчание воды из репродукторов вкрадчиво звучал сетар.
В траве среди деревьев бесшумными тенями крались, охотясь на птиц, персидские кошки.
Посреди «зеркального портала» стоял огромный стол с шахматными фигурами, вырезанными из слоновой кости, словно шах выходил сюда, в иллюзорный мир отражений, только для того, чтобы поиграть в шахматы. Несколько фигур, снятых с доски и поставленных на пол, чтобы отразиться в стенах и на потолке, наводили на мысль, что последняя партия так и не была закончена 237. И снаружи, и в интерьере дворца зеркала были настоящим наваждением: зеркальные прожилки были вплавлены даже в красивейшие изразцы, украшавшие наружные стены, зеркальная амальгама заливала витые колонны, поддерживающие входные портики, и вкраплялась в мозаику вокруг окон голубой дворцовой мечети. Наконец, в интерьере дворца плоский, пошлый блеск зеркал перевешивал всякую меру и обрушивался на любопытствующего каскадами бесчисленных отражений. Воистину, это был какой-то заколдованный лабиринт, в котором каждая вещь пряталась среди десятков своих подобий…
Мохсен потянул меня за рукав, чтобы показать дарственную надпись на часах, подаренных шаху Наср-эд-дину королевой Викторией.
— Ну а кто, по-твоему, еще мог их подарить? — спросил я. — Эмиру бухарскому подарки делал русский царь, иранскому шаху — английская королева…
Базар — вот это было сильно. Мы отправились туда потому, что с самого утра не съели ни крошки, а Мохсен сказал, что уж на базаре-то мы обязательно найдем, чем подкрепить свои силы. Я бредил чашкой кофе. И как будто даже базар обещал мне ее: здесь, казалось, было все. Уже издалека слышно было, как гудит, будто улей, этот… Базар. Это не похоже ни на рынок с торговыми рядами, ни на скопище лавочек. Это — громадный городской квартал. С базара выходили, переговариваясь между собой, сделавшие покупки женщины, у входа что-то покрикивал, зазывая прокатиться детвору, одетый в ливрею кучер в рессорной карете с подъемным верхом, от мощеного серой плиткой перрона отчаливал белый паровозик с вагончиками, везущими радостную малышню. Но сам базар, признаться, пугал. Что-то невероятное творилось в глубине этого странного города в городе, живущего совсем отдельной жизнью.
Здесть кстати отрывок из книги Валентина Бережкова «Тегеран-43». «…Базар раскинулся на огромной территории. Он имеет свои мечети, бани, мусульманские духовные семинарии — медресе. Тут же помещаются и всевозможные кустарные мастерские. Они оглушают перестуком молотков чеканщиков, звоном медной посуды. Сюда же вплетаются выкрики зазывал лавок и харчевен. Ноздри щекочут пряные запахи, дым от поджариваемой тут же на углях баранины, ароматы фруктов, сложенных в огромные пирамиды.
Тегеранский базар — это не только чрево иранской столицы, но и важный барометр политической и общественной жизни страны. Он чутко откликается на все события. Подобно тому, как в Нью-Йорке прислушиваются к Уолл-стриту, в Тегеране говорят: «Базар не возражает… базар волнуется… базар против…» 238
У входа мы сразу натолкнулись на кафе. Это было тесное помещение без признаков комфорта, слишком много народу тут толпилось. Мохсен чуть не через головы соотечественников дотянулся до кассы, протягивая деньги. Я поднялся на второй этаж, удивляясь после разреженной атмосферы шахского дворца, насколько густо здесь кипение народу. Снизу поднимались все новые и новые официанты с переполненными подносами, но мест уже не было, и в результате желтый и белый рис с курицей, традиционный обед среднего иранца, появился перед нами как раз в тот момент, когда над нами уже нависло чье-то большое тело с подносом и обладатель этого тела готов был потребовать место за столом по праву очередности.
Принявшись за рис, я заметил, что напротив нас творится какое-то действо, похожее на игру в тотализатор. Внизу, в проходе базара, стояла порядочная толпа мужчин, выжидая чего-то. Потом на втором этаже открывалась дверь, мужик в усах выходил на помост и что-то выкрикивал. Как мне показалось, порядковый номер. Вскидывалась вверх рука, счастливчика пропускали к усачу, тот совал ему в руку пакет из промасленной бумаги, и тут же толпа исторгала его и вновь начинала роиться в волнительном ожидании.
— Что здесь происходит? Они играют на деньги?
— Да нет, — сказал Мохсен, — просто здесь люди заказывают еду не на стол, а домой. Они делают заказ, получают номер, а потом официант выкрикивает их номер и отдает заказ.
— Обеды на дом?
— Да.
Мы попробовали углубиться в торговые ряды, в вещный мир, чтобы, может быть, наудачу все-таки отыскать кофе в этом мире изобилия, но вынуждены были скоро ретироваться. Мир вещей пугает меня. А то, что как правило, купить ничего не хочется — озадачивает еще больше. То ли я какой-то не такой, то ли мир со всеми этими товарами…
До Музея современного искусства мы в конце концов доехали на метро. Никто не рассказывал мне о тегеранском метро. Просто потому, что оно открылось совсем недавно, в 2008‐м. Вестибюли метрополитена еще не утратили свежего блеска, было много пространства, рассекающих его ярких цветных линий, огней, светлого металла и других простых, но выразительных дизайнерских решений. Классический мрамор, которым был отделан пол и часть стен, не казался тяжеловесным, его «звучание» было приглушено, он оттеснялся на второй план функциональными деталями вроде светящихся указателей и дисплеев, а эскалаторы были выполнены в стиле «металлик». Вот только поезда ходили редко: минут через пять-десять. Так что подъехавший поезд был битком набит людьми. Мохсен сказал, что все дело в нехватке вагонов.
Готовясь к пуску метрополитена, Иран заказал вагоны одной немецкой фирме, но немедленно угодил под «санкции» — и вагоны перестали поставлять. Пришлось самим решать проблему производства вагонов и локомотивов для метрополитена.
— Знаешь, в Ширазе метро уже почти достроено, — сказал Мохсен. — И хотя вагонов нет, мы дождемся, когда они будут. Все, что ни делает Америка, пытаясь ставить нам палки… Так?
— В колеса, — уточнил я.
— Ставить нам палки в колеса, — повторил Мохсен и закончил, — в конце концов делает нас сильнее.
Он сказал это с такой убежденностью, что я вдруг ощутил… что-то вроде неловкости. Неловко чувствовать себя представителем сдавшейся страны.239 Мы сами, будто выполняя чужую и, более того, недобрую волю, сдали науку, образование, здравоохранение, армию — то, чем по праву гордились… А Иран… Он внутренне сейчас сильнее России. Он готов, в отличие от нас, к любым испытаниям. Люди готовы к жертвам во имя своей родины…
А мы?
Подошел состав. В дверях началась давка. Любопытно, что за время существования метрополитена — четыре года — кодекс поведения в метро еще не выработался: ожидающие на платформе начинают входить в поезд раньше, чем люди выйдут из вагонов. Вопрос — «на следующей выходите?» — еще не сформулирован, поэтому на выходе рискуешь налететь на входящего или преспокойно стоящего спиной у самых дверей человека.
Еще одна тема метро: женщина в мужском вагоне. Формально вагоны делятся на мужские и женские. Но когда мы входили в вагон, одна женщина оттуда как раз вышла. А другая там так и ехала четыре остановки, у двери в углу. Если посмотришь на нее — встречает независимым, твердым таким взглядом. Кругом мужики, мужской запах… Мужчины не обращают на нее особого внимания. Она никому не мешает, не вызывает негативных чувств, может быть, она даже радует остальных — эта женщина в мужском вагоне. Это новая социология большого города.
X. МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
В Музее современного искусства мы застали выставку старого немецкого авангардиста Гюнтера Юккера. Я сразу узнал его. В 1988‐м он впервые выставлялся в Москве, и я хорошо запомнил автора. По крайней мере, палитру его цветов. Белый, коричнево‐желтый или коричневый и третий (серый, красный, черный). Фактуры: бумага, дерево, камень, металл. В свое время Юккер, бежав из ГДР, в западной Германии примкнул к группе Zero, в которой прославился своими объектами — в основном из дерева и гвоздей. Когда в одном из интервью его спросили об «агрессивности» этих работ, художник сказал, что создавая объекты, он боролся против «музея иллюзий», созданного в искусстве живописью. Как показало время, борьба Юккера против «музейности» его искусства потерпела крах: и сколько бы чувства он ни вколотил в свои объекты, вгоняя в них гвозди, все они в конце концов оказались в музеях, где с ними могут познакомиться интересующиеся. По сей день восьмидесятилетний художник считает себя последователем русского и немецкого революционного авангарда 20‐х годов, когда искусство в буквальном смысле слова творило новый мир.
Музей современного искусства в Тегеране внешне не представляет из себя ничего особенного: современное здание из неоштукатуренного кирпича, как снаружи, так и внутри. Не сразу замечаешь, что выставочные залы имеют чуть заметный уклон и расположены по спирали — так что, начав осмотр, ты все глубже спускаешься вниз и, незаметно дойдя до «дна», оказываешься в смысловом центре экспозиции — откуда начинается медленное восхождение наверх, к более поздним работам и новым опытам.
На спуске нас преследовали объекты 60–70-х годов, которые с большой долей условности можно было назвать «современными». Но они не потеряли своей грубой экспрессивности. Я запомнил своеобразную анафему телевизору: сам «голубой экран» с мерцающими на нем угрожающими отблесками пламени находился в конце длинного ящика из толстых досок, в который было вколочено несколько сотен 15‐сантиметровых гвоздей, так что ни экран, ни пламя толком нельзя было разглядеть: ящик весь зарос этой черной железной щетиной, как дымоход — сажей.
Странная конструкция из грубо обструганных палок, обмотанных крашеным белым холстом.
Механизм, вращающий по кругу палку с привязанными к ней на веревках камнями, которые оставляют борозды на насыпанном внизу песке.
«Квадраты». Все примерно одного размера — полтора на полтора. Один похож на берег моря, усыпанный галькой, только каждый камень намертво закреплен загнутым концом вбитого рядом гвоздя. Второй квадрат — «пространство пепла» — был при помощи пепла и создан. Получился ландшафт, похожий то ли на пустыню, то ли на Луну. Третий назывался «агрессивное поле». Действительно агрессивное. В квадрат было заколочено 1764 гвоздя. Чтобы создать это произведение, художник должен был вложить в него все свое неприятие искусства, предназначенного для «музея иллюзий». И, похоже, вложил. Не знаю, кстати ли, но именно тут мне вспомнилось мангышлакское сито и его 850 дыр. Мохсен следовал за мной, сохраняя стоическое молчание.
На «дне» музея — и, следовательно, в центре экспозиции — нас встретил «Лес подвешенных камней». Несколько грубо, топорно сработанных в виде фаллосов стволов, головки фаллосов обмотаны белыми тряпками и веревками, на конце которых подвешены камни. Мне это очень понравилось: здесь Юккеру удалось создать непростое по энергетике пространство, похожее на шаманское капище. Мохсен упорно молчал. Наконец, когда мы прошли два зала, где были выставлены четырнадцать листов белого картона с намазанными на них ладонью глиняными кругами, он не выдержал.
— Скажи, что он хотел показать этими картинами? — спросил Мохсен в мрачном недоумении.
— Ну, может быть, он хотел показать глину, — сказал я. — Вот ты — давно задумывался о глине? Я думаю, художник просто задумался о глине, о необычности ее выразительных возможностей — и опробовал их. Получились эти круги. Можешь считать, что это результат медитации.
— Результат чего? — спросил Мохсен.
— В мусульманской традиции нет этого слова. Медитация — это концентрация человека на каком-то объекте, его слияние с ним. Если бы можно было молиться о глине, я бы сказал, что это — молитва художника о глине. Его страстная просьба к ней: раскрыться…
Серия называлась Desert dust.
В конце концов чувство прекрасного Мохсена было вознаграждено, когда мы натолкнулись на последнюю серию работ художника, представляющих собой медитации на тему священных текстов. Юккер взял несколько характерных шрифтов: тюркские руны, тибетское письмо, древнеегипетские и японские иероглифы, арабскую вязь, образцы кириллицы, скопированные (с ошибками) из «Острожской библии» XVI века, и разместил их на белых поверхностях, предварительно тиснёных. С одной стороны, само начертание древних рун, иероглифов или давно уже вышедших из употребления букв старославянского алфавита говорило о том, что перед нами не простые, а сакральные тексты. Тисненая подложка подчеркивала ручной характер этих работ, их живую энергетику. А с другой стороны, сами тексты — в том символическом виде, который придал им художник, то заполняя буквами всю страницу, то группируя знаки в виде геометрических фигур — воспринимались как совершенно однозначное послание о… скажем так, высшей реальности. Кстати, в зале, где были развешены эти работы, посетителей было больше всего. Мы постоянно обходили молодые пары, внимательно смотрящие на картины, хотя в других залах музея у них был несколько рассеянный и недоумевающий, как у Мохсена, вид. Действительно, даже молодежи трудно понять искусство западного авангарда. Искусство ислама традиционно. Странность ради странности, эпатажная новизна — весьма далеки от мусульманского понимания природы искусства. Помню, как в Москве я поражался «привязанности» искусства ислама к жизни, его вплетенности в жизнь, неразрывности его с повседневными и обязательными обрядами и обычаями. Скажем, вышитая «завеса на нишу», сейчас, несомненно, являющаяся «произведением искусства», в повседневной жизни входила в приданое невесты вместе с большим покрывалом и вышитой простыней. Орнаменты, пущенные по краю завесы — традиционные растительные или узор, известный под названием «нога курицы», — вышиты вовсе не для красоты, а как мощные обереги, охраняющие невесту от злых сил и колдовства. Та же неслучайность неизбежно присутствует в росписи посуды, в архитектуре, одежде, каллиграфии, миниатюристике или искусстве книги. Достаточно рассказать историю создания одного иллюстрированного списка Корана, который мне довелось повидать в Москве на выставке «99 имен Бога», чтобы понять, сколь отличны традиционные восточные представления о работе художника от современных. Так вот, рукопись Корана, которую я упомянул, создавалась в общей сложности больше ста лет. Работу над ней начал в Реште каллиграф Мухаммад-Джафар, который в 1714 году переписал текст Корана почерком насх. Позднее, возможно после смерти первоначального заказчика, над книгой поработал знаменитый каллиграф, мастер изящного почерка шикасте — Абд ал-Маджид Телекани (1737–1771) из Исфахана и его ученик. Они вписали красными чернилами между строк первоначальной рукописи персидский перевод Корана. В 1822–1823 году другой ученик мастера добавил на поля рядом с началом каждой суры отрывки, описывающие чудодейственные свойства глав Корана. Богатые иллюстрации и лаковый переплет рукописи появились еще позднее, так что смело можно сказать, что над этим шедевром потрудилось четыре поколения мастеров. И получилось чудо.
Такой подход вездесущ. Он пронизывает все понимание прекрасного, которое может быть только совершенно. Европейцу может показаться странным, но абстракцией мусульманское искусство не удивишь. Оно изначально «абстрактно», геометрично, ибо (за редкими исключениями) не знает реализма, столь характерного для искусства Запада. Но всякое нарочитое искажение формы встретит сопротивление. Всякое раз-воплощение формы и уж тем более возникающая в результате этого без-образность должны быть чем-то оправданы. Ни «спонтанность» художника, ни его стремление к открытию новых форм, если они непонятны или без-образны, здесь ничего не значат, как ничего не значит и стремление к «самовыражению». Искусство в любом случае должно быть оправдано, как результат значительной духовной работы художника. И даже если это художник современный, пишущий «картины» в обычном смысле слова — от него все равно будут ждать послания, даже если по стилю этот художник — абстракционист. Вспоминаю выставку молодой иранской художницы Эхтерам Садат Телегави в Москве. На живописный стиль художницы в равной степени повлияли Кандинский, Брак и Пикассо. Как бы ни странно это выглядело все вместе, ее искусство вполне можно было бы назвать абстрактным, если бы не авторские подписи к работам, которые и превращали случайные ассоциации, возникающие при разглядывании картин, в лаконичное и ясное послание. Это — своего рода поэтическая миниатюра, ради которой, быть может, и создавалось очередное полотно. Более того: сказанное было не менее важно, чем нарисованное. А рисование, живопись — это просто процесс раздумья перед тем, как подобрать нужные слова.
Скажем, одна картина называлась «Последнее слово». Комментарий: «Для сотворения собственной песни любви уже не осталось свободных слов — последнее слово нужно услышать от нашего громогласного времени». 2) «Творение»: «любовь человека распахивает окно в бездушном туловище времени и вселяет в него жизнь, дыхание которой не прерывается на протяжении всего пути». 3) «Страсть во взгляде»: «другой, отвлеченный взгляд на лицо человека, на животное или на вещи — шлифовка духа и исцеление сердца». 4) «Кошачьи»: «кошки разными знаками и символами показывают нам представление о Движении». 5) «Цвет завтрашнего дня»: «свой завтрашний день оживляет и окрашивает в цвета сам человек»… Покидая выставку, не можешь отделаться от мысли, что главное — как раз в этих строках, путеводных нитях. Абстракция спеленута ими, как коконом. Поэтому от нее и не возникает ощущения пустоты.
В общем, Музей современного искусства произвел на меня сильное впечатление. И площадь большая, и архитектурное решение внутреннего пространства неожиданное. Экспозиция меняется каждые три месяца: все по-честному. Это место любит молодежь. Мы оказались в музее буквально накануне закрытия в будний день — и он не был так пуст, как, да простит меня достославный Хусейн Малек, его собрание древностей. Современное искусство благословляют имамы, портреты которых висят в большом зале при входе: покойный Хомейни и ныне живущий Хаменеи.
Здесь много красивых девушек со своими кавалерами и, наконец, здесь есть кое-что еще… Издалека мы почувствовали вожделенный запах: кофе! Ноги сами привели нас в кофейню. А с другой стороны — где еще найти кофе, как не в музее современного искусства?!
Мы заказываем по чашке эспрессо и по кусочку шоколада. Я рассказываю Мохсену о московских кофейнях, об объявлениях, которые вывешиваются там об интересных концертах, лекциях и спектаклях… О том, что это место встреч молодежи и интеллигенции…
Пока мы пьем кофе, Мохсен все время спрашивает меня о выставке.
Его интересует, каков смысл в этих конструкциях из дерева и крашеной бумаги, в этих бесконечных гвоздях, в разрушенных и даже разодранных на части объектах?
— Понимаешь, — говорю я, впервые в своей жизни подыскивая слова для аргументации в пользу вещей давным-давно для меня очевидных, но неясных и, может быть, даже пугающих для Мохсена. — Бесполезно рассматривать эти произведения, как традиционные картины или статуи. Как что-то завершенное и «вечное». Представь себе ребенка, который пробует мир на вкус, на цвет, обертывает палки бумагой, обмазывает их клеем, тут же что-то ломает, что-то бросает… Это — искусство быть ребенком. Чтобы создавать вещи такого рода — надо вернуться в детство…
— Зачем? — изумленно спрашивает меня Мохсен.
— Знаешь, очень важно в зрелые годы сохранить ребенка в себе. Сохранять гибкость, непоседливость, свежесть восприятия. Представь: внутри каждого из нас живет ребенок, взрослый и старик. Взрослый отвечает за социальную жизнь, за то, чтобы зарабатывать деньги, воспитывать детей, любить жену, делать свое дело. Старик, когда нужно, дает нам мудрые и добрые советы. А ребенок… Он шалит и играет, чтобы мы не померли со скуки…
XI. ДОРОГОЙ АЛЕКСАНДРА
— Приближалась… довольно скучная пора: стоял ноябрь… уж… у двора… — промурлыкал я, щурясь на яркий солнечный свет, льющийся с ослепительно-синего неба.
Вот уж и ноябрь, но по-летнему тепло. В девять утра мы с Мохсеном погрузились в автобус на Горган, два часа минуло, и мы катим уже в горах, тем же путем, которым войско Александра Македонского перевалило через хребет Эльбурс — из внутренней Персии в прикаспийские провинции — Тапуристан и Гирканию.
В кабине водителя автобуса висят два огромных плюшевых медведя в женских юбочках и шляпках.
На подвесном экране показывают идиотское «семейное кино» с красавицей и умницей женой и недалеким толстым мужем, который даже автомобиль не умеет водить (водит она).
Весь этот день, увы, придется убить на дорогу. Впрочем, прекрасную. Склоны и вершины гор все заросли могучим лесом, переживающим пору золотой осени. В персидском языке есть красивое слово — «рэнгхоегя´рн» — что означает «палитра жарких цветов». И вот мы ехали в палитре жарких цветов осени, бесконечно переживая эту симфонию цвета. Редкие дома, встречавшиеся на пути, были обычно придорожными закусочными и лепившимися к ним поселениями из трех-четырех домиков. Возле них водитель останавливал автобус, чтобы пассажиры могли передохнуть. Паркинг, туалет, прилавок для продажи сувениров и снеди, и повсюду — похожие на вяленое мясо, тонкие, красноватые на просвет диски виноградного или гранатового сока, высушенного на солнце, которые в моем детстве на московских рынках назывались по-грузински — тхалапи. Здесь их несметное множество. Тут же и рестораны, где можно отведать речную форель. Справа от дороги было ущелье, в нем текла быстрая речка — и везде были рыбные хозяйства. Сначала мне показалось, что их с десяток. Но потом я убедился, что они следуют одно за другим через каждые четыреста-пятьсот метров.
Вдруг с горечью вспомнил я свой Дагестан. Славу Хунзаха, подвиги Согратля и неповторимость Кубачей — все сотрет неумолимое время. Чтобы это произошло, просто должно умереть вместе со своею памятью еще одно поколение людей. Тогда там не будет даже того, что сохранилось здесь. Ведь там никто не задумывался, чем будут жить эти селения в новой реальности мира. Я рассказал Мохсену, что поблизости от Хунзаха, где течет Аварское Койсу, нет ни одного рыбного хозяйства.
— Что, вообще река не используется? — изумленно спросил Мохсен.
— Вообще.
Мохсен такого себе не представляет. Не понимает, что может помешать заниматься форелью? Ведь это хорошо. Это выгодно. Форель продается на экспорт. Это — реальный товар, реальный бизнес.
За окном проплывает курящаяся шлейфами ледяной пыли вершина Демавенда, грозного пристанища духов…
С гор мы скатились в местечке Амоль, и глазам открылась обширная, но, надо сказать, довольно унылая долина между морем и горами, местами еще заросшая густым кустарником и камышом. Со времен древнего Ирана, еще до похода Александра, здесь, на равнине и в горах Тапуристана, сохранялось неподвластное персидским царям владение, которое, тем не менее, даже в мелочах дворцового этикета пыталось копировать иранское величие времен империи Ахеменидов. Вся система управления и церемоний была иранская, несмотря даже на то, что никто из правителей этого крошечного княжества не был породнен с династией персидских царей. Арабы тоже не сумели завоевать эти непролазные провинции. Турки-сельджуки четыреста лет спустя сумели-таки врубиться в эти тростниковые кущи, но вскоре бросили их на местную династию — Зиаридов. Чтобы разобраться в том, что творилось на протяжении веков в этой стране зарослей, нужно кропотливо изучать каждую мелочь: военные стычки никому толком неведомых племен, их мирные соглашения, династические браки, тайные убийства, заговоры и т. д. Имена царей, что владели этими областями — Шахрияр, Йездигерд, Ардашир — как утверждает В. Бартольд, «не находят аналогов в исламском мире». Местные жители — как отмечали генуэзские мореплаватели, первыми сумевшие построить на Каспии флот — еще в XIV веке ходили с длинными волосами, что нехарактерно для мусульман. Монголы сравнительно легко завоевали Гюлестан (восточную окраину этой заколдованной страны) и устроили здесь место зимовки своих ханов и царевичей, провозглашенных владыками Хорасана 240. Но в XIV веке в Мазандеране возвысилась династия шиитских имамов — все они были сейидами — которые впервые за шесть веков до исламской революции создали здесь теократическое государство. Как пишет В. Бартольд: «В 1392 г. Мазандеран подвергся нашествию Тимура, воины которого с большим трудом проложили себе дорогу топорами через густые заросли из Астрабада в Сари. Сейиды бежали в крепость Махане-Сер в 4 фарсахах от Амуля, на берегу моря на высоком холме…» 241 Крепость была взята с помощью флота, построенного амударьинскими корабельщиками. После ее взятия Тимур вернулся в Сари, откуда сейиды были посажены на корабль и отправлены в Хорезм, Самарканд и Ташкент, места, назначенные для ссылки представителей низложенной династии. Использование флота, построенного на берегах Окса — одно из самых весомых свидетельств в пользу того, что в Средние века Аму-Дарья впадала в Каспийское море. Но если уж сам Тамерлан не продвинулся дальше Сари и удовольствовался показной расправой над жителями города, не рискнув сколь-нибудь глубоко врубиться в «Табаристан», то как же прошел здесь Македонский? За давностью лет понять это невозможно. Великий Алекандр видел на вершинах скал гнезда горцев, сплетенные с живыми деревьями и, понимая, что эти дикие крепости неприступнее любого города, не трогал их. Становится понятным, почему название «Тапуристан», производное от племени тапуров, вскоре изменилось на «Табаристан» — от персидского «табар» — топор. Без топора прорубиться сквозь гущи страны зарослей было бы совершенно невозможно. Потребовался поистине титанический труд сотен поколений, чтобы выкорчевать кустарники, распахать камышовые крепи и превратить их в плодоносящие поля. Но даже сейчас изначальная дикость этой земли давала знать о себе. Нескошенные островки тростника, который был выше деревьев, часто скрывали от глаз фруктовые сады.
Впрочем, трудно судить об увиденном из окна автобуса. Мы все еще в пути — и нас преследует «мир дороги», одинаковый повсюду со своим китайским (теперь) ширпотребом, дешевыми забегаловками, бензоколонками и неряшливой, сиюминутной архитектурой. Дома лепились друг к другу бог знает как, и — что сразу бросалось в глаза — одна (западная или северо-западная) стена у них была покрыта блестящим материалом, издалека напоминающим толстую фольгу. Я думал, чтобы отражать особенно жаркое послеполуденное солнце. Но Мохсен сказал, что зимой с северо-запада дует сильный сырой ветер, несущий дождь и водяную пыль, и чтобы стены не разрушались, их обшивают толстой «фольгой», в этот закатный час полыхающей желто-оранжевыми отражениями солнца. Мы, помнится, даже поспорили, ибо мне казалось очевидным, что если уж ветер сырой, то дуть он должен с моря, т. е. с севера. Но прав оказался все же Мохсен: это не отражатель, а именно защита от сырости. Стены здесь тонкие, в один кирпич, и влага, впитываясь, крошит их в два счета. Скорее всего, ветер этот — тот самый «хазри», злой северный ветер, что бушует над Апшероном, но здесь горы заворачивают его и направляют вдоль берега на восток.
В Иране есть два отношения к дождю. Одно было сформулировано по-английски на упаковке компакт-диска с суфийской музыкой. Он назывался: «Что нам поведал добрый дождь». Почти на всей территории Ирана влаги решительно не хватает, поэтому дождь — теплый, хороший, добрый, ему радуются, его подолгу ждут… А в северных прикаспийских провинциях дождь никаких таких чувств не вызывает, прежде всего никакой он не «добрый». Это стихия, и как от всякой стихии, от дождя можно ждать неприятностей. В общем, отношение к дождю такое же, как у нас в средней полосе России. И сырость, особенно промозглая, зимняя, ощущается здесь по-нашему. Мохсен, не видавший дождя девять месяцев, как я заметил, все время старался спрятаться от солнца в тенек, тогда как я, нахлебавшийся уже и дождя, и осенней грязи, с удовольствием грелся на ноябрьском солнце.
Подъезжаем к Горгану. Слева, в сторону моря, сплошь идут распаханные поля. У самой дороги — рисовые чеки. Как и в Азербайджане, мальчишки на трассе продают рыбу. Но как нигде — того же возраста мальчишки снуют по трассе и по полям на тракторах. Благодаря исламской революции тридцать лет назад была уничтожена непреодолимая пропасть между богатыми и бедными. Крестьяне получили землю, технику и возможность трудиться, работать на себя. Люди в городах — работу в производстве и в бизнесе. Через 30 лет это дало свои плоды: их дети стали другими людьми и преобразили страну.
XII. ГОРГАН КАК КАТАСТРОФА
Мы высадились на остановке в шесть вечера. Я думал, что увижу старый город, столицу провинции Гюлестан — иранской Туркмении 242 — и, соответственно, порт, старый армянский базар, где с давних пор Россия торговала с Персией, роскошь, присущую архитектуре торгашей, ну и пару хорошо сохраненных и освещенных вечером дворцов. А приехали мы в какой-то город без лица. Шофер такси, которое мы взяли, довез нас до гостиницы на центральной площади, но я, опасаясь, что здесь будет слишком шумно, совершил роковую ошибку, спросив, нет ли где гостиницы потише. В результате мы оказались на затрапезнейшей улице, где не было ничего, кроме автосалонов и авторемонтных мастерских. Через полчаса в опустившейся тьме это был просто кротовый лаз с крупицами света. Гостиница действительно оказалась не только дешевой — номер на двоих за 15 долларов — но еще и плохой. Унылая комната со стенами, выкрашенными масляной краской, две шаткие кровати. Торчащий из стены душ со ржавой водой. Дверь изнутри не запиралась. Когда Мохсен, спустившись вниз, сказал об этом хозяину, тот невозмутимо ответил, что в номере нас никто не побеспокоит, а если мы захотим уйти — снаружи ведь дверь запирается отлично?
Поесть в гостинице тоже было нельзя — в ресторане как раз сервировали столы для огромной туркменской свадьбы, которая должна была вот-вот сюда нагрянуть. Мы решили, что нам это совсем ни к чему, и вышли во тьму. Вокруг, как я уже говорил, были только автомастерские и магазины запчастей. Ни одного места, где можно перекусить, и в помине не было.
— Пойми, — стал объяснять Мохсен, — здесь не столица, люди по ресторанам не сидят, они только работают…
«Только работают»…
В результате мы вернулись к центральной площади и подкрепились-таки пловом с курицей, без фантазии приготовленным в каком-то иранском фаст-фуде, который и был, видимо, самым крутым рестораном на пятьдесят километров вокруг. Стемнело, хотя было только 18.30. Я почувствовал себя в западне. Это не Тегеран — податься некуда. Возвращаться в гостиницу не имело смысла: сидеть в нашем унылом номере и слушать, как гуляет туркменская свадьба… Увольте. Я решил не сдаваться и поехать в бывший Астрабадский порт — теперь там вырос целый городок Бандар-е-Торкаман, откуда на лодке можно было попасть на остров Ашурадэ. С 1832 года там была русская метеорологическая станция и штаб-квартира российского военного флота. Который и стоял, собственно, в Астрабадском, теперь Горганском, заливе. Сейчас на острове Ашурадэ размещался «знаменитый» и, более того, в своем роде «единственный в мире» рыбный ресторан — это были слова нашего тегеранского гида-наставника, и я лишь полагал, что если ресторан настолько знаменит, то ранняя темнота не может быть поводом для того, чтобы прикрыть его и отказаться от приема посетителей. Ведь это должно быть что-то особенное, а? В конце концов, где-то на побережье должна быть красивая жизнь?!
Я почувствовал прилив в сил и отбил Ольге СМС-ку: «Едем к морю!» На стоянке частных такси мы подошли к первой машине. За рулем был невысокого роста плотно сбитый парень в потной рубашке с короткими рукавами, с очень смуглой кожей и несколько гориллообразным лицом, до половины щек заросшим жесткой черной щетиной. Потом выяснилось, что по национальности он белудж, родом из иранского Белуджистана, это где-то на границе с Пакистаном, далеко от Горгана. Они, белуджи, кочевники. И он по-своему кочует: то есть презирает всякое оседлое дерьмо, вроде нас с Мохсеном. Это читалось на его лице. Но за руль он держался крепко и минут за двадцать мы доехали до Бандар-е-Торкамана. Городок оказался очень пристойный, но мои ожидания, увы, были обмануты. Никакого порта здесь не было. Море обмелело, обнажившееся дно его заросло сорной травой. От причалов, пакгаузов и пристаней уцелел один только бетонный док, в котором размещался теперь туркменский рынок. Прогуливались красивые туркменки в ярких платках и платьях, со своими красивыми мужьями и прелестными детьми. Кое-где на заросшем травой дне моря сидели девушки с парнями и жарили шашлык. Лодок на остров Ашурадэ не было. Да и огней на острове тоже. «Знаменитый рыбный ресторан», увы, просто не работал… О черт! Да здесь никто и понятия не имел о «красивой жизни»!
Смотреть на рынке было нечего: кроме туркменских тканей и ковров продавалось здесь обычное барахло со всех концов света, и только кое-где — полные прилавки гранатов, лимонов, яблок, груш… Я, как всегда, выпил стакан свежевыжатого гранатового сока, чтобы все не казалось таким уж безнадежным. Потом мелкими глотками еще один — и почувствовал, как полегчало.
На обратном пути Мохсен уговаривал нашего водителя сослужить нам завтра службу: повозить нас весь день. У водителя нестерпимо пахло гнилью изо рта. И почему мне всегда попадаются такие вот гнилозубые?! С другой стороны, они-то остатками зубов мертвой хваткой вцепляются в деньги — это я еще в Дагестане проверил.
Все в точности подтвердилось, когда водитель назвал свою цену: 150 долларов.
При этом он сослался на своего приятеля, которому такую сумму отстегнули какие-то богатые лохи из Европы за то, что он покатал их по городу. Ну, люди приехали откуда-нибудь из Дании, из мира нереальных цен, да еще, очутившись в такой дыре, испугались, конечно — вот и выложили деньги, лишь бы все было гладко и безопасно.
— Нет, — сказал я Мохсену. — Найдем себе другого.
— А сколько ты согласен дать? — спросил Мохсен.
— Пятьдесят — максимум.
После этого Мохсен еще о чем-то поговорил с водителем по-персидски и вновь обернулся ко мне:
— Он говорит: расстояния огромные…
— Ну, какие расстояния?
— Сто двадцать километров.
— Скажи ему, что сто двадцать километров для машины — ничто, — отрезал я.
В результате Мохсен договорился за сорок пять. Он почему-то считал свои долгом экономить мои деньги.
Вечером, когда я написал в дневник отчет о минувшем дне, мне удалось-таки справиться с такой внутренней неприятностью, как Горган. Потому что поначалу это была катастрофа, ни по одному пункту не сбывшаяся мечта, от которой не могло спасти ничто, даже обмен СМС-ками с Ольгой. Помню, как пытаясь подладиться под мой бодрый тон, она написала: «Как там море?» На что я безрадостно ответил: «Море ушло».
Ушло время, стронув тяжелые барханы, миллиарды песчинок, подхваченные ветром, пали в воду, рейд обмелел, семена проклюнулись на осохших отмелях, и все кончилось: порт, просмоленные карбасы, могучие, вальяжные мореходы-купцы, пробегающие руками по привезенному товару: ситцам, железу, сундукам, самоварам, зеркалам, бочонкам с водкою и ящикам с вином и лимонадом — но прежде всякого — с рыбной снастью. На острове Ашурадэ заправляли тогда два промышленника: Жуков с Артемьевым. И им каждый год купцы доставляли кульки со снастью, которые продавались туркменским рыбакам за 4 тумана. Было там все необходимое. Как то: «один пуд веревок сороковику (тонких), 35 фунтов веревок толстых (батманнику), 140 штук балберок (поплавков), одну нилу 243 и тысячу удочек. Туркмены ловят рыбу в заливе и вдоль прибрежья, при устье небольших горных речек…» 244 Из прибрежных туркмен промышленники нанимали разъездных, числом до 13 человек ежегодно, обязанность которых состояла в том, чтобы собирать рыбаков, наблюдать за правильностью лова и за доставкою рыбы на суда… Может, в те времена и существовал на острове Ашурадэ знаменитый рыбный ресторан? Морские офицеры в белых перчатках… Кусочки лимона в прозрачном желе заливного …Шампанское…
По счастью, туркменская свадьба, которая гуляла в гостинице, по нашем возвращении недолго кутила. В Иране запрещен алкоголь, так что программа вышла усеченная: поели — попели — поплясали — и разъехались. Я представил, как могло бы разворачиваться гулянье такого масштаба в России. К полуночи народ только набрал бы градус и раньше четырех утра это бы не закончилось. Причем финальные аккорды были бы, наверняка, сыграны смазанно и вразнобой.
Я возблагодарил Аллаха за сухой закон и, в общем, успокоился.
Но тут Мохсен вдруг куда-то исчез. Сказал, что ему надо выйти, и пропал. Я выглянул в коридор — его не было. На всякий случай заперев дверь на ключ, я спустился на первый этаж. Никого. На улице — то же самое. Пошел обратно в номер и вдруг, поднявшись на второй этаж, понял, что я нахожусь в другом месте. Двери были другими. Особенно — я запомнил — ручки на дверях. На нашем этаже таких не было. Неприятный холодок пробежал у меня по спине. Я не хотел ощущать себя в бредовой реальности. Отступал я последовательно и осознанно. Спустился вниз. Убедился, что в гостинице две лестницы на второй этаж и ведут они в разные, по сути, помещения. Мимо поблекших постеров о достопримечательностях Горгана дошел до второй лестницы и поднялся вновь: все правильно! Мохсен уже стоял возле двери.
— Куда ты пропал? — спросил я.
— Ходил молиться.
Оказалось, что в каждой гостинице, на каждой автостанции и железнодорожном вокзале есть места, где в назначенный час можно совершить намаз. Мохсен не молился целый день, и его, видно, здорово приперло.
— Ты можешь молиться в номере, не стесняясь меня.
— А ты молишься?
— Я не молюсь в назначенное время. Если по жизни возникает какая-то ситуация — читаю молитву. Но я их знаю всего две или три…
Мохсен выслушал. Помолчал. Потом произнес:
— Хочешь знать, что говорил по этому поводу Имам Реза?
— Что?
— Молитва — это оружие пророков.
Сказав, что думает, он лег на кровать и мгновенно заснул. Одетым. По-видимому, все еще стеснялся меня.
XIII. ПРАВДА ИСЛАМА
Пятница — и, значит, выходной день. Поэтому на завтрак нам предложили только коробочку брынзы меньше спичечного коробка, такую же упаковочку меда и кусочек старого пожелтевшего масла. Хлеба в гостинице не было. Но, по счастью, хлеб мы предусмотрительно купили вчера. Боюсь, он-то и будет нашей основной пищей на завтрак, обед и ужин.
Однако завтрак не испортил нам день. Бывают дни как награда — за вчерашнее чувство тупика, за неоправдавшиеся ожидания, за плохо проспатую ночь, за то, что мы увидели (вернее, не увидели) в темноте, за опасения, что наутро вообще не на что будет смотреть, за тягостный торг с непонравившимся водителем…
А водитель наутро оказывается чистым, одетым в свежую рубаху, исполнительным и добрым малым по имени Мехди, с неумолимой, хоть и выбритой, чернотой на смуглой коже лица, от которого исходит не запах гнилых зубов, а свежесть и доброжелательство. Поскольку возвращаться в свой отель без названия мы не собирались, все свои вещи мы закинули в багажник и хотели уже стартовать прочь из Горгана, когда Мехди заявил, что в городе все же есть что посмотреть и за считаные минуты перенес нас из унылого, неуютного, необжитого квартала как бы на другую сторону ленты Мёбиуса. Мы вдруг увидели город с другой стороны. Это был центр старого Астрабада: начали мы с армянского базара, где, несмотря на ранний час, шла уже торговля. По продавцам и покупателям было видно, что за вчерашний день мы перенеслись в совершенно другую страну. Персы здесь были, но больше всего было туркменов и людей каспийского типа. Кто-нибудь, наверняка, в курсе того, как называются все эти прикаспийские народности и к какой языковой семье принадлежали их языки, но я только знаю, что по всему южному берегу Каспия они жили со времени основания персидской державы. Страбон, географ поздней Античности, называл их, вслед за историками Александра — сам он никогда не бывал в этих краях — гелами, массагетами, кадусиями и амардами. Он же пишет о необыкновенном плодородии Гирканской долины: «…хлеб родится [здесь] из зерна, выпавшего из соломы; пчелы роятся на деревьях и мед течет с листьев». С тех пор эти племена были не раз смяты волнами завоевателей с Востока, частью утратили язык, но лица, как говорится, не потеряли. Они смуглы, черноглазы и вообще чернявы: ни на туркменов, ни на персов они не похожи, но вполне сойдут за итальянцев, так что, присмотревшись, легко начинаешь выделять их в пестрой человеческой толпе иранского севера.
Тут же были крошечные закусочные, где в утренний час уже пили чай с лепешками первые посетители. Древняя мечеть, построенная во время кратковременного господства в Иране турок-сельджуков (около 1000 г. н.э), вся была выложена синими изразцами, сложенными один к одному так, что по всей стене непостижимым образом расцветала непролазная вязь растительного орнамента, а под крышей складывались одна к другой буквы и слова непонятных мне изречений на арабском. Низкий, как будто слегка недостроенный, кирпичный минарет с широкой крытой площадкой для муэдзина. Узкая улочка. Очередь за свежим хлебом. Лавочки, лавчонки, лавчушечки или просто кусок мешковины, на котором золотисто блестят тонкой кожицей золотистые луковицы.
В старой, купеческой части города сохранилось несколько похожих на крепости «исторических домов». Довольно аскетичная кирпичная кладка, внутренний дворик с парой лимонных деревьев, опоясывающая этот дворик галерея на втором этаже и выходящие на улицу узкие высокие окна-бойницы, сквозь которые был различим милый сердцу хаос восточного города, мир крыш и синих гор за ними. В Горгане на самом деле было что посмотреть: старинная фабрика, школа XIV века, древний караван-сарай, остатки крепостных стен и дворцов местной знати, не считая развалин форта эпохи Сасанидов неподалеку от города. Однако мы, хлебнув живительного воздуху старого города, большинства этих достопримечательностей так и не увидели. Настоящим событием этого утра стал для меня поход в мечеть. Это была обычная квартальная мечеть, в которой как раз шла служба. Мы случайно проходили мимо, и я чуть дольше, наверно, чем следовало бы, задержал свой взгляд на людях, которые о чем-то по-свойски разговаривали с седоволосым старостой мечети, который обращался к своим прихожанам как добрый дядюшка, то отпуская нужное им словцо, то добродушно посмеиваясь. Мохсен оказался внимательнее, чем можно было предположить, и тут же перехватил мой взгляд.
— Что, хочешь зайти? — тут же спросил он.
Из небольших динамиков над дверью мечети доносился голос проповедника, то и дело повторявший имя имама Али. Была не просто пятница, но и канун важного для мусульман-шиитов религиозного праздника Кадыра.
— Не знаю, — неуверенно сказал я. — Стоит ли?
Как-то раз по молодости я самонадеянно зашел в мечеть в Казани. И тут же натолкнулся на двух бородатых моджахедов. Как раз было время второй чеченской войны, и если только можно было себе представить живых боевиков Басаева, то это были они. На улице я таких людей не встречал: было в них что-то дикое, сильное, вызывающее, мужское. Это были воины — не люди городов, а люди леса и гор. Я простерся ниц рядом с каким-то молящимся татарином и от неожиданности едва не перекрестился. Я вдруг осознал, что не знаю, что надо делать, что говорить, любая попытка звукоподражания немедленно выдала бы меня, поэтому я так и лежал молча, лицом вниз. По-видимому, я грянулся на пол все-таки довольно убедительно, и мой безмолвный разговор с Аллахом ни у кого не вызвал подозрения. Моджахеды сидели, разувшись, у стены и не торопясь обсуждали свои дела. Улучив момент, когда татарин забормотал слова молитвы, а они увлеклись разговором, я поспешил ретироваться.
Праздник Кадыра по-своему драматичен: согласно преданию шиитов, в этот день пророк Мохаммад, почувствовав, что болен и скоро уйдет, собрал своих приближенных и объявил им, что после него остается один человек, которому надлежит верить — имам Али. Мохаммад сказал: пусть те, кто верит мне, сейчас встанут рядом с ним. Встали все. Все хотели быть верными учениками Пророка. Но когда он умер, большая часть тех, кто стоял рядом с имамом Али в тот день, предали его. Так что я не знал, какие чувства владеют сейчас аудиторией проповедника. Шииты болезненно переживают гонения на Али и его последователей, праведных имамов Хасана и Хусейна, убитых сторонниками халифов.
— Не сомневайся, — сказал Мохсен. — В этот день наши верующие люди стараются быть особенно добрыми и открытыми. Ты можешь прийти в любой дом — тебя накормят и предложат погостить. Ты можешь остаться даже на ночь, если хочешь — хозяева будут только рады, они хотят, чтобы Бог был доволен их делами.
— Надо все же спросить…
Мохсен подошел к старосте и коротко переговорил с ним. Потом вернулся.
— Да, он говорит, можно войти и даже фотографировать. Пожалуйста.
Мы сняли обувь и вошли в мечеть.
По периметру большого зала возле стен с нишами, заставленными книгами, сидели люди. Старые и молодые, гладко выбритые и бородатые — разные. Некоторые довольно сонно глядели по сторонам, несмотря на пыл проповедника. Некоторые, казалось, привлечены нашим появлением и проявляют явное любопытство. Было несколько длинноволосых с длинными нечесаными бородами: они напомнили мне русских староверов, которых я видел на Енисее. Та же отрешенность от стилистики времени, от современности, та же погруженность в традицию, освященную делами былых подвижников веры. В торце зала, изобильно украшенного, как и шахский дворец в Тегеране, зеркалами, собранными в какие-то звездчатые структуры, сидел в кресле проповедник, ма’адах («тот, кто поет благословенные слова»). Лет шестидесяти, с аккуратной седой бородой, в черной рубахе и серых брюках. Рядом на столике лежала книга, но он, кажется, и не заглядывал в нее. Он действительно «пел» и весь находился во власти своего вдохновения. Правую руку он то и дело выбрасывал вперед, а в левой держал микрофон. Рядом стоял небольшой усилитель.
Я огляделся и, стараясь не шуршать, достал из рюкзака фотоаппарат. Аккуратно сделал несколько снимков с большими паузами между ними. Один вышел особенно выразительным: я назвал его «человек-сова». Того же возраста, что и проповедник, тоже седой, заросший колючей щетиной и жесткими, седыми, торчащими на макушке волосами, с крючковатым совиным носом, он, кажется, заметил направленный на него объектив и, отвернув взгляд, вперил его в пространство. Как передать мне выражение этого взгляда? Это был огонь. Огонь несогласия и возмущения тем, что служба превращается в какую-то туристскую экскурсию! О, Аллах!
На снимке видно напряжение, с которым он сдерживает кипящее в нем возмущение. Минуту или две мы еще посидели и послушали проповедь. Потом тихо вышли.
Пока мы завязывали шнурки на ботинках, староста мечети что-то сказал одному из прихожан, тот кивнул, ушел куда-то и вскоре вернулся, неся на подносе два стакана горячего молока и два кусочка сахара.
— Это нам? — спросил я.
— Да, да, — радуясь вместе со всеми окружающими, проговорил Мохсен.
Я с удовольствием выпил молоко и рассосал сахар. После скудного завтрака подкрепиться было весьма кстати.
— А сейчас ма, адах как раз про нас говорит, — сказал Мохсен.
— И что он говорит?
— Он говорит: люди, судите сами. В канун праздника Господь послал нам гостей. И не просто гостей, а чужестранца, христианина. Это очень хороший знак. Аллах так всех нас любит!
Я много раз сталкивался с исламом — и, если помнит читатель, столкновения эти не всегда заканчивались для меня удачно. Но на этот раз я был потрясен. И даже не тем, что сказал проповедник. Добро и расположение людей всегда чувствуешь и без слов, на каком-то интуитивном уровне. И вот, интуиция говорила мне, что эти люди, впустившие нас в мечеть и угостившие молоком и вправду чувствуют меня своим ближним. Не было никакой преграды между мной-чужаком и ими. Впервые максима, которую я выдумал, для меня самого прозвучала убедительно: наше единство в том, что мы разные. Все разные, но все — люди. В этот момент что-то изменилось в моем понимании ислама. Добавился какой-то важный недостающий опыт. Разумеется, ислам разный, он вообще другой в каждой мусульманской стране. Но именно в Иране я впервые попал под какое-то согревающее, умиротворяющее, очень по духу близкое мне излучение ислама. Если бы наши мусульманские богословы ездили учиться не в Саудовскую Аравию, а в Иран, они не бы натащили в Россию столько безжизненного ваххабизма 245.
XIV. К КРАЮ ОЙКУМЕНЫ
Путь наш лежал теперь на север. Я хотел посмотреть с иранской стороны восточный берег моря. Для этого нужно было доехать до приграничной туркменской деревушки Гюмиш-тепе. Мехди, к которому, казалось, вернулось его всегдашнее угрюмое настроение, начал недовольно бурчать что-то, но потом выяснилось, что он говорит, что название селения означает «Холм с сокровищами» и он недоумевает, почему сокровища до сих пор не найдены. Меня занимало другое: «Холм с сокровищами», сдавалось мне, есть то же самое, что и «Серебряный бугор», о котором писал в своих записках о путешествии в Хиву в 1819–1820. Николай Муравьев 246, также пробовавший на корвете «Казань» в разных местах подойти к восточному берегу и высадившийся как раз где-то в этих местах. Вообще в первой четверти XIX века на восточном берегу Каспия было всего два бугра — «Белый» и «Серебряный». По ним и ориентировались. Муравьев обследовал тот бугор, ближе к которому судну удалось причалить, нашел там несколько стертых древних монет и пришел к выводу, что он представляет собой полуразрушенное и оплывшее крепостное сооружение, остаток огромного по протяженности вала, который туркмены называют Кызыл-алан или «вал Искандера» — что, как и в случае с дербентской стеной, не соответствует истине. Вал этот, как и стена Дербента, был построен через семь с лишним веков после того, как воинство Александра Македонского 247 прошествовало по этой равнине. И сделано это было, разумеется, во времена Хосрова Благословенного (531–579). Но история несправедлива…
Страбон притянул в свою «Географию» каспийское пространство только для того, чтобы очертить важную для тогдашнего миропонимания грань: край мира. В этом краю, по его представлению, живут скифы, за которыми земля необитаема. Где-то немногим севернее «горла» Каспийского моря — которое он, исходя из фундаментальных представлений древнегреческой географии, продолжал считать северным заливом опоясывающего сушу океана, — и находится этот самый край. Однако о юго-восточном побережье Каспия он все-таки сообщает несколько правдоподобных сведений, почерпнутых из других сочинений. В частности, пишет, что «земля здесь пустынна». И действительно, не успели мы проехать Бандар-е-Торкаман, в котором побывали вчера вечером, как пейзаж плодородной Гирканской долины совершенно преобразился. Перед нами лежала совершенно плоская земля, кое-где заросшая густой жесткой травой и тростником, а кое-где — сочными красными и желтыми «солянками». Это был легко узнаваемый по Мангышлаку мир полупустыни. Но несмотря на то что соль убила плодородие этой земли, здесь часто попадались на глаза стада овец и коров, которые, надо сказать, вполне вышли и статью, и лоском. То здесь, то там трактора тщательно перепахивали серую глину соленой степи. Где-то видны были поля созревшего подсолнечника, хлопка, где-то парники, в которых круглились овощи. Каким образом сельское хозяйство не угасало и здесь, где сама земля была горька и неплодна? Не знаю. Однако по сторонам дороги видны были фермы, которые выглядели даже опрятнее, чем человеческое жилье. Поселки как раз отличались обычной для Средней Азии безалаберностью. Дома только в центре селений вытягивались в подобие улицы. На окраинах, где плотность застройки становилась меньше, улица расползалась в разные стороны, и человеческие жилища стояли вне всякого порядка средь каких-то птичников, сараев, новеньких автомобилей и видавших виды длинных деревянных туркменских морских лодок — киржимов. На восточном берегу Каспия, где не хватает всего, кроме тростника, не может не быть характерного для этих мест запустения: солома да глина, ржавое железо крыш и стен, старое дерево, скорее всего, подобранное на морском берегу и кое-как прилаженное, приспособленное к хозяйству. Видно, что хозяин попробовал и так и сяк — не пропадать же доске или куску железа? — и вот, для крыши приспособил — да еще на растяжках. Чтоб ветром не трепало кусок железа. И тут же ясная, стилистически однородная архитектура новеньких сельскохозяйственных построек — элеваторов, ферм, хранилищ… Бетон, металл, яркая синяя или красная краска. Все сделано с европейской отчетливостью линий, все доведено до конца, продумано, все подъездные дороги хорошо заасфальтированы.
Золотистый цвет спелой соломы. Блестящие желтым остьём прямоугольные брикеты, перехваченные веревками. Огромная, как «стена Искандера», скирда, ровно сложенная из этих брикетов, сверху закрытая от дождя плотным синим материалом. Длинная, тоже синяя, крыша на металлических опорах. И под нею тоже брикеты. Все сложено бережно, аккуратно, по-немецки тщательно. Почему по-немецки? Потому что немецкая тщательность вошла уже в поговорку. Если я скажу «по-ирански тщательно» — никто меня не поймет. Хотя работу делали не немцы, а два местных деревенских парня. За скирдой трещал какой-то агрегат. Рядом кучей лежали длиннющие стебли того самого камыша, в котором здесь нет недостатка. Один парень совал в раструб машины стебли тростника, и через секунду они уже вылетали из гофрированной трубы, как туча саранчи. Другой собирал опилки в пластиковые мешки. Опилки золотом блестели в светлых курчавых волосах парней.
Я попросил Мохсена спросить, для чего они все это делают.
— Это будет подстилка для скота, — ответил один из них.
Перед отъездом я читал «Авесту» — священную книгу зороастризма. Меня поразило в ней благоговейное и, больше того, религиозное отношение к домашним животным, наделение коров, коз, овец — всех бессловесных, мычащих и блеющих тварей особым духом, «душой скота». Многие черты зороастрийской традиции перешли в ислам и являются глубинной подоплекой очень важных, до сих пор бытующих представлений, определяющих отношение иранцев к земле, которую нельзя осквернять, к животным и деревьям, к травам, водам и птицам как к прекрасным созданиям Бога-творца, о которых человеку надлежит заботиться.
И когда этот парень сказал о подстилке для скота, было видно, что ему важно, чтобы животным было тепло и чисто, чтобы они были довольны 248.
Помню двор, забор из нескольких деревянных жердей, длинную морскую лодку на земле, сидящих в лодке людей. Моря не видно, хотя чувствуется его близость, и лодка рабочая. Рядом — пара черно-белых пятнистых коров, молодой верблюд и два мотоцикла. Видимо, соседи или родственники съехались о чем-то потолковать. Тут же пристроилась юрта. Подле нее — сделанный из тростника кораль для овец. Кто-то так и не захотел прикрепляться к земле, так и продолжает кочевать в пустыне. Зачем? Кочевник понимает, что только изо всех сил вцепившись в закольцованное время кочевья, можно считать пустыню «своей» и черпать в ней силы. Главное — не выпасть из коловорота пространства/времени. В некотором смысле кочевье — это привычка жить в постоянном «режиме с обострением», который не знает ни послаблений, ни праздности. Отсюда — динамичность, сила кочевников, их принципиальная готовность ко всему. Стоит времени распрямиться в линейку Прогресса, как кочевье лишается смысла: ты уже не радуешься цветущим колючкам и черным каракуртам, как вестникам весны, пустыня быстро превращается из великолепной арены и амфитеатра, в котором ты сам и актер, и зритель, в скучный вид за окном дома, становится ненужной, блеклой, менее интересной, чем быстро меняющиеся цветные картинки телевизора, и очень скоро бесследно уходит из жизни как ценность, как живая сила, как родина, где ты родился и вырос, полюбил, привел в свою юрту жену, родил детей…
А вот уж и поселки не попадаются больше по дороге, под серым небом простерлись низкие глинистые ланды в ярких пятнах солелюбивых растений, меж которыми проступает голая глина. Почти в точности так выглядел морской берег на заполярном острове Колгуев, где я бродил когда-то: если бы не разница температур, отличить пустыню от тундры было бы нелегко. Над равниной разгонялся ветер, долетающий из-за края мира.
Мы проехали еще километров пять, но тут путь нам преградил арык. Или река. Для реки этот разрез, полный прозрачной, но слегка зеленоватой воды, был слишком прямолинеен — ни одного изгиба, ни одной излучины. Мы повернули к морю и поехали дальше по пустой грунтовой дороге.
Неожиданно Мехди остановил машину, показал на воду.
— Он говорит, что это и есть Кызыл-алан, — перевел Мохсен. — Просто в этих местах от стены Искандера ничего не осталось, она вся ушла под воду. А в воде сейчас видны остатки ее фундамента, если хочешь — посмотри.
Я выбрался из машины и подошел к воде. Она оказалась солона на вкус, пропитана горечью, как серая глина, в керамическую отливку которой была заключена вода. Под ее поверхностью были видны две параллельные линии, вернее плоскости, которые, однако, ничем не напоминали крепостной фундамент: слишком они были тонки, не толще двух-трех сантиметров. В. Бартольд пишет, что в этих местах есть следы больших ирригационных сооружений, видимо, очень древних. Искусственное орошение возможно было только в то время, когда в Атреке, Сумбаре и Чандыре воды было неизмеримо больше, чем в настоящее время, и она не имела такого горько-соленого вкуса, как теперь 249. Кто знает, что творилось здесь в минувшее тысячелетие? Море наступало и отступало, и каналы, и вал, выстроенный из сырцового кирпича, могли быть попросту размыты прибоем. Как был поглощен Каспием главный порт восточного побережья Ирана — город Абаскун. В «Географо-историческом обозрении Персии» Барбье де Мейнара 250 Абаскун фигурирует в качестве «маленького города на морском берегу», хотя он был затоплен морем еще в XIV веке.
Принято считать, что Абаскун находился при устье реки Горган, на месте современного селения Гомишан, жители которого до сих пор славятся плотницким мастерством и судостроительством; они владеют большими лодками и до 1917 года ходили на них до Астрахани и до Баку. Неподалеку от селения, якобы, возвышается холм — опять холм! — который вполне может скрывать развалины древнего Абаскуна. Местная легенда гласит, что именно здесь, на холме, был когда-то населенный процветающий город.
Лодки, холм… Гюмиш-тепе… Гомишан… Это, может статься, одно и то же… И даже, кажется, это то самое поселение, где мы были: там чуть ли не в каждом дворе лежала длинная туркменская лодка. Но где же бугор? Холм? Ничего похожего на холм я не видел, хотя на такой плоскотине он точно был бы заметен. И этот арык, выходит — река Горган? Мы снова тронулись вперед вдоль русла. Почему-то не оставляло ощущение, что мы приближаемся к неведомому краю. Перламутровое небо раскинулось над нами во всю ширь, и с каждой минутой его становилось все больше и больше, пока вдруг внизу оно не сомкнулось с перламутром, лежащим ниже линии горизонта. Море. Мы у самого устья реки, изливающейся в море…
Сердце забилось, я представил, как вот сейчас мы окажемся, наконец, на девственно прекрасном каспийском берегу, о котором я столько мечтал. Но не тут-то было! Метрах в трехстах от моря у реки стоял какой-то дом, и на самом берегу — небольшой крытый шифером причал, возле которого было несколько рыбацких киржимов, собирающихся на лов рыбы. Лодки были, как говорится, свойские: такие посудины, такие моторы, такие снасти и такой народец я видывал только в России. Нигде в Европе этого давно не осталось, прежде всего потому, что там пластик уже вытеснил дерево. Каждая лодка длиной метров десять была выстроена на совесть: и киль, и шпангоуты были надежные, нос и корма сведены накрепко. Добротный скелет и обшивка для мореходной посудины. Внутри каждой лодки под навесом из кровельного железа был установлен мотор. И опять скажу, это был очень узнаваемый, наш мотор. Мотор, бывший в деле уже лет сорок, почерневший от времени, не самый, может быть, экономичный, многократно чиненный, но зато приноровившийся, притершийся к человеку, утративший самодовольное совершенство новой техники и, напротив, необъяснимым образом вобравший в себя человеческие черты своего хозяина или экипажа. Поэтому на лодках не было двух одинаковых моторов, хотя, вероятно, все они были изготовлены одной фирмой в одно и то же время. Разумеется, какая-нибудь стосильная «Ямаха» перла бы лодки быстрее этих монструозов 60‐х годов. Но мне нравятся долгожители — как среди людей, так и среди механизмов. Вот, скажем, эпоха, когда делались эти моторы для мореходных ботов, она подразумевала совсем иные мощности, иные скорости — как для лодок и автомобилей, так и для жизни вообще. Жизнь не мчалась еще сломя голову. Предполагалось, что можно получать удовольствие, двигаясь не спеша. Немногие поймут меня, но такие тоже найдутся. Во всяком случае, рыбаков их лодки и их моторы вполне устраивали. На лов они собирались не торопясь. Сейчас они как раз заливали горючее, сливая бензин из сплюснутой красной цистерны на берегу. У них были спокойные, загорелые лица. И на наше появление они не обратили никакого внимания. Вязаные шапки, сдвинутые к макушке, брезентовые штаны, резиновые сапоги и грубые робы, сейчас, во время подготовки лодок, скинутые с плеч и брошенные на борта — от всего этого веяло чем-то родным. Я не понимал, о чем они говорят, но в своей глубине эти иранские рыбаки без слов были понятны мне. Кажется, они почувствовали это. Один спросил Мохсена, что я за птица. Мохсен объяснил, что русский.
— А у нас тоже один русский есть, — сказали рыбаки. — Где он? Не видно. Сейчас придет.
На другом берегу реки был какой-то совсем уж неправдоподобный насест на четырех кривых деревянных ногах, обитый потрепанным рубероидом: видимо, наблюдательная вышка. В устье реки светлело море, у горизонта ровно отчеркнутое тонкой темной линией — будто простым карандашом — от светло-серого, с перламутром, неба. Я почувствовал вдруг необъяснимый покой. Я очень люблю эти затерявшиеся во времени уголки пространства. А уж мы забрались, действительно, дальше некуда. Дальше — только граница. Туркмения. Страна за семью замками. Рыбаки спокойно слили топливо в баки, вытерли ветошью перепачканные маслом руки и возились теперь с чиненными, линялыми сетями… Все это — знаки времени давно уже прошедшего, обойденного прогрессом на космических и компьютерных скоростях, но, однако, дорогого мне и хорошо ведомого по воспоминаниям детства. Есть ли что-нибудь дороже воспоминаний наших нежных лет? При условии, что они были действительно нежными… Тогда все моторы пачкались, все запахи воспринимались остро, а вид большой воды приводил в необъяснимый восторг… И сейчас, вдыхая долетающий с моря запах соли, запах окружающей меня глины, запах просоленной и выгоревшей на солнце одежды, я вдруг ощутил, что мне обязательно надо туда, где река сливается с морем, захотелось на берег, к распахнутому простору. Я зажал в руке фотоаппарат и побежал. В глубине души я больше, чем бежал: я рвался из обыденности к своему восторгу, почти ничего не видя, не слыша вокруг, как вдруг до меня долетел высокий голос Мохсена:
— Стой, стой, там солдаты!
Я услышал сбоку треск и увидел бегущего мне наперерез солдата с автоматом. Потом второго. Они бежали не угрожающе. Казалось, просто очень удивлены моим поведением. Но мне не хотелось связываться с солдатами. Не хотелось, чтобы люди в форме, кто бы они ни были, задавали мне вопросы. И — честное слово, не берусь судить, как это произошло — в следующий миг адреналин вернул меня в точности на то же самое место, откуда я начал свой разбег для взлета. Солдаты глядели на меня из-за забора, но, похоже, их вполне удовлетворило то, что я больше не бегу, а разделяющая нас дистанция в сто метров казалась им политкорректной. Домик был погранзаставой. На всякий случай я убрал фотоаппарат и прекратил говорить по-русски с Мохсеном. Но солдаты на краю мира, кажется, вообще не собирались ловить шпионов и даже не вышли из-за забора, чтобы проверить наши документы. Только Мехди, которому, похоже, просто надоело ждать, развернул автомобиль и делал нам знаки, что пора смываться.
Но тут появился парень. Тот русский, о котором говорили рыбаки. Его невозможно было не узнать. Русые волосы, голубые глаза, абсолютно славянские черты лица… Такое лицо было у моего двоюродного брата Алеши в молодости.
— Привет! — сказал я. Но уже в следующий миг по глазам его понял, что он не понимает.
— Здравствуй! — еще раз попробовал я.
Не понимает.
— Салам!
— Салам, — неуверенно улыбнулся парень.
— Скажи ему, что я русский и хочу знать, правда ли говорят про него рыбаки, что он тоже русский, — сказал я Мохсену. Мохсен перевел.
Парень кивнул и сказал что-то.
— Ну, в общем, да, — сказал Мохсен.
— А как его зовут?
Мохсен спросил.
— Мансур, — сказал парень.
Перевода не требовалось. Я хотел еще знать, как попали сюда, в Гюлестан, его предки: кто-то ушел в Иран во время Гражданской войны? Или вдруг воплотился, обрел русское обличье какой-то совсем давний ген, появившийся в кровотоке Ирана после того, как из очередного набега туркмены привезли сюда пленного русского солдата?
Парень выслушал вопрос и поскреб в голове.
— Мой прадед был русским офицером, когда Красная Армия заняла Иран в 41‐м году…
Почему-то эта мысль не приходила мне в голову.
Я улыбнулся и пожал ему руку. Сильная, сухая рука рыбака.
Он пошел к своей лодке.
Мы простились с рыбаками и сели в машину.
Мохсен достал и разломил хлеб. В следующую минуту мы уже мчались из этого выпавшего из времени пространства обратно в современность.
XV. БЕРЕГ МОРЯ
Правда, мы так и не побывали на берегу моря. Поздороваться с морем! За время моих поездок это превратилось уже в ритуал. И я не собирался отказываться от него, хотя и видел, что нашего шофера, Мехди, остановки отнюдь не радуют. Он, по-видимому, изначально не понял, что ему придется часто останавливаться и ждать, когда мы сделаем свое дело. Поэтому, когда я сказал, что нам нужно попасть на берег моря, он сделал вид, что не понял. Потом сказал, что нам придется вернуться в Бандар-е-Торкаман, потому что просто так на берег нельзя — это погранзона.
— Мне не нужен Бандар-е-Торкаман, — упрямо сказал я, тем более, что все уловки Мехди были для простаков. — Мне нужен дикий берег моря. A wild coast of the sea. Любой поворот направо приведет нас туда, куда нужно.
Мохсен что-то сказал Мехди, тот буркнул в ответ.
— Говорит, дорог нет, — сказал Мохсен.
— Сейчас сухо, можно прямо по степи. И пусть не юлит, здесь накатано…
В конце концов, не доезжая до какого-то поселка, нам удалось заворотить упрямого водилу на проселочную дорогу, и километра через полтора мы и вправду оказались на берегу.
Было ощущение, что мы попали в какой-то прекрасный японский пейзаж, нарисованный разведенной цветной тушью. Серое небо. Серое море — гладкое, как зеркало. Чуть проступающие сквозь туман бледные силуэты гор вдали. Передний план ярко-красный от растущих по берегу солянок. Только у кромки воды полоса сероватого песка. И вдали, впрочем, километрах в двух всего — заросшая лесом тонкая коса — полуостров Миян-Кале.
Надо же, я все-таки добрался сюда.
Здесь зимовал со своими братьями-разбойниками казачий атаман Степан Разин 251.
Странное было какое-то чувство.
Вот, как будто хотелось сказать:
— Ну, здравствуй, Стенька…
Глуповато…
Слишком давно стремился я сюда, слишком долго водил пальцем по карте, почти не верил уже, что увижу это место — а вышло вот как. Метрах в двадцати от нас, прямо в воде залива, отражаясь в ней, как в зеркале, стоял синий пикап «Пейкан». Двое мужчин грузили в него собранные сети. Еще двое, загорелые, в линялых синих рубахах, с банданами, по-пиратски повязанными на головы, брели метрах в ста от берега по колено в воде, выводя за собой наплавную сеть с какою-то мелкой, бьющейся как ртуть рыбешкой.
Ребятишки разлетелись по плотному влажному песку на своих великах, врубились в красное, прочирикали что-то и укатили в сторону поселка.
Чайки вскрикивали, пролетая над рыбаками. Я почувствовал вдруг удивительный покой от легкого всплеска невидимой почти волны, от всех этих приглушенных звуков, изысканно-неярких цветов. Это первая моя встреча с морем на иранских берегах. Значит, всё опять сбылось.
Все-таки сбылось.
— Здравствуй, море…
Я сажусь на корточки, погружаю ладони в теплую воду.
Я не обманул, море… Я не отступил. Я вернулся. И теперь все хорошо. Правда, хорошо.
Я дотрагиваюсь до воды, чтобы подтвердить свою верность замыслу.
Был ли это только мой замысел? И мог ли он родиться без распахнутого навстречу морю простора там, в дельте Волги, так много уже лет назад? Нет, без моря я бы не увидел и не узнал ничего из того, о чем уже успел рассказать…
В машине Мохсен перевел мне слова нашего шофера, Мехди: «Я увидел, как он улыбнулся, и понял, что ему хорошо».
Еще Мохсен неожиданно поблагодарил меня за эту поездку: он даже не подозревал, что в Иране есть такие места. Не ожидал, что это путешествие будет так поэтично.
XVI. БАШНЯ ЖЕСТОКИХ ЦАРЕЙ И «ДОМА ДОБРОТЫ»
Гондбад-е-Кавуз (что в переводе означает «Купол и башня»), представлявшийся мне древним аулом, прилепившимся к горам, как селения в Дагестане, на деле оказался городком, во‐первых, очень современным, а во‐вторых, он раскинулся в долине и был, в общем, довольно плоским, хотя издали горы были хорошо видны, будто нарисованы на заднике декораций. Здесь, в ста километрах от моря, погода была ясная. Главной достопримечательностью города была башня, выстроенная на холме, напоминающем полукруглый купол. Вокруг был разбит красивый зеленый парк с пальмами, туями и акациями. Башня, несмотря на весьма почтенный возраст в тысячу лет, была сложена из крепчайшего красного кирпича и смотрелась отлично: массивность постройки не убила заложенное в ней стремление вверх, подчеркнутое острой, крытой железом крышей, похожей на нос космической ракеты. Вызывало недоумение только одно: в башне не было ни окон, ни бойниц. Выходит, что несмотря на всю ее крепость, служить оборонительным сооружением она не могла. Тогда зачем она была построена? В конце концов выяснилось, что это вертикальное сооружение представляет собой гробницу династии Зиаридов — которые правили Гюлестаном и Мазандераном в древности, пока одного из правителей, отличавшегося особенной жестокостью, не убил собственный слуга. Впрочем, все Зиариды были жестоки, и ни один из них не умер собственной смертью. Последний в 1043 году был убит исмаилитами, соперничавшими с Зиаридами в борьбе за власть и влияние в Персии Сельджукидов. На вершине купола — холма, на котором выстроена башня, была специальная точка — круг, выложенный обтесанными камнями. Если топнуть ногой о плоский камень в центре этого круга — из открытой двери башни к тебе вернется громким хлопком эхо. А если то же проделать внутри, в центре башни, — то эхо обрушивается на тебя сверху. Эхо было заложено в самый замысел башни. Оставалось неясным одно: зачем мертвым эхо?
Что оно означало — сигнал? Условный стук в ворота мира мертвых? Но зачем вызывать их, если и при жизни они прославили себя как нетерпимые и кровавые деспоты?
Но эхо не случайно.
Башня — единственное сооружение, оставшееся от древнего Горгана, который был столицей Зиаридов. Когда-то Горган был здесь, а не в том месте, куда мы приехали вчера. Сейчас с вершины холма как на ладони был виден совершенно другой, небольшой, аккуратный и по-своему красивый городок: четырех-пятиэтажная застройка делала его каким-то очень соразмерным человеку, очень уютным. В этот выходной он стал ареной выезда многих свадебных процессий. Молодых мужа и жену, посаженных в одну машину, сопровождало еще пять-шесть авто и целая кавалькада молодых джигитов на мотоциклах: в куртках и джинсах, с повязанными на бедрах пестрыми платками, они носились вокруг новобрачных и глупо и восторженно кричали, как вообще способна кричать только переполненная силами молодость. Жениться между праздниками Жертвоприношения (Курбан-байрама) и Кадыра очень хорошо: сразу попадешь под покровительство чтимого всеми шиитами имама Али. Новобрачные верят в это и стремятся стать мужем и женой в выходной день между праздниками.
Мы давным-давно проголодались и пригласили Мехди отобедать вместе с нами. Он обрадовался рису с курицей и банке пепси-колы, но лицо его было сосредоточенно. Было видно, что на ум ему пришла какая-то мысль, и он теперь обдумывает ее, то так, то сяк поворачивая в голове. Как очень скоро выяснилось, это была мысль о том, что он потерял слишком много времени с нами, согласившись за сорок пять долларов.
Но мысль свою он дожевал нескоро.
Мы пообедали, расплатились и вышли. Потом сели в машину и поехали в обратный путь. Он молчал. В это время нас обогнали кортеж и мотоциклетная кавалькада очередной свадебной процессии.
— Мохсен, — решил поинтересоваться я. — Вот они женятся — и что? Будут жить с родителями? Или сумеют обзавестись собственным жильем?
Даже если бы я очень старался, я не смог бы задать свой вопрос в мгновение, более для этого подходящее.
Мохсен широким жестом обвел дома, мимо которых мы ехали — а это были новые и даже красивые пятиэтажные дома, собранные в компактный микрорайон с большим, обложенным тесаным камнем водоемом — зеркалом неба — на периферии. Так вот, эти дома, как оказалось, построены в рамках новой правительственной программы «квартиры доброты». Ты, скажем, женишься, платишь как молодожен две тысячи долларов и получаешь уютную квартиру в этом доме в аренду на 99 лет. Иначе говоря, в день свадьбы молодые действительно уверены, что квартиры они получат.
— Как это — две тысячи? — поначалу даже не понял я. — А если бы я захотел купить эту квартиру — сколько бы она стоила?
— Ну… тысяч восемь, — подумав, сказал Мохсен.
— А сколько, скажи мне тогда, зарабатывает иранец лет сорока, который считает себя преуспевающим?
— Где-то тысячу долларов.
— То есть квартира стоит, грубо говоря, восемь зарплат?
— Да.
В России, да и во всей Европе, цены на недвижимость очень высоки, но я прекрасно помню советские времена, когда квартиру можно было купить ну, не за две и не за восемь зарплат, но за десять-двадцать. Это были большие деньги, но все-таки, поднатужившись или объединившись, такую сумму можно было собрать. Сейчас при средних зарплатах преподавателя школы или Вуза, научного работника, врача — «заработать на квартиру» невозможно принципиально. Вот почему «квартиры доброты» заинтересовали меня. И я даже попросил Мехди остановиться возле пруда на окраине этого образцового мусульманско-социалистического микрорайона.
Пруд покоился внутри широкой чаши, красиво выложенной белым камнем. Вокруг, не сжимая ее, стояли дома. Око воды оставалось открытым. Я достал фотоаппарат. Не знаю, как в один из кадров съемки попал Мехди. Я потом рассмотрел: он был уже чернее черного. Злая мысль неотступно терзала его.
Кончилось тем, что мы тронулись дальше, обсуждая темы социальных преобразований в Иране, а Мехди все молчал и молчал, пока мы не доехали до трассы.
Тут он причалил к остановке междугороднего автобуса, вылез, открыл багажник и начал, бормоча что-то себе под нос, доставать наши сумки. Мы сидели как дураки в машине, ничего не понимая.
А бормотал он, как выяснилось, следующее: вот остановка, через час придет автобус и довезет вас до Бехшахра. То есть дальше ехать он отказывался, так надо было понимать.
Я сказал: Мехди, зачем эта демонстрация? Мохсен, переведи: десять долларов — и поехали.
Мысль, которая терзала Мехди, ушла. Она была страшна, но стоила недорого.
— Поехали, — согласился он и улыбнулся.
XVII. РАЗВАЛИНЫ. МЕДИТАЦИЯ НА ПЛЯЖЕ
Бехшахр — это вам не Горган! Бехшахр — это уже не богом забытый карман восточного побережья, а каспийский юг, маленькие, правда, но все-ж-таки воротца к каспийской ривьере. Несколько окрестных памятников сделали городок туристическим объектом. Поэтому здесь понимают «красивую жизнь». Или, по крайней мере, стремятся к ней. И своими стараниями делают обычную жизнь уютнее и комфортабельнее.
Короче, мы доехали до единственной в городе гостинцы. Номер был нормальный, а не депрессивный, как в Горгане. И ресторан при гостинице — тоже удобно.
После ужина Мохсен сразу бросился на кровать и заснул.
А я все не мог успокоиться, выходил из отеля курить, чтобы впечатления этого дня как-то улеглись.
Рыбаки. Русский. Залив. Башня Зиаридов. «Квартиры доброты»…
Нет, не то. Самым сильным было впечатление от того, как здесь люди работают на земле. Я давно не видел такого ухоженного и с такой любовью возделанного пейзажа. В России такое увидишь разве где-нибудь на юге. А возле Каспия все отдано под нефтепромыслы. Так в Азербайджане, в Казахстане. Но Иран — одна из самых богатых нефтью стран мира. И тем не менее, люди здесь не стремятся жить на нефтяную ренту. Они строят фермы, мосты, общество, свою жизнь и в результате создали сильное, жизнестойкое государство. Они полны доброжелательности. Они трудолюбивы и верят в то, что их будущее — в их собственных руках.
Стал накрапывать дождь. Потом громыхнуло, и контур гор высветился вдали вспышкой молнии. В коридоре гостиницы ветер вытягивал белый шлейф кисейной занавески в разбитое окно балкона. Я прошел на балкон и выкурил последнюю сигарету, глядя как ветвятся над горами разряды молний. Вернувшись в коридор, я потянул было внутрь занавеску, которую обещала намочить приближающаяся гроза, но шалун-ветер давно обольстил свою возлюбленную и быстро увлек ее обратно за собой…
Мокрая дорога поднимается вверх. Нас поджидает замок Ашраф, или Аббас-Абад, летняя резиденция Аббаса Великого 252. Уже во времена экспедиции Войновича — лет триста назад — комплекс был заброшен и пуст. Поэтому мы не знаем, что нас ждет и ждет ли вообще что-нибудь… Лес еще всецело во власти падающих после дождя капель. Стоянка для машин пуста. Да и вряд ли кто доберется сюда сегодня. Мы уже знали от водителя, что ночью была ужасная гроза и пять человек погибло. А я ночью не слышал ни звука…
Дворец лежал в руинах и, кроме прогулки по живописному парку, нам здесь ничего не светило. Правда, место было завидное: «широкошумные дубровы», теченье быстрое ручьев, запах палого листа, водопады, пятна солнца, огромные деревья, вывезенные чуть ли не из Индии, резные тени листьев на земле, прохлада, свежие, будто промытые птичьи голоса… Мохсен вновь испытал прилив восторга и сказал, что тело его чувствует наслаждение и он хотел бы жить в «северных городах». В общем понятно, почему персидские шахи помимо зимней резиденции в столице обычно устраивали себе и летнюю где-нибудь в горах каспийских провинций. Вскоре мы убедились, что развалины дворца представляют собой более археологический, нежели архитектурный интерес. От стен осталось лишь несколько фрагментов с проемами окон, повитых ежевикой. Хорошо просматривались мощные фундаменты, мощеный двор со старым дубом в центре, выложенные из кирпича канавки для орошения цветников, основания колонн — но «выше пола» почти ничего не существовало, поэтому нередко мы не могли даже определить, где находимся: в интерьере или в экстерьере дворца. Гуляя в «центральной части садового интерьера» — как значилось на табличке — Мохсен обнаружил семейство ложных опят.
— Что это? — спросил он. — Мashrooms?
— Mashrooms, — подтвердил я. — Грибы. Но эти — несъедобные.
— Ядовитые? — спросил Мохсен.
— Нет, просто несъедобные.
Поскольку он молчал, я спросил, знает ли он, что некоторые грибы используются в шаманских практиках индейцев, азиатских и северных народов.
Он об этом ничего не знал.
Когда я писал книгу «Остров», я столкнулся с тем, что ненецкие шаманы обычно используют мухомор.
— Tue-mouche, est-que tu comprends? 253
Про мухомор Мохсен понял, но ему было неясно, куда я клоню.
Я пояснил:
— У викингов воины-берсерки опьяняли себя напитком из мухомора перед боем, чтобы не чувствовать усталости и не замечать ран. В Иране ту же роль выполняла хаома — священный напиток древней иранской религии и мужских воинских союзов. Это обычай, который зародился в глубокой древности, когда индоевропейцы еще не разделились на северную и южную ветвь и вместе кочевали в причерноморских степях. Вам рассказывали об этом периоде вашей истории?
Мохсен насторожился.
— Нет.
— Маги индоевропейцев хорошо изучили грибы и растения. Некоторые они использовали для лекарств, другие для войны. Третьи — для того, чтобы узнать истину.
— Вот как, — сказал Мохсен осторожно.
— Да.
— А mashrooms ты пробовал?
— Я ел мухомор, когда вернулся с Севера, — сказал я, однако на Мохсена это не произвело почти никакого впечатления. Видимо, он просто не представлял себе ни свойств, ни размеров, ни угрожающе-яркой раскраски мухомора.
— И что? — спросил он наконец. — Что ты почувствовал?
— Сначала легкость в ногах. Потом становится трудновато подбирать слова. Медленно это получается, хотя ты бы и не заметил. Зато на следующий день в тебе просыпается такая ярость, что ты готов порвать любого противника.
— Это — наркотики? — спросил Мохсен.
— Нет, — сказал я. — Это — для войны. Опиум, гашиш — это для кайфа. Без кайфа нет лайфа, так?
Мохсен засмеялся:
— Как ты сказал? Без кайфа нет ляйфа?
— Лайфа. Life.
Фраза так ему понравилась, что он записал ее на диктофон, как вообще иногда записывал незнакомые русские выражения, которые вылавливал в разговоре со мной. Но я напрасно рассчитывал на продолжение разговора об иранском кайфе.
— Знаешь, — твердо сказал Мохсен. — Я не вижу ни в курении, ни в выпивке, ни в наркотиках ничего хорошего.
Разговор был закончен.
И тут я вспомнил своего деда, который во время учебы в университете лишь однажды выпил стакан вина — когда его товарищу-грузину отец привез бурдюк вина на день рождения. И еще помню, что когда я рассказывал эту историю своим товарищам-студентам, они подняли меня на смех. Они отказывались верить. Сами они пили пиво каждый день, и то, что мой дед, который никогда не врал, сказал, что выпил только один раз за пять лет — просто не укладывалось у них в головах. Они не представляли себе другой эпохи, других ценностей, другой мотивации. Мой дед готовился стать строителем коммунизма, он ходил учить рабочих грамоте на фабрику «Красная роза» и до хрипоты спорил с троцкистами в 1927 году. Ему не нужна была выпивка.
И вот сейчас в Иране выросло поколение, которому выпивка тоже не нужна. Она ему неинтересна. Спорт, языки, туризм, альпинизм — в том числе и женский — интересны. А опьянение — нет. Это тоже одна из побед исламской революции — здоровая молодежь. Может быть — самая главная победа.
Мы позвонили по телефону нашему таксисту и, дождавшись машину, отправились на полуостров Миян-Кале, для меня связанный с именем Стеньки Разина и теми красочными описаниями, которые оставила экспедиция Войновича. Давно уже мы ходили вокруг да около, видели полуостров со стороны залива, но так туда и не добрались. Где-то там была красивая мелководная лагуна — фламинго, лотосы… Но нам, видно, не суждено было увидеть жемчужину каспийских субтропиков. Пролившаяся гроза превратила в непроходимую грязь дороги национального парка, и доступ туда был закрыт. Сквозь ворота мы увидели только смятые и обломленные дождем деревья и охранников, которые, так же как нашу, развернули одну за другой несколько машин.
День упорно не склеивался. В путешествии, как и в жизни, бывают дни, когда не получается ничего вообще. Не хотелось бы попасть в такую западню.
Шофер тоже не знал, что с нами делать и как, по крайней мере, от нас избавиться. И вдруг счастливая мысль озарила его:
— А хотите на берег моря?
Мы подумали, что посидеть часок у моря и проветрить мозги — это как раз то, что нам сейчас нужно.
Машина проехала мимо громадного современного порта Амир-Абада и свернула в эвкалиптовый лес. Скоро мы уперлись в шлагбаум, рассчитались с шофером и вышли. Было пусто. Какой-то магазинчик и кафе-кальянная смотрелись так, будто их закрыли недели две назад. Ноябрь. Не сезон. Потом появились два мужика: один молодой, который был здесь за главного, и другой, постарше. Звали его дядя Коля или, по местному, дядя Колам. Такие одинокие старики есть во всем мире: они проживают бурную молодость в курортных городках, а потом просто остаются доживать свои дни при пляже. Он рассказал, что ездил к сыну в Германию и сын даже звал остаться: но куда он без этого берега? Мы сварили в подсобке кофе, слушая старика. Дядя Коля так слился с местом, с легким запахом соли, водорослей и сухих листьев эвкалипта, что было ясно, что останется он здесь до самой смерти. Ибо это единственное место, к которому он привязан. Куда он без этого неумолчного шума волн? Без этих неугомонных чаек? Куда он один с самим собой и со своей памятью о счастье и о красавицах минувших дней?
Странно порой распоряжается судьба: вьет, вьет свои петли, дарит тебе пляж, молодость, жену, сыновей, отцовские заботы, жизнь, наполненную всем этим, знакомых во всех ближайших городках — а потом вдруг выносит тебя одного-одинешенька на этот осенний берег, где пара бродячих собак, море, песок и ветер каждый по-своему тянут свои песни. Был серый осенний день. И Каспий был какого-то невообразимого, молочно-белого цвета. На пляже почти никого не было, только одно большое семейство приехало сюда на двух машинах. Две пожилые женщины отошли от остальных и, сидя на камнях, смотрели на море. И было видно, что у них на душе тоже — ноябрь и не сезон. Жизнь прожита в заботах о муже, о детях, о многочисленных, судя по семейству, внуках. Остался только небольшой хвостик. И вот они сидят на берегу вечности. Слушают осенний, еще ласковый, но уже порывистый ветер, плеск волн — удар наката и шуршащий, всасывающий звук катящейся вспять волны… После ночной грозы стояло паркое тепло, все небо обложило пухлыми белыми облаками, и белизна их опрокинулась в море: я такого никогда не видал и больше, наверно, не увижу. Я бы тоже сел рядом с этими женщинами и смотрел на вечное море. Ведь и мне уже пятьдесят один. А значит, большая половина жизни позади. И нет сожаленья. Есть радость, что я оказался здесь, на этом берегу, в конце такого долгого, волшебного, такого разного по впечатлениям и встречам путешествия. И надо только довести его до конца. До точки. Как женщины доводят до взрослой жизни своих детей и внуков. А море без устали сбалтывает белое молоко забвенья, и хоть еще не близок, но уже и не так далек тот час, когда придется его испить…
Я, кажется, задремал на берегу, а когда открыл глаза, ничего не осталось: ни семейства, ни дяди Колама, ни этих женщин на камнях. Только мерное дыхание моря да пучок травы, который ветер крутил, как циркуль, кончиком длинной травинки рисуя ровный круг на песке. Песок был темный, в лунках от дождя.
Вдалеке, как и мы, парой, лежали дяди Колины собаки.
И тут приехали пацаны.
Они были на мотоциклах. Около десятка: нормальные ребята, которые считают себя хозяевами если не мира, то уж этого пляжа точно.
Хозяин и дядя Колам, появившись из подсобки, звонко ударили им по рукам, они расставили своих храпящих горячих коней и стали думать, чем бы можно развлечься на берегу в этот скучный час.
— Водка есть, вино есть, пиво есть, — проговорил один, чернявый, проходя мимо нас.
На английском он, что ли, это сказал, но я его, во всяком случае, понял. Ни пива, ни вина у них, разумеется, не было, но на то они и были тинейджерами: им надо было нарываться, им надо было провоцировать.
Они заняли один настил под навесом неподалеку от нас, но постоянно подходили, потому что там, где мы сидели, было дерево, на котором был закреплен кусочек зеркала. Десять из десяти поправили свои прически. Потом подошли еще раз и в тот же осколочек зеркала посмотрели, как сидят на них джинсы, рубахи, куртки.
Я понял, что надо заговорить с ними, иначе они так и будут виться вокруг: их же распирает от любопытства.
Никакой опасности они не представляли, просто у них шило в заднице и поболтать больше не с кем.
— Слушай, — сказал я чернявому, — это реально — вызвать сюда такси?
Он послушал мой говор:
— Твоя родина там, — безошибочно указал он на север. — Тебе надо вызвать вертолет и отправляться туда…
Ну, он не был бы сам собой, чтобы не показать, кто здесь хозяин. Надо было договориться с ним: похоже, он-то и был у них самым заводилой.
Я достал из рюкзака пачку сигарет.
— Oh, — наигранно прижал он руку к груди. — Thank you… Но сигареты взял.
Курили они мало, но по такому случаю разом решили попробовать, на пачке сигарет Sobranie было написано russian blend 254, заводила прочитал и сказал:
— А у нас свой русский есть — вон в шапке ходит.
По взморью одиноко прогуливался парень лет 18, в шапке-ушанке, ни к селу ни к городу надетой в такую теплынь. Слегка карикатурно смотрелись и его пышные усы, которые он лихо закручивал вверх.
Мохсен сказал ему, что он похож на русского.
Это парню понравилось.
— Ну тогда надо бы мне на русской жениться, — с нарочитой рассудительностью сказал парень. — Вот тогда и буду я совсем-совсем русский.
Все засмеялись и стали обсуждать знакомых, которые могли бы подбросить нас до Нура. Звонили ребята, звонил дядя Колам, и в конце концов из этих разговоров образовалась машина. До Нура было километров 200. Мохсен договорился за 16 долларов. Но я хотел по пути заехать-таки в Феррах-Абад, где был дворец Аббаса II, который «воровские казаки» Разина разграбили, а самого шаха, похоже, и убили.
— А зачем туда ехать, там же ничего нет? — удивился водитель.
— Вот я и хочу поглядеть, как выглядит это «ничего», — сказал я.
Мы поехали. Сначала мимо гигантской ТЭЦ, которую, по рассказам Мохсена, во время Ирано-иракской войны все пытались разбомбить иракские самолеты, чтобы обесточить весь север страны. Потом… потом… вот это нелегко даже припомнить — потому что наш водитель шел на такой скорости, что бесполезно было окликать его: «притормозите!» — за это время мы улетали далеко вперед. Собственно, сделав единственную остановку в Феррах-Аббаде, мы пролетели все побережье от Бехшахра до Нура. Видели разные пансионаты: для студентов, для врачей, для рыбаков, санатории, принадлежащие разным ведомствам. Все они строятся или построены совсем недавно: и, как многое вообще, это новый шаг в социальной политике Ирана. Почему-то я вспомнил словосочетания «шведский социализм» и «христианская демократия». И если политика христианско-демократической партии была возможна, в чем ни у кого не возникает сомнения, то почему невозможна политика мусульманско-демократической партии? Совсем устранить неравенство невозможно: это закон жизни, и он заложен в социальной доктрине ислама. Но можно смягчить его. Что тоже не всегда удается. Скажем, по пути мы заглянули в санаторий национальной компании нефти — для низового слоя работников — но когда в Бальбосаре мы подъехали к громадному комплексу той же компании «для боссов», нас к этой роскоши просто не пропустили.
В Феррах-Абаде оказался не только разрушенный дворец шаха Аббаса. На главной улице была огромная кирпичная мечеть, которая еще до появления здесь шахского дворца была центром целого населенного пункта — Тахан. Тогда в ее дворе размещались мастерские, бани, цирюльни, лечебницы и многие лавки. Теперь в мечети шли реставрационные работы, а входная дверь была заперта на замок. Мы проехали дальше. «Исторический мост», пролета в три, был рядом с шахским дворцом и наверняка служил ему когда-то, но теперь он лопнул, частью обрушился и никакого видимого интереса не представлял, тем более что его со всех сторон обступил неумолимый камыш. Камыш здесь был такой высоты, что хозяевам, живущим поблизости, приходилось вырубать его просто для того, чтобы дома смотрели на белый свет, а не в непролазные заросли.
Шахский дворец оказался на самом высоком, продуваемом ветрами месте, мы легко нашли его. Вокруг устроен был забор из колючей проволоки, преодолеть который, впрочем, не стоило труда. Сейчас очень нелегко по нескольким археологическим раскопам и осколкам керамики представить себе жизнь дворца, утро, наполненное голосами птиц, послеполуденную негу, слуг, опахалами отгоняющих назойливых москитов и комаров, тот налет тонкой красоты и даже изысканности, который был свойствен этому месту: шах Аббас II был натурой артистической и, как многие утонченные правители подобного рода, питал пристрастие к вину. Но однажды дворец, в котором шах проводил летние месяцы, чтобы, не изнуряя себя жарой, пользоваться услугами своего кравчего, стал ловушкой. В 1668 году на море появились разбойники. Шах, возможно, сделал вид, что ничего не знает, или что эта напасть никак его не касается — то есть совершил обычную ошибку безвольных людей, понадеявшись то ли на Аллаха, то ли на счастливый случай. Поэтому в один далеко не прекрасный день он и его челядь увидели, как вдоль да по речке, вдоль да по Теджену выплывают д’расписные Стеньки Разина челны прямо ко дворцу. Ну и… понимаете… Разбойники — они и есть разбойники. Много было бито-граблено…
Теперь сама эпоха Аббаса II и Стеньки Разина почти полностью принадлежит уже археологии. И комплекс шахского дворца представлял собою не что иное, как археологический раскоп, вернее, множество раскопов, глубиной сантиметров до восьмидесяти — столько за триста лет наросло земли над разрушенными постройками. В одном месте угадывался интерьер дворцовой кухни. Помню кусочек голубой глазури на стене. Обломок кувшина, намертво вмурованного то ли в пол, то ли в печь. Ниже — фрагменты цветной плитки. На одной, желтой, оставила свой след собака. Сейчас бы эту плитку со следом сочли бы браком и отсортировали бы. А тогда плитка была дороже — вот след и пристроили на кухне…
В другом раскопе были различимы несколько уровней: полуобрушившийся пролет винтовой лестницы, несколько то ли дверных, то ли оконных проемов, теперь глядящих в окружающую зелень. А в самом низу — бассейн, обложенный глазурованной плиткой невероятной красоты. Плитка эта, призванная засвидетельствовать образец утонченнейшей роскоши, как ее понимали в 1668 году, делалась из нескольких расплавленных керамик двух или трех чистых цветов. Их, по-видимому, сливали в одну емкость, быстро перемешивали, так что равномерно смешаться они не успевали, зато образовывали какие-то взаимопроникающие пятна в общей массе. Потом этот замес выливали опять на плоскость и делали собственно плитку, разрезая на одинаковые квадраты. Так в этой плиточной нарезке застыли яркие психоделические галактики.
А потом появился мальчик. Не знаю, где он появился впервые — в объективе или на периферии углового зрения, но факт, что в объектив он стал попадать все чаще и чаще.
Лет двенадцати. Постоит-постоит, ничего не скажет, но потом двинется вперед, словно приглашая: «следуйте за мной». Прошел под арматуру лесов, которые археологи сделали, чтобы укрепить крышу над раскопом. Оттуда вывел к залитой дождем кирпичной дороге, сложенной «ёлочкой», и уже оттуда — к остаткам окружающей дворец стены. Держался он чуть в стороне и все время молчал. Но когда мы закончили осмотр дворца, мальчик вдруг сказал:
— А в мечеть вы зря не пошли…
— Как же пойти, если дверь закрыта? — удивился Мохсен.
— А сюда вы как зашли? Ведь ворота закрыты? — не стушевался мальчик. — У каждого места есть не одна дверь…
Когда мы подошли к мечети, он был уже там, и не оборачиваясь, не говоря ни слова, пошел вперед по доскам, положенным для рабочих-реставраторов. Короче, мечеть мы тоже осмотрели. Не знаю, принято ли у шиитов облицовывать и штукатурить свои мечети, или постройки из обожженного кирпича — это вопрос своего рода архитектурной аскезы, но в самой изысканной правильности кладки было что-то потрясающее. Особенно меня поразил главный купол, по которому было видно, как вся постройка сводится в точку замкового камня.
— Надо дать ему доллар, — сказал я, когда мы вышли.
Мальчик сказал, что не надо, но доллар взял.
Было еще не совсем темно, когда мы добрались до Нура. Шофер, изнервничавшийся во время затянувшейся стоянки в Феррах-Абаде, гнал так, что я пришел в себя, только когда он объявил: «отель «Природа!».
Когда мы вошли внутрь, название показалось или издевательством, или ошибкой. Стойка заполнения документов находилась внутри магазина мебели, сделанной с претензией на роскошь при запредельном отсутствии вкуса. О природе здесь напоминала лишь обивка огромных диванов из крокодиловой кожи, впрочем, фальшивой и выкрашенной «для красоты» краской-серебрянкой. Люстры под потолком были угрожающе тяжелы и помпезны. Но хуже всего были грации: с пухлыми чернеными губами и грубо позлащенными обнаженными частями тела, они порхали здесь и там, приобнимая торшеры, будто предлагая покупателям включиться вместе с ними в какую-то зловещую эротическую игру. Из этого кладбища мебели наверх поднимался лифт, где и находилась гостиница, жившая совершенно отдельной от магазина жизнью.
У нас оказался двухместный номер с кухней и роскошной, по сравнению с предыдущими, ванной комнатой. Мы бросили в номере вещи и отправились искать место, где можно поужинать. Пришлось пройти километра полтора, прежде чем мы отыскали ресторан, который содержали две миловидные девушки. В шатрах на улице отдыхала местная молодежь. Заказывая еду, мы с Мохсеном обменялись несколькими фразами на русском, чем затронули чье-то любопытство. Полог шатра откинулся, показалась женская ножка, обнаженная по самое бедро, и пленительный профиль с кальянным мундштуком во рту.
— Без кайфа нет лайфа? — усмехнулся я, кивнув в сторону шатра.
— Да… — едва успел выговорить Мохсен. Полог чертога задернулся, и незнакомка исчезла.
После ужина я хотел остаться в гостинице и отдохнуть, Мохсен же, напротив, рвался посмотреть на море: уроженец юга, он видел Индийский океан и Персидский залив, но Каспий манил его, как заколдованное море неизвестности. Поэтому я отправился в отель, а Мохсен — на берег моря.
— Послушай, если с тобой что-нибудь случится, я как-нибудь доберусь до Тегерана или до Астары, — сказал я. — Но все-таки не вздумай влипнуть в какую-нибудь историю.
— Если ты волнуешься, возьми телефон, их у меня два, и просто нажми вот эту кнопку, — ответил Мохсен.
— ОК, — согласился я.
XVIII. ВЫХОДНОЙ. УРОКИ ПЕРСИДСКОГО
На следующий день я объявил выходной. Во‐первых, мы, или по крайней мере я, измотались за минувшие четыре дня настолько, что мне определенно, а Мохсену вероятно, нужен был отдых. Во‐вторых, за вчерашний день мы так рванули вперед, что оказались теперь едва не на полпути к Решту. А Решт — это уже почти что финиш. Во время русско-персидских войн неоднократно русские брали этот город, по какому-то мирному договору он был даже на время отписан России, через Решт шла основная русско-персидская торговля — так что в каком-то смысле движение в сторону Решта слишком явно напоминало о возвращении домой. От Решта до границы с Азербайджаном — 150 километров. Поэтому торопиться не имело смысла. Стоило осмотреться на местности. Ведь мы еще не видели каспийской ривьеры. День для этого был самый подходящий: теплый, ясный. Синее неба было только море.
Естественно, первым делом мы искупались. Благо, кроме нас двоих, никого на пляже не было.
Мохсен зашел в воду по грудь, да так и остался плескаться у берега. Здесь вода была еще мутновата после вчерашней грозы. Но метрах в пятидесяти-семидесяти от берега проступала уже яркая каспийская синева, и так как буйков никаких не было, я решил, что доплыву до синей, чистой воды.
Но не проплыл я и половины этого расстояния, как с берега до меня донеслись крики.
Я обернулся: кричал не только Мохсен, но и какой-то мужчина, по-видимому, смотритель пляжа.
Я помахал им рукой и поплыл дальше.
Но не тут-то было! В распоряжении смотрителя был гидроцикл, и через несколько секунд он, лихо откинув в сторону фонтан брызг, преградил мне дорогу. Лицо его было озабоченно. Вежливо, но настойчиво мужчина на гидроцикле стал что-то говорить, одновременно показывая рукой в сторону берега.
Я понял, что он просит меня вернуться.
— Что это он? — закричал я Мохсену.
— Шесть метров! — ошарашенно уставился на меня Мохсен.
— Что — «шесть метров»?! — не понял я.
— Глубина шесть метров!
— Ну и что?!
— Как ты не понимаешь?! Шесть метров!
Я понял. Иранцы в большинстве своем не доверяют зыбкой стихии воды. И купаются у самого берега, держась за длинные металлические поручни, уходящие в море метров на пятнадцать-двадцать. Там еще чувствуется ногами дно. Шесть метров для них — глубина, опасная сама по себе. И они не хотели, чтобы я подвергался этой опасности. Они заботились обо мне. Пришлось возвращаться.
Полдня мы неторопливо слонялись по улицам, пока это доставляло нам удовольствие. Нур — типичный приморский городок. Посредине его делит шоссе, засаженное пальмами, справа — море и целые кварталы пансионатов среднего класса и более дорогих, мимо которых мы вчера промчались на бешеной скорости. К одному из них — он назывался «Жемчужина» — мы даже вернулись, и он стоил того: здесь было необыкновенно уютно. Просторные одноэтажные коттеджи были разделены чисто выметенными дорожками, цветниками и зарослями тропической зелени. К морю можно было пройти сквозь сад экзотических растений. На пляже тренировалась национальная сборная по баскетболу. Даже галька у кромки воды была одна к одной. На белоснежном пирсе за белым же столиком, сидела, демонстративно отставив кальян, красавица в черном чадоре. Жемчужная улыбка, свежее юное лицо, миндалевидные глаза. Я попросил ее сфотографироваться, и она любезно согласилась. Правда, ее молодой человек пожелал тоже присутствовать в кадре. И уж чего я совсем не ожидал, Мохсен решил присоседиться к ним с другой стороны. Ни он, ни тем более другой были мне не нужны, и я аккуратно «подтянул» объективом одно только лицо девушки, но не учел того, что в солнцезащитных очках красотки отразятся оба эти героя, с вытянутыми, к тому же, физиономиями. Так что фотография «персидской красавицы» вышла слегка карикатурной. Внутри пансионата был свой магазинчик живописи и всяких поделок, так что я, открывая все новые и новые достоинства «Жемчужины», решил, что пансионат и хорош, и недорог. Коттедж стоил от 80 до 100 долларов в сутки. А это было одно из самых элитных мест в Нуре.
В городской застройке слева от шоссе запомнился один ветхий дом, чудом уцелевший посреди залитого водой участка. Вокруг него было настоящее болото, заросшее какой-то не то водной, не то влаголюбивой растительностью, в гуще которой квакали лягушки. Было в этом что-то дзенское. Вообще, чем дальше от морского побережья, идеально выровненного под курорты, тем болотистость и дикость прикаспийской равнины чувствовалась все отчетливее. Где-то в этих местах экспедицию С.-Г. Гмелина остановила лихорадка, и она повернула назад. Чем дальше мы едем, тем непонятнее для меня — как вообще люди передвигались в этих местах раньше? Как будто для ответа на этот вопрос на глаза нам попалась старуха, торгующая на улице коваными, деревенской работы, топорами и другими секущими орудиями. Были тут тяпки, способные перерубить любой корень, клещи, способные навернуть его и вытащить из земли, какие-то немыслимые сучкорезы и огромные кривые ножи, как я думаю, для резки тростника. К старухе подходили мужчины, со знанием дела пробовали острые, как бритва, лезвия этих орудий. Видимо, отвоевывать себе место на равнине у моря приходилось им постоянно и по-прежнему стоило большого труда.
Я узнал, наконец, назначение штуковины, которую заметил во время первой же прогулки по Тегерану. Это был синий восьмиугольный — как бы почтовый — ящик, который с боков поддерживают две человеческие ладони, прорисованные желтой краской. По всей стране я видел такие ящики и только сейчас нашел время спросить у Мохсена, что это такое. Оказалось, первой программой исламской революции было искоренение нищеты. И аятолла Хомейни призвал свой народ жертвовать — кто сколько сможет. Были изготовлены эти ящики и расставлены — на улицах, на бензозаправках, в магазинах и около мечетей. Если у тебя осталось немножко мелочи, ты ведь не пожалеешь отдать ее бедным? Так за несколько лет нищета была побеждена. И в Иране сейчас нет больше нищих. А народ гордится тем, что победил нищету своими копейками. Теперь деньги от программы идут на другие благотворительные нужды.
Сбылась моя мечта: я сфотографировал восточного цирюльника за работой. Когда Мохсен спросил его, можно ли мне поснимать, в парикмахерской присутствовал еще один человек, которого фотосессия живо взволновала. И пока я крутился вокруг кресла, он крутился вокруг меня. Я нашел ракурс, при котором в зеркале напротив клиента возникает тройное отражение (этот эффект возникал потому, что за спиной клиента висело еще одно зеркало и отражения отражались друг в друге) и с этого ракурса сделал снимок. Когда мы, поблагодарив цирюльника, вышли на улицу, нас вдруг догнал любопытный человек из парикмахерской:
— Скажите, — спросил он извиняясь, — а на тех фотографиях, которые вы делали, я тоже получился?
Я пролистал несколько кадров назад.
— Вот вы. Отражение в зеркале.
Он посмотрел на меня беспомощно, как будто я совершил с ним злое превращение:
— А это?
— Тоже вы. Еще одно отражение в другом зеркале.
— Ну а это?! — вскричал он отчаянно.
На снимке был изображен человек со спины, отражающийся в зеркале за спиной клиента.
— И это тоже вы.
Человек молча исчез. Он ведь не иранский шах. И игры с отражениями были ему непривычны.
Вечером в гостинице я предложил Мохсену ввести меня в начальный курс персидского языка. Ведь это язык, родственный всем нам, европейцам, и, следовательно, чуткое ухо должно уловить в нем очевидные созвучия. Мы начали с числительных, и тут интуиция меня не подвела: созвучий оказалось множество. Один — екь, два — до (two; deux; dos), три — сэ; четыре — чахар; пять — пяньчж (pienç, cinq, cinco), шесть — шиш (six, six, seis, sechs), семь — хафт, восемь — хашт (acht), девять — нох (neuf, neun), десять — дах. Я вспомнил, как еще в Тегеране, в институте Кавказа, ребята спросили меня, сколько книг я написал — я ответил «шесть», а Мохсен перевел: «шишт» (шесть штук). Перевода, в общем, не требовалось.
Неожиданно отыскивались редкие или устаревшие, но, тем не менее, понятные слова. Я, например, заметил, что когда я говорю «спасибо», меня, в общем, понимают, и не только понимают, но еще и уважительно провожают взглядом. Оказалось, что существует такая форма благодарения — «сепас». Она настолько изысканна и стара, что в устной речи никогда уже не употребляется и встречается только в книгах. Так выражать благодарность мог бы только какой-нибудь архивариус. Вот, видимо, меня и принимали за архивариуса. По-простому «спасибо» — «ташако´р» или «мамну´н». Но эти слова я почему-то никак не мог запомнить. Зато запомнил целую тираду: «дастад дард накомэ» — что значит «спасибо и до свидания». Жаль, не всегда такой фразой воспользуешься.
Древние корни индоевропейского языка легко отыскивались в словах, обозначающих кровное родство. Отец (папа) — педа´р (pater, pére, padre, father, fater), мать — мода´р (mother, mater, madre, mutter), дочь — дохта´р (daughter, tochter), брат — барада´р (bruder, brother). Но на родстве такие вот частые, систематические совпадения кончились. Я попробовал потыкаться в основные стихии — вода, камень, небо и огонь — и получил только абе, сангь, осемон и аташ. Что это значит? Что южная и северная ветви индоевропейцев разошлись так давно, что только самые главные слова, буквально те, что первым делом выучивает ребенок, остались у нас общими. А дальше повлекла нас нелегкая в далекие странствия, и уже каждую в мире вещь стали мы называть по-своему и по-разному. С русским у современного персидского очень много совпадений — но они связаны, в основном, с обоюдными заимствованиями из тюркских языков: амбар, инжир, шекер-сахар и стакан-стакан… Персы считают это слово «своим», мы — «своим». Так или иначе роль стакана в дружбе русского и иранского народов окончательно выяснилась, очевидно, в 1941–1945‐м годах на почве интенсивного межнационального общения советских войск и иранского населения. Есть еще слово «хубе» — «хорошо». Прямого касательства к теме родства языков оно как будто не имеет, если только не вспомнить, что болгарское «поздравлять», то есть, буквально, желать всего самого хорошего — «всички хубаво» — где слово «хубаво» и означает «хорошее».
XIX. ГОРНАЯ ТВЕРДЫНЯ
По привычке мы проснулись за несколько минут до звонка будильника. Наличие в номере кухни и, следовательно, электроплитки и сковородки позволило нам быстро приготовить завтрак, и в восемь мы уже спустились вниз, готовые проститься с нашей гостиницей и с салоном китчевой мебели.
Машины у дверей не было. Накануне на стоянке такси мы договорились с одним надежным, как показалось, водителем, о том, что он свозит нас в горы — к замку Баладе и дальше, в Юш — и потом спустится на прибрежную трассу уже в Чалусе. И замок, и Юш появились в нашем маршрутном листе благодаря Садеху Хейдариниа, нашему гиду-наставнику из Тегерана и, естественно, было любопытно взглянуть на то, что он нам присоветовал.
Прошло минут пять. Машина не появилась.
— Звони, — сказал я Мохсену.
Мохсен позвонил и несколько долее, чем хотелось бы, говорил по телефону. Потом сказал, что наш таксист вчера неожиданно был приглашен на свадьбу каких-то своих друзей и, естественно, не мог отказаться…
— И что нам делать теперь? Снова искать машину?
— Он сказал, что договорился с другом и тот нас отвезет, как условились. Он удивлен, что того до сих пор нет…
Было бы обидно, если бы этот день попросту обрушился из-за необязательности водителя…
Но тут подъехал парень, загрузил наш багаж, и путешествие в горы началось. Мощные плечи и сильные руки отличали нашего водителя так же, как и лицо: оно у него было простоватое и даже глуповатое, с выпуклым лбом, пересеченным глубокой бездумной складкой, и маленькими, близко посаженными глазами. Однако, как вскоре выяснилось, нам несказанно повезло. Этот парень, Мейсан, оказался настоящим дейлемским горцем, он сам родился в этих краях и, естественно, знал каждый поворот дороги и каждое селение, попадавшееся нам на пути.
Мы поговорили немного о горцах. Выяснилось, что в Иране, как и в Дагестане, горцы составляют костяк всех национальных команд по борьбе. И это неудивительно: в Мазандеране горцев называют «каменные люди».
Мейсан, несмотря на свое простодушное лицо, оказался отнюдь неглуп и рассказал, что в древности здесь, в горах, было несколько независимых владений, которые долго сопротивлялись разного рода захватчикам, будь то воины Александра, арабы или турки-сельджуки. Горная область в окрестностях главной вершины хребта — Демавенда — управлялась особым властителем с титулом Мас-и Муган («Глава магов»). Арабы захватили ее лишь при халифе Мансуре (754–775). «Горы ибн Карена» тоже были недоступной для чужаков местностью, арабы добрались-таки сюда в IX веке, но, спокойствия ради, оставили править местную династию Каренидов. Еще, по преданию, в местных горах, в местечке под названием Так, которое тоже давно уже стало легендой, хранились сокровища персидских царей со времени мифического Менучехра, правившего прежде великого Кира. В одном месте Мейсан притормозил и стал показывать на склон горы напротив.
— Вон, видишь, там эти дыры? Там и были спрятаны сокровищи… — с неожиданным волнением сказал Мохсен.
В известняке горы были пробиты целые штольни, внутрь которых могла бы въехать машина. Скорее всего, это были заброшенные каменоломни. Но возможно, этот склон и вправду поманил когда-то тщетной надеждой кладоискателей. Тема спрятанного, но так и не обретенного древнего сокровища необыкновенно волнует людей, какая бы революция ни свершилась и какой бы социальный порядок ни был в стране…
Вокруг простиралась страна горных отрогов, заросших прекрасным лесом, убравшимся со всем великолепием «жарких цветов» осени. Эта дорога была далеко не так наезжена, как та, по которой мы ехали на автобусе из Тегерана в Горган. Прежде всего потому, что она не переваливала через горы — из каспийских провинций собственно в Иран. За перевалом, совсем недалеко, был Аламут — знаменитый замок исмаилитов. Но для нас он был недостижим. Зато мы были одни на трассе. В воздухе медленно парили серебристые пушинки каких-то семян. Слышно было и дальний крик сороки, и сухое деревянное «кро!» пролетающего ворона, и журчание воды на перекатах где-то внизу. И так постепенно, очень постепенно, мы втянулись в эту осеннюю галлюцинацию, сотканную из тишины, света и цвета. Тусклого желтого цвета пожухшей травы, светящегося золота пирамидальных тополей, меди дубов, сероватой, чуть тронутой желтизной зелени ив, цыганской пестроты кленов… Однажды мы остановились возле водопада, что несколькими струями проливался с крутого утеса на глыбы камня, заросшие напитанным водою мхом. Не знаю, с чем по насыщенности цвета, по нежности и нетронутости можно было сравнить поверхность этого мха: с бархатом? С замшевой поверхностью гриба? С водорослями, обнажившимися во время отлива? Нежно-зелено-желтые нити водорослей, с застрявшими в них облетевшими листьями буков… Местами мох был зеленый и вправду похожий на пышный бархат или даже на ковер, а местами напоминал буровато-розовую слизь морского дна.
Водопад называется «Харам»: Святая вода…
Несколько раз мы поднялись довольно высоко и так впервые увидели снег — он лежал по обеим сторонам дороги, совсем свежий, видно, выпавший сегодня ночью — и не таял. Жухлая трава с набитым в нее снегом, куст татарника на склоне и надо всем этим — ослепительно сияющая вечным льдом страна гор, с зубцом Демавенда 255 посредине. По преданию, именно туда, в эту страну ослепительного света, ушел сын Исмаила, имама, по имени которого получила свое название секта исмаилитов, и с тех пор никто ничего о нем не слышал. Однако, исмаилиты верили, что он или его потомки живы и рано или поздно вернутся к ним. Время этого ожидания, продлившегося почти полтораста лет, позднее получило название «эпохи скрытых имамов». Поразительно что, переживая столь долгое отсутствие духовных вождей, исмаилиты буквально соткали их из пустоты, из одной только надежды. В религиозной метафизике концепция «скрытого имама» не знает себе подобных по, скажем так, интенсивной пустотности 256.
После очередного подъема лес кончился, на необозримой зелени альпийских лугов то здесь, то там изредка можно было увидеть несколько домиков. В Иране процесс исхода горцев из родных селений завершился, в горах живет очень мало народу: только те, кто действительно хочет заниматься медом, овцами, сыроделанием, вязанием изделий из козьей шерсти и т. д. То есть заполнять необходимые, но, как сейчас говорят, очень узкие сегменты рынка.
Мейсан сказал что-то.
— Он говорит, здесь, за поворотом, его деревня, — сказал Мохсен.
— Как она называется?
— Он говорит, Таш: «вершина» на местном наречии.
И правда, за поворотом открылось множество домиков, рассыпанных в несколько рядов по горному склону. Сложены дома были из камня, но сверху аккуратно обмазаны глиной, а проемы окон в толстых стенах были выбелены известью, из-за чего у всех домиков был удивительно нежный окрас: бежевый с белым. Но чем ближе мы подъезжали, тем очевиднее становилось, что никого в этих домиках нет. Машина притормозила у обочины. Так и есть! Ни человека, ни постиранного белья, ни заготовленного сена, ни собаки, ни хотя бы одной овцы рядом. Кое-где камни стен вывалились из своих гнезд и горкой валялись возле дома. Внешне дома очень отличались от дагестанских. Те все были в два этажа: наверху жилые комнаты с выходящей на улицу характерной террасой, внизу — хлев. А здесь половина домишек была в один этаж. И размер их меня поразил: в сущности, они были крошечными (где-то метра 4 на 5), а толстые стены еще уменьшали их внутреннее пространство. Правда, здесь, на высокогорье, некоторым домам, по словам Мейсана, было четыреста лет. Но и пятьдесят лет назад такая площадь жилища еще была нормой. Многие поколения, не размышляя, в этих домишечках обзаводились семьями, рожали детей и вместе с детьми переживали суровые зимы… Как быстро и необратимо изменились представления людей о комфорте!
Мейсан объяснил, что совсем недавно люди здесь были: еще виднелись на склонах гор расчищенные под поля участки земли, где выращивали пшеницу — но теперь над ними веял лишь ветер. Люди в поисках работы спустились в долину и приезжают сюда только на лето, как на дачу. Здесь и прохладнее, и воздух свежий, люди клубнику выращивают, орехи… А потом ведь они — горцы. В душе горцы. И возвращаются, естественно, в горы. Которые еще воспринимают как родные…
— Мейсан, — сказал я. — А когда было это «недавно?»
— Ну-у, — подумал он. — Я еще родился здесь. Но лет двадцать точно прошло…
Через несколько километров от дороги отделился рукав и красивым серпантином стек в зеленую долину внизу. Там было построено несколько современных домов: белых с красными крышами. Четыре лепились один к одному, ступенями спускаясь по склону и два домика — по отдельности. Огонек пирамидального тополя трепетал возле одного дома. Там же на склоне овцы паслись.
— Мой двоюродный брат здесь живет, — сказал Мейсан. — Можем заехать. Но только ненадолго это не получится…
Поразмыслив, мы тронулись дальше. И вновь дорога тянула вверх и там, наверху, исчезал уютный мир человека и под распахнувшимся синим небом оставались только голые хребты, кое-где поросшие сухой жесткой травою. Эти места не для людей. Человек здесь представим лишь в каком-то временном прозябании: вот стоит опеленутый целлофановой пленкой фургон, в котором ночуют-вахтуют рабочие экскаватора. У них есть умывальник, сделанный из красной пластиковой канистры, да кружка черного чаю. Вот два бедно одетых мужика варят на костре кукурузу, чтобы продать, если повезет, случайному путнику. Мы берем у них по початку, и они опять остаются наедине со своею неистребимой горской надеждой. Чабан с отарой коз и овец. Белые лучи-морщины прорезали загоревшую кожу лица, черные глаза почти равнодушно смотрят на нас, здоровые, крепкие, но желтоватые зубы никогда не знали зубной щетки. Телогрейка, крепкие заношенные штаны, посох, какие-то чуни на ногах. В глазах — даже не простодушие, а натуральная душевная целина. Он — человек из другого мира, не вполне еще отслоившегося от первозданного времени. И, к тому же, горец. Еще и поэтому он воспринимает нас, от которых просто разит нервным и суетным духом долины, как каких-то странных пришельцев. Он — чабан, по-персидски — чубан. Так вот, ему, чабану-чубану, может быть, тоже в принципе любопытны красивые автомобили, фотоаппараты, наши крепкие, ладно сшитые ботинки или что еще там? Но я точно знаю, что ни один пастух не променяет свой библейский покой на все автомобили и фотоаппараты…
На очередной остановке, прогулявшись по склонам, я по возвращении застал Мохсена и Мейсана живо обсуждающими подвиг Араша, эпического героя Ирана, подвиг которого описан и в «Авесте», и в «Шах-Наме» Фирдоуси. Он помог персам бескровно решить вопрос о границах Ирана и Турана 257, выиграв спор, предложенный коварным врагом, царем Турана Афрасиабом — провести границу там, где упадет стрела искуснейшего из лучников. Араш как раз был таким лучником. И не хуже Афрасиаба знал, что, как ни далеко летит стрела, полет ее недолог. Но он сделал невозможное: он напрягся так, что лук его затрещал и жилы на руках готовы были порваться. Он напрягся еще чуть-чуть — и только когда его сердце лопнуло от натуги, пустил стрелу. Бездыханным упал Араш на землю. Но стрела его летела и летела. Только через два дня она вонзилась в берег реки Атрек. Сейчас именно по Атреку проходит граница Ирана с Туркменистаном. Эпические герои стрел на ветер не пускают. И вот: Мейсан доказывал, что Араш совершил свой подвиг именно здесь, на том самом месте, где мы стоим. Я был тогда очень впечатлен: то ли тем, что обычный таксист рассуждает о «Шах-Наме» Фирдоуси с такой горячностью, то ли тем, что это ведь действительно могло происходить здесь.
Еще запомнил чувство, что, фотографируя, не могу поймать чего-то самого главного в окружающей красоте. Чем дальше, тем непривычнее, тоньше, невыразимее она становилась, тем хрупче, тем величественнее. Меня переполнял восторг. Но все-таки его оказалось недостаточно… Прекрасно осознаю, что так и не сумел передать красоту прозрачно-золотистых, трепещущих пирамидальных тополей — а казалось бы, чего проще? Но делать нечего: тополя — есть; золото — есть; а трепета — нет. И цвет воды горной речки в ущелье остался для меня неуловим: с одной стороны, она совершенно, как стекло, прозрачна, но вдобавок вмещает в себя скользящий оттенок глубокой синевы… Есть вещи, которые можно только наблюдать. Бег этой воды, игру солнца в этой воде, ее упругое течение в камнях, ее холод, голубоватую жилку в ее глубине. Это не сфотографируешь. И не унесешь с собой. А главное, жалеть об этом не надо.
Я думал, что поездка в горы займет у нас часа четыре. Но через четыре часа мы только-только достигли Баладе. Сам замок был высоко на горе, а под ним было довольно оживленное селение, в котором прежде всего бросалась в глаза переделанная в мечеть армянская церковь. Откуда бы здесь взяться армянской церкви? В нашем путевом листе на этот счет имелась запись: «храмовая постройка X–XI веков». Так сказал наш тегеранский гид-наставник. Возможно, кое о чем можно было бы догадаться, знай мы, кому принадлежал замок: какой-то местной правящей династии, скажем, Буидов 258? Или исмаилитам (ведь их замки были тут повсеместно)? Или… По этому поводу было только сказано: «Баладе — один из самых больших и неприступных замков Ирана». И всё. И никаких версий ни у кого не было. Даже у Мейсана. Он просто не знал. Позже я выяснил, что замок Баладе был построен турками-сельджуками и был одним из их главных военных оплотов на севере, в том числе против «Орлиного гнезда» 259 и других крепостей исмаилитов. Теперь картина легко реконструировалась: турки-сельджуки, которые в 1055 году ввалились в Персию из Средней Азии, дошли если не до Босфора, то, по крайней мере, до Средиземного моря. И по пути завоевали Армению. Армяне с древности славились как строители и каменотесы: вот турки и пригнали сюда мастеров, чтоб они построили им мечеть и замок. Замок возвели на славу. Ну а мечеть — как умели. Вот она и получилась, как армянский храм…
Оставалось немногое: подняться по практически отвесной скале наверх, к замку. Но как это сделать? У меня лично мыслей на этот счет не было. На вершине горы на фоне облаков хорошо были видны три круглые башни и фрагмент крепостной стены. Но никакой тропинки туда не вело… Выручил нас снова Мейсан. Припарковав автомобиль возле какого-то крестьянского двора, он подошел к нам и, видя что мы с Мохсеном стоим в нерешительности, вдруг — как будто это само собою подразумевалось — стал взбираться вверх, легко прыгая с камня на камень. Может быть, он просто видел козью тропу, которую не видели мы. Важно, что следуя за Мейсаном, можно было взобраться на эту гору. Главное было не спасовать. Не скажу, что это далось нам просто. Никто из нас с камня на камень, разумеется, не прыгал. У нас просто не было прыгучести, которой обладал Мейсан. В результате мы карабкались вверх минут сорок и в конце концов добрались до остатков стены с башнями. Рядом было небо: орел парил в ущелье против нас. И земля была близко. Узкие участки возделанные по ущельям, плетни, привязанный ослик, скирды сена и маленькие человечки. И когда я так сверху увидел землю, я вдруг вспомнил. Вспомнил, что там, наверху, должна была быть еще одна, последняя стена. А за ней — внизу — удивительный замок с сохранившимися башенками, лестницами, хранилищами, резервуарами для воды и каменными жерновами… Я видел эту картинку в книге Iran Tourism. The Comprehensive Book, когда готовил поездку. Вдруг до мелочей все это вспомнилось, и я предложил друзьям сделать последнее волевое усилие, подняться к вершине и увидеть самое главное. Я хотел, чтобы Мейсан понял это. Мохсен перевел мои слова, но Мейсан как будто бы мне не поверил. И тогда я полез один. Помню, когда проходил последние десять-пятнадцать метров до вершины, я просто предвкушал момент, когда долезу до края и увижу замок с башнями и лестницами, как на том снимке. Я настолько вписал картинку из книжки в окружающий ландшафт, что даже знал, с какого примерно ракурса увижу замок. И вот тогда я сяду на краю стены и крикну: «Ребята!» Они спросят: «Ну, чего там?» А я отвечу: «Здесь-то и начинаются настоящие чудеса». Так что, когда я вылез на вершину и ничего этого не увидел… То есть вообще ничего… Просто камни. Обычные, чуть взявшиеся крапинками желтого лишайника камни на вершине. Я не мог поверить своим глазам. Пару раз я даже пощупал эти камни, чтобы убедиться, что это не глюк.
Отчетливее всего было ощущение предела. Ты сидишь на вершине, и вся земная твердь — она ниже, под тобой. А вокруг — только небо.
Что-то, должно быть, я вспомнил не так…
Но замок Баладе запомнил.
XX. «БЫЛО СЕРДЦЕ, КРОВОТОЧАЩЕЕ ОТ БОЛИ…»
Послеобеденное солнце поблекло на небосводе, и в глубине ущелий обосновались прозрачные пока еще тени, когда мы приехали в Юш. Этому селению тысяча лет. Трудно поверить в это, пока не окажешься в узких улочках, спускающихся с крутого склона под вершиной Аза-Куха. Белые, обмазанные известью стены вокруг заглохлых и наполовину уже облетевших садов, стены домов, прилепившихся друг к другу, врезанных один в другой — тоже белые, иногда лишь, по слабосилию хозяев, не побеленные заново и тогда покрытые серыми потеками разбитого дождями саманного кирпича. Двустворчатые двери из толстых дубовых плах, украшенных железными солнцами, пустые балконы, отделанные потемневшим деревом, до сих пор крепкие ставни окон, черепица крыш — все это как будто срослось, схватилось, стало единым целым, которое невозможно разъять, чтобы не разрушить сразу все, как бывает только в очень старых поселениях. И даже каждый поворот в этом лабиринте — выложенные серым камнем мостовые, аккуратно пущенные краем улочки водостоки, по которым, легкомысленно лепеча, катились с гор холодные ручьи, несущие блестки осенних листьев, — все это казалось не творением каменщиков или копателей канав, а произведением резчика по камню, в котором все вырезано и отшлифовано окончательно и ничего нельзя уже изменить.
Я бесконечно возвращаюсь к слову «сон», но когда впечатления с такой скоростью наслаиваются друг на друга, все, действительно воспринимается как во сне: шорох сухих опавших листьев под ногами, древние деревянные основы построек, то тут, то там проступающие под обмазкой стен, далекий призыв петуха, встревоженные вскрики перелетающих сорок, несколько женских силуэтов в черном, промелькнувшие вдали, старик, ведущий в гору ослика с вязанкой толстых сучьев, подобранных в лесу, удивительное сочетание чистоты белого и последних горячих пятен солнца, с каждым днем все более уступающего явственному уже холодку осени. Уж скоро снег покроет Юш саваном зимы, и только пурги и метели, как пугающие своей бессмыслицей сны, будут мучительно биться в закрытые окна домов, из последних сил сопротивляющихся завываниям смерти по ночам…
Вторую жизнь этому селу дал поэт Нима´ Юшидж. Он принадлежал к старинному роду мазандеранских аристократов — фамилии Эсфандияри. Впрочем, мать его была из грузинской семьи, покинувшей свою растерзанную набегами родину и обосновавшейся здесь, в ущелье, укрытом со всех сторон от ветров истории. Дом Эсфандияри — «памятник эпохи Каджаров», построенный в середине XIX столетия — еще свидетельствует о былом процветании рода. Балкончики с колоннами, лепнина над окнами, искусные деревянные решетки на окнах — все выдает определенную степень благополучия и архитектурной завершенности, присущей аристократическому жилищу того времени, когда отец Нима был самым крупным землевладельцем в районе, а дом его — самым большим и красивым в селении. Он и стоял выше других, на самом светлом, открытом солнцу месте.
Было удивительно тихо. Деревья сыпали желтым листом. Поток воды в каменном желобе проносил узкие лодочки листьев ивы. Мы постучались в двери железным кольцом ручки. Послышались шаги, шаркающие по камню, двери отворились, мы вошли. В прихожей был портрет седого человека, не очень даже и старого, с какими-то необыкновенно ясными, лучистыми глазами… Мне его портрет отчетливо напомнил Булата Окуджаву.
— Нима, — с чувством произнес Мейсан.
И я, помню, опять подивился: во‐первых, тому, что шофер такси знает поэта новой школы, а в во‐вторых, тому, как Мейсан произнес его имя. С каким почтением.
Нима Юшидж 260 родился в 1897‐м, на грани веков, на пороге нового времени. О своем детстве он записал, что провел его в бесчисленных драках и забавах среди деревенских мальчишек и пастухов. Время детских игр сменялось странной замедленностью, даже монотонностью жизни в горах, идущей так, как будто нигде в мире ничего не происходит. Но родители знали, что это не так, что сыну уже не прожить свой век в охотах и пирах, что удалось отцу. И они отправили его учиться в столицу, во французский коллеж Сен-Луи. Одноклассники смеялись над его поведением, свойственным застенчивым мальчикам, никогда не видавшим города. Но именно здесь он почувствовал интерес, а позже и «призвание» к поэзии, а заодно смог прочесть по-французски Верлена, Рембо, Элюара. Уже в своих первых стихах, написанных в начале 20‐х годов, он заявил себя как первопроходец «новой поэзии», «ше’ре ноу». До начала ХХ века в Иране господствовали традиционные поэтические формы, выработавшиеся еще в начале Средневековья (касыда, газель, рубаи, масневи). Писать стихи без рифмы, ритмически сложно организованные, казалось чем-то невероятным и недопустимым, посягающим на вековые традиции и сами основы поэтического мышления. Но несмотря на свою «робость», Нима осмелился сломать все поэтические каноны и ограничения.
Нима пережил несколько литературных авантюр: например, в 1923 году, будучи в Москве 261, он написал по мотивам Виктора Гюго поэму «Кровавая баррикада», которая стала первым произведением на персидском языке, целиком написанным по принципам «новой поэзии». Но по возвращении до конца тридцатых ему удалось опубликовать лишь несколько стихотворений. И только после 1937‐го, когда Нима стал сотрудником редакции «Музыкального журнала», он начал печататься регулярнее и получил славу мэтра «новой поэзии». Примерно в то же время он устроился преподавателем в школу Хакима Низами Астара и тем самым обеспечил себе заработок на всю жизнь: несмотря на отношение к нему как к «мэтру» со стороны молодых поэтов, работал он до самой смерти много, а печатался мало — да и то лишь при поддержке близких друзей.
Основная масса его стихов и прозы была опубликована уже после его смерти 262. Он очень любил Юш, всегда проводил здесь лето, часами мог слушать (или рассказывать) истории о старых временах. В 1958 году он в начале зимы приехал навестить мать. Такси тогда не было, он много часов шел один через горы и продрог до костей. В Тегеран он вернулся уже больным и вскоре умер от воспаления легких. Со временем его могила была перенесена во двор отчего дома, сюда, в Юш.
Дом Эсфандияри построен по-старинному вокруг внутреннего двора. Маленькие, по 12–15 квадратных метров, комнаты нанизаны, как бусины, на длинный коридор. Сохранившаяся обстановка свидетельствует о скромном аристократическом достатке, который сегодня трудно воспринять иначе как бедность: керосиновые лампы, простая медная и деревянная посуда, утюг на углях, книги в стенных нишах, деревянный сундучок, шкафчик для белья, оплетеная бутыль и стакан для вина, конская сбруя, седло с красиво украшенной серебром высокой передней лукой, фляги, старое ружье. Мир до электричества. Впрочем, нет: у Нима был большой, деревянный, с двумя ручками настройки приемник Siemens. И холод. Осенний холод, как и в большинстве стихотворений Нима, уже просочившийся в анфиладу комнат, из которых лишь немногие, по-видимому, зимой обогревались старинными чугунными каминами.
Мы поразглядывали фотографии: вот он с односельчанами после охоты. Здесь один — снят с ружьем и с легавой собакой. Тут — ловит рыбу, сидит на камне у реки. Едет верхом на муле. Здесь — в саду. По тому, как по-детски счастливо он улыбается, веришь, что больше всего он любил время, проведенное на родине. Кажется, я даже начинаю представлять себе этого аристократа, слишком далеко, волею судьбы, заброшенного в современность. Он был слишком «не от мира сего», чтобы быть на чьей-нибудь стороне в искусстве или в политике, но всегда обостренно ощущал человеческую подлинность и человеческую подлость.
Несправедливость, недолю, бедность.
И ночь. Холодную, злую ночь. Ночь как страдание, как изнанку мира, как болезнь — мотив, который постоянно повторяется в стихах Нима. Горькая любовь — и снова холод одиночества. Чужесть этому миру. Через десять лет после смерти, в 1968 году, Нима был осужден Государственным Конгрессом поэзии. Причем это осуждение не было, так сказать, абстрактным. Как и многое в Персии, оно воспринималось публицистически, даже политически:
Наша поэзия — единственная наша основа.
И путь, нас, иранцев, — только в ней.
Тот, кто хочет безразмерного стиха, —
Наш враг, враг нашей культуры…
Эти строчки, как нетрудно догадаться, тоже принадлежат поэту — Фаридуну Таваллали — который не посчитал подлостью критиковать умершего собрата. Но ведь были среди последователей Нима и такие, что поплатились жизнью за свое творчество. Сам он успел умереть задолго до того, как при последнем шахе начались репрессии против свободомыслящих литераторов, но и в свое время он был слишком другой — со своим «французским» образованием и тонким, аристократическим неприятием пошлости мира. Странное ощущение не оставляет в музее: что по-настоящему хорошо ему бывало только здесь, в отчем доме, хотя и тут он странным образом вынашивал и вскармливал свою «боль». Его любовь — всегда горька и безысходна. Его жена, Алие Ханум, была служащей национального банка и поддерживала Нима всю жизнь. На фотографии — это крепкая, стройная женщина с грубоватыми, но правильными чертами лица. Но свои строки о любви он явно посвящал не ей. Может быть, в какой-то степени идеалом недосягаемой возлюбленной была для него родная сестра, Бесхата Замоне Эсфандияри. Ее похоронили рядом с братом. Там же, во дворе дома, могила Сируса Тахбаза, друга поэта, собирателя его наследия, после смерти Нима сохранившегося в виде нескольких пачек неразобранных рукописей в его тегеранском доме и здесь, в Юше. Именно благодаря Сирусу Тахбазу большая часть написанного Нима увидела свет.
Лучше всего поэт сказал о себе сам в стихотворении «Нима»:
На этой темной, неприглядной сфере
Нима — это имя одинокой бабочки
Сбирающей нектар с цветов печали
Распустившихся на исходе осени,
пожелтевшей от грусти.
Нима — это сжатая рука,
Возникающая в сумерках страдания,
Рука, что бьет и гонит демонов
И гладит по лбу беззащитных людей.
Нима — это сеятель беспокойства,
Который нигде и повсюду.
Он ищет свою потерянную жемчужину —
На земле ищет, и в небе.
Иногда при виде ненакрытого стола
Он чувствует в горле комок неудержимых слез
Но есть гордость в его сердце:
Она не дает ему разрыдаться.
И тогда он склоняет свою голову старой совы
К странице, покрытой черными строчками
И продолжает писать.
Он никогда не нарушит клятвы.
Он никогда не свернет с пути 263.
Несмотря на «тонкокожесть», Нима осознавал себя зачинателем не только новой поэтической школы, но вообще литературы, иначе ориентированной по отношению к действительности, к читателю, чем жанры традиционной лирики. И если самому Нима в наибольшей степени удалось передать неутолимую жажду высокой любви и холод одиночества зимней ночью, когда ни камин, ни лампа не в силах его обогреть, то его последователям удалось выразить и гражданский пафос предреволюционного времени, и любовь — так, как до тех пор она еще не бывала воспета в персидских стихах, хотя в них-то всё, кажется, сказано о любви. Нима осознавал, что традиционная персидская поэзия давно уже копирует самое себя и называл ее язык «языком привидений». Привыкнув в своем детстве к мальчишеским дракам, он и впоследствии не уклонялся от боя, сознавая, что каждое из его стихотворений — это «стрела, пущенная в сторону традиционалистов». Он болезненно ощущал импотенцию исчерпавших себя поэтических форм и призывал читать, открывать новые поэтические горизонты, благо в Иране той поры европейская поэзия была доступна: «Я повторяю снова и снова: читайте! Ничто не спасет нас, кроме чтения. Более, чем можно об этом подумать, наш народ нуждается в чтении» 264. Он прекрасно понимал роль и значение рифмы и ритма, при этом стараясь создавать произведения по ритмике созвучные природе. Это очень смелый эксперимент, который, опять-таки, удалось завершить только его ученикам в 60‐е годы и позже. Сам он в своих литературных взглядах подчас довольно наивен и по пафосу высказываний близок еще к патетическому XIX веку. В письмах к воображаемому соседу он пишет: «Мой дорогой! Нужно, чтобы ты представил себя камнем и вообразил, что с тобою происходило в течение веков, во время всех возможных земных ненастий… Нужно, чтоб ты смог стать стаканом для вина, который падает и разбивается, нужно почувствовать себя разлетевшимся на осколки, как этот стакан. Надо, чтобы ты мог путешествовать в прошлом и зарываться в человеческую память; чтобы ты умел проникать в гробницы мертвых, в заброшенные развалины и далекие пустыни, чтобы там испустить крик боли. Но не менее необходимо сесть в углу своей комнаты и молча сидеть на протяжении нескольких часов. Прежде, чем ты не научишься делать это, ты не научишься ничему» 265.
Сейчас эти поэтические декларации кажутся наивными. Но эти удивительные глаза… Может быть, самым главным поэтическим творением Нима был образ неотмирного, но бескомпромиссного поэта, бегущего искушений нового времени. Подальше в глушь, в дебри, куда не проберутся ни охотники, ни их собаки, где только как-ки 266, могучий и черный, бездумно стоит во тьме подлеска…
Неожиданно Мохсен потеребил меня за рукав рубахи:
— Лев Толстой. Ты знаешь — Лев Толстой перед смертью ушел в деревню. В Поляну. В Ясную Поляну. Чтобы стать свободным человеком и писать то, что ему на голову´ придет. И вот — Нима. Он тоже под старость все больше времени проводил в деревне, потому что здесь он делал все, что хотел. И он надеялся даже совсем перебраться сюда…
Мохсен подумал и продолжил:
— Знаешь, что он творил со словами? Он всегда изменял порядок слов в языке. И в его стихах персидский язык зазвучал прекрасно, как никогда.
— Мейсан, оказывается, хорошо знает его…
— Ну да, потому что их деревни совсем близко.
— Ну, знаешь, «деревни близко» — в таком деле не аргумент.
— Как не аргумент? Я, скажем, из Шираза, а Шираз — это дом Хафиза. И я Хафиза знаю лучше, чем других. Но он классический поэт. А когда я прочитал Нима, я понял, что он великий поэт. Как он пишет про любовь!
Мохсен вздохнул:
— Я знаю, в мире написано много стихов о любви, но я не знаю другого поэта, кроме Нима, который так написал бы про любовь. Он сказал: «Мне не нужно, чтобы ты постоянно была рядом со мной. Я не хочу смотреть в твои глаза. Не хочу, чтобы ты смотрела в мои. Я хотел бы, чтобы мы оба смотрели в одном направлении. Хотел бы, чтобы луна, глядя на меня, завидовала мне, что у меня есть такая возлюбленная…»
Несомненно, в двадцать три года такие стихи потрясли бы и меня. Я хорошо понимаю не на словах, о чем говорит Юшидж. О какой женщине грезит он. Кого неустанно ждет.
Трубадур.
Вечный романтик.
Великий персидский поэт.
Задумчиво вышли мы из музея на улицу. С гор тянуло холодом. Колкий ветер качал голые ветки, готовясь свить в них свои снежные гнезда. Скоро ночь — время муки и вдохновения Нима. Еще одна странность его биографии в том, что достойное место в иранской культуре он занял только после исламской революции. А ведь аятолла Хомейни в поэзии был традиционалистом: он писал классические суфийские газели. И получается, что деятели культуры, которые восстановили дом Нима в Юше и устроили там музей, они в какой-то степени отстояли и сделали национальным достоянием литературное «западничество», которому сами… Противились? Или сочувствовали? По-видимому, самобытный талант Нима уравновешивал смелость «европейской» формы той полнотой звучания, которая достойна национального гения…
Я буду ждать тебя ночью,
Когда ветки миндального дерева набухают тенью
И тоска с них стекает в души тех, кто без ума от тебя,
Я буду ждать.
Ночью,
Когда аллеи затихают, как оцепенелые змеи,
Когда вьюнки скручивают кипарисы —
Думаешь ты обо мне или нет —
Я буду думать о тебе,
Ибо всегда буду ждать тебя… 267
В последний раз мы спустились по улицам Юша к машине. Какое удивительное место! Звук бегущей вдоль улиц воды, заброшенные сады, золото кленов, какое-то удивительное чистое, прозрачное, промытое время… Время первого холода осени в Крыму… Время ясности чувств, ясности ума. И запах тот же.
На обратном пути я узнал, что бабушка Мейсана, несмотря на его горское происхождение, была русская, «ру´са». Как ни крути, мы с Ираном соседи — хотя бы и через море. И оба берега во все времена менялись не только товарами, но и людьми: то русские купцы персиянок брали, увозили в Россию, то купцы персидские привозили себе невест из Астрахани или из Оренбурга. Пьянила, тянула чужая краса, горячей казалась воспламененная дерзкой любовью кровь: иначе не объяснить почему здесь, на южном берегу Каспия, мы встретили столько людей с подмесом русской крови. И в то же время в России необычайная красота и пылкая любовь персиянок стали литературным штампом.
После Юша на все мои попытки затормозить машину, чтобы прицелиться к очередному пейзажу, Мейсан, улыбаясь, не отзывался, будто подсмеиваясь над моим ненасытимым желанием уместить в фотоаппарат всю красоту гор.
В конце концов он примирительно сказал:
— Когда вы поедете в Ардебиль, у вас будет дорога, которая еще прекраснее этой — дорога на Халхал.
Я спросил: «А что это за дорога? Чем знаменита?»
Мейсан подумал: «У нас говорят, что тот, кто едет по дороге на Халхал, уже не может понять, на Земле ли он еще или уже в Раю».
XXI. ТАКСИСТ И ДЕВУШКА
Мы спустились с гор в Чалус, когда было уже темно. По прямой от Нура, откуда мы выехали утром, до Чалуса, куда мы прибыли вечером — не больше ста километров. Некоторое время ушло на то, чтобы решить, что делать дальше. Снимать гостиницу и проводить очередной день на каспийской ривьере не было, как будто, никакого смысла. Что такое каспийские курорты — мы уже видели. Правда, Чалус — это старинное владение иранских шахов, которое стало теперь самым модным курортом в северных провинциях. Когда иранцы выезжают отдыхать на море, они имеют в виду прежде всего Чалус и уже потом — Нур или какой-нибудь Бехшахр, что находится на самой периферии каспийского курортного ожерелья. И Бехшахр, и Нур мы видели. Чалус отличается от них только двумя высотными пансионатами, построенными немцами на взморье, да количеством уютных ресторанчиков на главной улице. Но популярность Чалуса имеет и обратную сторону: Мохсен показал мне плакаты Программы по очистке пляжей. В Нуре таких еще нет. Там не так много народу и пляжи чище. В общем, мы недолго совещались в машине Мейсана и решили, что в ночевать Чалусе не останемся. И поедем сразу в Решт.
Я хотел взглянуть на замок Рудхан и на древнюю деревню Масуле, единственное подобие которой, по словам нашего тегеранского гида-наставника, существует только где-то в Испании. Еще меня интересовал Хлебников и революционные события в Гиляне 1920–21 годов. Но до Решта от Чалуса было чуть не 300 километров. И если мы хотели попасть туда до полуночи, нам следовало немедля отправляться к терминалу больших государственных такси, которые возят на дальние расстояния. На таких мы еще не ездили.
Помню, как тепло мы распрощались с Мейсаном, благодаря его за интересную поездку. Он и сам был горд тем, что достойно показал нам родные горы. А вот доллары, которыми я с ним расплатился, он рассматривал долго и слегка недоверчиво: прежде он никогда их не видел. В Нуре единственный пункт обмена валюты открылся в лавке какого-то ювелира совсем недавно. На лице Мейсана попеременно играло то удовлетворение, что он заработал хороший дневной куш, покатав нас по местам, где и сам, наверно, мечтал побывать, то какая-то детская беспомощность от невозможности поверить, что одна зеленая бумажка с цифрой пятьдесят стоит той работы, что была проделана. Она ведь всего одна, эта бумажка. А одна бумажка иранскими деньгами не может стоить дорого. Мохсен достал телефон, показал Мейсану калькулятор и произвел моментальный расчет: 50$ умножить на 100 000 и еще на 5 — это будет 25 миллионов риалов. Все в порядке? Мейсан порадовался таким невообразимым цифровым превращениям: да, да, все в порядке…
Помню залитый желтым светом неуютный зал ожидания в терминале «больших такси», голые стены, крашенные обычной краской. За стеклянной перегородкой с окошком сидел дежурный в светло-серой форменной рубахе при галстуке. Мохсен подошел к нему, о чем-то поговорил и вернулся в пустой зал, заставленный пластиковыми стульями. На одном сидела молодая красивая персиянка с высокой прической, ее иссиня-черные волосы были убраны под платок. Рядом стоял у стены какой-то молодой мужчина: то ли муж ее, то ли брат. Мы заплатили за машину и расположились было на стульях. Прошло минут десять, но ничего не изменилось.
Я спросил:
— Что-то не так? Как долго мы будем здесь сидеть?
— Пока не появится четвертый пассажир в Решт, — сказал Мохсен.
— Что значит — «четвертый»? — не понял я. — Нас уже сколько?
— Трое. Мы вдвоем и вот эта девушка.
— А этот парень не поедет, что ли?
— Он провожающий.
— А сколько ты заплатил за одно место в машине?
— Тринадцать долларов.
— И за тринадцать долларов мы должны здесь торчать, пока кто-то придет? Давай, — я кивнул на дежурного, — мы оплатим это четвертое место, если он прямо сейчас вызовет машину.
Мохсен опять переговорил с дежурным. Тот выслушал. Принял деньги. Потом навел порядок на столе и ушел куда-то через служебную дверь. Через полторы минуты он появился за рулем большого черного автомобиля с желтыми шашечками на борту. Вот как. Я думал, он кто-то вроде обычного диспетчера, а он, оказывается, тут главный. Видимо, начальник смены.
Девушка села на переднее сиденье рядом с водителем, мы запихали свои вещи в багажник и расположились на заднем. Мимо понеслись огни города: на дюралевой поверхности отбойника, тянущегося по разделительной полосе, играли размазанные скоростью фиолетовые и желтые пятна света. Справа маячили красные габариты обгоняющих нас машин, навстречу налетали круглые, как кометы, фары встречных. Я чувствовал какую-то опустошенность: было ощущение, что путешествие, к которому я так долго готовился и о котором еще дольше мечтал, неумолимо приближается к концу. И часу не прошло, как мы спустились из прекрасного покоя горной осени в сутолоку побережья — теперь уже, кажется, навсегда. Если мы сегодня достигнем Решта, то от нашей программы почти ничего не остается — и замок Рудхан, и древняя деревня Масуле — это ведь все там поблизости. Один-два дня — и всё кончится. Мы можем, конечно, попробовать обмануть время и сделать еще один бросок — в Тебриз. Столица персидского Азербайджана когда-то была восточной окраиной Мидии. Помнится, во время первой поездки в Баку я все не мог представить себе — где она, древняя Мидия? Оказалось, здесь. В Средневековье неподалеку от Тебриза была обсерватория великого астронома Наср-ад-Дина Туси, которую он получил в подарок от Хулагу, монгольского хана, покорившего Иран. Обсерватория была так прекрасно оснащена, что вместе с персидскими астрономами здесь работали звездочеты из Китая. Многие свидетельства подтверждают, что Хулагу стремился быть просвещенным правителем: даже из Аламута, взятого приступом и разоренного «Орлиного гнезда» исмаилитов, он вывез всю библиотеку Хасана ас-Саббаха, описывать которую ему помогали ученые со всей Персии. Вообще, «промонгольская партия» в Иране довольно быстро сложилась и успешно использовала страсть Чингиз-ханова внука к изящным искусствам и просвещению. Остров на озере Урмия неподалеку от Тебриза стал ставкой Хулагу. Там же впоследствии хан был похоронен, но от могилы ничего не осталось. А что тогда осталось вообще? «Самый большой в передней Азии рынок»? Ну, это не для меня. Сын Хулагу, Газан, принявший мусульманство, построил себе гробницу, которая превзошла гробницу султана Санджара в Мерве, прежде считавшуюся у мусульман самой высокой постройкой… Но я не любитель гробниц. Любопытно, что когда Иран завоевали «белобаранные» и «чернобаранные» туркмены, сокрушенные потом ширваншахом Фаррух-Ясаром в Муганской степи, они тоже избрали своей столицей Тебриз. Но все это такие древности, от которых нам может перепасть лишь немножко археологии. Да! В 1850 году в Тебризе был казнен Саид Али Мухаммад, получивший среди приверженцев титул Баб — «Врата»268. И врата, разумеется, истины. Страстный пророк, который был взращен в одной еретической шиитской секте в Кербеле, в двадцать пять лет объявил себя последним имамом — Махди — и начал проповедовать не просто религиозную реформу, а новую религию, удивительно созвучную новому времени и необычайно широко распространившуюся в Персии за каких-нибудь шесть лет его проповеди. Оставалось неясным только одно: что мы, в связи с этим, надеемся найти в Тебризе? Бабизм, насколько я знаю, в Иране сейчас запрещен. Поэтому, скорее всего, найти ничего не удастся…
Тогда зачем нам Тебриз? По совести говоря, я почти выдохся, моя майка провоняла потом, бесчисленные перегоны вымотали меня, голод скрутил мне кишки, и единственное мое желание сейчас — найти пристойный отель, поесть, принять душ и провалиться в сон…
Мои размышления неожиданно прервал сдержанный рык водителя.
Я с удивлением уставился на него. Он держал в руке мобильник и хрипло орал в него, задыхаясь от ярости. За все время, что я был в Иране, мне ни разу не доводилось слышать не только ругань, но и даже разговор на повышенных тонах, между кем бы он ни происходил — между продавцом и покупателем, между мужем и женой или просто между незнакомыми людьми, резко разошедшимися во мнениях. И уж тем более невозможно было представить себе, чтобы кто-нибудь повысил голос на ребенка. Это был первый — и довольно мощный — выплеск агрессии, который мне приходилось наблюдать к исходу седьмого дня моего пребывания в Иране. И, сколь не привычен был я к виртуознейшим ругательным возможностям русского языка, за это время я поотвык от них и был поражен такой резкостью. Что вызывало гнев нашего водителя? Он то и дело оборачивался назад, словно именно там находится источник его раздражения. Мы тоже обернулись и увидели идущую чуть сзади нас машину «большого такси», за рулем которой сидел молодой парень. Он тоже что-то говорил в мобильник с очень недовольным видом.
В конце концов выяснилось, что Али (так звали нашего водителя), будучи старшим по смене, получил вызов, который передал этому парню, а тот, не послушав начальника, подсадил по дороге какого-то левого пассажира, оставив основного клиента без внимания. Это взорвало Али и заставило его в конце концов отпустить пару крепких словечек насчет молодых, «которые думают, что умнее всех, ни черта не слушают, а сами ведут себя как обычные частники, не имея понятия о работе настоящего такси».
Выпалив эту тираду и добившись, по-видимому, признания ошибки от своего подчиненного, наш шофер расстегнул одну пуговицу на вороте рубашки, ослабил галстук, стягивающий его покрасневшую, как у индюка, шею и включил магнитофон с записью какой-то иранской оперы. Во время всех наших поездок я обычно просил водителей не включать радио, чтобы не испытывать свои нервы незнакомой музыкой. Мохсен, который знал о моих причудах, красноречиво поглядывая на магнитофон, потянулся было к водителю, чтобы попросить его выключить звук, но я удержал его.
— Не надо. Пусть музыка играет.
— Почему?
— Потому что он нервничает. Он еще не отошел от этой стычки. Дай ему успокоиться, иначе он разобьет нас. И потом… Дай ему вести себя так, как он хочет. Разве ты не видишь, что ему нравится эта девушка?
— Ты думаешь?
— Конечно. Поверь мне.
Не стоило большого труда удостовериться в этом: шофер, подтянутый, спортивного вида, пожалуй, даже красивый для своих сорока-пятидесяти лет — бросал на нашу спутницу такие огненные взоры, что только слепой не понял бы, в чем дело.
На остановке, которую он сделал через два часа, он решительно снял галстук и форменную рубашку, и, пока девица покупала что-то в мини-маркете, облачился в облегающую синюю футболку, чтобы, вернувшись, та могла по достоинству оценить его сухое и сильное тело. Мы взялись подыгрывать ему и когда все кассеты кончились, просили завести еще раз особенно чувствительные мелодии. Это ему понравилось, он с удовольствием заводил «полюбившиеся» нам пассажи и в конце концов стал считать нас отличными ребятами.
В Реште я не запомнил ничего, кроме эстакады, под которой наша спутница попросила остановить машину и, расплатившись с шофером, вдруг сказала Мохсену, протягивая ему бумажку с какими-то каракулями:
— Вы не здешние, поэтому… Если вам понадобится завтра какая-нибудь помощь или услуга, позвоните по этому телефону, я с удовольствием помогу вам…
— А, — сказал Мохсен. — Спасибо, спасибо.
По совести говоря, я так уже устал и отупел, что даже не понял, какого рода предложение было нам сделано.
Али, отъехав, повернулся ко мне:
— Что ж, — сказал он и усмехнулся. — Выходит повезло тебе, парень. А я, как петух, только распускал перед нею хвост…
Мы посмеялись. Мохсен спросил шофера, какие у него планы на завтра. Оказалось, что сам Али из Решта, жена его дяди была русская, завтра у него выходной и он охотно провезет нас по любому маршруту.
XXII. ГИЛЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА И БЛИЦ-КРИГ ПО-СОВЕТСКИ
Когда в последние два года XIX века торговый оборот России с Персией оживился настолько, что перекрыл все результаты от торговли за предыдущие десять лет, решено было тянуть от Баку до Решта железную дорогу. К тому времени у России было уже исключительное право судоходства по Каспийскому морю и военный флот, это право защищающий. В 1899–1900 году инженер Саханский составил проект железной дороги до Решта и приобщил к нему свои соображения относительно будущего развития железных дорог в Персии, конечным пунктом для которых, ни много, ни мало, был избран город Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Российская империя была в те годы в расцвете сил и мечтание свое о выходе к южным морям полагала вполне правомерным и в некотором смысле — законным и естественным. «Мы достигнем с этой линией нашего крайнего предела на юге и завершаем этим свою мировую задачу, свое естественное тяготение к открытому океану» 269. Россия никогда не считала Персию свей колонией или полуколонией. И все же она, как и другие мировые империи, распоряжалась на территории Персии весьма свободно. Правда, только в торговле с Россией Персия имела положительное сальдо, ибо продавала в Россию очень много сырья. Все другие торговые партнеры — Англия, Франция и Германия — продавали в Персию гораздо больше, чем покупали у нее, чем объективно разоряли страну. Это полезно иметь в виду, коль скоро мы оказались в Реште — главном узле русско-персидской торговли. П. Риттих, железнодорожный инженер, который по следам Саханского делал железнодорожную «рекогносцировку» в сторону Индийского океана, оставил любопытные сведения о русско-персидской торговле: если в 1840 году Россия продала Персии товаров на сумму 1 миллион рублей, а вывезла на 3 миллиона 500 тысяч, то в 1899‐м эти цифры составили, соответственно, 17 859 000 и 21 696 000 рублей.
Русскими товарами в начале ХХ века были хлеб, чай, сахар-песок и рафинад, лес, семена, яички шелковичных червей, меха, кожи, сырой металл, керосин, бензин и легкие осветительные масла, металлические и деревянные изделия, изделия из стекла и фарфора, бумажные ткани, спички, свечи, экипажи, галантерейные товары. При этом сахаром, скажем, Россия обеспечивала 80% персидского импорта, а Франция и все остальные — только 20%. Был огромный спрос на русские набивные ткани, ситец, хлопчатобумажные ткани. Приспосабливаясь к нуждам рынка, хозяева мануфактур освоили «рисунки в чисто персидском вкусе».
В Россию из Персии в огромных объемах продавался рис, овощи, свежие и сушеные фрукты и ягоды, изюм, табак, рыба, устрицы, раки, кожи выделанные и невыделанные, ценные породы дерева, драгоценные камни, хлопчатая бумага и хлопок-сырец, шерстяные изделия…
Эти торговые отношения могли бы интересно развиваться, если бы не революция в России. И поначалу даже не собственно революция, а события, предшествующие ей. А именно Первая мировая война, во время которой Англия и Россия использовали территорию Ирана для военных действий против Турции, и сделали это как нечто само собою разумеющееся. Тогда это вторжение больших масс войск, нацеленных, к тому же, вести войну и подвергать Иран всем превратностям этой войны, вызвал сильное недовольство. Возникли антианглийские и антирусские настроения, достаточно радикальные для того, чтобы туркам удалось создать в лесах Гиляна партизанский отряд панисламистской организации «Эттехаде Ислам» (Союз ислама) под командованием некоего Мирзы Кучук-Хана. Все это кажется никак не связанным с тем, о чем мы говорили недавно, и тем, о чем будем говорить впредь, но как выявил опыт этого путешествия, всё рано или поздно непостижимым образом связывается в один узел, и партизанский отряд «полковника леса», как велел именовать себя Кучук-Хан, весьма скоро заявил о себе в революционных событиях 1920–1921 годов.
Обычно образование Гилянской социалистической республики связывают с прямым экспортом революции из России, вернее, из Азербайджана, куда части XI Красной Армии прибыли, не встречая сопротивления, в апреле 1920 года. Но это не так. Гражданская война докатилась до Ирана сначала в виде эскадры деникинских вспомогательных крейсеров, которые прибыли в порт Энзели из Порт-Петровска (Махачкалы) еще в марте. Здесь их приняли англичане, пообещав поначалу, что оставят корабли в полной боевой готовности. Это продолжалось недолго. Скоро английские власти стали требовать от командования эскадры сдать им замки от орудий, переселить матросов в припортовые бараки и угомонились только тогда, когда им удалось добиться, чтобы на каждом корабле находился наблюдателем английский офицер. Для Республики Советов прибытие деникинской эскадры в порт Энзели означало вот что: в непосредственной близости от Баку, в каких-нибудь 300–350 километрах по прямой, стоит вражеский флот (в мае 1920 года Гражданская война не была еще закончена) с наблюдателями из вражеских английских офицеров (англичане вооружили Деникина и возглавили интервенцию на севере России), который по первому приказу белого командования может быть использован для военных операций в любой точке Каспийского побережья. Такая ситуация Москву не устраивала. Ленин потребовал во что бы то ни стало захватить корабли. Так в Баку появился романтик революции, комфлота Федор Раскольников, так возникла чисто военная задача: с помощью волжской военной флотили окружив Энзели, высадить десант и захватить деникинские корабли вместе с их командами.
И командующий флотом Раскольников, и председатель кавказского бюро ЦК РКП (б) Серго Орджоникидзе, приступая к Энзелийской операции, конечно, мечтали о «прорыве» революции на Восток. Но Москва жестко окорачивала их. Разумеется, нарком по военным делам республики Троцкий не перестал быть сторонником мировой революции. Но в мае 1920‐го начались бои на советско-польском фронте, и перспективы мировой революции Троцкий связывал скорее с успехами наступления на Запад, чем с действиями Раскольникова на Востоке. В успех коммунизма на Востоке он больше не верил: на то был почти трехлетний опыт барахтанья в неистребимом басмачестве советского Туркестана. Троцкий прямо писал: «Советский переворот в этих [мусульманских] странах в данный момент причинил бы нам величайшие затруднения. Даже в Азербайджане советская республика не способна стоять на собственных ногах, несмотря на нефтяную промышленность и старую связь с Россией» 270. Кроме того, в 1920 году Советская Россия впервые была приглашена по линии Министерства иностранных дел в Англию, и Троцкий понимал, что только возможность договориться с англичанами по поводу Востока будет «козырной Чичеринской картой» в ходе переговоров того с Ллойд-Джорджем.
Но все это не отменяло задуманную Реввоенсоветом XI Красной Армии операцию по захвату Энзели, которой руководил Раскольников. Волжско-каспийская военная флотилия, поступившая в его распоряжение, хоть и считалась «речной», была вполне боеспособным соединением: в ее составе имелись 2 вспомогательных крейсера, 4 эсминца, 1 тральщик и 3 транспортных судна. 17 мая, когда истек срок ультиматума красного командования белогвардейской эскадре, все это воинство выступило к персидским берегам под прикрытием вспомогательного крейсера «Пролетарий». И уже на следующий день начались невероятные события: порт Энзели и все находящиеся в нем корабли были захвачены… без боя. Есть любопытные воспоминания очевидца по этому поводу: «18‐го мая 1920 г. утром очень рано появилась Каспийская красная флотилия на горизонте Энзели. Англичане, которые укрепляли берега… в течение целого месяца, готовясь, как будто, к серьезному отпору большевиков с моря, с первых же выстрелов из миноносок начали готовиться к бегству. С самого утра замечались оживление среди населения города и отнюдь не паника, а когда стало ясно, что англичане оставят город, началось ликование среди мусульманских масс в полном смысле этого слова. Население толпилось на берегу моря около бухты […] и в момент, когда вошел первый траллер в бухту, многотысячная толпа, собравшаяся на валах бухты, с восторженными криками «ура!» приветствовала въезд большевиков. Ночью в городе было праздничное настроение. В следующий день утром улицы города необыкновенно были полны населением…» 271
Все говорило о том, что изгнание англичан по сердцу мирным жителям и с происходящим они согласны. Командующий десантными отрядами Иван Кожанов, памятуя о травматическом для персов эффекте присутствия чужих войск на их территории, сделал заявление о том, что Красная Армия пришла сюда только за военными кораблями врага и не намерена долго оставаться в Персии. Однако, уже через два дня Федор Раскольников, командующий всей операцией, сделал заявление в противоположном духе: а именно о том, что намерен остаться.
Что же произошло за эти два дня?
20 мая Раскольников получил из Баку телеграмму, в которой Ревком Советского Азербайджана выражал приветствие красным морякам, «несущим освобождение из цепей рабства трудящимся Персии и всему Востоку» 272. Но еще больше он был поражен событиями в Энзели. Народ не уставал приветствовать большевиков. Весь город был украшен красными флагами. Персидские казаки273 заявили, что отдают себя в распоряжение красных, что стоявший во главе их русский офицер арестован и вместо него будет назначен надежный товарищ. Более того, перебежчики от англичан, в войсках которых было много индусов и сикхов, сообщали, что, как только дело дойдет до боя, они поднимут своих офицеров на штыки и присоединятся к красным отрядам. Тогда же из леса от партизан Кучук-Хана прибыл посланец и заявил, что Кучук-Хан «будет действовать так, как ему укажет Советская Россия…» 274.
Персия казалась совершенно готовой к революции. У Раскольникова закружилась голова. Возможно, в такой обстановке она закружилась бы у любого. Но он вдруг совершенно отчетливо услышал марш своих моряков по мостовым Тегерана и увидел себя провозвестником новой эры в истории Востока. 20 мая им были изданы соответствующие этому настроению приказы: «ввиду восторженного приема красных моряков населением и раздающихся со всех сторон просьб о том, чтобы мы остались с ним и не отдавали на растерзание англичан, красный флот останется в Энзели, даже после того, как военное имущество будет вывезено» 275 (из телеграммы Троцкому 22 мая).
Более того: первый, второй и третий десантные отряды красных военных моряков были переименованы в Советский Экспедиционный корпус, а начальник десантных отрядов товарищ Кожанов был назначен командиром этого корпуса. Не теряя времени, Раскольников встретился с губернатором Энзели и через него потребовал от англичан очистить города Решт и Пирбазар и отступить на 150 километров к северу — в Казвин.
Москва отреагировала незамедлительно, резко заявив, что «мы должны быть совершенно в тени, вся помощь людская должна быть оказана в порядке добровольчества» 276. Правда, местной инициативы она не отрицала и предлагала отрядам Кучук-Хана занять Решт, если у него хватит на это сил, и соединиться с частями XI армии. Весьма бдительно реагировал товарищ Троцкий: «…Никакого военного вмешательства под русским флагом. Никаких русских экспедиционных корпусов. Всемерное подчеркивание нашего невмешательства с прямой ссылкой на требование Москвы убрать русские войска и красный флот из Энзели…» «…Если для успеха дальнейшей борьбы Кучук-Хана необходимо участие военных судов, поставить таковые под флагом Азербайджанской республики и оказывать от ее имени помощь Кучук-Хану» 277. Этой телеграммой честолюбивые мечты Раскольникова о немедленном наступлении были разбиты, но зато у Орджоникидзе руки оказались развязанными.
Зная революционную запальчивость Раскольникова, его срочно вызвали в Москву для назначения командующим Балтийским флотом. Не смея ослушаться приказа, Раскольников отбыл в Баку, откуда прислал Троцкому телеграмму, написанную чуть не кровавыми слезами: «…В ночь с 4 на 5 июня в Реште образовано Временное Революционное Правительство Персии…» «Все члены Временного Революционного Правительства — старые сподвижники тов. Мирза-Кучук и участники первой персидской революции» 278. Раскольников просил разрешить товарищам Кожанову и Абукову (комиссару волжской флотилии) войти в Реввоенсовет Персии, «целиком перейдя на персидскую службу и формально порвав с Советской Россией». «Временное революционное правительство Персии, на заседании которого я присутствовал, передало мне, что во главе угла своей деятельности оно кладет осуществление социализма на основе принципов тов. Ленина. В настоящее время тов. Мирза-Кучук считает целесообразным выдвинуть только один лозунг: долой англичан. После занятия Тегерана, когда необходимость на первых порах использовать ханов будет целиком использована, он объявит о передаче земли народу» 279. Накануне отъезда к Раскольникову снова приезжал командир дивизии русских казаков и заверил, что казачья дивизия будет подчиняться русскому правительству, а так как единственным русским правительством в настоящий момент является правительство советское, то дивизия будет поддерживать его. Раскольников готов был локти кусать от досады, но приказа ослушаться не мог и срочно выехал в Петроград.
Меж тем, 7 июня вышел Манифест Персидской Советской Республики в Гиляне, в первом же пункте которого говорилось: «Общество красной революции в Персии уничтожает монархию и официально объявляет об учреждении Советской Республики». Объявлялось о защите личности и имущества граждан, аннулировании всех договоров, заключенных персидским правительством с любым другим. Все нации объявлялись равными перед лицом этой программы. Кроме того, «оно [правительство] считает своим долгом охрану ислама» 280. В этом умеренном манифесте всё было взвешенно. И тем не менее, гилянской революции хватило десяти дней, чтобы полностью выдохнуться. Одной из главных причин было прибытие из Азербайджана в Решт персидских и азербайджанских коммунистов.
Очевидец так повествует о прибытии в Энзели парохода «Тамара» с большевиками: «…Пароход пристал к берегу и Б. Агаев (персидский коммунист) с парохода же начал говорить речь толпе. Приблизительное содержание речи сводилось к тому, что настал конец господству имущих, что скоро в Персии коммунисты начнут борьбу против класса буржуев, которые достойны тому, чтобы их убивали, уничтожали. Он обратился к стоящим в одной стороне амбалам [грузчикам] с призывом очнуться и перейти к экспроприации богачей. Они должны выселять богачей с их больших домов и сами жить в этих домах. Затем он указал на лавочников и сказал, что советская власть скоро их уберет всех и на их месте будут кооперативы и продовольственные лавки. После этой речи толпа долго не расходилась, в недоумении прогуливаясь по пристани. В этот и следующий дни на базаре замечалось паническое настроение. Крупные купцы города собрались и написали письмо Кучук-Хану, чтобы он не допустил большевикам проводить свою программу в Персии…» 281
Для мусульманской страны, в которой частная собственность была неотторжима от представлений о справедливости, погромная агитация большевиков была чудовищна и абсолютно неприемлема. Кроме того, коммунисты деятельно занялись — как это было и в России — организацией штабов, ревкомов и устройством личной жизни. Так, отбывая в Баку, товарищ Абуков приказал подготовить ему лучшее помещение в Реште и по возвращении через два дня устроил истерику, не пожелав вселиться в предложенную ему квартиру. Один из уважаемых городских купцов, Хаджи-Магомет-Али-Ага предложил Абукову и его жене временно разместиться в его доме, по праву считающемся одним из лучших в городе. Абуков велел привезти в отведенную ему женскую половину 12 кроватей и обставил ее реквизированной мебелью. Во время очередной командировки в Баку Абуков поселил в купеческом доме десять своих работников, явно злоупотребляя гостеприимством, что и побудило хозяина обратиться к Кучук-Хану за тем, чтобы тот уговорил тов. Абукова перейти в приготовленную для него квартиру. Это удалось только после десятидневного умаливания товарища, избранного к тому времени в ЦК иранской компартии. Более того, жена Абукова, тов. Булле, требовала, чтобы из занимаемого ими прежде дома были перенесены на новую квартиру хотя бы люстры. Были стычки и по политическим вопросам, ибо на митингах тов. Абуков выступал с лозунгами «долой религию, долой чадру!» 282. Он занял место в Реввоенсовете Гилянской республики и требовал, чтобы все телеграммы Баку — Решт и обратно передавались непосредственно через него, так как Советский Азербайджан оказывает помощь Гилянской республике только через коммунистическую партию.
Таким образом, революция быстро осталась без опоры: купцы, на поддержку которых рассчитывал Кучук-Хан, насторожились, услышав погромные лозунги большевиков, и перестали оказывать ему помощь. Лозунг «Долой англичан!» провис, ибо и крупные купцы, и мелкие лавочники торговали в основном английскими товарами и не желали лишаться прибыли. Оттягивание земельной реформы «до взятия Тегерана» оставило равнодушными к революции крестьян, а простые горожане были шокированы атеистическими выпадами большевиков. Кроме всего прочего, обосновавшись в высших органах военной власти, товарищи Абуков и Мдивани провели деятельную чистку в рядах собранной из добровольцев Персидской Красной Армии. В частности, бывший комиссар десантных отрядов Абуков не пощадил и своего бывшего командира, Кожанова, одного из последних романтиков персидской революции. Лишившись пассионарных командиров, армия быстро сникла и стала фактически небоеспособной.
18 июля отряд моряков в Реште отказался выступить на фронт. Среди команды десантных моряков давно замечалось недовольство. После построения и объявления морякам приказа об отправке на фронт была дана команда: «напра-во!». Но вместо этого моряки дружно повернули налево и заявили изумленным комиссарам, что на фронт они отправляться не желают, а проследуют сейчас в Энзели для отправки домой 283. Только хитрость — оглашение среди недовольных текста несуществующей телеграммы о якобы скором прибытии из Баку для подавления «мятежа» миноносца с отрядом коммунистов в 1000 человек при двух пулеметах и двух орудиях — заставило бунтовщиков отказаться от своей затеи и выступить на фронт с обещанием, что подобное больше не повторится.
Конец июля был ознаменован ужесточающейся грызней Кучук-Хана, возглавлявшего правительство, с различными коммунистическими организациями. В одной из своих многочисленных телеграмм Ленину Мирза Кучук высказался о неготовности Персии к построению социализма, о невозможности работать с коммунистами и терпеть иностранное вмешательство (имеется в виду Советский Азербайджан) в персидские дела. Он уведомил вождя Мировой революции, что оставляет пост главы правительства и удаляется к себе в лес, где и будет ждать решения первоочередных для него вопросов 284.
Коммунисты, похоже, только обрадовались уходу несговорчивого Кучук-Хана и 31 июля по радио оповестили весь мир о коммунистическом перевороте в Гиляне. Однако, как легко понять, никакие заявления уже не могли спасти «республику ораторов» от неминуемого краха. Нимб освободителей, когда-то осенявший эскадру Раскольникова, померк, революционных преобразований народные низы так и не дождались, коммунисты, на поверку, оказались довольно-таки сволочным народом, англичане опомнились, персидские казаки вновь присягнули шаху, а уход «в лес» Кучук-Хана окончательно разделил «революционеров» и «народ». 19 августа Персидская Красная Армия попробовала перейти в наступление под Казвином, но в результате уже 20‐го ее Реввоенсовет сообщил о «катастрофическом положении на Казвинском направлении». «… Персидские, местные и прибывшие из Баку части, — сообщалось в депеше, — поддавшись провокации [очевидная ложь!], частью разбежались, частью, перебив комсостав, перешли на сторону противника..» 285 Вновь присягнувшие шаху казаки в конце августа заняли Решт, были выбиты, но в целом персидская революция уже с сентября 1920 дотлевала в вялых стычках отрядов, присланных из Баку, с шахскими войсками и подразделениями англичан…
Зимой 1921 года на территории Азербайджана из частей все той же XI Красной Армии заново была сформирована Персидская Красная Армия, в просветотделе которой оказался Велимир Хлебников 286, сидевший голодный и без денег в Баку. В мае попытка высадиться в Энзели была успешно повторена, но дальше персидская революция стала вычерчиваться по единожды уже опробованному и никуда не годному лекалу. Как только появились красные, к ним сразу же примкнул просидевший десять месяцев в лесу Кучук-Хан со своими «муджахидами». Эта реанимация персидской революции, продлившаяся несколько летних месяцев, также не увенчалась успехом: уже в сентябре Ф. Ротштейн, все это время бывший послом РСФСР в Иране, написал письмо о бесперспективности революционной борьбы в Персии и целесообразности сдать Гилян шахской власти. Того же мнения придерживался и Чичерин. Кучук-Хан тоже не нашел общего языка с персидскими коммунистами, которые успели создать несколько враждующих между собою коммунистических партий. 29 сентября 1921 года Кучук-Хан организовал нападение на руководитей наиболее многочисленной из них — ИКП. После этого он попытался выторговать себе у шаха Гилянскую провинцию в неотъемлемую сатрапию, но в этом не преуспел и в ноябре при неизвестных обстоятельствах был убит в горах Талыша.
Единственным результатом всей этой почти полтора года продолжавшейся авантюры были несколько гениальных стихов Хлебникова и один пункт в договоре, подписанном министром иностранных дел Чичериным с шахским правительством — а именно тот, что в случае, если Советским республикам будет угрожать опасность с территории Персии, они могут, ради своей безопасности, занять персидскую территорию. Этот пункт очень пригодился в 1941 году, когда Германия объявила войну СССР и территория Ирана стала представлять для всех стран антифашистской коалиции определенную опасность, как плацдарм для возможного удара в советский тыл, тем более, что тогдашний Реза-шах открыто сочувствовал Германии 287. Исследователь вопроса С. М. Алиев беспощадно, но верно заметил, что в такой ситауции «ни один политический шаг иранского правительства не сумел бы предотвратить вторжение антигитлеровской коалиции на территорию страны» 288. Должно быть, эта фраза звучала и звучит для самих иранцев невыносимо. Но стоит только вообразить себе, что было бы, если, скажем, в конце 1942 года, в разгар боев за Сталинград, немцы высадили бы в Иране какой-нибудь десантный корпус для удара в незащищенный тыл Азербайджана… История, как известно, не терпит сослагательного наклонения, поэтому лучше просто понять, каких бед избежала наша страна и сами иранцы от того, что силы союзников своим присутствием защитили Иран и Вторая мировая не прокатилась, как асфальтовый каток, по его территории, а закончилась тихой оккупацией юга — англичанами, а севера — советскими войсками.
Разумеется, патологическая секретность коммунизма долгое время полностью скрывала от жителей СССР подробности этого блиц-крига, во время которого Красная Армия продемонстрировала, наконец, как она могла бы воевать. И как ей воевать мечталось. Ибо в то самое время, как на пространстве от Мурманска до Одессы и Севастополя наши войска месяц за месяцем терпели жестокие поражения, здесь, на южных границах Азербайджана и Туркмении, все происходило иначе: в 5.30 утра 25 августа десантные части 44‐й и 47‐й армий перешли иранскую границу; механизированные подразделения 47‐й армии вышли к своим рубежам, как им и было приказано, без потерь и в срок — 25 августа был уже взят Ардебиль — и, почти не встречая сопротивления, в назначенный час овладели всеми стратегически важными пунктами каспийского побережья Ирана. Летчики, будто на учениях, точно поразили свои цели. А красная кавалерия 53‐й Отдельной Среднеазиатской Армии парадным маршем из Туркменистана поскакала прямо в Хорасан. Тегеран был занят союзниками 17 сентября, Реза-шах бежал, а правительство нового шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, позднее низвергнутого исламской революцией, уже не позволяло себе заигрываний с Германией. Короче, в отличие от германского фронта, где в 1941‐м творился сущий ад, здесь все было сделано быстро, легко, красиво, а главное — почти бескровно. Этой операцией мы очень обезопасили свой тыл во время войны и должны высказать слова благодарности иранскому народу за то, что он не слишком-то в претензии на нас за это.
XXIII. МЕНЯ ПРИНИМАЮТ ЗА «СВОЕГО»
Серый день, низкая, залитая водой равнина. Утки в оловянной воде. Чеки. Рис. Плантации чая. Потом — кусочек тополиного леса вдоль дороги. Неожиданно открывающиеся штабеля бревен на повороте. Более или менее округлившиеся стволы двадцатилетних тополей распилены и погружены в кузов синего «Пейкана». Это — лесная промышленность по-ирански. И сколь ни слабосильной кажется она по российским меркам, Иран не закупает бумагу. Тополиных посадок хватает, чтобы, не вырубая лес в горах, обеспечивать сырьем целлюлозно-бумажный комбинат, который находится на каспийском побережье в районе Амоля и является одним из крупнейших в Азии.
На подъеме к замку Рудхан мы впервые оказались в гилянском дженгеле — лесу. Вернее, в джунглях. На склонах горы, довольно полого поднимающейся к замку, росли деревья, действительно напоминающие исполинов тропических джунглей. Каждое такое дерево — это целый мир: мир солнечных пятен и мир теней, мир бороздок коры, облекающей гигантский ствол, мха, наросшего на кору, и лиан, запустивших в нее свои корни. Мир существующих в этом стволе дупел и тайных убежищ для бабочек, мир грибниц и муравейников, осиных и птичьих гнезд и необозримых пажитей для гусениц и тлей — гигантской, волнуемой ветром кроны, несущей на себе несколько тонн трепещущих листьев. Каждое такое дерево кажется Духом Леса, частью единого сверхорганизма, поддерживающего пестрый купол храма Природы…
Благодаря цементной тропинке, проложенной через лес по склону горы, подъем к замку Рудхан сравнительно легок. Мы отправились туда втроем — Мохсен, наш вчерашний шофер Али Тахмои, который оказался очень веселым спутником, и я. Довольно бодро, без перекуров, мы одолели маршрут за полтора часа.
Али вспомнил, что однажды в молодости поднимался к замку прямиком через лес. Тогда тропинки не было, и подъем меж исполинских корней по мылкой глине занял у него четыре часа.
Едва мы вошли в ворота, я понял, что готов был увидеть в замке Баладе: кирпичные стены с круглыми башнями опоясывали вершину горы. По внутренней стороне стен взбирались крутые ступени, во дворе открытыми стояли хранилища, а на самом верху устроен был неприступный форт, обведенный еще одной стеной и увенчанный высокой круглой башней, где могли бы укрыться человек пятьдесят. Я побродил по замку и нашел точку, с которой был сделан снимок, отпечатавшийся в моем мозгу. Прямо за воротами, на возвышении, есть остатки крепостного сооружения. Фотограф снял замок через одну из бойниц, так что получилось очень эффектно.
Но таким образом он представил нам только половину замка. Другая половина осталась у него за спиной. Замок Рудхан имеет форму каравеллы — у него высокий нос, на котором как раз расположен «форт», и высокая корма, куда в конце концов забрался я. Здесь сохранились увитые лианами и поросшие плющом руины дворца. С этой кормы сквозь широкое ущелье просматривалась половина Гиляна до самого моря. Если бы день был солнечный, я увидел бы краны порта Энзели. Несмотря на великолепное расположение замка и звучное имя, никакой исторической славы он не снискал. Из этого я сделал вывод, что он, скорее всего, принадлежал каким-нибудь местным властителям, которые с кормы своей каравеллы — то есть из дворца — наблюдали за подвластной им провинцией.
В развалинах, куда народ забредает редко, я наткнулся на пару влюбленных. Видимо, сам того не желая, я прервал их уединение, но они не подали виду, что я им помешал. Во всяком случае, парень тут же откликнулся на мое приветствие и вежливо спросил:
— Where are you from?
— From Roussia, — ответил я, по-ирански выговаривая «Ру´ссия».
— From Russia, — поправил меня парень на безупречном английском.
— Нет, не «Раша», а «Ру´ссия», — не согласился я, подчеркивая свое желание оставаться в Иране, а не где-нибудь еще.
Парень понял меня и улыбнулся. За нашим разговором следила красивая черноволосая девушка. Её губы припухли от поцелуев, волосы свободно лежали на плечах. Она и не думала прикрывать их платком.
Потом парень попросил, чтобы я сфотографировал их вместе его мобильником.
Я взглянул на дисплей: девушка прижалась к своему возлюбленному, так и не покрыв голову платком.
Здесь, в уединении замка Рудхан, вызревала новая любовь и новая свобода…
Масуле с первого взгляда показалось мне обычной подделкой, типичной туристской «достопримечательностью». Но потом я подумал, что туризм, может быть, был единственным способом его сохранить. Селение действительно древнее, большое и очень красивое, подобно дагестанским аулам прилепившееся к склону крутой горы. Ряды домов, построенных встык друг с другом, образовывали своего рода уступы, поднимающиеся к вершине горы. Между уступами пролегли узкие улочки. За восемьсот или тысячу лет таких «уровней» наросло восемь или десять. Каждое столетие прибавляло по одному. Внешне Масуле было удивительно похоже на дагестанский Чох, на Кубачи. Может быть, когда-нибудь именно туризм спасет Кубачи от разрушения: жаль, что при этом селение потеряет свою душу, дух «кольчужников», но тут, видно, ничего не поделаешь — так уж устроен современный мир. Но когда Мохсен спросил меня, видел ли я когда-нибудь что-либо подобное, я, не кривя душой, сказал, что видел. И много. Причем не в Испании, а в Дагестане. И видел я еще живые селения, а не муляжи. Я потом, разумеется, прошелся по Масуле, поинтересовался, как тут все устроено. Для туристов есть отель «Масуле» на берегу горной речки, тут же — магазин сувениров «Масуле», дальше — торговая улочка, которая выводит к нескольким старым и хорошо сохраненным домам на площади перед мечетью. Это обязательный маршрут, который проходят все. А потом разбредаются по деревне каждый в поисках своих маленьких открытий… но обедают все равно вместе в отеле внизу. Селение, действительно, очень красиво, но удостоверяют всю эту красоту, ее подлинность и «аутентичность» с десяток бабок, которые еще живут здесь, ткут на ручных станках ковровые дорожки, стоят, о чем-то переговариваясь, на улице, не замечая туристов, желающих поместить их в кадр. Помимо бабок, есть здесь еще с десяток бодрых дедов, которые заняты в основном уборкой мусора.
Ухаживать за цветами, вставлять стекла, менять лампочки и вообще следить за сохранностью «фасада» приезжают рабочие из города. Одного я застал за ремонтом крыши. Она, к сожалению, провалилась, но цветы за окнами стояли как ни в чем не бывало. И занавесочки повешены. Хотя в доме давно никто не жил, вид у фасада был вполне фотогеничный, и каждую минуту кто-нибудь обязательно останавливался, чтобы снять этот дом.
Я походил по селению, но толком ничего не сфотографировал: тут каждый угол, каждая улочка были так общелканы, будто пальцами захватаны. В конце концов я решил снять на память панораму, куда бы вошло селение целиком: очень уж оно красиво смотрелось в этот неяркий день среди облетающих деревьев под низкими облаками. Самой выгодной позицией для съемки мне показался бугор напротив селения, на который я и взбежал. И только когда взбегал, увидел, что на ту же позицию, на ту же точку, уже набегана целая тропа, а значит, не один, не два и не десять человек сделали отсюда «свой» снимок. Их были тысячи. Я замер, чувствуя нежелание снимать то же, что и все. Я понимал, что в своем путешествии по Ирану ничем не отличаюсь от обычного туриста. Ночую в гостиницах, обедаю в кафе, езжу на такси. А главное, ничего с этим не поделаешь: если бы я передвигался на велосипеде или на ишаке, а спал в палатке, это выглядело бы лишь немного странно: ибо нельзя вырваться из современности. Но тут, на бугре, меня заклинило. В этот момент внизу один из старичков‐бодрячков, что носятся по всему Масуле с тачками, показав на меня, о чем-то спросил Мохсена.
Я разобрал только слово «альман». За немца, видно, принял.
— Да нет, он русский, — сказал Мохсен.
— А-а-а! — громко закричал старик. — То-то я и гляжу: никакой он не турист! Он из наших!
И покатился дальше.
Мохсен и Али рассмеялись. Засмеялся и я. По правде говоря, мне было приятно, что старик принял меня за своего. За время поездки я понял, что мне нравится Иран, нравятся иранцы. И быть «туристом» среди них я бы не хотел. Другое дело — быть для них «своим». Это значило, что я все-таки чего-то добился на избранном пути. Я и начинал-то этот поход, стремясь прорвать и упразднить границы между людьми. И вдруг этот старик, ничего обо мне не зная, только чиркнув взглядом, удостоверил мою «свойскость». Я ему был не чужой. Я почувствовал вдруг, что в этот миг ни за что не променял бы своё «иранство» ни на свою русскость, ни на свою европейскость. Быть иранцем сегодня — значит, быть участником социального проекта, подразумевающего гораздо большую человеческую солидарность, чем востребована сегодня в России и, конечно, большее мужество, чем нужно в расслабленной Европе. «Он из наших». Наверно, это — самая удивительная фраза, которую я услышал в Иране. Признание моей неотчужденности.
Я чувствую, как закрывается занавес. Скоро солнце сядет. Еще день пройдет. И у меня их останется только два. Вернее, полтора. Сейчас мы едем по дороге к порту Энзели. В порту мы уже ничего не увидим, но почему-то меня взяло неодолимое желание в последний раз выкупаться на южном берегу Каспия. Кто знает, удастся ли мне когда-нибудь еще ступить на этот берег? Еще хотя бы раз в жизни?
Удивительно, что за весь день я не увидел в Реште ни одного здания, ни одной постройки, ничего, что ассоциировалось бы с Хлебниковым 289. Сейчас Решт — это каспийская столица Ирана, дорогой и красивый город. В нем даже представить себе трудно, где, например, могла бы находиться та чайхана, где он сиживал, покуривая опиум? Едва мы выехали утром в Решт, я понял, что разыскать ее невозможно. За сто лет материя — видимый мир — полностью изменила свой облик. Нет не только того типа домов, в которых Хлебников мог бы жить или сиживать, но и материалов, из которых строились те, прежние дома — глины, самана, извести, соломы или камыша. Они вышли из употребления. Тогда и чай был другой. И даже опий. Действительность полностью перелицована, только стихи звучат неизменным «истовенным» хлебниковским языком, они неподвластны потоку времени…
В материи тоже заключена поэзия. Весь день я вертел головой, пытаясь вызвать и сам город, и его окрестности на своего рода архитектурное «воспоминание». И под вечер мне это удалось. У дороги я увидел крошечную мазанку на одного, наверно, человека, которая стояла в старом яблоневом саду на высоких столбах, так что попасть внутрь можно было, только поднявшись по деревянной приставной лестнице на своего рода балкон, с которого открывалась дверь в крошечную комнатку. Или на сеновал? Как уцелело это невероятное строение? Какие обстоятельства уберегли его? Ведь оно реально могло видеть Хлебникова. Хлебников мог ночевать в нем. Это была чудом сохранившаяся поэтическая материя прошлого. Причем воплощенная как раз в глине, в белой известковой обмазке, в толстых, неровных стеклах крошечных окон, соломе крыши и в вечернем чуде сада…
Когда в составе просветотдела Красной Персидской Армии Хлебников прибыл в Решт, его довольно быстро объегорили, кто-то присвоил его зарплату, и чтобы что-то есть, Хлебников на базаре продал свой сюртук, который у него был надет на голое тело. И вот, в серой нижней рубахе, в штанах из мешковины, с длинными волосами и звучащими, будто лесное эхо, стихами, он был принят местным населением не просто за «своего», а за праведного и истовенного человека, «дервиш урус’а», то есть «русского дервиша», суфия, поэта, «муллу цветов». Кормился он на взморье, выбирал икру из выброшенных на берег сомов, жарил, ел. Спал на земле в корнях смоковницы. Врывался на базар на диком буйволе своих стихов: «Очана! Мочана! Ок! Ок!» И был понят. Вот в чем парадокс. В наше время такое не могло бы произойти. В наше время поэта Хлебникова первым делом взяла бы полиция. И в Реште, и в Москве — повязали бы по-любому. И за безумный вид пророка, и за странные речи, и за курение опия…
Серый с розовым был час, когда я в последний раз купался на южном берегу. Али заметил проезд между двумя железными заборами, и мы свернули туда. Берегом моря бесконечно тянулся поселок. Между заборами возле лестницы, спускающейся на пляж, стояли старик и какой-то мужик с мотоциклом. Внизу ребята сталкивали парусную лодку в вечернюю воду. Я разделся догола, пробежал по песку, нырнул и сделал несколько гребков в этой любимой, прохладной, слабосоленой, серой с розовым воде. На берегу вытерся, как мальчишка, майкой. Поднимаясь по лестнице, вдруг услышал:
— Гаспадин, вада халодная?
Я не поверил своим ушам и, изумленно повернувшись, увидел стоящего у перилины старика.
— Нормальная… — только и нашелся я, что сказать.
— Гарячая?! — почти выкрикнул старик, по-видимому, исчерпывая имеющийся у него запас русских слов.
Мохсен заговорил с ним о чем-то.
Оказалось, во время войны он был мальчишкой, ходил в бильярдную играть с офицерами. Немало слов знал по-русски. Но в памяти остались только пять или шесть.
Странный день. Странные отзвуки прошлого… С самого утра меня преследовали российские тени: то здесь, то там стоящие вдоль обочин грузовики 60‐х годов, выпускавшиеся под маркой ГАЗ. Некоторые еще выглядели совсем как новые, другие, похоже, доживали свой век на положении изношенной до самого последнего предела колхозной техники. Были среди них автомобили, покрытые грунтом в два-три слоя, пестрящие красными, синими и зелеными заплатами, но сверху даже не покрашенные. Они едва заводились и долго хрипели, прежде чем «схватывало» мотор и цилиндры начинали выбивать какой-то сбивчивый, ишемический ритм. Попадались и тщательно хранимые хозяевами «Волги», и видеть их было, пожалуй, даже приятно, хотя все в целом складывалось в довольно-таки печальную эпитафию: «и мы здесь были, но прошли…»
В конце дня мы попали на рынок: у меня за время путешествия совсем истрепался рюкзак, и я хотел купить себе новый. Ночью Решт наполнен темнотой — в Иране вообще не жгут без пользы электричество — но внутри рынка было светло как днем. Помню менял. Глаза менял. Их руки, чувствительные к банкнотам, к камням, к золоту. Нам всего-то надо было разменять сто долларов, чтобы пятьдесят заплатить Али — и мы попали на этих ребят. Сразу ясно было, что для них больше, чем Бог. В Иране я не сталкивался с одержимостью — все-таки здесь деньги не самая главная ценность. Но вот менялы — они были одержимыми. И глядя в их глаза, вспыхивающие желтым огнем, я каждый раз испытывал какое-то опасливое чувство — что этот огонь вырвется наружу, запалит лавки с тканями, потом рынок целиком, перекинется на прилегающие городские кварталы — и в конце концов испепелит все, что я нашел близкого и дорогого в этой стране. В конце концов я купил-таки хороший рюкзак за 16 долларов и уже на выходе, в полутьме улицы, подхватил у какой-то торговки красный платок в подарок моей дочери — Фро. А потом мы вышли в Решт, канули в темноту, и день кончился.
XXIV. ГРАНИЦА ЗАКРЫВАЕТСЯ В 18.00
На следующее утро я проснулся как от толчка. И сразу почувствовал тоску. Вот спит Мохсен. И больше я его спящим не увижу. Потому что следующего утра в Иране у меня уже не будет. Все, связанное с Ираном, закончится уже сегодня. Почему-то сразу по пробуждении я это четко знал. Потом я стал сам себя уговаривать, тоска прошла, а вместе с нею ушло куда-то это чувство свершенности. Наверно, я просто слишком устал вчера. Один день у меня еще есть. Сейчас мы не спеша встанем, соберемся, позавтракаем, выпьем кофе — отель потому, наверное, и называется Paradise, что здесь подают кофе на завтрак, — и по халхальской дороге — через рай — потихонечку тронемся в Ардебиль. К обеду доедем. Купим на завтра билеты до Баку, не спеша пройдемся по городу… А можно вообще все перевернуть. Доехать за оставшиеся до отлета три дня до Тебриза, потом до Казвина, съездить в Аламут, вернуться в Тегеран и улететь утром десятого ноября… Но тогда я не увижу Азера. Не знаю, почему так важно его увидеть: то ли этой встречей будет символически замкнут весь мой каспийский маршрут, то ли просто — надо пожать руку Азеру…
Дожидаясь, пока зазвонит будильник, я честно признался себе, что ехать мне никуда уже не хочется. Мне надоело проводить полдня в машине, торопливо выбегать с фотоаппаратом, пролистывать эту страну, как странички туристического путеводителя. Сам метод нашего путешествования исчерпал себя. Изначально мы не могли выбрать никакого другого: у нас было всего восемь дней и полторы тысячи километров маршрута. И вот, мы его прошли. Вернее, пролетели. И теперь нужно было изобретать какой-то иной, более внимательный и вдумчивый способ освоения пространства: спуститься на землю, например. И прошагать дней пять или десять пешком. А еще лучше — как Николя Бувье, вместе с другом-художником на крошечном «фиате» или «рено» с женевским номером и подвязанными к задку запаской и парой канистр в свое удовольствие колесить по всей Азии — от Анатолии до Афганистана и Цейлона — не зная преград времени и пространства, обгоняя на пустынных дорогах упряжки мулов, навьюченных верблюдов да редкие грузовики. Одна беда: время изменилось безвозвратно, и нет у меня ни верного «Тополино», готового везти меня на край света, ни друга, кроме Мохсена, ни прозрачных, легко проницаемых границ того, послевоенного мира. И мира того нет. Нет того Ирана, по которому путешествовал Николя Бувье 290: всего-то неполных 60 лет минуло, а нет больше ни базара в Тебризе, ни каменного моста к нему, сфотографированного в 1953‐м, нет ни той чайханы, ни тех духанов, в которых вместе с чаем духанщики предлагали гостям черные шарики опия; нет больше крестьян в самотканой одежде и самодельной обуви; их глинобитные домики уступили место строениям более современным, и никто не строит больше башни из кизяка, похожие на гигантские войлочные колпаки — на дворе XXI век, и в каком-то смысле в своих передвижениях я просто подчинился ритму, сообразному новому времени…
Пожалуй, я хотел бы еще спокойно пожить по нескольку дней в Мешхеде и в Нишапуре (включенных когда-то в мой «большой» маршрут по Ирану). Вот только дней этих у меня больше нет. И для такого опыта мне понадобится приехать в Иран еще раз…
Со звонком будильника пробудился Мохсен. Утро потянулось медленно, как я и хотел. Никуда уже больше не торопясь, я принял душ, вымыл голову, потом вместе с Мохсеном мы спустились в ресторан и выпили по чашке ароматного кофе. Сдали ключ. Что-то во мне дрогнуло. Я ведь даже заучил номер нашей комнаты: «до сад пяньчж». Двести пять. Никогда больше я не подойду к портье и не скажу этих волшебных слов, от которых его лицо само расплывается в улыбке: каждому ведь нравится, когда иностранец старается хоть два-три слова сказать на твоем родном языке…
Возле гостиницы Мохсен умудрился поймать какой-то рыдван, за рулем которого сидел пожилой мужчина с лысеющей головой и безвольным длинным носом. Водитель честно предупредил, что в Ардебиль по халхальской дороге он в последний раз ездил больше тридцати лет назад, еще до исламской революции. Но спешить нам было некуда. И для прощания с Ираном надо было все-таки подобрать какую-то нетривиальную тему.
Довольно скоро, выкатившись из Решта, мы поднялись в зачарованную, опустевшую по осени страну гор. Машина одиноко парила по серпантину дороги. Нет смысла описывать полные золотистого света ущелья и палитру жарких цветов, преобразившую леса. Щемящая утренняя тоска вернулась, я остро ощущал, что вырываюсь из приютившего меня пространства навсегда. Выхожу из него через рай. Так, кажется, сказал Мейсан? «Кто едет по дороге на Халхал, уже не может понять, на Земле ли он еще или уже в раю».
Рай закончился для нас в Ардебиле, когда на автобусной станции мы выяснили, что отсюда автобусы на Баку не ходят. Отменены с прошлого года. Останавливаются только проходящие из Тебриза и из Тегерана, но в какое время они проходят — никто ответить не смог. Наш бросок в Ардебиль терял смысл. Всякий. И как только я это подумал, в тот самый миг — начались странные превращения: как будто диспетчер наверху понял, что в Иране мне больше делать нечего и дал «зеленый» на выезд. Поначалу мы решили просто добраться до Астары, там наверняка взять билет до Баку, пообедать и — делать нечего — перекантоваться ночь в местной гостинице. В таких продувных, пограничных городках гостиницы хорошими не бывают. Именно в Астаре я не хотел бы ночевать один.
— Слушай, — сказал я Мохсену, — ты на всякий случай дождись… Посади меня на автобус.
— Конечно! — горячо отозвался он. — Я буду с тобой до последнего твоего шага…
— Зачем до последнего? До последнего — не надо. Только до автобуса…
Мы быстро нашли такси и через минуту уже ехали в Астару. Как будто ветер влек нас по ущельям, нигде не давая зацепиться хоть за что-нибудь — какой-нибудь красивый вид или придорожное кафе… Что-то неудержимо увлекало нас все дальше и дальше… Что-то исподволь подсказывало мне, что сегодня меня уже не будет в Иране. На часах было без пятнадцати пять. До Астары — шестьдесят километров. Теперь все зависело от того, до которого часа открыт пропускной пункт на границе.
Движение вниз с перевала сдерживала колонна грузовиков, везущих на тяжелых платформах гигантские трубы. Водитель спокойно пристроился в хвост колонны и поехал за нею. Я спросил Мохсена, почему бы нам не совершить смелый обгон. Мохсен обратился к шоферу. Шофер объяснил. Дело в том, что если по вине водителя в Иране случается авария, его машина конфискуется и на два года отправляется на штрафную стоянку.
Так мы не спеша и доехали до последнего ущелья на границе. Одна его сторона — иранская, а другая уже азербайджанская. Высокие пограничные столбы с натянутой на них проволокой местами стояли вплотную к дороге. С противоположной, азербайджанской стороны как раз была красивая гора, подсвеченная закатным солнцем. Заметив, что ущелье привлекло наше внимание, водитель сказал:
— Хотите передохнуть? Сейчас остановимся…
С самого моего пробуждения этот день был игрой каких-то неведомых сил. Они не поторапливали нас. Напротив, как будто тормозили. И даже сейчас, когда до Астары остался какой-нибудь десяток километров, никакой торопливости не было. Ни в душе, ни во внешних обстоятельствах. Место, где мы остановились, было довольно живописно, как, впрочем, и все другие места, которые мы уже видели, и мы вышли только затем, чтобы размять ноги. С плоской площадки открывался вид на глубокий каньон и пару крошечных домиков на дне ущелья. Там, в тени, на дне — был еще Иран. А солнце на противоположном склоне принадлежало Азербайджану. На самой площадке валялась пустая, как будто случайно залетевшая сюда с той стороны ущелья бутылка из-под пива «Хольстен». Потом мы снова поехали. На дороге появились машины с привычными цифрами и латинскими буквами на номерных знаках. Но все это как ползло по шоссе, так и продолжало ползти, пока грузовики с трубами не свернули на боковую дрогу. Тут наш водитель наддал газку, и вся колонна автомобилей наддала газку, и в этот момент — вдруг — стало абсолютно ясно, что машины, скопившиеся на трассе, сотни машин — все куда-то дико спешат. И даже понятно куда: к границе.
Мы выскочили на какой-то пролет, с которого я на миг увидел крыши иранской Астары, но потом шофер, который знал здесь каждую щель, резко, вслед за двумя-тремя машинами, нырнул под мост — и вот мы уже мчимся по узким, грязным улочкам… Никто не вымолвил ни слова, никто не сказал, что нам надо к границе, да и я помалкивал, понимая, что время близко. Все сбывалось. Мы остановились. На часах было 17.35. С одной стороны улицы были дома, и мальчишки даже играли тут в футбол, хотя с другой стороны тянулась пограничная сетка на высоченных столбах и куда-то, как слепые, неслись ополоумевшие люди, прорываясь сквозь толпу, всегда окружающую места такого рода: каких-то цыган с целыми коробами барахла, менял, таксистов…
— Сегодня до шести, — сказал водитель.
Я старался не спешить.
Сначала я рассчитался с водителем.
Потом достал из багажника вещи. Рюкзак и сумку. Так, проверить: билет, деньги, документы, диктофон, фотоаппарат, дневник.
— Давай, давай, — стал поторапливать меня Мохсен. — Пятнадцать минут осталось…
Внезапно тучей набежали менялы, предлагая обменять иранские риалы на азербайджанские манаты.
— Так, — сказал я, не обращая на них внимания и доставая из конверта остатки персидских денег. — Мохсен, посчитай, сколько здесь. В смысле, сколько здесь получается долларов.
Мохсен быстро пересчитал пачку банкнот и сделал необходимую калькуляцию с помощью мобильника.
— Здесь 189 долларов.
Я достал еще 400.
— Возьми.
Он не ожидал вознаграждения столь щедрого и попытался вернуть мне часть денег.
— Мы же друзья…
— Именно поэтому.
Теперь главное было не перепутать рюкзаки и не схватить рюкзак Мохсена вместо своего. Так. Так. Старт! Вдвоем мы вбежали в какой-то обнесенный сеткой коридор, по которому, так же как мы, боясь опоздать и в спешке ничего не замечая, неслись какие-то тетки со своими сумками и баулами.
Потом мы попали в помещение. Я встал в очередь на паспортный контроль. Сейчас мне шлепнут штамп в паспорте — и все кончится. Туда, за стекло, Мохсену уже нельзя. На прощанье мы крепко пожали друг другу руки. Странно, что его больше не будет рядом. Я успел привыкнуть к нему. И полюбить наши разговоры, без которых Иран никогда не открылся бы мне.
— Паспорт.
Я подаю паспорт, пограничник находит визу, въездную отметку и рядом с ней звонко шлепает синий штемпель на выезд. Люди, напирающие сзади, проталкивают меня вперед. Здесь не останавливаются. Я успеваю в последний раз махнуть Мохсену рукой, и меня выносит из помещения в какой-то скотопрогонник, со всех сторон огороженный проволочной сеткой, по которому, как везде здесь, из последних сил тащат свои баулы люди.
На мосту через Аракс сидят разомлевшие на солнце вялые иранские пограничники, которые заглядывают почему-то только в пластиковый пакет, где лежат недоеденные куски хлеба и сок. Я жду, что они заглянут в сумку или в рюкзак, но они только делают нетерпеливый знак рукой — мол, проходи, проходи. Не задерживай. И я прохожу наискось через пыльный двор, опять оказываюсь в каком-то темном коридоре, в конце которого светятся огоньки азербайджанской таможни. Когда я попадаю в такую круговерть, я всегда педантично кладу вещи на свои места, чтобы не потерять их. Надо будет предъявить документы. Поэтому я опять лезу в рюкзак, чтобы достать паспорт. И вдруг… слышу звонок. Телефонный звонок. Не моего телефона. Меня окатывает мурашками от макушки до пяток, прежде чем я соображаю, что это звонит в моем рюкзаке телефон Мохсена. Тот, который он отдал мне в Нуре, когда собрался затемно идти на море. На всякий случай. Там первое, что высвечивается на дисплее, — это имя — Мохсен — и номер.
Я тупо смотрю на этот телефон. Представляю, что произойдет сейчас. Телефон надо как-то вернуть. Значит, пройти по этим проволочным кишкам весь путь обратно до самого начала. Тем временем границу закроют…
Я нажал на кнопку соединения и услышал знакомый голос:
— Ты еще не перешел границу?
— Нет, — сказал я. — Сейчас я попробую вернуться. Попробую, но не обещаю…
Мы вместе проделали этот путь не для того, чтобы в самом-самом конце этого пути сделать неверный ход. Смалодушничать. Даже если мне придется ночевать в Астаре — будь что будет. Мохсен предупреждал меня, что это его рабочий телефон. Рабочий. И там могут быть номера, которые другим знать нежелательно. Мне они неинтересны, но мы ведь не одни живем на этой земле.
Я бросаюсь обратно, но ленивые иранские пограничники в пятнистых формах на этот раз останавливают меня.
— This is the telefone of my iranian friend, and I must give him back… — фраза, вроде, удалась.
Один из погранцов, откинувшись назад и лениво покачиваясь на задних ножках стула, так же лениво бросает:
— No english there, speak pharsi…
О, идиот! Неужели он не понимает? От волнения я пытаюсь, но не могу разблокировать клавиатуру телефона, чтобы соединить этого иранского орла с Мохсеном.
На мое счастье, появился младший офицер. Я обратился к нему:
— Do you speak english?
— Yes.
Я повторяю ему слова про телефон иранского друга, и он широким жестом приглашает меня проследовать назад. В зале паспортного контроля сразу замечаю за стеклом фигуру Мохсена.
Офицер берет у меня телефон, проходит за стекло, на ту сторону границы, и вручает его Мохсену. Ну вот и всё, кажется. Но нет: офицер возвращается и передает мне какую-то визитку:
— It’s your guide for taxi…
Я медленно соображаю, зачем мне это, но кладу визитку в карман. Теперь назад. Спешить уже не нужно. Я — в пространстве между Ираном и Азербайджаном. Здесь меня до утра по-любому не оставят. К тому же, как я понял, Мохсен на той стороне границы успел подыскать для меня машину. Он, правда, хороший парень.
Я вернулся к азербайджанской таможне. Загрузил сумку и рюкзак в интроскоп, отдал документы дежурному. На экране сканера были видны мои вещи. Странный подбор. Но ни батарейки, набитые в карман рюкзака, как пули, ни китайский диктофон, примитивностью своей формы весьма напоминающий самодельное взрывное устройство, беспокойства, как будто, не вызвали. Я могу идти. Вернее, мог бы. Дежурный — им оказался какой-то азербайджанский коп — все мнет и мнет мой паспорт в руках. Потом глазами показывает, чтобы я подошел. Впервые после Ирана испытываю недоумение: чего ему, черт возьми, надо.
— Ты где живешь? — зачем-то спрашивает офицер.
— В Москве живу.
— Давно живешь?
О, проклятье! К чему этот идиотский разговор?!
— Всегда, всю жизнь живу.
Он не выпускает из рук мой паспорт.
— Медведева знаешь?
— Какого еще Медведева? Премьер-министра, что ли?
— Да нет, другого Медведева… Он в тюрьме сидит… В какой же тюрьме он сидит? Номер пять. Точно. Пять.
— Я в тюрьме ни одного Медведева не знаю.
— А.
Он вдруг теряет ко мне интерес, отдает паспорт и делает знак проходить. Я подхватываю рюкзак и выхожу на грязную улицу, заполненную расходящимся народом. До закрытия границы здесь работали кафе, магазины, парикмахерская. Сейчас все это спешно закрывается и народ разъезжается по домам. Какой-то темный, цыганский район. Как бы побыстрее выбраться отсюда? Странно: я совершенно деморализован. За восемь дней в Иране я полностью утратил иммунитет и к идиотским вопросам обычного мента, и к грязи цыганских задворков. А ведь я русский человек, я привычный.
Когда передо мной остановился черный «Мерседес», на иранской стороне Астары муэдзин пропел призыв к вечерней молитве. С азербайджанской никто не откликнулся ему.
XXV. КОЛЬЦО ЗАМЫКАЕТСЯ
На мне была красная майка с надписью «Grizzly», которую очень легко опознать. Поэтому, прежде чем я понял, зачем ко мне сунулся нос этого «Мерседеса», кто-то уже говорил: «Мистер Голонов, мистер Голонов» — и я понял, что зовут меня. Оказалось — смуглый паренек-таксист лет восемнадцати. Он поманил меня, показал на визитку в моей руке, а потом достал из кармана такую же.
— Я ваш таксист, я таксист…
Я поверил, сел в его машину. Он позвонил кому-то, типа: «ОК. Клиента принял». Наверное, своим ребятам с иранской стороны. Улица выглядела почти вымершей. Лишь в одной палатке сами же палаточники пили пиво. Еще десять–пятнадцать минут — и тут будет опустевший грязный закоулок с парочкой пьяниц, шатающихся в темноте. Так что с этим парнем мне, считай, повезло. Мы проехали по темным улицам поселка и выехали на трассу. Собственно, она тут одна — с севера на юг, вдоль берега моря. Если ехать все время на север — попадешь в Баку. Теперь надо найти Азера.
— Далеко до Баку? — спросил я паренька за рулем.
— Тридцат… шесть… — не слишком твердо произнес он.
— Сколько-сколько? — мой голос выдал удивление: может быть, и не так далеко, как мне казалось, но не тридцать шесть же?!
Парень взял мобильник и набрал три цифры:
— 360.
Он слишком молод, чтобы знать русский. Клиентов из России тут мало, а в школе он русский уже не учил. Как же с ним объясняться? По-английски, что ли?
— How much money? — попробовал я.
У него лицо совсем задубело: не понимает.
— Сколько стоит — понимаешь? Сколько стоит доехать до Баку?
— Шестьдесят манат.
— А долларов? Сколько это будет долларов?
Молчит, как партизан.
— Сто долларов — нормально?
— Я по-русски не очень… — с трудом выдавливает он из себя и замолкает.
Машина, тяжелая и уютная, как корабль, рассекала черную ночь.
Красная майка нестерпимо воняла потом. Я снял ее. Потом расстегнул рюкзак и еще раз ощупал его внутренность. Фотоаппарат: на месте. Дневник: на месте. Диктофон. Посветил дисплеем телефона: паспорт на месте, деньги. Деньгами не хотелось бы шуршать раньше времени. Я больше не в безопасном Иране. Я в Азербайджане. Расслабуха кончилась.
Тьма сомкнулась над дорогой. Справа в небе и на воде подступающего вплотную моря сияли яркие звезды.
— А сколько ехать до Баку? Долго ехать?
Парень понял и стал загибать пальцы: один, два, три, четыре.
Часа четыре. Похоже на то.
Потом он набрал в темноте номер и стал говорить по телефону: мол, клиент предлагает доллары. Сколько с него брать? В трубке низкий голос что-то сказал раз, другой, и парень, разъединившись и так ничего не ответив мне, молча уставился на дорогу.
Я думал о том, как мы встретимся с Азиком. Разумеется, наша последняя встреча не вселила в меня оптимизма, и я не был даже вполне уверен, что Азик помнит о том, что эта встреча была. И все-таки сейчас надо было решиться и позвонить ему. Какой бы он там ни был — трезвый, пьяный, — все равно. Нелегкая это вещь — встретиться со старым другом всего-то года через два. Или уже три? Тогда мне было сорок девять. Теперь — почти пятьдесят два. Три года прошло. Конечно, он изменился. Изменился и я. И я не знаю, будет ли она радостна, эта встреча. Но пытаться отвернуть от нее, избежать ее — чистое малодушие.
Внезапно парень притормозил и остановил свой «Мерс» под уличным фонарем у какого-то темного дома. Дверь вскрылась прямоугольником желтого света, в нем возникла мужская фигура и направилась к машине. Тут, на юге Азербайджана, живут талыши — древняя каспийская народность. Кожа у них темная-темная, как бывает у индусов. На лице подошедшего были видны только белки глаз. Под фонарем я разглядел фигуру лучше: это был мужик лет пятидесяти, наверно, отец этого парня. Не говоря ни «здравствуй», ни «привет», он сразу насел на меня:
— Почему до Баку сто долларов? Нормальная цена — сто двадцать. А до аэропорта — сто пятьдесят. Там еще километров восемьдесят расстояние.
— Двадцать километров там расстояние, — твердо сказал я. — Но я не спорю. Я готов заплатить. Просто ваш… Сын, наверное? — он не может назвать цену. Не говорит по-русски. Теперь все ясно. До Баку — 120. До аэропорта — 150.
Парень тем временем вылез из машины и вошел в дом.
— А может, отдохнуть хотите? — видя мою уступчивость, сменил гнев на милость темнолицый мужик. — Чай пить, спать. А завтра уже ехать…
— Нет-нет, — сказал я. — Спасибо.
Они были обычные крестьяне, работающие извозчиками на трассе.
Я разыскал в рюкзаке папку с географическими картами и в ней конверт с деньгами. Нашел бумажку в сто долларов и в двадцать. Заранее сунул их в карман.
Парень вернулся, мы снова поехали. Внезапно я понял, что голоден. Последний раз мы с Мохсеном завтракали в отеле Paradise. Это было в ином измерении. В ином времени. В другой стране. Я пошарил рукой в пакете с остатками еды, нашел два куска хлеба и пакет гранатового сока, в котором еще плескалось что-то. Это меня подкрепило. Я достал телефон и набил Азику СМС-ку. Подождал. Ответа не было. Ничего не оставалось делать, как позвонить ему.
— Что-нибудь придумаем, — сказал без особого энтузиазма Азер, услышав мой голос. — Перезвони, когда к городу подъезжать будете…
Во всяком случае, он на месте, и мне не придется коротать ночь на бульварной скамейке: в Баку цена на гостиницы раз в десять выше, чем в Тегеране. Мы въехали в мир одержимости, где давно не существует нормальных цен.
Звезды еще горели над морем, когда сквозь систему вентиляции в машину начал проникать холод. Грязное, голодное, уставшее тело болезненно отреагировало на него. Я разыскал в рюкзаке карту Азербайджана и разглядел ее, светя себе дисплеем телефона. Мы в пути уже час. Интересно, где мы теперь?
Как ответ на мой вопрос, из темноты возникла ярко освещенная, вся одетая в мрамор площадь какого-то города. «Länkoran», — успел прочитать я. Ленкорань. Это самое начало пути.
Машина опять провалилась в ночь. Звезды погасли, и с моря стал наползать густой, холоднющий туман. Я так и не достал вещи из багажника. Пришлось лечь на заднем сиденье и накрыться грязной майкой. Через час опять все озарилось светом: мы пролетели мост, на котором я прочитал надпись: «Kür». Это, значит, так теперь называется здесь Кура. Ну, за Курой я был, когда этот придурок Фархад потащил меня в рыбный ресторан. Правда, ресторана этого я и не заметил. Тогда, три года назад, это было затрапезненькое заведеньице, а сейчас вдоль всей трассы сомнительная архитектура подобного рода была снесена и по обе стороны дороги тянулись новенькие автомойки, заправочные, кафе… Не те деревенские кафе с тандыром во дворе и парой разделанных бараньих туш на крюках, что ждали своей очереди у повара — нет, у этих все было фирменное, с иголочки, как в городе. Домашним хлебом тут и не пахло.
Опять темнота. Еще через час паренек-водитель, на миг оторвавшись от телефона, по которому он непрерывно болтал с приятелями и подружками, обернулся и спросил:
— Кафе? Кушать?
Я отрицательно помотал головой. Азербайджанских денег у меня все равно не было.
Потом пришла СМС-ка от Азера: «Когда?»
Я написал, что не знаю ни когда, ни куда, шофер не говорит по-русски, но позже я перезвоню и соединю его с ним напрямую. «Когда?» — вновь спросил Азер. Я набрал его номер и, нажав кнопку, протянул телефон пареньку-шоферу:
— Это мой друг. Поговори с ним. Он скажет, куда надо меня отвезти.
— Без проблем, — сказал парень (эту фразу он, видно, усвоил четко) и о чем-то быстро-быстро стал разговаривать с Азером.
Потом повернулся и сказал:
— Метро «Нефтчилар».
Я кивнул.
В какой-то момент мы выскочили на фантастическое шоссе, освещенное, как днем, высокими фонарями белого света, с мраморными отбойниками, подсвеченными в свою очередь вделанными в камень лампочками. Здесь я, конечно, проезжал — но ничего подобного не видел. Значит, все так изменилось за три года. Нефтяные деньги были вложены в создание роскошного фасада республики. Если никуда не сворачивать, будет видна только очень хорошая дорога и придорожный мир, за эти три года переделанный по евростандарту. Слева возникла гигантская светящаяся химическая лаборатория: свет озарял высокие башни, свет тек по трубам, превращал в гигантские светящиеся цилиндры ёмкости для нефти. Это был, черт меня побери, Сангычалыкский нефтяной терминал… Я запомнил его очень хорошо, когда мы с Азером ездили на Гобустан… Но тогда он выглядел иначе. Да и дороги такой не было. Обычная была двухрядка: шиномонтажные мастерские по сторонам, гаражи с надписями «tokar — slesar», железнодорожные пути и стоящие на них заброшенные цистерны — какой-то антониониевский пейзаж…
Издалека открылся город. Теперь на вершине его царила уже не телевизионная башня, подсвеченная разноцветными прожекторами, а громадный куст переливающихся в небе огней. Я с трудом понял, что это — та самая гостиница, Flame Towers, «Башни огня» — которую мы с Азером видели строящейся, когда ходили в парк Кирова. Потом мы выскочили на проспект Нефтяников. Он тоже преобразился: темная часть проспекта вместе с «забегаловкой» была снесена, в море, на месте нефтяного порта, был выстроен серебристый пирс, в конце которого, играя блестками отражений и льдистым светом, возвышался купол нового концертного зала «Crystal plaza». Приморский бульвар — новая часть которого еще не была засажена деревьями — тянулся теперь чуть не во всю длину бухты. Отель Yaxt Club не высвечивался — видимо, был на ремонте, да и вообще, я не удивился бы, если б узнал, что он показался устроителям великолепного городского фасада недостаточно роскошным и его на этом основании тоже снесли. В громадных домах на набережной света по-прежнему не было, но город, словно книжка с картинками самых дорогих архитектурных проектов, страница за страницей открывался с дороги в своем новом великолепии. Это был неописуемый, роскошный город, красоты которого я не мог не признать, но в котором мне, с моей последней тысячей долларов, делать было нечего. В Иране с тысячей долларов я чувствовал себя богачом. Здесь она легко могла испариться за два дня.
У метро на площади «Нефтчилар» мы встретились с Азером. Как-то без особых чувств и радости. «Привет» — «Привет». Пожали руки. Он поговорил с шофером, взял из багажника мою сумку. Сумка была тяжелая, и ему нелегко было тащить ее. На остановке стоял автобус. Что-то было стариковское, пенсионерское в том, как Азер сел, ссутулясь, на сиденье в салоне, поправляя на переносице очки. Потом автобус тронулся и из света провалился во тьму. В Баку ничего не освещается, кроме двух-трех главных улиц. На третьей остановке мы сошли. Несколько высоченных, этажей по двадцать, домов образовывали подобие микрорайона, только казалось, что стройка еще не завершена — под ногами была грязь, тротуар был то ли не доделан, то ли уже разбит, и всю округу освещал только один огонек, вырывавшийся из-под надписи «Минимаркет».
— Вот. Тут теперь я и живу… — без выражения сказал Азер.
— Да-а, это не восьмой километр…
— Почему? Восьмой. Просто тут несколько новых домов построили.
Вдоль улицы дул порывистый бакинский ветер, нес смятые газеты и пластиковые пакеты…
Мы остановились между двух домов, Азер пошарил в карманах и ссыпал мне в ладонь горсть мелочи:
— Не в службу, а в дружбу, — несколько смущаясь, сказал он. — Сходи в магазин, возьми чекушку.
— Слушай, Азик, — сказал я. — Что с тобой? У вас здесь есть обменник? Нет? Деньги есть. Дай мне взаймы до завтра. Возьмем коньяку, закуски нормальной… Я все-таки из Ирана приехал. Отпутешествовал. Это отметить надо.
— Ну да, — чуть оживился Азер. — Только мама у меня не любит, когда выпивают.
— Мы тихо.
— Ну да, ну да.
Он достал кошелек и вынул из него несколько смятых купюр. Я перешел через дорогу, взял в магазинчике бутылку коньяка, банку маслин и лимон. На большее денег не хватило.
Мы поднялись по лестнице между двумя домами и вошли в темный подъезд. Света не было. Я чиркнул зажигалкой. На голом бетоне стен не было ни одного провода.
— Хорошо, что лифт работает, — засмеялся Азер. — А то бы так и ползли ощупью на пятнадцатый этаж. А там у лестниц перила еще не приделаны. Улетишь в пролёт — и гуд бай.
— Да… — испытывая благодарность к работающему лифту, сказал я.
Лестничная площадка тоже не освещалась, но у Азера был брелок с фонариком, и он легко отыскал замок своей квартиры. Нам навстречу вышла женщина, которой с равным успехом можно было дать и семьдесят лет, и восемьдесят. Она явно принадлежала к распространенному типу нестареющих старушек и с любопытством оглядывала меня.
— Мама, — сказал Азер.
— Очень приятно, — сказал я, понимая, что мой дикий и бездомный вид может компрометировать Азера. На маме была кофта ручной вязки и такой же вязаный берет: в квартире не топили и было холодно. Но все равно я первым делом принял душ и надел свежие вещи.
Когда я появился, расчесывая влажные еще, но уже чистые волосы, в глазах мамы блеснул одобрительный огонек: она поняла, что я не сам собою таков, а был помят и утомлен странствиями.
— Ужин готов, — сказала она и, повернувшись ко мне, добавила. — Кушать будете?
— Конечно! — воскликнул я.
Оставалось только решить, где лучше это сделать. Все пространство большой комнаты — за исключением кровати, на которой, по-видимому, спал Азер, — было завалено перевязанными, но еще нераспакованными вещами из старой квартиры, коробками, свернутыми в рулоны коврами и разного рода мелочью, выложенной на верх шкафа. Создавалось впечатление, что они переехали буквально вчера, только-только успели собрать кровати, чтоб спать, и подключить электроплиту, которая стояла почему-то в углу большой комнаты, источая аромат жареной курицы.
Азер не находил ни себе, ни мне места в этом хаосе, никак не попадая в такт разговора, в такт нашего былого понимания. Могло случиться и так, что время понимания в нашей дружбе за три года прошло. Осталась только память о какой-то собаке… Я подумал, что завтра мне лучше обменять билет и улететь поскорее — иначе я просто буду бесполезно напрягать Азера своим присутствием.
Но тут мама принесла рис с куриными потрошками — и мне показалось, что ничего вкуснее я никогда не едал.
Мама благосклонно выслушала комплименты и ушла в свою комнату.
Я достал коньяк и аккуратно разлил.
— Азик, я хочу выпить за тебя. С тебя это путешествие началось, тобою пусть и закончится.
— Вспоминаешь Кягниздаг? — спросил Азер, чуть улыбнувшись.
— Конечно, вспоминаю. Если бы не ты, пришел бы мне конец уже тогда.
— Да, ладно, — сказал Азер. — Давай выпьем. Спасибо, что приехал.
Когда бутылка опустела на две трети, Азер снова был тем, прежним Азером — легким, сильным, ироничным, умным. Об обстоятельствах его жизни основное я понял еще в прошлый раз. Мама осталась с ним. Под это дело семья купила ему новую квартиру в этом недостроенном доме. Азер еще не освоился в квартире, не освоился с мыслью о том, что мама теперь будет с ним до конца. Он ведь хотел уехать в Германию.
Начать там совсем новую жизнь. А пришлось остаться в старой. За три года без работы он как-то ссутулился, стал чувствовать возраст:
— Работы не найдешь. Потому что боссы платят специальный налог за работников, которым за пятьдесят. Удерживаются только незаменимые специалисты…
Но в свое время Азер и был таким — высококлассным, незаменимым. Все журналисты журнала «Баку» именно с ним хотели работать, приезжая в Азербайджан. Ализар завидовал тому, что Азер нужен всем, а он — начальник — никому. Жестоко завидовал. А потом отомстил. В Азербайджане человек без денег — никто. И Ализар в полной мере дал Азеру почувствовать себя никем…
Мы допили коньяк и склеили черепки нашей прежней дружбы каким-то новым, ожившим чувством. Я должен был знать, должен был понять старого друга и для этого — научиться понимать его по-новому.
— А эта женщина, помнишь, ты говорил, в Германии?
— Она приезжала. Сказала, что ждет. И любит. Но кого она ждет? Тогда я был в форме, был полон надежд — а сейчас? К тому же, она молодая девчонка, а я…
— И потом, — будто вспомнил он. — Маму же не бросишь…
Маму не бросишь.
На следующий день мы собрались менять билет, а мама оделась для похода в мини-маркет. Получилось, что она оказалась расторопнее нас и вышла из дома на несколько минут раньше. Мы как раз надевали свои башмаки, когда раздался телефонный звонок. Звонила мама. Она нажала не ту кнопку и уехала на лифте непонятно куда. Там, куда она попала, нет света.
— Ты спустилась в подвал, мама, — очень спокойно сказал Азер. — Вернись обратно в лифт и нажми кнопку «0». Это нулевой этаж, с которого мы всегда выходим на улицу.
Минут через пять, когда мы уже стояли в ожидании лифта, раздался еще звонок. Это вновь была мама. Ей не удалось выполнить инструкции Азера, и она не только покинула лифт, но и ушла от него так далеко, что не может уже сказать, в какой стороне находится лифт и где — она. И света вокруг по-прежнему нет. Она все время натыкается на какие-то трубы.
— Ты бродишь по подвалу, мама, — спокойно сказал Азер. — Лучше не шевелись там особо, а то поранишься. Мы с Василием сейчас вызовем бригаду рабочих, они откроют подвал, я тебя позову. Обязательно откликнись. Ты поняла? Минут через десять-пятнадцать.
Азер разъединился.
— С мамой всегда так! — в сердцах воскликнул он. — Ну как она додумалась!?
Мы спустились, наконец, вниз. Между домами гулял холодный, ноябрьский бакинский ветер.
— Теперь бы выяснить, где это домоуправление находится, — сказал Азер.
Мы стали спускаться по ступенькам к улице. В конце лестницы Азер вдруг остолбенел: прямо напротив мини-маркета, ничем не выражая ни малейшего беспокойства, стояла мама и, позабыв обо всем, беседовала с повстречавшейся соседкой.
— Понимаешь, с мамой всегда так, — спокойно сказал Азер, увлекая меня к остановке автобуса.
Раздобывание мне билета — на сегодня мест не было, а на завтра билеты почему-то не хотели продавать — превратилось для Азера в своего рода азартную игру, которая подействовала на него целительно. Он вспоминал каких-то людей, набирал полузабытые телефонные номера, с кем-то договаривался… Оказалось, что люди помнят о нем, только не поймут, куда он исчез. Но все равно для них, как и для меня, Азер — это был человек высокой пробы, и они говорили: «нет проблем, друг». Они обещали помощь. То, что его помнят и все еще любят, буквально исцелило Азера. А когда кто-то позвонил и сказал ему, что все в порядке — мы можем приехать и забрать билет на первый утренний рейс — лицо его преобразилось: кое-что он еще мог! Кое-какие связи в этом мире у него остались!
— Только дай я ей сам скажу, — схватил он меня за руку, когда мы подходили к дверям агентства.
— Кому?
— Этой девушке. Она сказала, что билетов нет и не будет. А я ей сказал, что не пройдет и трех часов, как билеты найдутся.
— И что ты ей хочешь сказать?
— Я ей скажу: девушка, ну как — билеты нашлись?
…Она отреагировала со спокойствием автомата: «Да, — механически выговорила она, нарочито не узнавая нас. — Один билет на рейс № 852, «Азербайджанские авиалинии» завтра, в 10.40. Документы, пожалуйста».
Напоследок мы прогулялись по центру. Я с трудом узнавал знакомые места. Синий скелет центра Гейдара Алиева покрылся, наконец, тугой фасонистой белой обшивкой. Баку включился во всемирную игру в «самое-самое». Большое. Высокое. Дорогое. В городе уже имеется самый большой флаг в мире, уже, как утверждают, заложен фундамент под самый высокий в мире небоскреб (сейчас первенство то ли у Эмиратов, то ли у Саудовской Аравии), прямо напротив любимого мною Yaxt Club, a отгрохали фундаментальнейший, в позднесталинском стиле, и опять-таки один из самых дорогих в Европе отелей компании Four Seasons. Еще более (хотя «более» нельзя) фундаментально и тяжеловесно смотрелось новое здание Академии художеств. Бульвар должен был вскоре охватить всю видную из города часть Бакинского залива, на острове посреди которого строился уже какой-то невиданный центр торговли, оздоровления и отдыха для богатых, куда будет брошена одна эстакада чуть ли не от Гобустана, а другая — прямо в центр самого Баку. Куда именно в центр — я не стал спрашивать, потому что сам центр изменился для меня неузнаваемо: не было больше ни рынка, где я пил гранатовый сок из-под пресса, ни самой улицы Завокзальной. Исчезли целые кварталы и вместе с ними — знаменитая беженская «пятиэтажка». Исчезли автобазы, заборы и причалы порта и тот тупик со шлагбаумом, где меня когда-то остановили на пути к парому на Туркмению.
Вечером мы снова взяли коньяка, маслины и лимон. Лифт на этот раз не работал. Мы поднялись на пятнадцатый этаж, освещая голую лестницу с темнеющей между лестничных маршей пропастью, своими мобильниками. Мама опять изготовила нам куриные потрошка и, по-видимому, опять ждала за них похвалу столь же истовую, как вчера. Она была не из тех, кто считает общение пустым занятием. В нем она черпала энергию. Но тут раздался звонок в дверь и пришли наладчики телевизора. В этих новых квартирах всегда что-нибудь происходит. Я подумал, что правильно взял билет на завтра. За минувший день Азер буквально распрямился, и теперь я чувствовал в нем прежнюю волю к жизни. Ну а торчать здесь дольше — значит просто мешаться под ногами.
Мы стояли на балконе. В северном сиянии (иначе не назовешь), которое окружало башни отеля Flame Towers, внезапно возникли три гигантские тени. Они двигались. Они… Они, с трудом переставляя ноги и клонясь навстречу жестокому ветру, несли знамя.
— Видишь? — спросил Азер. — Несут!
— Вижу, — ответил я.
— Вот как у нас умеют! — сказал Азер с той своей непередаваемой интонацией, когда неясно — всерьез он это или смеется.
— Знаешь, — заговорил вдруг он, как будто припоминая, что так вот, на балконе его квартиры, мы, может быть, сидим в последний раз. В первый. Но может быть, и в последний. — Хорошо, что ты приехал. Хорошо, что был в Иране. Не сдавайся. Не отступайся от себя. Но сейчас — нам надо выпить.
— За что? — спросил я.
— За главное, — сказал Азер. — Чтобы душа радовалась!
P. S.
На следующий день, садясь в самолет, я остро ощутил, будто мне недостает чего-то. Чего-то не хватает.
Все осталось позади. Все, чему суждено было сбыться — от Гобустана до пропускного пункта через границу в Астаре, — за эти три года сбылось. Азер распахнул занавес этого восточного театра, он же его и закрыл, проследив за тем, чтобы публика вышла, и запер дверь на ключ.
Осталась книга. Может быть, в ней мне удалось не так уж много. Но опыт поставлен. И задача сформулирована. А когда задача сформулирована, находятся, как правило, и люди, готовые предложить ее нетривиальное решение. Пусть они сумеют больше и сделают лучше меня. Моя «Каспийская книга» — это даже не проект, это только набросок проекта путешествия с открытым сердцем сквозь пространство и время, в котором только и может родиться неискаженная, неотформатированная пропагандой картина мира. Все мы, думающие и путешествующие, в ответе за ту неуловимую правду, которая обретается в пути и которая, в конце концов, есть трудный опыт человеческого братства.
…Мы же словами и знаками множим
наши владения в мире, быть может,
в самой рискованной части его…
Р.-М. Рильке
ЧАСТЬ II ТОТАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
I
Все передвижения моих последних лет оказались так или иначе связаны с Волгой. Так от истока-ключа, отпирающего скважину чистой весенней воды на водоразделе между тверской землею и глухими новгородскими лесами, все дальше уходя от Руси — по изогнутому волжскому стволу — я добрался-таки до низу, где Волгу саму начинает двоить-троить в томном предчувствии моря. И после чуда дельты испытал ни с чем не сравнимое желание впасть. Или, наоборот — выпасть. Из длинного кривотолка реки вывалиться, родиться в уютную колыбель моря. Что в конце концов и произошло. Но что примечательно? С волжской водою влившись в Каспий, сразу попадаешь в гигантскую чашу новых смыслов, которых блики играли уже и на волжской воде, хотя с берегов еще смотрелись в воду отражения вполне привычные: колокольни, вдоль набережных дома с колоннами и кариатидами, разные городки, каждый по-своему умудряющийся устроить жизнь свою здесь, посреди бескрайних степей, в соответствии с принципами европейского, так сказать, благоустройства. Вольск, Сызрань, Саратов с импрессионистами в местной художественной галерее, немецкой филармонией и театрами; потом Астрахань, умело прячущая свой татарский испод за рядами планомерно выстроенных улиц и кремлевской звонницей. А потом сразу — р-раз! — пестрыми рукавами расходится река, и ничего уже знакомого нет, лишь глушь камыша да настороженность птицы, свирепый треск огня в тростниковых крепях и неостановимый бег невидимого зверя прочь от пала, через протоки и ерики. Удары хвостом исполинских рыб, широко падающий с неба белохвостый орлан, или рыбный филин, игра зеленых огней-зимородков, забавляющихся с мелкой рыбешкой, розовый лотос — цветок Будды — как символ чего-то бесконечно далекого — и лебяжья страна на мелководье у самого края моря, дальше которой лишь марево отблесков, играющих на мутных волнах. Тут море еще мелко, и в старину эта его часть, опресненная Волгой, даже в названии отличалась от моря матерого, глубокого и называлась Хволынским или Хвалисским, но не Каспийским.
Поэт Велимир Хлебников называл Каспий «Средиземным морем» Востока, но это обычная проекция мощного творческого темперамента на пространство, которое в действительности свойствами Средиземноморья (ставшего колыбелью цивилизации Запада) не обладает. Колыбелью цивилизации Востока Каспиана не стала, навсегда оставшись лишь ее периферией. И хотя в конце концов вокруг Каспия сплелся весьма необычный узел культур, нельзя сказать, что затянут он крепко. «Кочевые цивилизации» степи, лишь в конце XIX века остановленные в своем кочевье, представляют собой нечто совершенно отличное от укорененной в почву, в камень горской культуры, которая в своем аскетизме и замкнутости тоже никак не может быть сравнима с имперским, широким, устроительным подходом России или Ирана.
В древности Каспиана считалась краем, границей обитаемого человеком пространства. Геродот изобразил Каспийское море последним заливом океана, опоясывающего обитаемую землю; при этом вряд ли ему верилось, что на берегах этого залива может жить человек. Александр Македонский, выйдя с юга к каспийским берегам, не поверил глазам своим и назвал открывшуюся ему водную гладь Меотийским озером 291, словно опасаясь сознаться себе в том, что он зашел уже так далеко в немыслимую для чужеземца запредельность Азии292. Примечательно, что и для Персидской империи, которую сокрушил Александр, Каспийское море тоже было краем, населяющие его южный берег племена не были подчинены персам и не говорили по-персидски, хотя восточные владения Ахеменидов (Согдиана) простирались дальше на восток до Туркестана. То же повторилось в Персии Сасанидов и в арабской географии. И хотя свет ислама воссиял-таки на берегах Каспия — крепость Дербент была, собственно, крайней северной твердыней исламского мира на Кавказе, — это не избавило Каспий от дурной славы края, за которым мнится пустота. «Море холода», «море мрака»… В знаменитом средневековом арабском географическом сочинении «Золотые степи» Ма,суди пишет об обитающем в море чудовище Таннин, которое подобно урагану встает из пучины и поднимает свою вихрящуюся голову на высоту огромного дерева… Целые века прикаспийские и закаспийские области оставались пространством немотствующим, скраденным, оттесненным как бы в самую глубь впадины неподвижного пространства/времени между Китаем и цивилизациями Ближнего Востока. Названия пары городов — Дербент, Баку — на кавказском берегу еще, положим, способны о чем-то поведать нам; персидские города несравненно более многочисленны, но заштатны и для европейского уха совершенно ничего не значат; с востока же дышит на нас великая пустыня, к самому берегу подступают каракумские пески, безжизненные плоскогорья Усть-Юрта и непроходимые солонцы Мертвого Култука. Место это на первый взгляд кажется незанимательным не только для истории, но даже и для географии. Однако задача, оглашенная в названии этого очерка — написание некоей всеобъемлющей, тотальной географии Каспийского моря, — была в свое время поставлена и даже исполнена. Сама постановка этой задачи, равно как и исполнение ее — есть явление историческое, культурно обусловленное.
Каспий надолго сохранил свойства предела, границы. Но это не та граница между Западом и Востоком, которая, смещаясь с Босфора то на Дон, то на Волгу, призвана была обозначить точки соприкосновения миров Европы и Азии. Каспий, если можно так выразиться, обозначает не точку соприкосновения, а область разделения. Или пустоты. Откуда ни посмотреть — из Лондона, из Москвы или из Пекина — Каспий это своего рода дыра в пространстве/времени. Для европейского сознания вся прикаспийская область долгое время была белым пятном между Азией, известной европейцам Древнего мира, и Азией еще более дальней, глубинной, спрятанной, отделенной от известной Азии пространствами непреодолимых пустынь, горных хребтов, ордами кочевников и беспощадными стражниками империи Хань. Интересно, что великий Александр, внутренне выбрав «азийство», был допущен туда, в эту никому неведомую, глубинную Азию. И дошел до Самарканда. Чуть позже, в римский уже период античной истории, символическая встреча Запада и этого неведомого Востока состоялась еще один раз. «…В 36 г. до н. э. отряд ханьцев, преследуя хуннского князя, натолкнулся около города Талас в современном Казахстане на странных воинов, которые сдвинули большие четырехугольные щиты, выставили короткие копья и пошли в атаку на китайцев. Те удивились, посмеялись и расстреляли сомкнутый строй из тугих арбалетов (луков? — В. Г.). По выяснении оказалось, что побежденные были римскими легионерами, из легиона, сдавшегося парфянам при Харране, где погиб триумвир Красс. Парфяне перевели пленных на свою восточную границу и при первой же возможности отправили их выручать своего хуннского друга и союзника…» 293 В этой безвозвратной гибели римлян в Великой Степи таится какое-то смутное пророчество о том, что человеку западного мира сюда нельзя, что здесь не Танаис, где в античное время велись торговые переговоры мира Средиземноморья с представителями бесчисленных скифов 294, а какая-то гораздо более дальняя даль, где ничего другого и не суждено, кроме смерти на чужой земле под хохот и улюлюканье неведомого противника. Может быть, это почувствовали легионеры Двенадцатого Молниеносного легиона, оставившие надпись на камне близ Баку (когда самого города еще не было). То были храбрые солдаты римского императора Домициана (81–96 г. н. э.), удерживающие владычество Рима на восточных окраинах империи. Оказавшись на территории Апшеронского полуострова, они, возможно, и подивились на одно из чудес древней природы — нефтяные источники, в одном из которых нефть, по преданию, была белая, а в другом — черная или зеленая, но отсюда, как бы то ни было, повернули обратно, почувствовав, вероятно, что неведомое море таит за собою даль, неподвластную человеку западного мира. Прошло больше тысячи лет, прежде чем купцы, подобные Марко Поло или Плано Карпини, осмелились проникнуть в глубь Азии, в ставку великого кагана монголов.
Каспий обладает странной двойственностью: с одной стороны, он, конечно, причастен жизни человечества, как причастно всякое место на Земле вообще, он не чужд и мировой истории, но к ней прилеплен всегда каким-то дальним боком. Вокруг него происходят грандиозные битвы и походы: идут войска Александра; парфяне рубятся с римлянами; арабы вторгаются в Согдиану и отбирают жемчужину этого края — Бухару, — до наших дней оставив там несколько арабских кишлаков. Проносятся тумены Чингиз-хана; последним шквалом из монгольского мира идут и овладевают Средней Азией калмыки; кочуя, появляются и исчезают целые народы… Но все это — на дальней периферии зрения, вокруг. На каспийских берегах невозможно представить себе ничего подобного ни битве греков с персами при Фермопилах, ни Карфагена, ни символического поединка Цезаря и Антония за величайшую красавицу мира, ни крестоносцев, ни осады британцами Тулона и всех колоссальных последствий этой осады 295.
Если бы не обнаружение нефти на каспийских берегах, то ситуация «периферийности» оставалась бы неизменной до сегодняшних дней. Лишь буйства морских разбойников в прибрежных городках — викингов в Х веке и казаков Стеньки Разина в XVII — да кровавые походы, или, точнее, «проходы» армий Тимура и Надир-шаха, устремлявшихся то на Персию, то на Турцию, то в нагорный Дагестан, долгое время составляли всю «историю» этого пространства. Механизм большой истории был взведен далеко от каспийских берегов в XV–XVI веках, когда Московская Русь, задыхавшаяся без выхода к морю, стала исследовать «южную ось», через Волгу и Каспийское море связывающую Московию с Персией, откуда поступали в государство Московское шелка, пряности и прочие товары, связанные с торговым ассортиментом Великого шелкового пути. Позднее движение Российской империи на юг, в обхват Каспийского моря, завоевание Средней Азии, английское противодействие этому продвижению, получившее название The Great Game («Большая игра»), и сплело вокруг Каспия историческую интригу. Новейшая история большинства окружающих Каспий государств — а их пять — Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения — связана с распадом СССР и с превращением Каспианы в самый богатый нефтеносный район мира.
II
В свое время — а именно в начале XVIII века — для России гораздо более значимыми, чем нефть, оказались оптические свойства каспийского пространства: будучи центральной пустотой, своего рода линзой, оно стягивает вокруг себя чуть ли не всю Азию. Глянешь в него, как в подзорную трубу — и с русского берега вдруг неожиданно близкими увидятся царства Востока. Кто-то, проследив взглядом караванные дороги Великого шелкового пути, узрит Китай. Кто-то — Персию. Царь Петр во время «персидского похода» 1722 года еще из Астрахани мгновенно угадал Индию. И хотя по мирному договору Персия «уступила» России Дербент и Баку, ясно было, что Петра не менее, чем жемчужина Дербента, манит противоположный, пустынный среднеазиатский берег, на котором ничего и не было тогда, кроме нескольких рыбацких селений. А за ними — жуткий и бессмысленный простор пустынь, с сокрытыми где-то там, внутри этого простора, Аралом, Аму- и Сыр-Дарьей, оазисами Хивы, Коканда и Бухары и неведомыми в России колоссальными твердынями Памира и Тянь-Шаня. Казалось бы, просторы эти должны были не манить, а пугать. Но именно в них скрывался пространственный ребус: путь в Индию. Индия казалась близкой, хотя до нее было невообразимо далеко. Если б Россия могла отправлять в Индию свои караваны, то, наверное, русские купцы достигли бы Бомбея или Калькутты и навезли в российские столицы невиданных товаров. Но любые караваны на необозримом пространстве Степи были бы незамедлительно разграблены кочевниками. Так возникла мысль овладеть Индией, подчинив все эти пространства себе — непростое дело, достойное отдельного же рассказа 296. Но молниеносное завоевание Индии не удалось и обернулось в конце концов завоеванием Средней Азии. Два военных похода — на Бухару и Самарканд войск генералов Кауфмана и Черняева (в 1866–1868) и грандиозный российский поход на Хиву (1873) — привели к тому, что вся эта огромная территория оказалась под протекторатом России, пока на рубеже ХХ века не была целиком включена в нее. Трагическая история завоевания Средней Азии написана, но неизвестна 297. И хотя Туркестан ни в коем случае не был Индией, которую мечталось завоевать царю Петру, через полтора столетия для русских промышленников стала очевидной его самостоятельная ценность. «Золотом» Туркестана оказался хлопок, которым до этого в мировом масштабе торговали Северо-Американские Соединенные Штаты. Идея «русского хлопка», необходимого для бурно развивавшейся текстильной промышленности, подвигла русских заводчиков на строительство железных дорог, после чего жизнь края стала быстро меняться. «Русский хлопок» стал-таки реальностью, ибо был дешевле американского. Но еще более парадоксальную роль сыграл Туркестан в «духовной географии» Российской империи и затем СССР.
III.
Незадолго до революции и вскоре после нее, когда по разным причинам в Средней Азии высадилось несколько «десантов» деятелей культуры, Туркестан неожиданно мощно сдетонировал в творчестве крупнейших писателей и художников 298. С тех пор он существует в российском менталитете как совершенно особое духовное измерение. В «загадочной русской душе», и без того, быть может, не в меру многослойной, появился еще и такой потайной карман, как «внутренняя Азия»; причем это не Азия калмыцких степей и не Азия географическая, не Сибирь и не Дальний Восток, а именно «Туркестан» — как пространство творчества, подвига или совершенно особого духовного опыта. Первыми описателями Каспианы во времена Екатерины II стали географы С.-Г. Гмелин и П.-С. Паллас. Блистательные живописцы и летописцы природы, они, однако, не определили каспийского мифа. Хотя в духовном плане Каспий и прилегающие к нему территории представляют совершенно исключительное явление: для русской души эти места либо чрезвычайно важны, либо совершенно безразличны. Скажем, раскольничья секта бегунов в конце XIX столетия в поисках идеальной страны тяготела именно к Каспию, определенно рассчитывая, что именно здесь, в ареале Каспия-моря, воссияет тысячелетнее Царство Христово. Но бегуны-скрытники — существа духовно экзотические даже в русском расколе. Поэтому их представления и не уловлены литературой. Вот Волга, питающая Каспийское море, всячески воспевается. Но не чудно´ ли? Если Волга — мать, то Каспий — дитя, каким бы странным оно ни казалось. Однако никаких поэтических эмоций Каспий, да и вся каспийская область, не вызывает. Единственно, для Хлебникова и для Платонова область эта исключительна, в смысле «превосходна». Для них вообще Каспий, «степное море» — это главное, «средиземное» море их поразительного человечества; именно вокруг него они конструируют свою (возможно общую) вселенную. Но в русской литературе гений Хлебникова, как и гений Платонова, суть исключения из правила. Хлебников волен рассуждать об азийском классицизме в пику греческому — на то он и астраханец, на то он, правду говоря, и престранный в психологическом смысле тип — «будетлянин», определенно угодивший не в свое время… Вот — «престранный» — точное словечко, которым расплывчатое представление о Каспии в географии русского духа определяется точнее всего. Гоголь завернул круче: для него этот выродок Волги, плещущийся на дне колоссальной геологической впадины, есть темное море безумия. Не случайно в «Записках сумасшедшего» именно употребление топонима «Каспий» свидетельствует о полном торжестве болезни над психикой героя: «Люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится с ветром со стороны Каспийского моря». Отчего ж Каспийского, а не Черного иль не Балтийского? Гоголь и сам не знает, но, как писатель, он тонко чувствует парадокс фразы: лишь ветры безумия долетают с каспийского предела, где только мелководье, тростники, птицы да осетры, пустыня, солончак, глина да чужбина…
А Саша Соколов?
Он верен той же традиции, когда неслучайный экзотизм — Баскунчак — вплетает в рассуждения о любви не кого-нибудь, а главного героя своего романа «Школа для дураков». Но ведь берег прикаспийского соленого озера Баскунчак — бывшей лагуны древнего моря — это воистину страннейшее место. Я был там в самом начале своего каспийского путешествия. Просоленные деревянные сваи времен допромышленной ломки соли торчали на месте старых вырубо´в, как глиняные солдаты китайского императора. Чуть вдалеке на крошечном вокзальчике многократным эхом билась в запотевшие стенки вагонов вылетевшая из громкоговорителя фраза, черный дым вместе с клубами огня вырывался из труб первобытного тепловоза, играл с кустиком просоленной полыни котенок, все ярче проступали огни посреди озера, пахло полынью и солью, и весь дальний пейзаж был нарисован серым вечерним цветом — и только голубоватый контур Богдо, священной горы калмыков, врезался в розовый закат…
Нет-нет, рассуждения о любви не чужды этому берегу; более того, любви именно в том абсолютном смысле, который подразумевал герой писателя Соколова: желания бесстрашного влюбленного слияния, которое выше всех частностей, разделяющих людей, столь даже разных, как ученик 5‐го класса школы для дураков Нимфея и любимая им учительница Вета Аркадьевна Акатова, ибо окружающее столь поразительно-прекрасно, что переполняет душу восторгом, в котором все частности сгорают, как в алхимическом огне…
Алхимия цвета и языка, экзотизм, даже эзотеризм пейзажа, запредельность… Лучший боевик советской поры — «Белое солнце пустыни» — не случайно был снят именно в ландшафте фантастического Туркестана, смонтированного как великолепная мозаика: часть сцен снята на каспийском берегу, часть — в глубине пустыни, ибо древних городов, показанных в фильме, на берегу Каспия никогда не было. Древние города Азии, однако, не менее потрясающи, чем горы Памира или барханы Каракумов. «Мучение Азией», которое началось еще у Хлебникова, продолжилось затем и у Платонова. Его глубоко поражает пустыня. «…Всю ночь светила луна над пустыней — какое здесь одиночество, подчеркнутое ночными людьми в вагоне… Если бы ты видела эту великую скудость пустыни!» — восхищенно восклицает он в одном из писем к жене 299. Из донских степей Платонова неодолимо влекло в Азию, как бы наоборот тому пути, который прошли из Азии на запад кочевые народы. Один из лучших его рассказов — «Такыр» — разворачивается в ландшафте аскетически-скудном, едва пригодном для жилья 300. Для европейца, привыкшего к противопоставлению Запад — Восток такая зачарованность писателя Азией по крайней мере странна. Но что поделаешь? Нет смысла говорить о всех писателях и художниках, которые были околдованы Азией, о тех образах и красках, которые — в скудости или в преизбытке — заполнили собою «внутренний Туркестан», однако бессмысленно отрицать, что богатства этой духовной провинции прекрасны и обильны, а «тоска по Азии» может принимать в душе русского человека столь же злостные формы, как «тоска по Европе» или другой какой-нибудь обжитой и безопасной точке света.
IV
Идея тотальной географии Каспийского моря к концу XVIII века виделась в сообразном веку Энциклопедии ключе: создать кунсткамеру, в которой всё, чем богата и знаменательна Россия и пространства, так или иначе «причисленные» к ней, было бы выставлено и отображено. Так, собственно, и было сделано в новой «европейской» столице России — Петербурге, где в 1818 году был открыт Музей Востока, который наполнили находки великих географов минувшего века Екатерины. Все, чем приросла империя, нужно было учесть, зафиксировать и описать: именно на этом историческом витке и именно для России и возникает задача тотальной географии Каспийского моря, как описания всех земель, окружающих этот уникальный водоем. То была поистине титаническая работа. Для исполнения ее требовались передовые и смелые люди, готовые пядь за пядью описывать новые земли империи и пришивать их к истории России. Дело это впервые выпало на долю Самуила Готлиба Гмелина. Это был один из тех самоотверженных немецких географов, который, приехав из Тюбингена в Россию, со всею страстью ученого отдал несколько лет исследованию страны, язык которой он выучил с немецкой добросовестностью и которой до самой смерти беззаветно служил. Наследие его огромно и прекрасно. Судьба его сложилась трагически: он начал экспедицию, спустившись по Волге и перезимовав «пугачевскую зиму» в Астрахани 301, на следующий (1774) год он отправился на исследование каспийских берегов, описал Закавказье и северную Персию, но на возвратном пути близ Тарков был пойман, ограблен и взят в плен «для выкупа» людьми какого-то кайтагского князька 302, который отправил его в далекий горный аул и бросил в зиндан, или в яму, где человек содержится как попавшее в ловушку животное. Плена несчастный Гмелин не вынес и умер в возрасте тридцати лет. Тридцать лет! Каждый, кто возьмет в руки книги Гмелина 303, несомненно, скажет, что к тридцати годам невозможно исполнить столь грандиозную и подробную работу. Но уже на примере Гмелина стало ясно, что дело, поставленное ему в задачу, а именно — составление некоего полного свода сведений по Каспийскому морю и его берегам, в одиночку неосуществимо. Даже простое описание всех каспийских берегов, не говоря уже о той прорве закаспийского пространства, как мы его понимаем сейчас, потребовало не менее двух веков. Сотни востоковедов, географов, этнографов, военных, биологов, геологов, инженеров и мореходов отдали все свои силы освоению и описанию прикаспийского пространства и в конце концов выполнили эту работу 304. При этом каждый десяток лет лишь углублял и усложнял задачу поиском внутренних взаимосвязей Каспианы. Уже Гмелин понимал необъятность темы, пытаясь решить, что избрать границею своего повествования. Природу только? Природы оказалось недостаточно: все было неизвестным, во всем следовало разобраться и дать об этом отчет. Гмелин подробно описывает все достопримечательности: нравы астраханских татар, быт немецких колонистов на Волге, калмыцкие легенды… Ну а если к природе присоединить историю, то как вообще быть? И откуда тогда полагать начало всего исторического движения? От появления здесь в XV веке русского купца Афанасия Никитина? Но ведь до Никитина были тысячи лет: арабы, бухарские и персидские купцы, спешащие на торг в Астрахань или в татарский Сарай, а до татар были хазары, а до хазар — гунны, да еще — Александр Великий, а до Александра — никому неведомые люди неолита, которые оставили петроглифы, каменные стелы и солнечные памятники на Усть-Юрте и через Каспийское море торговали кремнем по всей Волге еще десять тысяч лет назад…
Но долго ли, коротко ли, а в своем зрелом виде «Тотальная география» в начале XX века обрела формы, близкие к идеальным: такова, например, девятитомная энциклопедия В. В. Бартольда 305, включающая в себя географические и историко-культурные описания Туркестана, Ирана и Закавказья. Но и она не способна обрисовать всей поэтической и географической реальности, которая называется «внутренний Туркестан».
Возможно, текст такого рода мог бы быть только виртуальным. «Тотальную географию Каспийского моря» можно представить огромной грибницей в сети, которая постоянно набухает, меняя свои очертания. В один прекрасный день я попытался создать одну клетку такой грибницы — разложить на составляющие полторы странички из книги «Хождения за три моря» Афанасия Никитина, в которых речь идет о низовьях Волги и собственно каспийских берегах. Получилось вот что.
АФАНАСИЙ НИКИТИН (год рождения неизвестен, умер в 1472-м). Тверской купец, со товарищи предпринявший попытку в 1466 году, до разгрома Золотой Орды, совершить торговую экспедицию в Персию и Ширван. Никитин отправился в путь от «государя своего великого князя тверского Михаила Борисовича», брата жены великого князя московского Ивана III. По воспоминаниям, Никитин приурочил свое плаванье к отправке на юг, в Ширван, купцов и послов во главе с Василием Папиным, в ответ на посольство ширваншаха Фарруха Ясара в Москву. Василий Папин возвращался в Ширван вместе с послом и дарами от государя, коими были кречеты, птицы для шахской охоты. Присутствие на судах экспедиции Хасан-Бека, посла Ширвана, обезопасило экспедицию во время долгого пути по Волге. Однако в низовьях Волги корабли попали в ловушку. «…И вошли в Бузан-реку. И тут встретили нас три татарина неверных да ложную весть нам передали: «Касим султан подстерегает купцов на Бузане, а с ним три тысячи татар». Посол ширваншаха Хасан-бек дал им по кафтану-однорядке и по штуке полотна, чтобы провели нас мимо Астрахани. А они, неверные татары, по однорядке-то взяли, да в Астрахань царю весть подали. А я с товарищами свое судно покинул, перешел на посольское судно.
Поплыли мы мимо Астрахани а луна светит, и царь нас увидел, и татары нам кричали: «Качьма — не бегите!» А мы этого ничего не слыхали и бежим себе под парусом. За грехи наши послал за нами царь всех своих людей. Настигли они нас на Богуне и начали в нас стрелять. У нас застрелили человека а мы у них двух татар застрелили. А меньшее наше судно у еза [закола для ловли рыбы] застряло, и они его тут же взяли и разграбили, а моя вся поклажа была на этом судне».
Товар Афанасия Никитина был «мелкая рухлядь: лосины, лисицы, песцы». Но и большое судно не ускользнуло от погони: «Дошли мы до моря на большом судне, да стало оно на мель в устье Волги, и тут они нас настигли и велели судно тянуть вверх по реке до еза. И судно наше большое тут пограбили и четыре человека русских в плен взяли, а нас отпустили только головами [без товаров] за море. А назад, вверх по реке, не пропустили, чтобы вести не подали…» На море судно побольше с послом Хасан-беком и купцами пошло в Дербент, а судно поменьше, которое, разграбив, вернули, — разбило о берег. «Тут стоит город Тарки. И вышли люди на берег, да пришли кайтаки и всех взяли в плен». Неудача экспедиции привела к тому, что участники ее, оказавшись ни с чем, вынуждены были разбрестись в разные стороны: «У кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь; а кто был должен, тот пошел, куда глаза глядят. А иные остались в Шемахе, иные же пошли в Баку работать». Афанасий Никитин, видимо, принадлежал к категории должников или же к числу тех, кто вложил в дело весь свой капитал и остался ни с чем: «…занже ми на Русь пойти не с чем, не осталось у меня товару ничего» — и потому отправился в Персию, в Чапакур. Пространствовав шесть лет и побывав в Индии, Аравии и даже в Африке, он через Трапезунд и Кафу (Феодосию) добрался до Литовской Руси, где и умер, «до Смоленска не дойдя». Однако о странствиях своих он успел поведать летописцу и передать тому в руки тетради, собственноручно им писанные, которые были из Литвы привезены купцами в Москву и доставлены Василию Мымреву, дьяку великого князя. Так появилось письменное свидетельство об этом путешествии, известное в русской книжности, как «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Книга, изобилующая сведениями о далекой Индии и вовсе неведомых для Руси того времени странах Востока, содержит сравнительно скупые сведения о прикаспийских областях, где только завязывается сюжет, достойный, по мнению автора, описания. Однако, обзор этих сведений и, в особенности, комментариев к ним, сделанный в великолепном издании «Хождения…» в серии «Литературные памятники» — это зернышко для «большого взрыва»…
Естественно, все выделенные слова должны быть, в свою очередь, развернуты, в их расшифровках появились бы новые выделенные слова и т. д. Еще более удачные условия к образованию целого нароста «каспийской грибницы» дают статьи В. В. Бартольда, написанные им для «Энциклопедии ислама». Достаточно перечислить их, чтобы понять, какая бездна разверзается перед нами: статей этих больше ста. Каждая книга, написанная по этому поводу, будь то сочинения Геродота, Моисея Каланкатуаци, Аль-Масуди, Марко Поло, Амброзио Контарини или Дж. Дженкинсона, неизбежно породила бы новые тысячи или сотни тысяч сносок, так что «Тотальная география Каспийского моря» в конце концов должна была бы развернуться в Книгу Бесконечности, включающую в себя все книги, которые были, есть и будут написаны. Разумеется, нам никогда не объять необъятного: мы можем только смутно чувствовать тяжкое величие этого смыслового столба, вырастающего из горькой почвы такыра, или, как Хлебников, легко ощущать присутствие этой книги книг у себя над головой, как россыпь Млечного Пути:
Цыгане звезд
Раскинули свой стан…
ХЛЕБНИКОВ И ПТИЦЫ
…Мое мнение о стихах сводится
к напоминанию о родстве
стиха и стихии…
Велимир Хлебников
I
Есть вещи, понять которые невозможно, не разглядев некоторые весьма истонченные временем нити, связующие явления. В поисках таких взаимосвязей литературоведение вгрызается в текст и в контекст, этот текст порождающий. Степень расширения контекста неограниченна и зависит от желания и умения интерпретатора работать со специфическими косвенными свидетельствами, с бедными сведениями рудами или почти порожней породой, содержащей иногда лишь пыль драгоценного знания о предмете исследования.
Нечаянно контекстом оказался остров. Небольшой заповедный остров, со всех сторон охваченный медлительными мутными водами. Заросший по окоему ивами, шиповником и тамариском, внутри — тростником, жесткой, как жесть, травой, полынью, коноплей, вьюнками. Был исход осени. Днем в пещеристой сердцевине разваленных временем древних ив роились осы, радуясь последнему солнцу. Ночью, в час шепота ив, под холодными безмолвными звездами шелесты тростника и гулкие всплески сомов в черной воде казались шорохами и пульсациями космоса.
Ночь, полная созвездий,
Какой судьбы, каких известий,
Ты широко сияешь, книга?
Свободы или ига?
Какой прочесть мне должно жребий
На полночью широком небе?
Текст — стихотворение Хлебникова — проклюнулся сам собою из контекста, что показалось закономерным: остров принадлежал месту встречи Волги и Каспия-моря, которому «принадлежал» и Хлебников, по своей человеческой воле впадавший то в Неву, то в Днепр, то в Горынь, но волею судьбы от рожденья до смерти влекомый мощным течением Волги к чаше Каспия. И этой чашей завороженный. Ибо в ней, как в волшебном котле, до поры покрытом кипящим туманом, поэт, сдунув завесу, провидит мир насквозь: от заледенелых тундр Сибири, где жаворонок ночует в пространном черепе мамонта, до калмыцких степей, где кочевники пьют черную водку бозо; от заброшенных храмов Индии, оплетенных корнями джунглей, до алых цветов в садах Персии и раскаленных песков Египта, сжимающих букет пышной растительности, распустившийся дельтой Нила. Котел Каспия — это чечевица, линза, в фокусе которой, как лучи или как траектории птичьих перелетов, соединяющих Север с Югом, сходятся силовые линии множества культур, каждая из которых, даже забытая, погребенная песком пустыни, как столица хазар Итиль, или столица Золотой Орды Сарай, или вообще ничем вещественным не явленный, только в предании сохранившийся разбойничий уструг Разина, — ждет своего воплощения в слове, ждет гения, способного облечь словом и выразить все это напластованное друг на друга разнообразие исторических обстоятельств, природных форм, живых и мертвых языков, преданий и символов.
«Я был спрятанным сокровищем, и Я желал быть узнанным, посему Я сотворил мир», — говорит Господь суфиев. Подразумевая, должно быть, тем самым, что богопознанием станет бесконечное распаковывание запечатанных в мире смыслов, раскапывание драгоценных кладов, предназначенных каждому, кто окажется достаточно упорным, чтобы искать. Не поместив себя сознательно в систему координат, которой принадлежал поэт, невозможно составить представление о сокровищах, которые были ему завещаны. Вот почему контекстом, непременным для понимания Хлебникова, становится само пространство, содержащее в себе все, из чего лепятся (Хлебников именно лепил, ничего не выдумывая) его стихи и проза, его «законы времени» и словотворчество, которое может казаться совершенно искусственной, головной выдумкой, но которое на самом деле не выдумка, а лишь проекция динамических свойств пространства на язык. В мире нет более изменчивых природных систем, чем дельты больших рек. Дельта Волги к тому же (знаменитый «коридор» между Уралом и Каспием, по которому вплоть до XV века из лона Азии в Европу изливались волны кочевников, и древнейший прямой торговый транзит, соединяющий все четыре стороны света) — одно из самых продувных мест истории, ее меловая доска, с которой каждая последующая волна переселенцев начисто стирала все предварительные наброски построения цивилизации, сделанные волной предыдущей. Дельта — неустанная в пробах творения — вот контекст, породивший Хлебникова.
В этом смысле значимо, что отец поэта, Владимир Алексеевич, был основателем Астраханского заповедника. То есть охранителем того всеобъемлющего контекста, с которого Хлебников считывал свой текст, изыскивая завещанные ему словесные клады. Благодаря этому, очутившись в заповеднике, еще и сегодня можно убедиться, что «времыши-камыши» — не поэтический изыск, а такая же реальность, как «старые ивы, покрытые рыжим ивовым волосом», «сонные черепахи», «красно-золотистые ужи» и весь этот странный край, «где дышит Африкой Россия». При этом Владимир Алексеевич не поощрял поэтических занятий сына и, видимо, до самой его смерти не понимал масштаба его дарования. Ни о каких «контекстах» он не думал. Он был позитивист, естествоиспытатель, редкостный знаток птиц. Как мы увидим, это тоже сыграло в судьбе поэта не последнюю роль…
II
Семь сот уст цедят воду сквозь фильтры отмелей и сплошных зарослей, протянувшихся по взморью на сто пятьдесят верст от Бахтемира (главного волжского рукава) до Бузана и Кигача, бесконечно дробящихся на протоки, ручьи и почти затянувшиеся тиной ерики. Пресной, зеленой, мутной остается вода еще километров тридцать-сорок, до свала глубин, где резко обрывается дельтовая отмель и сразу ощущается в воде соль. А до этого не река, не море — раскаты. То есть и не река уже — ибо без берегов — раскатилась, — но и не море тоже, только блещет волна по-морскому, но по-речному желта на просвет.
В нетронутой природе правомерно чувство вечности, потому было ощущение, что я «совпал» с Хлебниковым в пространстве/времени. Был октябрь 1918‐го, паровое судно «Почин». Хлебников и Рюрик Ивнев выходили на взморье осматривать облюбованный отцом Велимира под заповедник участок на Дамчике. Вечером «Почин» поглотил туман. Рано утром поэты вышли на палубу и в хрустальном холоде осветлевающей ночи увидели над головой… Звездный провал неба. Бездну. Миры. Может быть, самым ненарочным и важным совпадением было «чувство замороженности», неподвижности, чувство «листа, застрявшего в тысячелетних камнях», которое охватило и меня в первую же ночь на острове, когда выходил курить на берег и под полной луною видел и слышал напротив шуршащую живую стену тростника. Ну и, разумеется, принадлежали времени вечности птицы. Голубой быстрый огонь крыла зимородка, пронзающего воду, и воздух, и тень берегового куста. Белохвостый орлан, медленно шагнув с черной ветки обугленного пожаром дерева, сделав несколько мощных взмахов меж роскошными кулисами зелени над зеркальной водою, исчезает за ивою, оставляя тебя в лодке со счастливым ощущением, что ты следуешь древней, вольной и верной дорогой. Cам язык орнитологии — напряженный, подвижный, силящийся уловить оттенки признаков, отличающих одну пичугу от другой по цвету перьев, времени первой трели, излюбленным семечкам или по особым морфологическим различиям (орел, орлан, подорлик), сделавшись насущным, засверкал вдруг драгоценной россыпью названий. В «Списке птиц Астраханского края», составленном отцом Хлебникова, упомянут 341 вид птиц. Баклан, пеликан, чепура красная, кваква, колпица, савка, турпан, хархаль, выпь, пустельга, кречет, лунь, осоед, чеглок, сапсан, балобан, стриж, сыч, удод, филин, рябок копытка, горлинка, авдотка, дупель, бекас, ястреб… Фонетически это такое богатство, что близкий к колдовству, к выкапыванию древних корней и мертвых семян опыт создания поэтически-разверстого во все стороны языка, предпринятый сыном, кажется совершенно естественной и, более того, само собою разумеющейся попыткой 306. Только в том уникальной, что это попытка одинокого гения за краткое время своей жизни проделать ту титаническую работу, которую язык сам по себе, без поэта-алхимика, торопящегося ускорить «созревание» языка, проделывает за сотни лет благоприятного для себя развития.
В Астрахани я побывал в музее Хлебникова. Так в руки мои попал еще один ключ, или даже связка ключей. Во всяком случае — право на вход. Пропуском к Председателю Земного Шара был билет в музей № 29632. Запомнилась книга из библиотеки отца — G. F. Chambers — The story of the stars. Основательнейший позитивистский фундамент удерживает на весу все самые фантастические проекты Хлебникова. Изменяется, быть может, лишь сам характер вовлеченности — поэт относится к звездам не с ученым интересом, а со священным трепетом, как индейцы-инки, полагая, что звездами вычерчены на небе судьбы грядущего. «Понять волю звезд, это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной ночью, эти доски грядущих законов, и не в том ли путь… чтобы избавиться от проволоки правительств между вечными звездами и слухом человечества…» Об отношениях Хлебникова с отцом известно, что они были неровны и непросты («родителями изгнан» — записывает он в дневнике 1914 года). Отец, несомненно, предполагал, что сын унаследует его дело ученого-натуралиста, орнитолога, и тот студентом как будто даже подавал надежды (экспедиция на Павдинский Камень Урала в 1906‐м), но впоследствии, видимо, отца разочаровал и, во всяком случае, надежд его не оправдал — всем образом своей жизни и никому, конечно, из близких (кроме сестры Веры) непонятным творчеством. Между тем он был сыном благодарным и прилежным учеником, что заметил еще Тынянов в предисловии к первому (и единственному полному) собранию сочинений Хлебникова: «Поэзия близка науке по методам — этому учит Хлебников. Она должна быть раскрыта, как наука, навстречу явлениям… Хлебников смотрит на вещи как на явления, взглядом ученого, проникающего в процесс и протекание… Он не коллекционер слов, не собственник, не эпатирующий ловкач. Он, как ученый, переоценивает языковые измерения…»
Нет сомнения, что Гений Языка должен был явиться именно здесь, в русской столице татарского ханства, в перекрестье кочевых и караванных дорог, фантастической геологии (аммониты — дно древнего моря — плиты известняка, органика и лесс дельты, пески, грязи, лидийский камень, кристаллическая соль) и столь же фантастической ботаники и орнитологии, на границе земли-воды-неба, реки-моря, Старой Волги и Камызяка, Черных Земель и песков Сулгаши, Европы и Азии, православия, принесенного русскими ратниками, буддизма перекочевавших на запад от Волги взбунтовавшихся монгольских племен и магометанства степняков, замешанного на верблюжьем молоке, наваристом, с молоком, чае, на блинчиках с бараньими потрошками и жареном боку пудового сазана. В любом столичном городе ничего, кроме зауми, не вышло бы из языковой алхимии (и не вышло). Здесь же алхимия — имманентное свойство окружающего, — кристаллизация не произошла и произойти не может, ветер дует из Персии, из Китая, из Индии, из Европы, море наступает и отступает, волны кочевников проносятся, словно стаи птиц, водоросли набухают и умирают в зеленом котле дельты, пульсация безостановочна, творение непрерывно… «В деревне, около рек и лесов до сих пор язык творится каждое мгновение, создавая слова, которые то умирают, то получают право на жизнь…» — так ощущал это Хлебников.
В «Словаре неологизмов» Хлебникова 6130 слов. По какой-то непонятной причине в нем нет слова «лебедия», объемлющего своеобразным, детски-наивным смыслом мир волжской дельты, в который так по-разному и так самозабвенно были влюблены отец, и сын, естествоиспытатель и поэт. Парадокс же, отмыкающийся ключом к родовому гнезду, ныне музею, заключается в том, что именно отец наделил его талант тем смертельно опасным и не поддающимся подражанию свойством, которое еще при жизни не позволило Хлебникову «войти» в литературу, ибо унаследованный от отца естественнонаучный взгляд на мир, будучи примененным в поэзии сыном, человеком необычайно тонкого поэтического слуха и чувствования, и пылким романтиком к тому же, превращался в опыт совершенно запредельного исследования, которое ни тогда, ни теперь, ни когда-либо впредь невозможно было (будет) втиснуть в рамки обычного литературного «сочинительства».
III
Лишь на заповедном острове, где неприкосновенность природы создает иллюзию замороженного хронотопа, могло возникнуть ощущение «совпадения» с Хлебниковым в пространстве/времени. Оно волшебно, но обманчиво. Потому что Хлебников выламывается из любого времени. Тем более из нашего. Это его несчастливое свойство отметил еще Николай Степанов, вместе с Юрием Тыняновым работавший над составлением полного свода творений поэта. «Он слишком опередил свое время, чтобы оставаться в его пределах. Поэтому он гораздо ближе прошлому или будущему», — осторожно написал он в 1928 году. Но вряд ли и сегодня можно сказать, что Хлебников ближе и понятнее нам, нежели в то время, когда эти строки были написаны. Напротив, он почти позабыт, хотя признание, что он великий поэт, стало общим местом. Сама эпоха, породившая его (а это предреволюционная и революционная эпоха), так отдалилась от нас по ценностным ориентирам — нынешнее общество находится в противофазе ей — что самый образ Хлебникова-поэта, который есть такое же достояние его поэзии, как и его Слово, вряд ли обладает какой-то особой привлекательностью для современной читающей и пишущей публики. Ну кто примет сегодня всерьез будетлянина (человека будущего, познавшего законы времени), поэта-язычника, поэта-дервиша, анархиствующего политрука с замашками сумасшедшего или пророка? Кто примет всерьез человека, похожего на бомжа, когда поэтической максимой современности стал преуспевающий литератор, работающий по контракту с престижным издательством? Только в темных подвалах и пустующих мансардах, где никому еще не ведомая молодежь оттачивает словесное оружие для грядущего мятежа против торжествующего убожества, можно надеяться найти том его «Творений». Может быть, будущее Хлебникова не за горами и родственная ему аудитория вот-вот явится на жизненной арене, пока что созревая для очередной «Пощечины общественному вкусу». Но ведь Хлебников не был понят и своим поколением! В конце жизни для многих, считавшихся прежде его единомышленниками и друзьями, он оказался чрезмерен и невыносим: недаром 37‐летний поэт добровольно отступил в среду молодых художников, для которых неуемный дух творения, вместилищем которого он был, оказался достоинством несравненно большим, чем очевидная для повзрослевших «друзей» его социальная несуразность, несоразмерность его гения постреволюционному духовному пространству в еще большей, может быть, степени, чем предреволюционному…
До революции его образ эстетствующего нигилиста, работающего над претворением сырой материи повседневного языка в поэтически-взрывчатое вещество — тот образ, который запечатлен известной фотографией 1912 года (В. Хлебников, С. Долинский, Г. Кузмин, В. Маяковский) или не менее известной фотографией того же года с Бурлюками — исполнен обаяния и, конечно, еще послужит стихослагающему юношеству примером для подражания. На этих снимках он — интеллектуал, теоретик (Маяковский — бомбист, практик) новой поэзии.
А поздний Хлебников неподражаем. Ибо дорожка, на которую он ступил, оказалась путем пророка, и ничего, кроме внезапных озарений, поверхностного восхищения окружающих и их все более глубокого непонимания, хулы, унижений, голода, забытости и преждевременной гибели в конце на этом пути быть не могло. Некоторые подробности его быта времен Гражданской войны просто ужасающи. В 1919 году в Харькове Хлебников жил в крохотной холодной комнатке, без света. Ходил «заросший, одетый в отрепья, без шапки, часто лежал по больницам, перенес два тифа, две тюрьмы (и белые, и красные принимали его за шпиона, т. к. он не имел документов)…» и не расстреляли, должно быть, только потому, что в конце концов знакомый врач пристроил его в сумасшедший дом «пересидеть» лихое время.
Летом 1921 года лектором политотдела Персидской Красной Армии (со своим знаменитым гроссбухом, вмещавшим полное собрание его поздних сочинений и томом Кропоткина) Хлебников оказывается участником персидской революции. «Покровительствовавший» ему штабной деятель присвоил себе полагавшееся поэту армейское жалованье, из-за чего Хлебников вынужден был продать на базаре сюртук, в котором приехал из Баку. «Без сюртука, без шапки, без сапог, в мешковой рубахе и таких же штанах, надетых на голое тело, он имел вид оборванца… Однако, длинные волосы, одухотворенность лица и вид человека не от мира сего привели к тому, что персы дали ему кличку дервиш-урус» (то есть русский дервиш, странствующий искатель Бога).
Маяковский — когда-то соседствовавший с Хлебниковым на одной фотографии — из Гражданской войны вышел совершенно определившимся человеком: не просто революционным поэтом, но поэтом партийным, идейным большевиком, безоговорочно принявшим ангажемент власти и по собственной воле совершившим невиданный в поэзии социальный переворот. Впервые в его лице русская поэзия становилась на службу государству, отринув все частные, «личные» задачи, да и саму личность поэта. Лицо Хлебникова тоже вполне сложилось. Он закончил Гражданскую поэмой «Труба Гуль-муллы» (Гуль-мулла — священник цветов). Его поэтическая работа, безусловно, связана с революцией, он одержим с нею одним духом — ускоренной трансформации застывших форм (только не социальных, а поэтических), он охвачен творением нового языка и разработкой науки о времени, он не замечает Совнаркома Ленина и набирает каких-то отщепенцев в Правительство Земного Шара, его социальные утопии по наивности превосходят, вероятно, все сочинения, когда-либо созданные на почве утопизма, но в них, по крайней мере, нет ни капли доктринерства, они кажутся фантазиями ребенка… Он — не социальный революционер, он продолжает свое беспрецедентное поэтическое исследование мира и языка на уровне энергий — не случаен его призыв покончить с двухтысячелетним языком римского права (Lex romana) во имя прямого общения при помощи «лучей»…
Поэтически он окончательно локализуется в своей пространственной системе координат, бродит вокруг Каспия (Астрахань — Баку — Иран), провидит Азию, пытается прорубить поэтическое окно в Азию, прорубает — и захлебывается потоком хлынувших на него образов и созвучий, которые, входя в его стих, все более приближают его к «волшебной речи», управляющей «сердцем нежных». Ок! Ок! Очана! Мочана! Он невольно, но неизбежно входит в глубочайшее противоречие с требованиями поэтического «момента», продолжая покоиться во времени вечности и искренне не понимая обращенных к нему упреков: «Говорят, что стихи должны быть понятны… Стихи могут быть понятными, могут быть непонятными, но должны быть хороши, должны быть истовенными… Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозем духа и позднее загадочными путями дает свои всходы…» В конце 1921 года с такими вот убеждениями, исполненный энергии и светлого ощущения огромности проделанной работы, Хлебников приезжает в Москву, полагая, что пришла пора издать написанные им в годы войны главные вещи и поделиться с людьми своими прозрениями. И идет, разумеется, к Маяковскому. Гуль-мулла идет к Большевику. То, что происходит между ними, похоже, видимо, на короткое замыкание, после чего Хлебников предписывает друзьям ни при каких обстоятельствах не обращаться к «Маяковскому и компании». Он сталкивается с реальностью «актуального момента», чувствует засаду, хочет отступить под охраняющее его звездное степное небо, небо вечности, но не успевает — его настигает смерть.
IV
Птичий символизм Хлебникова, равно как и попытки его создать «заумный» или «звездный» язык (который был бы языком высшего общения на уровне энергий), первым делом, разумеется, заставляют нас вспомнить о разветвленной птичьей символике древней персидской поэзии и, в частности, о «языке птиц», говорить на котором обретают способность просветленные. Ряд исследователей суфийской поэзии истолковывают сам термин «птичий язык» прежде всего как ритмизированную, боговдохновенную речь, иногда — как эзотерический язык высокой поэзии, непонятный непосвященным.
Сильнейшее влияние персидской поэзии на Хлебникова очевидно. Оно очевидно в самом образе поэта-дервиша, который стал последним «самоистолкованием» Хлебникова, и в завораживающей его магии букв и чисел («слова суть лишь слышимые числа нашего бытия»), и в разработке «звездного языка», к которой Хлебникова побуждали мотивы в самом деле сходные с теми, что за семь веков до него побудили исламских мистиков разработать балабайлан — тайный поэтический язык, не более понятный непосвященным, чем хлебниковское бобэоби. Но самое главное — с мистической поэзией Востока роднило его отношение к слову как к высшей манифестации если не Бога, то мира307. В этом он совершенно подобен хуруфитам, полагавшим слова творениями Бога и изощренно пытавшимся, исходя из числовых значений букв, выстроить свод предсказаний обо всем, что было, есть и будет, на основании коранических текстов. Хлебников делал то же самое, с тою лишь разницей, что, предаваясь самой злостной числовой магии, он не основывал ее на священном писании…
Устремившись от сокрытого в самом сердце России своего истока, Волга, преодолев колоссальные пространства, пробив русло сквозь толщи разноплеменных культур, изливается, наконец, в Каспий, и вместе с нею изливается в Каспий и поэт, которого сразу же влечет к чрезвычайно поэтически намагниченному противоположному берегу.
Притяжение Персии подтверждается и участием Хлебникова в гилянской революции, и огромным количеством смысловых и образных совпадений его с древними персидскими поэтами. Такое влечение к иному испытывали многие крупные художники, и «совпадения» эти ничуть не были бы удивительными, если бы Хлебников владел восточными языками и читал персидскую поэзию в подлинниках. Но нам точно известно, что восточными языками Хлебников не владел, а на русский язык в его время были переведены лишь считаные тексты классической персидской поэзии. И вообще, лишь немногие поэты были известны.
Сам он был знаком с произведениями Низами (1141–1209), французским переводом поэмы которого «Искандер-наме» он пользовался, разрабатывая сюжет «Детей выдры». Сложная система культурных отражений донесла до него и другую поэму Низами «Лейли и Меджнун», примечательную выведенным в ней образом поэта, обезумевшего от любви, который бродит по пустыне, бормоча стихи во славу возлюбленной.
Число доступных Хлебникову суфийских поэтических текстов было, однако, столь невелико, а «намагниченность» поэта Востоком столь сильна, словно он не только читал все, что было переведено спустя несколько десятилетий после его смерти (сочинения Низами, например, были переведены на русский только в 1940–1959 годах), но и то, что не переведено до сих пор, в том числе и такие необходимые в контексте нашего разговора произведения, как «Беседа птиц» Аттара и «Трактат о птицах» Газали. Причем читал в издании, снабженном полновесным комментарием, содержащим сведения о суфийских мистических поэтах и знания о метафорических кодах, необходимых для понимания «многослойности» их поэзии. Но ведь никаких подобных справочников не было у Хлебникова под рукою! Книги Рене Генона и Аннемари Шиммель об исламском мистицизме не только не были переведены на русский язык, но и не были еще написаны; их авторы еще не начали даже свои исследования! А Хлебников периодами пишет так, словно находится внутри традиции, словно некое тайное поэтическое завещание он получил от самого Фаридуддина Аттара и не нуждается ни в каких культурологических реконструкциях…
Среди суфиев было распространено представление о возможности инициации (посвящения) от невидимого учителя или давно умершего святого. В этом смысле чрезвычайно соблазнительно, конечно, связать имя Хлебникова с именем Аттара, автора «Беседы птиц», хотя Хлебников, возможно, даже не знал о его существовании.
Фаридуддин Аттар принадлежал к числу поэтов‐мистиков, которых поздняя традиция причисляла к мученикам любви, ставшим жертвами жестоких правителей или неверных за свою чрезмерную любовь к Богу. На самом деле Аттар, скорее всего, не погиб, а умер своею смертью в достаточно преклонном возрасте в 1220 году, когда монголы пришли в Иран. Но его мистицизм и его слово были действительно «истовенными» (как сказал бы Хлебников).
Своим учителем Аттар считал ал-Халладжа, казненного за суфийскую ересь по требованию властей и высших слоев общества. Ал-Халладж называл себя избранным и «возлюбленным» Бога, что было истолковано как неслыханная дерзость. После казни он явился Аттару во сне, чтобы раскрыть тайну святости: мистик-мученик есть живой укор миру; «его существовование оскорбляет тиранов, его смерть приводит в содрогание палачей, его канонизация — победа веры, любви и надежды».
Внешняя жизнь Аттара ничем, как будто, не подтверждала, что он близко к сердцу принял завет учителя. Он по-прежнему сидел в своей лавке, выслушивая разные истории от людей, лечил их (само прозвище «Аттар» означает «продавец благовоний»), но сочинения его с годами становятся все более истовыми. Он утверждает, что понимает язык птиц и цветов и силится выразить это томление безъязыкой материи, неспособной возгласить хвалу Господу; цепи поэтических повторов в его сочинениях становятся все более длинными; «Аттар часто впадает в экстаз и пытается выразить Божественные тайны путем длинных цепочек повторяющихся восклицаний или других слов 308; опьянение уводит его от логического построения повествования». Характерно, что герой его поэмы «Уштурнамэ» — кукольник — кончает жизнь самоубийством в божественном экстазе.
Аттар работает со словом как маг, достигая трансовых состояний; произносит непонятные слова; ломает логику линейного повествования — все это, по внешней видимости, чрезвычайно роднит его с Хлебниковым. Мало того, он увлечен числовой и буквенной магией, он, как Хлебников, вращает и мнет буквы, показывая, как из алифа (первой буквы арабского алфавита), при изгибании появляется дал (д), а при заворачивании алифа в подкову — нун (н).
Что действительно роднит Хлебникова с Аттаром — так это неистовый поэтический темперамент. Но опыты со словом, проводимые тем и другим, вписаны в совершенно различные культурные контексты и, следовательно, имеют совершенно различный смысл и результат.
Аттар был прежде всего религиозным мистиком, поэзия для него — лишь средство постижения Бога, средство движения по Пути. Как мистик Аттар разрабатывал интереснейшие, парадоксальные понятия суфийского религиозного опыта: «фана» — исчезновения верующего в Божественном присутствии и «бака» — Черного Света, который озаряет отчаявшегося в абсолютной тьме человеческого блуждания в поисках Бога.
Аттару принадлежит один из наиболее ярких поэтических образов, передающих опыт «фана» и «бака»: Божественная сущность уподоблена им соляной шахте, в которую проваливается осел. Погибнув и напитываясь солью, осел теряет все свои низменные качества и постепенно сам целиком превращается в божественную соль.
Однако, подробнее всего разработана Аттаром концепция Пути. Ему принадлежат прекрасные строки:
Словно дождевое облако над океаном, отправляйся в путь,
Ибо без путешествия ты никогда не станешь мужчиной!
Собственно, и поэма «Мантик ат-тайр» («Беседа птиц») есть не что иное, как аллегорическое повествование о странствованиях души (уравнение птица = душа обще для многих культур) через семь долин к познанию высшей реальности. В конце поэмы тридцать птиц Аттара, отправившиеся на поиски царя птиц Симурга, понимают, наконец, что сами они — си мург («тридцать птиц») — и есть Тот, кого они искали. «Это один из самых оригинальных каламбуров в персидской литературе, превосходно выражающий тождество души с Божественной сущностью».
Примечательно, что к сочинению поэмы Аттара подтолкнула написанная веком раньше аллегория Сана, и называвшаяся «Путешествие рабов к месту своего возвращения».
Нет сомнения, что ничего этого Хлебников не знал.
Потому что в противном случае, скорее всего, не обошел бы вниманием такой роскошный сюжет, никоим образом еще русской словесностью не отраженный. Поэма Аттара, повторимся, не переведена на русский язык до сих пор, хотя достоверно, что по крайней мере в тридцатые годы прошлого столетия сюжетная канва ее становится известной в России как восточная легенда.
Важнее всего, пожалуй, то, что Хлебников не разделял мистическую концепцию Пути.
Хлебников, несомненно, был мистиком — но мистиком именно в том смысле слова, который оно приобрело в России в начале ХХ века; как и все русское общество, он погружен был в тот расплывчатый мистицизм, который есть свидетельство скорее алкания, нежели наполненности, скорее предчувствия, догадки — нежели истинной и целенаправленной практики веры.
Аскет и человек «не от мира сего» Хлебников в иное время мог бы стать большим религиозным подвижником. Нет сомнения, что его участие в персидском походе объясняется страстным желанием узреть воочию страну соловья и розы и приобщиться к тому типу святости, который воплощали собою «влюбленные поэты» — суфии (святость поэта, собственно, подразумевается только суфийской мистической традицией). И, как мы знаем, он находит себе подходящий образ: Гуль-муллы, священника цветов. Но он — человек нового мира. Он — Председатель Земного Шара, он — пророк. Он пришел в мир, чтобы возвестить новые истины, а не для того чтобы, как раб, смиренно пройти по Пути к месту своего возвращения. Потому, даже войдя в образ поэта-дервиша, он так и не постигает глубокого символизма персидской поэзии. Поэтому его «птичья» символика остается недоразработанной — или, если угодно сказать по-другому — естественнонаучной. Безусловно, и для него птицы — посланцы и носители языка, который вживлен в его тексты наравне с человеческими речами («Беботеу вевять», — славка запела). Но, возвещая, он не слушает. Не слыша — не понимает.
Отношение Хлебникова к «птичьему языку» совершенно определено в его программной «сверхповести» «Зангези», написанной в 1920–1922 годах и посвещенной, собственно, демонстрации всех тех возможностей, которые открыла Хлебникову бесстрашная работа со стихиями языка. Примечательно, что «повесть» открывают птицы, предвосхищающие появление богов.
Голоса птиц переданы с предельно возможной на письме точностью:
Овсяночка (спокойная, на вершине орешника): Кри-ти-ти-ти — цы-цы-цы-сссыы.
Дубровник: Вьер-вьёр виру сьек сьек сьек! Вэр вэр виру сек-сек-сек!
Больше того, когда боги появляются, они сами начинают изъясняться на языке непонятной человеку природы, так что предваряющие их появление птичьи трели можно, конечно, истолковывать как язык серафический. Однако речи богов менее благозвучны, нежели язык птиц: «Мара-рома, Биба-буль! Укс, кукс, эль!» Они только темны, только непонятны в сравнении с тем, что возвещает потом Зангези — маг, овладевший революционными стихиями языка, маг, понявший, как посредством энергий языка творится история и держится мироздание. Вспугнутые «благовестом ума» и проповедью Зангези, боги покидают повествование, унося с собою и свой божественный клекот. Высшая форма языка — это тот самый «Звездный язык», который Зангези возвещает людям…
Поэтому мы не слишком погрешим против истины, сказав, что на пернатый мир Хлебников смотрит глазами отца-орнитолога. Хотя сам тот факт, что трель славки постоянно вклинивается в слух Гуль-муллы, свидетельствует о том, что образ поэта-дервиша не был простой этикеткой, которую Хлебников вывез из Ирана, как наклейку на туристском чемодане 309. Напротив, то была самоотверженная попытка войти в иную поэтическую роль. Хлебников многое почувствовал, многое еще хотел понять. Многого не смог и не мог.
Как человек своего времени, он в самых дерзновенных поэтических опытах естественнонаучен. Метод, которым он оперировал, стал для него главным препятствием для мощного вруба в смысл персидской мистической поэзии. И несмотря на то, что многие его изыскания в слове действительно похожи на изыскания поэтов‐суфиев, их отношение друг к другу можно представить, как отношение квадратного корня из –1 (мнимого числа, выдуманного Хлебниковым, чтобы «отвергнуть прошлое» и освободиться от власти вещей) к 1. Почему «тополь весеннего Корана» превращается у Хлебникова не в насест для скворцов, возвещающих благую весть на своем птичьем наречии, а в невод, закинутый в «синюю тоню» неба.
Правда, для ловли Бога.
В этом — превратность метода Хлебникова. Но и — неповторимость всей его поэзии, черт побери!
V
Заряжая свежую пленку в фотоаппарат, я сделал положенные три контрольных спуска и так случайно уловил в объектив цвет земли Азии: желтый с голубым. Табачные листья, высыхая на вешала´х, приобретают цвет глины, которой с примесью золы обмазаны стены тростниковых построек аула, бурый, с желтыми и тускло-зелеными прожилками цвет бескрайней степи, цвет сухого кизяка, которым теплится печь во дворе, курясь струйкой терпкого дыма. Череп коровы белеет на изгороди, девушка с лицом терракотового цвета с охапкой желтых прожилковатых листьев в густом аромате сушильни; пресс, спрессованные, словно сланцы, листья табака — будто плиты, вырубленные из палящего времени… У Хлебникова та же цветовая гамма передана двумя строками:
Как скатерть желтая был гол
От бури синей сирый край…
Поэт еще и потому обречен был на непонимание, что не только по времени «не совпадает» с современной ему русской словесностью, но и выходит за ее пределы чисто географически. В 1913‐м им написана короткая интересная статья о географии русской литературы. Хлебников говорит о том, что огромные пространства России так и остались незатронутыми словесностью, неозвученными, образно непроработанными — «воспет Кавказ, но не Сибирь с Амуром» — равно как и Волга, и Азия. Оказавшись первопроходцем литературы в Астраханском крае, он пытается создать формы и язык, адекватный контексту, дробящемуся изумительными орнаментами природных и языковых форм, контексту, в котором прошлое напоминает о себе целыми караванами призраков, а настоящее порой похоже на сказку. И он такой язык создает. Например, повесть «Есир» есть совершенно точный образный слепок с пространства/времени дельты. Каждая деталь в ней существенна и точна, пейзажи выразительны, слова — даже если кажется, что употребление их необязательно или нарочито — на деле оказываются совершенно укорененными в контекст, связанными с ним тысячами ассоциативных нитей и древней историей… Он говорил на языке, совершенно адекватном тому, что ему открывалось. Но поскольку то, что ему открывалось, никому не было ведомо, его никто не понимал. Что значит для жителя Москвы или Петербурга слово «моряна»? Ничего. Неясно даже, что это — самородок или очередной неологизм Хлебникова. А в дельте это слово звучит весомо и конкретно, и грозно даже, как и должно звучать ветру с моря. «Задует моряна — навалит птицы…»
При всем этом Хлебников еще осознанно противится только-русскости взгляда на мир: «мозг земли не может быть только великорусским». Он требует «материковости сознания», подключенности его к культурным и мифологическим традициям других народов. Если учесть, что и помимо этих требований Астрахань начала века представляла из себя настоящий этнический и языковый котел, где булькало невиданное словесное варево и многие восточные слова ходили наравне с русскими, без перевода (во времена Хлебникова, например, матросы на частных судах еще назывались по-персидски музурами, зимние бураны — по-татарски — шурганами, и даже названия некоторых птиц имели восточный «дубликат»), то уже не покажется странным, почему разработка золотой жилы литературоведения «русские поэты и Восток» немыслима в обход такой глыбы, как Хлебников. Он словно пытается все богатство окружающего его языкового контекста использовать в поэзии, сделать достоянием литературы. Через него говорят и не знающие письменности кочевники, и жрецы заметенных песком городов. Лингвистические свидетельства Хлебникова так же достоверны, как находки археологов. До него лишь один человек, пораженный огромностью горизонта, распахнувшегося для него за Волгой, предпринял схожую попытку: заговорить на всех языках сразу или, по крайней мере, составить подробный их реестр. То был немец Петр Симон Паллас, волею императрицы Екатерины II ставший великим русским путешественником и, помимо атласа растительности Российской империи и описания своих почти фантастических странствований, издавший «сравнительные словари всех языков и наречий», собранных десницею высочайшей самодержицы. Хлебников пошел дальше, начав активно использовать все богатства оказавшегося под властью России языкового и образного материка…
VI
Мысль, что великий «изобретатель» Хлебников, «путеец» новой поэзии, первооткрыватель законов времени, создатель заумного и звездного языка на самом деле ничего не придумывал, а был, как и всякий поэт, лишь дудкой Бога, пожелавшего срезать тростинку в дельте Волги и сделать из нее (из него) себе свирель, — слишком прямолинейна, чтобы объяснить такое явление, как Хлебников. Но она стоит и размышлений. По сути, весь этот материал — не что иное, как попытка «вывести» поэта из того контекста, который однажды ночью вдруг сам собою «раскрылся» хлебниковскими строчками. Субъективизм этой попытки очевиден, но очевиден и субъективный результат: незнакомое доселе пространство вдруг распахнулось для меня, как огромная поэтическая сокровищница и в каких-то важных своих чертах сделалось вдруг понятным благодаря образным кодам, которые подобрал к нему Хлебников. Да и сам поэт, том которого несколько лет простоял на книжной полке в неприкосновенности, вдруг сделался остро актуален — как проводник по этому пространству, как маг, знающий все о сгустках его энергии и законах его времени.
Сказанное — не метафора почвенничества, как некоторого литературного «направления». В каком-то смысле все, что я делал, представляло собою полевое культурологическое исследование или, попросту говоря, чтение Хлебникова на фоне того пейзажа, где его и следует читать. При таком чтении — когда текст и контекст накладываются друг на друга — очень многое становится ясным.
Скажем, мы можем совершенно по-разному истолковывать обращенность Хлебникова к Востоку, его глубокое (и для той поры редкое) чувствование Азии, ее духовной своеобычности, по-разному можем относиться к его призывам «думать не о греческом, а о Азийском классицизме» и глубоко дерзновенной мысли о том, что «мусульмане те же русские и русским может быть ислам», с простодушной сердечностью высказанной за 86 лет до того, как первый православный священник обратился в магометанство. Но орнитология — наука, далекая от любых форм человеческой вовлеченности — подтверждает, что именно по Волге проходит незримая межа между Европой и Азией, за Волгой нет уже Европы — другой климат, другие сообщества растений, другие подвиды птиц… «…Зимою в Астраханском крае наблюдаются формы филина разных степеней перехода от типичной к восточной, сибирской и туркменской. В дельте наблюдался Н. П. Футасевичем зимою филин настолько светлой окраски, что казался совершенно белым…» В этом смысле поразительно именно то, что природа «чувствует» так же, как поэт, и хлебниковское чувствование Азии — в природе явлено точно так же, как в стихах.
То же с Африкой. Если Хлебников начинает порой бормотать «языком фараонов», то потому, что чувствует «египетскость» места. И дело не только в том, что одно из древних названий Волги — Ра — есть одновременно имя египетского бога Солнца. И не в том, что Волга, как и Нил, исходит в море сквозь пустыню. Есть совпадения более частные, вещественные, которые эту связь с Африкой делают не метафорической, а несомненной. Дельта — единственное место в России, где растет и цветет лотос — цветок, связывающий нас сразу и с Египтом, и с Индией, и с еще более далеким Востоком. В конце XIX века в дельте была обнаружена колония гнездящихся фламинго — это уже прямая африканская орнитологическая «цитата» — так же как и пеликаны. Однажды замечен был ибис — священная птица фараонов. «Здесь когда-то был Осирис…» — оговорился Хлебников. Вероятно, он ничего не знал про ибиса, ибо иначе, несомненно, воспользовался бы случаем для создания метафорического ряда. Ибис — олицетворение Тота, «владыки времени», бога мудрости и счета, управителя всех языков…
Индия, как и Персия, связана с дельтой траекториями птичьих перелетов и древними торговыми путями. Индийские купцы, торговавшие в Астрахани, ежегодно привозили воду священного Ганга, чтобы вылить ее в Волгу. «Привитая» Гангом Волга становилась священной рекой… Все здесь смешивается, сплавляется, претерпевает взаимные превращения. Колония индийских торговцев (которым запрещено было вывозить с родины жен) в конце концов растворилась в Астрахани, смешавшись с татарским населением и дав особое поколение татар, называвшихся аргыжанскими…
А от других культур, которые пронесло над Волгой, как облака, вообще ничего не осталось, кроме случайно уцелевших благодаря топонимам слов, да случайно обнаруженных, раздутых ветром могил… Хлебников (и это отмечено исследователями) оставил много «отрывков» — стихотворений, начинающихся как бы не с начала, или прозы, внезапно, круто, почти до непроходимости сгущающейся безо всяких интерлюдий. Он знал цену осколков — черепков посуды, еще хранящих ритм прежнего узора, или обломка башни «темно синего полива», которые — будучи лишь маленькой частью чего-то целого — разве не прекрасны сами по себе? От его «внезапных» кусков веет мыслью далеко не праздной: если нашей цивилизации суждено исчезнуть — что сохранится? Какое слово? Какая строка? Хлебников знает цену одной-единственной строке, как археолог, ступивший в занесенный песками город и наблюдающий змею, скользящую по камню с единственной уцелевшей надписью: «Нет Бога кроме Бога».
Ах, если бы! Если бы это!
И я свирел в свою свирель
И мир хотел в свою хотель.
Мне послушные свивались звезды
в плавный кружеток.
Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок…
Ах, если бы это!
КРОВАВАЯ ЧАША (ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД РАЗИНА)
I
Представляется почему-то холодный весенний туман над Доном, плеск весел, песня — унылая, хриплая разбойная песня. Туманом все сокрыто. Вот песня прервалась, и слышен далеко в проволглом воздухе шорох камыша и снега, голоса, шаги, скрип дерева, бряк железа, зычный крик. Снег виден, разбитый множеством ног, следы волока — четыре струга тащили — следы сапог, лаптей, босых ног даже. Голутьба ведь вышла на воровство — ноздри рваные, уши резаные, волчьи глаза. Беглые, разбойники, лихие воровские казаки, не обжившиеся еще домовьём по станицам, не прикормленные еще государевым жалованьем, те, кому ход был один — в набег, на чужие берега, саблей взять живота да ясырю 310, зипунов да кафтанов, вылететь вороном, обернуться соколом, разгуляться по Дону, проиграться-пропиться и опять — в разбой.
Сточил туман снега зимние, залил всю землю от Дона до Волги водами талыми. Встало тогда голутвенное разбойное воинство на бугре меж речек Тишини и Иловли, невдалече от Паншина городка — там же, где прежде стояли воровские атаманы Ивашка да Петрушка: шли-то ведь не впервой, известным разбойничьим переметом с Дона на Волгу. Слух о шайке воровской быстро достиг Царицына: да и то, за много ране присланы были сюда, и в Астрахань, и в Черный Яр, царские грамоты, чтоб жили с великим береженьем, что собираются-де казаки на воровство, и в случае появления воров не медля посылать против них стрельцов — служилых людей. Царицынский воевода послал сначала пятерых, сведать, в чем дело, во главе с вожем опытным Иваном Бакулиным. Но тем в казацкий стан невозможно было проехать из-за полой воды. У атамана Паншинского городка узнал только Бакулин, что стоят на бугре воровские казаки во главе с атаманом Стенькой Разиным, и что быв в Паншинском городке, Стенька силой взял у атамана запасы и велел передавать, чтоб не посылали против него служилых людей, не то он-де пойдет на Царицын и город сожжет. Возвратясь, Бакулин доложил царицынскому воеводе: «Стоит Стенька на высоких буграх, а кругом него полая вода: ни пройти, ни проехать, ни проведать, сколько их там есть, ни «языка» поймать тоже никак не можно, а кажись, человек тысячу будет, а может быть, и поболе» 311.
Слух был, что хочет Стенька идти на Волгу, оттуда на Яик, а оттуда воевать тарковского 312 шамхала Суркая. Слухи эти потом подтвердились и, значит, планы Стеньки к тому времени вполне определились… Еще вешние воды не сошли, а воровские снялись со своего бугра и, перетащившись в Камышинку, скатились к Волге, где на высоком бугре заложили свой стан и стали ждать добычи: весенний караван, что шел из Нижнего в Астрахань. Недолго ждали воры — удача им благоволила.
На этот раз в караване было одно большое судно, что везло в Астрахань хлеб, отправленный московским купцом Шориным со своим приказчиком, патриарший корабль и другие струги; в одном, в частности, везли ссыльных на житье в Астрахань. Сопровождал караван отряд стрельцов под началом сына боярского Степана Федорова. Как ястреб, кинулся Стенька на добычу. Увидав такую прорву разбойников, стрельцы и не думали сопротивляться. «Сарынь, на кичку!» 313 — заорал Стенька, и удалые вмиг завладели караваном. Изрубили начальника отряда, потом принялись за целовальников, ехавших при хлебе, жгли их огнем, спрашивали о деньгах; приказчика, отправленного Шориным, повесили. Разин сам взошел на патриарший корабль, перебил руку монаху-надзорщику и велел вздернуть на мачте трех человек, вероятно, в устрашенье другим; на частных стругах хозяев или повешали на мачтах, или побросали в воду. Только ссыльным свезло: Разин освободил их, а провожатого раздел донага, посадил на песке с государевой казною и так оставил. Все ярыжные 314 и стрельцы перешли в его ватагу: так уже стало в шайке его 1300 человек, да много было добыто оружия и добрых судов. Тут уж Стенька не стал таиться и, поворотив вверх по Волге, на тридцати стругах подошел к Царицыну. Царицынский воевода Андрей Унковский решил защищать город и велел палить по воровским кораблям из пушек, но ни одна пушка не выстрелила, у всех порох через запал огнем выходил. Позже за Стенькой укрепилась репутация чародея, умеющего заговаривать оружие; но тогда Унковский просто испугался, и когда Стенька послал в Царицын своего есаула Ивашку Черноярца и тот испросил у воеводы полное оборудование кузни — меха, наковальню и всю кузнечную снасть — Унковский их тотчас же выдал, радуясь, что требования воров не затрагивают большего: «Что ж я буду делать? — говорил он. — Этого есаула, как и атамана его, ни сабля, ни пищаль не берет, и они своим ведовством все свое войско берегут» 315. Стенька же поворотил на низ; без единого выстрела разминулся с Черноярским гарнизоном и лишь недалеко от Астрахани, при подходе к протоку Бузану, куда и намеревался он поворотить, чтоб обойти город стороной, встретил струги со стрельцами, посланными из Астрахани, чтобы его увещевать. Но удалой атаман уж подразгулялся, и увещевать его было поздно. Воеводу, Семена Беклемишева, потехи ради воровские люди вниз головой подвешивали на мачте, потом пробили чеканом руку, обобрали и отпустили. Три струга со стрельцами пристали к воровской станице. Стенька же ушел в Бузан, спустился до самого устья и там, чтобы разминуться с гарнизоном крепостицы Красный Яр, повел свою ватагу по одному из множества мелких протоков, которыми усеян широкий излив Волги, выкатился в Каспийское море и, поворотив на восток, вскоре достиг устья Яика 316. Там уж давно поджидали его свои воры. Еще когда Стенька сидел в Паншине, какой-то Федор Сукнин писал ему из Яика 317: «Собирайся к нам, атаман, возьми Яик город, учуги 318 разори и людей побей. Засядем в нашем городке, а потом пойдем вместе на море промышлять» 319. Подойдя к Яику, занятому стрелецким гарнизоном, Стенька оставил своих воровских в укромном месте, а сам то ли с тремя, то ли с сорока казаками подошел к воротам города. «Что вам надобно?» — спросил его незадолго присланный в Яик из Астрахани стрелецкий голова Иван Яцын. «Мы, — сказал Стенька, — только просим пустить нас Богу помолиться» 320… В истории о взятии Яика очень много неясного: сколько людей было со Стенькой, зачем решился Яцын пустить в город этих богомольцев и как в дальнейшем развивались события. Известно неоспоримо, что гарнизон сопротивления воровскому войску не оказал, но в то же время и не примыкал к нему открыто; Стенька, как и везде, призвал стрельцов присоединиться к нему, а остальным велел уходить. Неизвестно, что вызвало вспышку его гнева, но именно в Яике Разин учинил первую кровавую расправу: стрельцам, не пожелавшим примкнуть к нему, велено было вырыть большую яму. На краю этой ямы стрелец Чикмаз стал «вершить» своих бывших товарищей. Позднее он сказал следствию, что зарубил 170 человек. Освирепевший Стенька послал погоню и за теми стрельцами, кого он отпустил было в Астрахань: их нагнали, требовали, чтоб они шли с казаками заодно, а когда те все же не согласились, стали их рубить, так что лишь немногие, добравшись до берега, скрылись в камышах. Однако ж, Стенька теперь мог передохнуть: взяв Яицкий городок, он получил в руки крепость — достаточно, казалось, удаленную, чтоб не бояться государевых служилых людей — и выход в море, которое сулило неисчерпаемые богатства. Морская экспедиция Разина — самый большой, со времен викингов, пиратский налет на каспийские берега — каким-то странным образом послужила прологом к разинщине — пожалуй, наиболее исступленному русскому бунту, который охватил всю Волгу и хлынул на Москву, впрямую угрожая российской государственности, едва оправившейся после Смутного времени. Если бы экспедиция не удалась — бунта не было бы. Если бы Стенька нашел — как искал — землю, куда он мог бы «уйти от мира» и стать во главе своего голутвенного казачества — бунта, опять же, не было бы. Но мечта о вольной земле рассеялась быстро, и разбойничьему предприятию, каковым была разинщина изначально, суждено было сделаться одной из самых дерзновенных и последовательных в российской истории попыток сокрушить весь российский государственный строй. Этот строй, особенно на окраинах империи, был тогда еще очень слаб. Ему Стенька хотел противопоставить древнюю, темную стихию разбоя: разбоя без конца и без края, разбоя, как высшей справедливости, разбоя, как принципа жизни. Так было при варягах и в Смутное время и не раз еще повторялось в нашей истории: в 1917‐м так же, как в «лихие 90‐е»…
II
Разин определил русский народный характер, может быть, не в меньшей степени, чем время ордынского ига. Он — подлинный герой народа, ему посвящены былины, песни и предания, которые, не иссякая, плодятся до наших дней. То, что умы по-прежнему тревожит золото Стеньки, колдовство Стеньки, тайные укрытия Стеньки и его эпическая ширь, которая ставит его в народном предании рядом с Ильей Муромцем и заставляет шаляпинский гений, а равно и любую подгулявшую компанию на всей территории России вот уже больше века исполнять песню Д. Садовникова «Из-за острова на стрежень», ясно показывает, что весной 1671 года в Москве на Болотной площади изрублено было только тело Стеньки, дух же — остался жив. Духом Разина исполнены все революционные события 1917–1920 годов, но герои этих событий — лишь бледные тени грандиозной фигуры Стеньки. Если бы не гений Пушкина, то и Пугачев остался бы только подобием Разина, которому, по существу, нечего добавить к его изначальному, в совершенстве явленному, не нуждающемуся ни в каких дополнениях образу, исполненному для черни неодолимой харизмы. Даже сейчас, в разгар буржуазного века, образ этот лишь обретает новые обличья, но для народа он остается тем более привлекательным, чем шире делается разрыв между простыми людьми и властью. Более того, само представление о справедливости, как о заслуженной расправе с «государевыми людьми», позабывшими о долге и совести, московскими волокитчиками, «боярами», которым наплевать на беды народа, имеет гораздо более широкую основу в народном сознании, чем вера в справедливый суд и в помощь государства. И с этим ничего нельзя поделать, пока таков суд и таково государство. Образ Разина остается исполненным харизмы, несмотря на все попытки историков объективно его характеризовать, несмотря на очевидную с первого взгляда невероятную жестокость и самого Стеньки, и всего возглавляемого им движения.
Корифеи русской исторической науки — Н. Костомаров и С. Соловьев попытались — равно блестяще — нарисовать психологический портрет Разина.
«… Это был человек необычайно крепкого сложения, предприимчивой натуры, гигантской воли, порывчатой деятельности, — пишет о Разине Костомаров. — Своенравный, столько же непостоянный в своих движениях, сколько упорный в предпринятом раз намерении, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то готовый с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения… В речах его было что-то обаятельное; дикое мужество отражалось в грубых чертах лица его, правильного и слегка рябоватого; в его взгляде было что-то повелительное; толпа чувствовала в нем присутствие какой-то сверхъестественной силы, против которой невозможно было устоять и называла его колдуном. В его душе действительно была какая-то страшная, таинственная тьма. Жестокий и кровожадный, он, казалось, не имел сердца ни для других, ни даже для самого себя; чужие страдания забавляли его, свои собственные он презирал. Он был ненавистник всего, что стояло выше его. Закон, общество, церковь — все, что связывает личные побуждения человека, все попирала его неустрашимая воля. Для него не было сострадания. Честь и великодушие были ему незнакомы…» 321
Соловьев добавляет: «Разин был истый козак, один из тех стародавных русских людей, тех богатырей, которых народное предание еднает с козаками, которым обилие сил не давало сидеть дома и влекло в вольные козаки, на широкое раздолье в степь, или на другое широкое раздолье — море, или по крайней мере на Волгу-матушку» 322.
Еще одна замечательная характеристика принадлежит исследователю 20‐х годов прошлого века Н. Фирсову: «Это несомненно был один из тех самородков, которые иногда выбрасываются из таинственных недр народной жизни на ее поверхность и поражают наблюдателя преимущественно какою-то истинно богатырской неукротимостью воли. Постоянная кровавая борьба, постоянное искание добычи, в чем веками упражнялось наше козачество, постоянные опасности и беззаботно-презрительное отношение к своей и чужой жизни и смерти, создавая, путем наследственности, самородки воли, в то же время и закаляли их до такой твердости, что смять их, согнуть не оставалось никакой возможности: их можно было только разбить чем-то более крепким, более громоздким… Разин и был таким прирожденным… богатырем воли и действия. Этого уже было достаточно, чтобы стать головой выше толпы и внушить ей уверенность в успехе того, на что такой богатырь ее звал…» 323
Вся первая половина XVII века была подготовкой эпохи Стеньки Разина. Сейчас просто невозможно представить себе, какое количество запутавшихся, обездоленных, на все отчаянных людей оставила по себе русская Смута. Бояре да дворяне с утверждением законного царя «образумились» быстро; но народное море не так легко было успокоить. Беглецы, которые сбивались в шайки и становились разбойниками, казаки, по памяти Смутного времени, пускавшиеся в набег на Русь, раскольники, крестьяне, которые не желали оставаться крепостными — весь русский мир закачался.
Память об Иване Болотникове, может, и быстро улетучилась у удельных князей, что присягали ему когда-то, но народ, которому обещал он волю, забыть его так скоро не мог. И воля была: в уродливой, страшной форме злодейства и разбоя. Русь XVII века — это истерзанное, разбойничье государство. В иных местах все было разорено, «церкви стояли без пения». «Воровские казаки» — голытьба, голутьба, голь — подлинные дети своего времени. Терять им было нечего: возвращаться в прежние сословия они не хотели; впереди ничего не имели. По их поводу Н. Костомаров позволяет себе единственную ремарку: «ужасны были эти люди» 324. Грабили они Пошехонье, Кинешму, Кострому и в первые годы царствования Романовых подступались даже к Москве, куда приходили они как будто с повинной, а в самом деле для разбойных дел своих. Князь Львов неоднократно разбивал их и под Симоновым монастырем, и на реке Калуже, где повешен был знаменитый атаман Боловня. Потом, когда власть несколько утвердилась, против разбойников велено было формировать из дворянских детей и крестьян отряды и выгонять тех из насиженных мест. Со временем таковая политика дала свои результаты, иные сдавались на милость правительства, другие отходили на Дон и в низовья Волги, где одна из шаек, под предводительством Калбака, стала близ Каспийского моря и внушала страх плававшим по нему судам. «На берегах Волги существовало тогда козачество, как отдельное общество, — пишет Костомаров. — История его неизвестна» 325. О размахе явления может свидетельствовать то, что волжские казаки отправили 20 000 человек в помощь запорожцам в битве с турками под Хотином. И хотя к моменту боя они опоздали, намерение их не осталось без награды: польский королевич Владислав отослал их с подарками. Но для нас важнее, что весь казацкий мир оказывался связанным между собою: он являл собой образ жизни, теперь уже позабытый; однако в XVII веке казачество еще способно было влиять на судьбы целых государств. Оно чуть не сокрушило Речь Посполитую. И дважды, с перерывом в век, исступленно сотрясало столпы Московского государства.
Хотя поначалу, казалось, все развивалось благополучно: в 1634 году донские казаки присягнули Михаилу Федоровичу на верность, царь милостиво одарил казаков жалованьем, тем самым давая им понять, что отныне они государевы люди и донское казачье войско (как оно потом и произошло) должно представлять просто-напросто своеобразно организованные вооруженные силы, на которые Москва в случае чего может рассчитывать, скажем, в борьбе против крымского хана. Однако, жить по-новому, как государевым слугам, казакам, или по крайней мере части казаков, было невмочь, и гораздо желаннее им было жить по-старому, а для этого государеву уставу хошь-не-хошь необходимо было противодействовать. Казаки ждали вождя для такого противостояния. Ждали долго: царствование Алексея Михайловича Романова «богато разбоями, особенно в десятилетие перед появлением Стеньки Разина». В год 1667‐й, когда явился Стенька, разбои, воровство и убийство распространились по всей России в ужасающем размере. Ко всей беде, собралось на Дону немеряно голытьбы. К ней принадлежало множество беглецов из Московщины; их собралось особенно много на Дону в последние годы, когда их начали так деятельно преследовать на Руси. Дон не выдавал гостей со своих берегов — так издавна повелось. Все это были люди, дошедшие до крайней степени нужды; неурожай и дороговизна на Дону делали их положение просто отчаянным. Призывы на воровство, на разбой слышались со всех сторон. Больше того, когда Стенька только еще собирался в поход со своими «голутвенными», на Каспийском море уже грабили, перетащившись с Дона иным путем, а уж Волга всегда была средоточием разбоя. «Впрочем, — добавляет Н. Костомаров, — воровские козаки не были в глазах простонародья простыми разбойниками… Сами они говорят в своих песнях: «Мы не воры не разбойники — мы удалые добры молодцы». Это были люди, выскочившие из круга гражданского быта… Народ сочувствовал удалым молодцам, хотя часто терпел от них; самые поэтические великорусские песни те, где воспеваются их подвиги; в народном воображении добрый молодец остался идеалом силы и мужества как герой Греции, рыцарь Запада, юнак Сербии» 326. Стенька дождался, когда эта закваска из голытьбы — каковой и были «добры молодцы» — поднимет Дон и ввергнет его в сумятицу — и только тогда решился на собственные действия.
Во казачий круг Степанушка не хаживал,
Он с нами, казаками, думы не думывал, —
Ходил гулял Степанушка во царев кабак;
Он думал крепкую думушку с голытьбою!
Год 1667‐й стал критическим. Стенька собрал голутьбу и рванул было Доном на низ, к Азову, «пошарпать турецкие берега». Но сам войсковой атаман Корнило Яковлев настрого запретил ему делать это. Если бы Стенькиной ораве удалось бы, как всегда, совершить более или менее удачный набег на Турцию, ничего бы такого не приключилось. Эка невидаль — удачный набег! Или, тем более, неудачный. Но из персидского своего похода Стенька вернулся совершенно иным: слабость государств он увидел и богатства несметные, которых стал обладателем и которые дали ему власть над толпой. Власть! Что-то в нем самом изменилось: не хотел он больше делиться ни властью, ни богатством своим. Самодержавию царскому противопоставил он самовластье голытьбы. Однако, прежде чем до этого дошло, много воды утекло по течению Яика, много, как говаривали, каясь, казаки, «было бито, граблено», много еще свершилось злодейств Стенькиной ватагой на чужой стороне.
III
В сентябре 1667 года Стенька покинул Яицкий городок, вышел в море и в дельте Волги напал на едисанских татар — бедный народ, промышлявший рыболовством и скотоводством; тут казаки забрали полон, скот, сплавали дальше к Тереку, ограбили две бусурманские бусы и вернулись домой. И все. Нерешительность действий воровского атамана очевидна. Чего он ждал, отчего медлил все лето? Стенька искал свою землю обетованную и, взяв Яик, размышлял: не такую ли он землю обрел? Или, по крайней мере, видимость таковой. Крепостица Яик была тогда на дальней восточной окраине русской земли. За все лето никто не обеспокоил его. Калмыки, кочевавшие между Яиком и Волгой, всю зиму снабжали воинство Стеньки скотом и молоком: одна из их орд, под начальством мейджи Мерчени, разбила свои кибитки под Яиком и беспрерывно торговала с казаками. Московское правительство в действиях Разина пока не видело ничего такого, что выходило бы за пределы привычного и неизбежного при тогдашней жизни казацкого воровства. Удалой атаман озорничал и был невежлив с воеводами; он пытал (жег) и вешал государевых людей, захваченных на стругах, перебил много стрельцов и стрелецких начальных людей. Это было очень неприятно, но все же за честь воевод московское правительство особенно не стояло, а голов служилых людей не жалело… Однако отдохновенные дни удалого атамана рано или поздно, а должны были закончиться. Ладно, что астраханский воевода Иван Хилков посылал против Стеньки партии — они не доходили. Да и дойдя, наверняка были бы побиты. Осенью прибыло посольство с Дона от казаков — Леонтий Терентьев с товарищами. Они привезли увещательную царскую грамоту, присланную от царя к непослушным казакам на Дон по донесению атамана Корнилы Яковлева, и войсковую отписку. Их пустили в город, и Стенька, ощущавший себя хозяином крепости и большой реки с выходом в море, принял посланцев с уважением. Собрал круг, доверив дело приговору вольной братии. Посланцы подали царскую грамоту и передали просьбу астраханского воеводы Хилкова отпустить стрельцов и улусных людей, взятых в полон. Стенька отвечал: «Когда придет великого государя милостивая грамота ко мне (лично. — В. Г.), тогда мы всю вину принесем великому государю и стрельцов отпустим, а сейчас не пустим никого» 327. Он тянул резину, чтобы обеспечить себе свободу для удальства, а с другой стороны, хотел заранее обеспечить себе царское прощение. Но его не перестали донимать: действиями астраханского воеводы правительство было недовольно и на место Ивана Андреевича Хилкова послало князя Ивана Семеновича Прозоровского; Хилков предпринял последнюю попытку увещевать Стеньку, направив против него степью своего товарища Якова Безобразова с ратными людьми. Казаки, раздраженные тем, что их разом хотели и уговаривать, и воевать, на разных местах погромили ратных людей Безобразова и повесили в Яике обоих стрелецких голов, посланных к ним для «сговора». Неудачно окончилось посольство и двух стрелецких офицеров, посланных князем Прозоровским из Саратова: одного из них ночью Стенька убил, а тело бросил в воду, а другого отпустил. Однако во время всех этих зимних «промыслов» и переговоров атаман понял: Яик слишком достижим, и как на Дону нет уже вольной казацкой жизни, так не обрести ее и на Яике-реке.
IV
23 марта 1668‐го удалые вышли в море, и с тех пор больше года в России никто не знал, где они обретаются. По всей России выход Стеньки Разина на разбой в Каспийское море вызвал большое движение среди казаков; со всех сторон к нему тянулись. В апреле 1668 с Дона на Волгу с семью сотнями «добрых молодцев», в том числе запорожских черкас 328, переволокся Сережка Кривой, прошел мимо Царицына, мимо Черного Яра и, как Разин, в 15 верстах от Астрахани повернул в Бузан, чтоб беспрепятственно выйти в Хволынское море: но за ним Прозоровский пустил погоню во главе с Григорием Авксентьевым; тот взял в Красном Яре пять пушек и настиг Серегу, когда тот поворотил в проток Карабузан. Однако Авксентьев в бою был разбит начисто воровскими казаками и едва ушел на одной лодке с небольшим числом людей. Двое его офицеров (один — немец), попавшие в плен, были привязаны к мачтам вверх ногами, биты ослопьем 329 и брошены в море, Сережка же со товарищи уплыл в море и догнал Разина возле устья Терека 330. На Дону и по Хопру только и речи было, чтоб пробраться на Волгу, а оттуда погулять по морю. Составились и другие шайки. Терские воеводы доносили, что по Куме-реке идет на соединение с Разиным Алешка Каторжный и с ним две тысячи конных, а за ним — запорожец Боба с четыремястами хохлачей и Алешка Протокин. Им недоставало своего атамана, — пишет Соловьев, — своего Разина, и им ничего не оставалось делать, как ждать, пока Степан Тимофеевич возвратится из своего морского похода. Но часть из них должна была-таки присоединиться к Разину, иначе сила его не была бы так значительна: всего под началом Стеньки на море оказалось до 5 тысяч человек. «Таких больших сил казаки давно не высылали для набега на Персию, — пишет Феноменов. — В последней как раз в это время происходили смуты, и казакам предстояла большая добыча…» Но что значит «давно»? Никогда! Такого нашествия не помнили персидские берега со времен викингов…
Позднее с Разиным в Астрахань вернулось только 1200 человек, и в Москве посланцы Разина врали, что их изначально было всего 1400, да 200 побито. Однако, при переговорах с персидскими властями в Реште Стенька называл цифру в 5000 человек, и денежное довольствие начислялось казакам, исходя, примерно, из того же числа народу — на 4,5 тысячи.
К сожалению, о «персидском походе» Разина знаем мы очень мало: «бортовых журналов» удалые, понятно, не вели, царские воеводы потеряли «воровских казаков» из виду, и ничего путного сообщить о них никто не мог; историческая наука была тогда во младенчестве, только свидетельства иностранцев оживляют тот однотипный материал, который известен об этом предприятии, да и об истории бунта вообще. Причем весь этот пласт литературы был буквально перелопачен двумя корифеями русской исторической науки Н. Костомаровым и С. Соловьевым. Понятно поэтому, что каждый достоверный шаг самого Стеньки и его голытьбы известен и в таком неизменном виде перетекает из одного исторического сочинения в другое.
V
Стенька направился сначала к острову Чечень в устье Терека и потребовал от местного князя боевых припасов и вина. Но местный князь — Каспулат Муцалович Черкасский — был верным вассалом московского царя, как утверждают летописи, человеком необычайной храбрости и все притязания Стеньки отверг. Казалось бы, рвущейся в бой удалой ватаге ничего не стоило силой отнять у него требуемое. Но князь был человек служилый, да к тому же отважный — а против подданных московского царя Стенька, видимо, до времени сильно грешить не хотел. Струги Разина, соединившись с силой Сережки Кривого, пошли к Таркам, подвластным персидскому шаху и управляемым своими князьями. Кайтаки, обитавшие здесь по побережью, были народ и воровской и пиратский, не раз обирали они до нитки русских купцов и снискали себе в русском мире дурную славу работорговцев. И хотя на обиды каких-то купцов казакам было, конечно, наплевать, за дурную славу кайтаки заплатили сполна. Три дня казаки пытались овладеть Тарками, но город им взять не удалось, зато окрестности и предместья были выметены дочиста. После чего удалые пошли к Дербенту, где был главный приморский рынок торговли невольниками: цитадель наверху города им не сдалась, но сам город был разорен дотла: еще и через два года он представлял из себя груду развалин. Оттуда двинулись козаки по побережью к Баку, разоряя по пути все поселения и набрав на струги уже несметное количество полону, добра и скотины. В Баку им удалось погромить лишь посад, захватить 150 пленных и 7000 баранов, но, похоже, в тот момент струги уже не могли вместить взятого количества добычи.
С этой добычей Разин ушел на остров Дуванный 331, лежащий в дне пути от Баку, что не оставляет сомнения в том, чем занималась там Стенькина братия.
Оттуда — в июле 1668-го— пиратская эскадра пошла уже к персидским берегам. Здесь Разин вызнал, что из города Решта готова выступить на него военная сила, и резко изменил тактику: к правителю Решта, Будар-хану, было отправлено посольство, чтобы испросить разрешения отправить послов к самому шаху и просить у него подданства с разрешением поселиться на реке Ленкуре или Куре 332. Были отобраны послы от казаков в Испагань и аманаты (почетные заложники) с персидской стороны. Но тут случилась первая неприятность: казаки, которых правитель Решта принял весьма гостеприимно и даже выделил им денег на пропитание, обнаружили где-то большой запас вина и насосались так, что едва держались на ногах, проявляя при этом к принимающей стороне непочтение. Персов это возмутило, и они перебили 400 человек, а таких потерь удалые не несли даже во время налетов. Разин терпел, будто ничего не случилось, — и это лишний раз доказывает, что он надеялся-таки обрести свою землю обетованную, где бы никто не посмел трогать его. Но судьба посольства уже была предрешена: весть о бесчинстве казаков распространилась; шах сомневался; кроме того, явился посланец из Москвы с обвинением в том, что эти казаки — изменники. В конце концов посланцы Разина были закованы, а один из них, в доказательство дружбы русскому царю, затравлен собаками в присутствии московского подьячего Колесникова. Тут же принялись персы строить флот под предводительством какого-то немца. Стенькина мечта о «крае обетованном» рухнула. Казаки подались на восток вдоль южного каспийского побережья и вскоре достигли главного города провинции Мазандеран — Феррах-Абада. Здесь было завернуто дурное дело. Казаки сообщили, что собираются торговать (по одним данным, часть жителей бежала в горы, завидев пиратов, по другим — приняла их снисходительно); во всяком случае, казаки расположились на базаре. Оживленная торговля продолжалась пять дней. На шестой Стенька снял с головы шапку — подал знак — и рынок превратился в кровавую бойню: чтоб уцелеть в ней, немногие христиане, проживавшие здесь (в основном армяне), беспрерывно крестясь, повторяли «Христос, Христос», разбегаясь во все стороны. 1200 человек зарезали казаки в тот день и еще 700 забрали в полон, чтобы выгодно обменять их при первом удобном случае.
Здесь же обрели казаки богатую добычу: все-таки в Феррах-Абаде был шахский дворец, и помимо полона и товаров, которыми переполнен бывает любой восточный базар, им достались сокровища, которых они до тех пор не видывали. Они врывались под сень дворцов, выстроенных Аббасом II, и извлекали на свет царственные драгоценности. «…Эти варвары, — пишет француз Шардэн, — уничтожили и расхитили здесь сокровища драгоценного фарфора, китайских ваз, чаши из сердолика, агата и т. п., хрустальную посуду и прочие редкости; наконец, они разрушили во дворце большой бассейн из яшмы, покрытый золотыми украшениями» 333. Во дворце Феррах-Абада был захвачен драгоценный трон, когда-то принадлежавший ширваншахам. Стенька сразу прибрал его и возил с собой до Самары: это было подлинное произведение искусства, на украшение которого ушло 9 килограммов одного только золота и 200 бриллиантов, не считая драгоценных камней, вставок из ценных пород дерева и прочих излишеств, которые могли бы удовлетворить амбиции восточного владыки! Стенька, предводитель голытьбы, на троне ширваншахов! Но всякий вождь входит в роль постепенно: в конце персидского похода у него было все, чем может похвастать балованный и привередливый барич; да что там барич — боярин! Прекрасные ковры и одежда, любовница-персиянка и притом княжна, собольи шубы, дорогое оружие, белые аргамаки, предназначавшиеся в подарок московскому царю, и наконец — трон. Костомаров пишет, что эта удачливость совершенно завораживающе действовала на людей того времени; и едва казаки в своих шелках и палантинах появились в Астрахани, за Стенькой тут же укрепился титул «батюшка». Воеводы с легким сердцем все прощали ему. Народ рассказывал о нем чудеса: как он летает на своей кошме и криком останавливает корабли… После этого оставаться простым казаком, видно, было ему уже невмоготу.
Но до возвращения в Астрахань было еще очень далеко. Впереди была зима. Казаки не спешили уходить из окрестностей Феррах-Абада. На мазандеранском побережье, на полуострове Миян-Кале, далеко вдающемся в море, они построили деревянный «городок» и осыпали его валом… Полуостров был покрыт заповедными лесами, где водилось много дичи: оленей, кабанов, газелей. Климат здесь близок к тропическому, и казаки провели тут зиму; а зима в Мазандеране — лучшее время года. В то же время житье их не было беспечным: на протяжении зимы персы несколько раз делали попытки выбить их из городка и в конце концов вынудили погрузить добычу в струги и отплыть на самую дальнюю оконечность полуострова, почти неприступную, ибо она отделена была от основной его части непроходимым болотом. Тут скоротали они остатки зимы и с началом весны (еще не зная, что на них нацеливается персидский флот) отправились пощупать туркменский берег, «погромить трухменские улусы». Восточный берег — самое пустынное побережье Каспия. И «трухменские улусы» — это мираж: людей здесь почти нет из-за отсутствия воды. И все же Стенька потерял здесь дорогого друга и соратника Сережку Кривого. Как? Где? Ни один источник не говорит об этом ни слова. В то же время здравый смысл подсказывает, что направиться казаки могли только в Красноводский залив, где по всему берегу много кочевий и колодцев с хорошей водой. Косвенно это соображение подтверждается одним современным исследованием: здесь неподалеку расположено старинное кладбище Шихлар, названное так по первому захоронению, в котором были погребены павшие в бою «шестнадцать шихов» 334. При исследовании этих могил оказалось, что по времени они как раз приходятся на 60‐е годы XVII века. Шихи были все вместе убиты в стычке — не исключено, что в той самой, где сложил свою буйну голову Сережка Кривой.
Туркмены — народ воинственный, но бедный. И казакам нечего было вытрясти из их «улусов». Пора было убираться, пока не кончилась вода. И они вновь поплыли к своему Дуванному острову.
Тут-то и ждал их построенный за зиму персидский флот под командой Менеды-хана. Опыта военных операций и ведения морского боя у персов не было. И хотя на их 70 сандалях 335 было до 4000 тысяч человек, в жарком бою казаки перетопили почти всю флотилию, только три струга сбежали с несчастным ханом, в плен же попали его сын и дочь, которую Разин сделал своей наложницей.
Надо было что-то решать. Персы готовились к военным действиям. Их раздражение было необычайно. А самое главное — удалые просто поистаскались по волнам, им нечего было делать в море с кучей добра; пора было возвращаться на Дон, тем более что в битвах и от болезней «в последнее время» потеряли они до 500 человек и любая победа Стеньки могла оказаться Пирровой. Набег удался, и ждать от него большего было бессмысленно.
Постепенно стали расходиться бывшие товарищи: казаки яицкие, люди каспийские, запорожцы — разошлись по домам разными путями, но сам Стенька на 22 стругах 7 августа 1669 года после десятидневного перехода от Свиного острова достиг волжского устья: тут первым делом казаки разграбили митрополичий учуг Басаргу, набрали икры, рыбы, снастей, но — что значит воровской народ! — едва прослышав от кого-то из бывших на учуге, что ожидается с моря большая персидская буса 336 с товарами, сразу повернули в море и награбили-таки еще добычи: в одной бусе, принадлежавшей персидскому купцу Мухаммед-Кулибеку, были прекрасные белые аргамаки, посланные персидским шахом московскому царю. Вперед разинцев добравшись до Астрахани, священник и стрельцы, сопровождавшие бусу, рассказали, что казаки сказывали, что коли их разбили б, то они и «не потужили б», если будет милостивая грамота от царя. А если прощенья не будет — придется уходить на Терек и оттуда уже конным ходом двигаться на Дон. Это известие было принято к сведению, и когда князь Львов на тридцати шести стругах с четырьмя тысячами стрельцов выплыл навстречу разинцам, он милостивую грамоту имел. Князь Львов гнался за казаками 20 верст, но когда гребцы его притомились, он вынужден был остановиться и показать казакам царскую грамоту о прощении за все воровские дела. «Никогда ни для кого помилованье не приходило более кстати», — писал находившийся в Астрахани в то время голландец Стрюйс. Львов послал к Разину Никиту Скрипицына: тот обещал казакам, что им ничего не будет, если они сдадут пушки и морские струги. Но казаки, обрадовавшись, конечно, помилованью, немедленно стали обсуждать каждый пункт сдачи, будто дело происходило на торгу, а не на море под дулами орудий. Они вернулись на остров Четырех Бугров в устье Волги и стали обдумывать условия: кроме уже упомянутого, от них требовалось освободить служилых людей, что забрали они в Яике и на Волге, отпустить купеческого сына Сембахета с только что ограбленной бусы и прочих пленников. Все это время флот Львова стоял кругом острова и не давал казакам возможности уйти. Наконец совет завершился, и Стенька послал к Львову двух казаков, чтобы окончательно договориться: за отпуск на Дон казаки клялись служить своими головами; струги обещали отдать в Царицыне, а об купеческом сыне — дума, потому как он сидит в откупу в пяти тысячах рублей. В общем, князь Семен Львов велел обоих разинских посланцев привести к вере (присяге) за все войско, а сам поплыл в Астрахань. Лавры победителя, несомненно, мерещились ему, а мягкость мер, примененная им к лихому воинству, казалось, объясняется обстоятельствами момента. Спустя несколько месяцев, когда Разин уже засел на Дону в своем Кагальницком городке, вынашивая думу куда более страшную, чем развернулась во время персидского похода, царь жестоко выговорил астраханским воеводам за проявленную мягкотелость: не отобрали у них оружия и награбленного, не привели всех в церкви поголовно к присяге, чтобы «впредь не воровать».
Тем временем разинский флот входил в Астрахань. Богато изукрашенные струги, казацкое воинство в разноцветных одеждах, общая атмосфера праздника и победы свершили чудо — в один момент Астрахань была обольщена. Позднее она станет одним из оплотов разинщины, но вряд ли кто в этот миг подозревал, какую цену придется заплатить горожанам за эти минуты восторга. Казаки разбили свой стан чуть выше города, и с этого дня он, поистине, не знал ни сна, ни покоя.
День 25 августа был днем особого торжества: Стенька со своими атаманами прибыл в город и в приказной избе отдал воеводе Прозоровскому свой бунчук — символ власти. Кроме того, отдали 5 медных и 16 железных пушек, отпустили несколько персиян и между ними ханского сына. На самом деле, сдача была ничтожна, казачий полон состоял из 90 человек. Но когда воеводы велели переписать пленников мужского и женского полу, им было отвечено, что взяты они в шаховой области за саблею, и ныне у них тот полон в разделе. Товары с бусы шахского купца Мухаммеда-Кулибека, по словам Разина, были уже подуванены, а иные и перешиты в одежду; что же касается оставшихся пушек, то они нужны казакам для перехода по степи от Волги до Дона — а ну, крымцы?
Прозоровский особо настаивал на том, чтобы казаки отдали струги, на которых плавали по морю. Взамен немецкие мастера брались изготовить для его воинства струги легкие, речные. Стенька обещал, но всех стругов не отдал. Вообще он очень быстро сумел подчинить своей воле воевод и уж вскоре те защищали его права, и на претензии бывших в Астрахани персов, что казаки держат у себя пленных, хотя подлежат наказанию, как государственные преступники, отвечали: «Эти казаки — холопы великого государя, а не разбойники; уже вина им отдана; что они взяли грабежом — ясыр и имущества на войне, так это зачтено им в жалованье и до того нет никому дела» 337.
В один-два дня из только что помилованного преступника Разин превратился в народного героя, с которым заигрывали и власть имущие. Воевода, князь Семен Львов, называл его «братом» и предоставил для житья свои палаты. Еще пуще Стенька произвел впечатление на народ — ни воевода Прозоровский, ни воевода Львов, ни митрополит Иосиф, человек, безусловно, харизматический, все вместе не могли произвести на астраханцев того впечатления, которое произвел Разин. Разгульную, полную нечеловеческой роскоши жизнь вели казаки и Стенька в Астрахани; щедро сыпал золото «батюшка» и тем заранее снискал себе расположение астраханской черни. «Батюшка, батюшка», — доносилось отовсюду. Богатство Разина наделяло его особой властью над людьми, как «вещего Олега», оно означало фортуну, удачу. «По истине Стенька Разин богат приехал, что невероятно было мниться: на судах его веревки и канаты все шелковые и паруса тоже из материи персидской шелковые учинены» 338. То же самое рассказывалось о судах Олеговых и внесено в летопись. Легко понять, какое впечатление в низших слоях тогдашнего общества должно было произвести появление казака, вольного молодца, о котором так много рассказывалось и пелось и который мог сам о себе так много рассказать. Он звенит оружием, звенит деньгами, деньги ему нипочем, он гуляет, и вся жизнь его представляется сплошной гульбой. Соловьев уточняет: «Искушение было действительно страшное: козаки расхаживали по городу в шелковых, бархатных кафтанах, на шапках жемчуг, дорогие камни; они завели торговлю с жителями, отдавали добычу нипочем: фунт шелку шел за 18 денег. А он-то, богатырь, чародей, державший в руках всех этих удальцов, козацкий батюшка, Степан Тимофеевич! …Могучее обаяние производил человек, которому все было нипочем» 339. Народ щедро наделял колдовскими способностями казацкого богатыря и чародея. Стеньке приписывалась, например, неуязвимость для всякого оружия и умение отводить взгляд и делаться невидимым. В его колдовском обиходе считали три волшебные камня: лизнув один из них, атаман начинал понимать языки человеческие, а также «языки» зверей и птиц, змей и насекомых, благодаря чему мог получить сведения о противнике из самых неожиданных для противника источников; не могло быть ничего тайного, что почти тотчас не стало бы известно удалому атаману. Вторым камнем Разин, по народному преданью, мог накормить-напоить всю свою ватагу. Благодаря третьему камню он мог, как упоминалось уже, летать или проходить под водою, внезапно появляясь в самых неожиданных для врага местах. Всесилие, всевластие и несметное богатство совершенно изменили самооценку бывшего «голутвенного атамана» Стеньки. Он, как человек своего времени, несомненно, и сам отчасти верил в те сверхъестественные способности, которые приписывал ему мир 340.
Поклониться Стеньке и поднести водки приходили даже мастера-немцы, которые делали для казаков речные струги. Скорее всего, на следующий год, во время взятия Астрахани восставшими разинцами, эти немцы все погибли, собственно говоря, на них только и держалась оборона; население же города предалось мятежникам и изощрялось во мщении и грабежах. Но тогда, в 1669 году, такая картина была еще возможна: Стенька пил на брудершафт с немецкими корабелами!
Казаки быстро сбыли богатства, добытые в походе. В течение десяти дней, что разинцы стояли под Астраханью, в городе шла оживленная торговля; почти вся добыча была перекуплена тут же персидскими и армянскими купцами, и часть голутьбы, как была без всего до похода, так, пропившись, и вернулась домой. Шубы, драгоценные ткани, каменья, золотые цепи — все было продано за ничтожную цену. Голландец Стрюйс купил «золотую цепь длиною в сажень всего за 40 рублей; фунт шелку продавался за три копейки. «Можно судить по этому, — замечает Стрюйс, — какую выгоду получили персиане и армяне, которые и купили почти всю их добычу». Стенька был запанибрата с воеводами города: «астраханские воеводы тех воров принимали с честию и пили-ели, денно и ночью с ними вместе тешилися». Тогда-то и понял он, как зыбуча, как, прежде всего нравственно шатка государева власть. Как-то воевода Львов, зайдя на разинский струг, попросил у Стеньки соболью шубу, вышитую знаменитым персидским златоглавом. Стенька рассвирепел, зная, что воеводы могут всякое дело подвести под него в Москве, но отдал:
— Возьми, братец, шубу, только б не было в ней шуму! 341
Кабы воевода Львов знал, какой шум подымется на Волге, всего лишь через год, так что его, поначалу хранимого, как «брата» Разина, Стенькины дружки, попытав, бросят с раската 342, может, он и вел бы себя иначе. Но тогда все крутилось, как колесо мельницы: казаки вернулись из удачного похода! Все, решительно все вдруг оказались на их стороне.
Стрельцы вообще не представляли для Стеньки проблемы: измена разрывала их, раздольная жизнь казака после безрадостной и безысходной жизни служивого казалась стрельцу чем-то совершенно необыкновенным. Не случайно Стеньку разбили не стрельцы, а регулярные войска, построенные по европейскому образцу: не имея ни кола ни двора, ничего, кроме армии, они и доблести свои исчисляли уже по-иному — как доблести службы. Это было явление нового времени, перед которым не устояли «добры молодцы» былинных времен. Но пока что было их время, их шанс. Стенька безмерно пил и гулял в Астрахани. Однажды на струге он вдруг в хмельном пылу потянулся к своей наложнице-княжне и, взяв ее за горло и за ноги, бросил в воду. Все историки приводят слова, будто бы произнесенные им: «Возьми, Волга-матушка! Много ты мне дала серебра и золота и всякого добра, наделила честью и славою, а я тебя еще ничем не поблагодарил!» 343 На Дону у него была жена и дети, а полюбовниц Дон не терпел: поэтому избавился Стенька от княжны своей и повелел утопить казака, замеченного в связи с астраханкой, а женщину привязать к столбу, воткнутому в воду. Этот жестокий обычай заимствован был у запорожцев. В Сечи прелюбодейство каралось смертью.
Пьяными и «добрыми» уходили казаки из Астрахани на Царицын десять дней спустя — великого искуса лишился воевода Прозоровский. Но ненадолго. Казачество, возникнув когда-то как окраинное поселение вольных людей, сложилось в особую воинскую касту, живущую набегами; первоначально до эпохи самозванцев казачество, по-видимому, готовилось образовать отдельное сообщество в русских южных краях и хотело только укрыться своею независимостью от северного самодержавия; «но, вмешавшись в дела Москвы в начале XVII века, оно вошло в неразрывную связь с нею и уже не ограничивалось тем, чтобы засесть со своими началами в южных степях, а стремилось распространить эти начала по всей земле Московского государства, — пишет Костомаров. — В половине XVII века козачество охватывало более чем пол-Руси, а народное недовольство… давало ему пищу и силы: в козачестве воскресали старые полуугасшие стихии вечевой вольницы: в нем старорусский мир оканчивал свою борьбу с единодержавием» 344.
По прошествии времени «казаческий» образ жизни стал больше невозможен: Москва требовала от Дона подчинения, послушания, регулярного войска. Все это было несообразно с исполинами типа Разина. Никакой «вольной казачьей» жизни под владычеством Москвы быть уже не могло. И он — сын своего времени — с этим смириться не хотел. Ни воевод, ни дьяков, ни писаных бумаг терпеть он не мог! И потому из Кагальника — укрепленного городка на донском острове, где перезимовало «голутвенное войско», вернувшись из персидского похода — весной 1670‐го и полыхнул мятеж на пол-России. Время звало Стеньку на последнюю попытку единоборства с Москвой, время манило исступленно рвать путы, время прельщало его возможностью победы, время даже позволило ему испытать мгновения торжества… Но время обмануло его. Разин пытался противопоставить изначальные, анархические принципы казачества государственному устройству новой России — и, хотя усилие это было поистине страшно, сделать он ничего не смог.
Богатырская попытка его закончилась крахом, 100 тысяч мятежников отдали жизни за веру в своего атамана, однако в «психологической» памяти народа имя его осталось навсегда…
ТРИ ОПЫТА ПРОЧТЕНИЯ «ФЕЛИЦЫ»
I
Оговоримся сразу, что первый опыт, то есть сама возможность прочесть знаменитую державинскую оду так, как когда-то прочли ее современники и между ними — сама государыня-императрица, за что Державин был пожалован богатым подарком и был лично представлен Екатерине II, давным-давно безвозвратно утрачена нами. Век XVIII слишком уже далек от нас и по времени, и по смыслам, в нем заключенным. Слишком многое позабылось. Развалины этой фантастической ментальной конструкции еще проступают в мглистой дали времен. Петровские гренадерские полки, сражавшиеся под Нарвой и под Полтавой; фавориты Анны Иоанновны, Елизаветы и Екатерины; голштинцы Петра III, пьющие с обреченным царем темное немецкое пиво; беззвучно занимающие покои Зимнего дворца преображенцы, семеновцы и измайловцы сквозят мимо, как тени 345. Нет сомнения, специалистам по истории культуры еще внятен язык этих теней, а меж развалин и под сенью окружающих их заглохших парков ведомы подлинные сокровищницы: все еще как будто близко, почти на виду, толща времени еще не стала толщей земли, в которой возможны лишь археологические, часто случайные, находки. Знающий, как открываются запоры века, знает, разумеется, великие замыслы и тайные приводы его; императорские указы; науку, лейденские банки, реторты и книги; дворцовые тайны и заговоры; войны, впервые украсившие российскую корону гербами нескольких европейских, а затем и турецких городов. Но все же для обычного человека XXI века XVIII век столь отдален, что даже эпоха Екатерины II, кажущаяся сравнительно ясною, открывается лишь в самых общих чертах. Поэтому, если бы наш современник даже стоял прямо за спиной у Державина, когда тот сочинял оду Фелице и, больше того, следил за его рукою, дословно запоминая оду от первого слова до последнего, он все равно вряд ли понял бы все многообразие смыслов, которыми она нагружена, все разнообразие подоплёк, тайных назиданий и аллегорических восхвалений. Век Екатерины II сам был великой аллегорией на царствование Короля-Солнце (Людовика XIV) и одновременно ревностной попыткой продолжить дело столь непохожего на французского Людовика российского императора Петра Великого. Мы видим честолюбивые замыслы, громкие победы, расцвет литературы — теперь совершенно, почти на сто процентов позабытой — переписку императрицы с Вольтером, сочинения Монтескьё, Платона и Тацита в ее библиотеке, «философию на троне», роскошный двор, идеи Локка о воспитании, изысканную любезность и восточный деспотизм, знаменитый «Наказ» — прообраз конституции, бесконечные «сатиры» на нравы, имперский размах и провинциальное распутство…
II
Мы, должно быть, недалеки от самоуничижения в своем признании неполноты памяти о «золотом веке» Екатерины. Однако ж, кое-что врезалось в память крепко, и уж как минимум две строки, которыми начинается державинская ода, сияют в сумраке прошлого, как красное золото:
Богоподобная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!
Конец десятистишия смазался (а значит, был не так и важен), зато уж эти строки не боятся травления временем: наверное можно сказать, что они для нас являются наиболее памятными из всей поэзии XVIII века. В самом деле, если поэзию того времени не изучать специально, то кто сейчас вспомнит наивно-нескладные силлабические вирши Антиоха Кантемира, или хотя бы название одной, любой на выбор, оды или трагедии Василия Кирилловича Тредьяковского, или строку, одну-единственную строку Александра Петровича Сумарокова, в свое время действительно знаменитого и не знающего себе равных писателя, которому Державин подражал? О время, не пощадившее поэтов, проложивших борозды по целине русского поэтического языка! Но ничего не поделаешь, минуло больше 200 лет, поэты эти забылись, и, значит, так тому и быть. На литературном Парнасе удержались из того времени лишь Иван Степанович Барков (вот — кто бы мог подумать?), Михайло Васильевич Ломоносов да наш Гавриил Романович Державин. Что ж, поделом. Порнограф Барков был одарен недюжинным талантом и животрепещущим русским словом; Ломоносов в поэзии был отчетлив, как и в своих научных доводах, и я искренне рад тому, что еще помню наизусть пару ярких, звучных четверостиший из его «Письма о пользе стекла», адресованного графу Шувалову, и одну неподражаемую строфу, которой передан ни с чем не сравнимый трепет первооткрывателя, впервые через телескоп заглянувшего в ночное небо:
Открылась бездна, звезд полна:
Звездам числа нет, бездне дна…
Или вот, «Фелица»… Державин мечтал после успеха этой своей первой оды так восславить императрицу, чтобы обессмертить и самого себя. «Как солнце, как луну поставлю…», «тобой бессмертен буду сам…» И это ему удалось. Он написал Екатерине II несколько од, но первой, кажется, так и не превзошел. С позиций нашего века грех обвинять его в откровенных попытках угодить правительнице империи Российской: у поэтов того времени были и свои пути к успеху, и свои задачи. Несомненно, его восхищение Екатериной было искренним: она, хоть и была сама немкой, вслед за Елизаветой избавила Россию от ужаса «немецких династий», от босховских персонажей двора царицы Анны Иоанновны, от бироновщины, повседневной жестокости временщиков и презрения ко всему русскому полупьяного придурка, собственного мужа Петра III. Поэтому так торжествен зачин державинской оды, поэтому бедной немецкой принцессе найден такой фантастический и громкий титул.
Богоподобная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!
Возможно, она могла бы предпочесть другой, более соответствующий военным успехам России в Европе или на берегах Дуная, но поэтически образ выстроен безупречно: он мигом уносит нас от дворцовых козней Петербурга и европейской политики и возвращает нас в сказку. Императрица России становится «царевною» Востока — а по-другому, нежели как Восток, в Европе Россия и не могла восприниматься. Здесь мнится прямой отсыл к «Скифам» Блока, почему нас и не смущает нисколько «киргиз-кайсацкая орда». Дальше… Ну хоть убей, не помню, какая-то тема, достойная оды, она же симфонически-музыкальная тема с нарастающим напряжением в конце.
Фелицы слава, слава бога,
Который брани усмирил;
Который сира и убога
Покрыл, одел и накормил;
Который оком лучезарным
Шутам, трусам неблагодарным
И праведным свой свет дарит;
Равно всех смертных просвещает,
Больных покоит, исцеляет,
Добро лишь для добра творит…
Да… Я прекрасно помню, как прочитывали мы эту оду в школе, поскольку в старших классах нам вменялось еще в обязанность помнить некоторые стихи XVIII века. Теперь этого нет; да и тогда, признаюсь, некоторые места с неправильно расставленными или гуляющими ударениями казались и громоздкими, и непонятными… Оду в те достопамятные времена в школе учили кусками, и, чтобы получить «пятерку», выучить-то нужно было всего с десяток строк из двухсот шестидесяти, но при этом дать верную оценку екатерининскому веку как веку якобы просвещенного абсолютизма, как, якобы, веку, когда Россия была разделена, наконец, на губернии, все города получили свой чин и герб, появились первые журналы, в которых развивалась первая, так сказать, вольнолюбивая мысль, а кроме того, — народные училища, распространявшие образование, первые женские учебные заведения, множество богаделен и больниц… Что оказалось не таким уж и важным, как доказала крестьянская война 1773–75 годов под руководством Емельяна Пугачева. Вот как должен был строиться правильный ответ. И никак нельзя было сказать «пугачевский бунт», и более того, «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», как говорил Пушкин, а именно «крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева». Только так. Я потому так подробно рассказываю о том, как читали мы державинское сочинение в школе, что никаких других поводов для прочтения оды «Фелица» в середине 70‐х годов ХХ века я припомнить не могу. Ни один нормальный человек не стал бы читать ее просто так, на досуге, для собственного удовольствия; не было и праздника, к которому прилично было бы эту оду выучить и прочитать. Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем и каким образом изучение оды «Фелица» было включено в план нашего образования. Этому не было и не могло быть объяснения. Кроме одного. Существует инерция сознания. И творение Державина по традиции «классического» образования перетекло из старых, дореволюционных еще учебников, неправильных, в наши, новые, правильные.
Спустя много лет оказалось, что все не совсем так. Смысл был. С тех пор как мы без сожаления оставили стены школы, прошло еще без малого 30 лет. И это были годы! Каждого протащило, как дратву через игольное ушко! Так что если уж после такой обдираловки в памяти осталась «Богоподобная царевна…» — то, значит, она была нужна, необходима для непрерывности некоей культурной традиции. Вроде бы нам XVIII век должен быть глубоко по барабану: ан, нет! Как ни крути, мы ведь не картонные какие-то человечки, мы, несмотря ни на что, многомерные человеческие существа с живой еще культурной памятью. И пусть там, в этой памяти, XVIII век просматривается как величественная и жуткая руина — кое-что все-таки сохранила она до наших дней, кое-что все-таки осталось… Дворцы Петербурга и дворянские гнезда, парков темные аллеи, шпалеры, беседки, Петергоф, Монплезир… Чудо-богатырей Суворова, князя Потемкина-Таврического, взятие русскими Измаила, несколько державинских строк… Да-с, слава богу, что хоть это уцелело после всех экспериментов, которые проведены были над нашей памятью…
III
Память и подвела меня: ибо спустя много лет личной жизни она, повинуясь неизвестному импульсу, в очередной раз считала с детства памятные мне строки про «богоподобную царевну…», но считала совсем не так, как прежде, в школе, не вникая в содержание и стремясь лишь к заучиванию заданного наизусть. При этом третьем способе прочтения память, напротив, как бы вынимала из текста каждое слово и задумывалась над ним. «Фелица». Почему «Фелица»? Кто такая Фелица, откуда это имя, то есть? Книги подсказывали, что имя произведено от латинских слов felix, felice — «счастливый», «счастливая» — и тогда выходило, что восточная царевна выступала под римским, причем, очевидно, выдуманным, именем. Возможно, этого требовали правила аллегории, столь мощно разветвившейся в жанре хвалебной оды XVIII столетия? Это выглядело правдоподобно. Но почему Державин, обращаясь к Екатерине, называет ее «царевною», тогда как она была, как минимум, царицей? Возможно, он хочет представить ее в ореоле вечной молодости? Натянутое соображение, тем более что в 1782 году, когда была написана ода, Екатерине было уже 53 года. С каждым шагом компьютеру мозга все труднее становилось работать с очевидной белибердой, которая скрывалась за единственным словом названия, а дальше и вовсе начиналась голая беда: программа считывания безнадежно зависала на первых же, наиболее памятных мне строках:
Богоподобная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!
Все дело было в том, что самодержица российская Екатерина II ни при каких обстоятельствах не могла считать себя владычицей над ордами киргиз-кайсаков. В то время Россия еще не властвовала над Степью, и, более того, все попытки ее утвердиться там, которые пришлись как раз на XVIII век, были тщетны. Сама орда, в том числе и Малая орда киргиз-кайсаков, т. е. современных казахов, была наследием распавшегося организма империи Чингиз-хана, которая окончательно перестала существовать на границе XVI–XVII веков. Сначала под ударами русских пали поволжские ханства, потом анархия поразила Среднюю Азию — бывший «удел Джучи». Оазисы — Ферганскую долину, Бухару и Хиву — захватили узбеки — племя, родственное всем тюркам, заселявшим Среднюю Азию, но при этом со времен монголов считавшееся благородной воинской кастой — которые первыми и включились в борьбу за власть в городах и за плодородные земли. Другой этнос, проживающий в городах со времен великого Хорезма, были сарты (древний народ иранского происхождения), составившие сословие купцов, земледельцев и ремесленников. Казахи 346, одно из воинственных кочевых племен Мавераннахра, тоже приняли участие в борьбе за верховную власть в Средней Азии, силой оружия пытаясь вручить своей знати управление всеми землями от Аму-Дарьи до Сыр-Дарьи. Подчас их попытки достигали частичного успеха, во всяком случае, им удалось на время захватить несколько древних хорезмийских городов, но в целом столетнее существование казахского кочевого протогосударства было ознаменовано только невероятными кровопролитиями, предательствами, междоусобицами и бесчисленными военными столкновениями с другими кочевниками — ногаями, калымками и каракалпаками. В конце концов это привело к тому, что казахи были вытеснены из оседло-земледельческих районов Туркестана в дикую степь, аристократия их выродилась, сами казахи поделились на жузы — кланы, управляемые советом старейшин — что и привело их к делению на Малую, Среднюю и Великую орду, смотря по области кочевья. Ко времени Екатерины все степные «ханы» были, по сути, честолюбивыми самозванцами. В действительности каждым родом управлял родовой старшина, никакой другой власти Великое Кочевье не знало. По крайней мере до тех пор, пока на северных его границах не появились русские.
Русские захватили лесостепь — традиционную область сезонных перекочевок Малой орды. Орда ответила набегами: как и все кочевники, киргиз-кайсаки не против были поживиться за счет пришельцев, пограбить, побарантовать (угнать скот), взять пленных и продать их в рабство. Но и пришельцы были не робкого десятка. Их вольные воины, казаки, не раз совершали вылазки в степь — за лошадьми и за женщинами; а их служилые люди — сначала стрельцы и стрелецкие полковники, а потом и солдаты с офицерами — потихоньку начали, но лет за сто закончили незаметную муравьиную работу, на протяжении двух тысяч километров очертив с севера линией крепостей всю степь от реки Урал, впадающей в Каспийское море, до Семипалатинска 347 в Сибири. Эта крепостная линия — как называлась тогда граница — была, разумеется, противна сознанию кочевого народа. Однако теперь переход линии грозил ответной посылкой казаков в степь. Разумеется, долгое время граница была проницаема в обе стороны, но в конце концов и киргизские старшины поняли, что времена изменились и с северными соседями надо выстраивать какие-то новые отношения.
Понимала это и Россия. Однако, устроить отношения со степняками было совсем не то, что заключить мир со шведами, пруссаками или турками. Поэтому очень долгое время главным в российской политике по отношению к Степи было одно-единственное желание: отгородиться, отстраниться, отделить Степь от себя. Россия слишком много приняла в себя ордынского наследства в виде кочевников, оставшихся в ее пределах, чтобы желать присоединить к себе еще и киргиз-кайсацкие степи. Башкиры, тептяри, мещеряки (финно-угорские народы, принявшие ислам и позднее влившиеся в состав башкирского этноса), бог знает откуда еще свалившиеся калмыки, расселившиеся по Яику и Волге — все это кочевое сообщество, разумеется, противилось правильному, европейскому устройству жизни и выражало истовое недовольство по всякому понятному оседлому человеку поводу, будь то строительство заводов на выпасных землях (Уфимский бунт), изъятие земель под города (Оренбургский бунт), действия чиновников, религиозные разногласия или попытка распространить на кочевья воинскую повинность…
IV
В таком примерно состоянии и были дела на границе с киргиз-кайсацкой ордою во время вступления Екатерины II на царство. Как же мог Державин написать, что императрица российская есть также и «богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды»?! Мы, конечно, привыкли к поэтическим преувеличениям, но ведь это уже не преувеличение, а сущая неправда! Почему же Державин допускает эту неправду и, более того, из этой неправды создает эффектный образ наследницы Востока? Может быть, он принял всерьез те несколько попыток киргиз-кайсацких старшин присягнуть России, которые были предприняты исключительно из корыстных побуждений и закончились для России только позором? Навряд ли. Все-таки Державин был офицер, три года прослужил в Следственной комиссии по делам пугачевщины и, конечно, прекрасно знал, что такое коварство бунтовщиков и словеса и клятвы степняков.
Первым в подданство России в самом начале царствования Анны Иоанновны (1730–1740) попросился выдающийся степной авантюрист Абул-Хаир. Считая себя, как, впрочем, и все самозваные ханы, потомком Чингиз-хана, Абул-Хаир мечтал получить власть над Малой ордой; в свое время ему удалось собрать немало воинов для чудовищного набега на Россию — достаточно сказать, что ведомая им орда дохлестнула почти до Казани; однако по возвращении он ханского признания от киргиз-кайсаков не снискал и решил добиваться его посредством покровительства России. Он явился в Уфу, к воеводе Бутурлину, который, несомненно, был обрадован, что такой опасный головорез ищет теперь российского благоволения, и отправил его «посольство» в Петербург, думая порадовать правительство. Правительство пришло в восторг, поверив, что покровительства России ищут те самые киргизы, против которых столько лет посылались войска на вечно кровоточащую границу! Абул-Хаир и прочие послы получили богатые подарки и отправились обратно в степь. Вместе с ними из Петербурга поехал и весьма искушенный в восточных делах полковник Мурза Тевкелев: здесь он скоро убедился, что Абул-Хаира в степи никто ни в грош не ставит, ханства за ним не признает (у киргиз-кайсаков к тому времени уже не существовало титула «хана», который Абул-Хаир первым делом выторговал для себя в России) и все поголовно считают российского верноподданного самозванцем. «Он один присягал — он пусть и подчиняется русским», — говорили все как один. Тевкелев понял, что дело плохо, и употребил все свое дипломатическое искусство, чтобы привести к присяге Малую орду. Он убедил в полезности такого шага нескольких влиятельных старшин, но самое главное — батыра (богатыря) Таймаса. Сначала собрание и слышать не хотело ни о каком подданстве, тем более христианскому государству, но красноречие Мурзы Тевкелева было столь убедительно, что старшины наиболее влиятельных родов Малой орды присягнули-таки России! Казалось бы, открылся путь для того, чтобы установить с кочевниками крепкий мир. Не тут-то было! Самозванец Абул-Хаир после собрания и впрямь, кажется, поверил в свое «ханство» и начал вытворять неизвестно что: во‐первых, он требовал подчинения себе старшин всех кайсацких родов, которые, приложив свои тамги на верность России, вовсе не присягали презренному Абул-Хаиру. Во‐вторых, «верноподданные» киргиз-кайсаки Абул-Хаира вновь по привычке совершили набег на российскую территорию. Произошли недоразумения. Мирза Тевкелев опять спас Абул-Хаира, надеясь все-таки через него замирить Россию со Степью, целый год он кочевал с ним где-то близ Сыр-Дарьи, после чего составилось новое посольство, куда вошел и сын Абул-Хаира Ирали. В 1734 году посольство прибыло в Петербург, в очередной раз Абул-Хаир получил богатые подарки и подтверждение своего ханского титула. Он попросил, в обмен на некоторые услуги, выстроить для него город при впадении реки Ори в Урал, «куда бы он мог укрыться в случае опасности». Действительно, именно на этом месте в 1735 году был первоначально заложен город Оренбург, как одна из главных крепостей Уральской линии. Женившись на башкирке, Абул-Хаир захватил Оренбург и стал чинить здесь суд и расправу. Напрасно комендант города говорил ему, что этого делать нельзя. Тот отвечал просто: «город мой, для меня выстроен, а кто не послушает, тому голову срублю». В 1737 году губернатор Оренбурга В. Н. Татищев приступил к городу с войсками. Абул-Хаир испугался, но напрасно. Войска нужны были Татищеву лишь для церемонии торжественной присяги киргиз-кайсацкого хана. Пройдя сквозь батальонные каре, Абул-Хаир был введен в огромный шатер, где уже ждали его Татищев со свитою и русский полковник. Преклонив колена, он принял царский подарок: прекрасную, богато украшенную золотом саблю. Торжественная присяга была ознаменована орудийным салютом.
Впечатление, которое рассчитывал Татищев произвести на степняков сим торжественным действом, оказалось прямо противоположным. После этого киргиз-кайсакам уже нельзя было сомневаться в немощи и ничтожестве русской власти. Вместо выговора за бесчинства Абул-Хаир был удостоен торжественного приема у губернатора, ему, вору и разбойнику, вручены были царские подарки, детей своих он выгодно пристроил аманатами (почетными заложниками) при дворе, присягал сидя (а наши-то радовались, что «преклонив колена»!), в честь самозванца был дан орудийный салют… Ну какие еще доказательства ничтожного заискивания русских можно было вообразить? Решительно никаких! Вот если бы Абул-Хаира схватили, надели на него колодки да вырвали ноздри за захват Оренбурга, в Степи согласились бы, что русские поступили справедливо. Тогда, быть может, на границе и воцарился бы мир. В противном же случае… Нет, разумеется, набеги киргиз-кайсаков не прекратились. Абул-Хаир присягал еще один раз (всего трижды: в 1732‐м, в 1738‐м и в 1748‐м), что не помешало ему вновь и вновь переходить для грабежа линию. Он рассорился с Татищевым из-за того, что тот отказался принять в аманаты его побочного сына, после чего в 1744 и 1746 годах киргиз-кайсаки совершили два набега на Волгу, убив и забрав в полон больше 700 русских и калмыков. За годы своей буйной жизни Абул-Хаир успел побывать хивинским ханом и пропихнуть аманатом в Петербург своего очередного сына Айчувака. Он обещал отпустить на родину русских пленных, чего не сделал и сделать не мог, ибо они были проданы в Хиву, клялся, что никогда более не преступит линии, возьмет под охрану русские купеческие караваны и в случае нужды для России выставит в ее распоряжение войско из своих ордынцев: никогда ни одна из этих клятв не была исполнена! Неизвестно, как сложилась бы участь Абул-Хаира в качестве российского подданного, но в 1749 году он был, наконец, убит во время грабительского набега на каракалпаков.
Пример Абул-Хаира вдохновил многих кайсацких старшин искать подданства у России и превратился в вид дипломатического промысла: получив причитающиеся послам дары и пристроив детей в аманаты, степняки возвращались в свои степи и, удовлетворенные, больше никогда не думали о взятых на себя обязательствах. Россия, вероятно, была не рада такому развитию событий, но утешала себя тем, что таким образом «покупает» мир, постепенно приучая киргиз-кайсаков к мысли о подданстве. На самом деле это были мечты, весьма далекие от реальности. Слабость России Степь использовала дерзко и цинично. В этом смысле беспримерен случай с «ханом» Аблаем из Средней орды: в 1762 году он присягнул Екатерине II и в том же году отправил посольство в Китай. У богдыхана он был обласкан так же, как и при российском дворе, и так же, присягнув на верность, получил подарки. Пример Аблая соблазнил нескольких князьков Средней орды, в расчете на подарки просить у начальника сибирской линии подданства России, а сыновей Аблая — хлопотать о назначении им жалования так же, как и отцу. Екатерина, которая постепенно входила в тонкости российских дел не только на Западе, но и на Востоке, особым рескриптом 1775 года отказала всем этим просителям. Князькам было отвечено, что вся орда принята в подданство России еще при императрице Анне, а сыновьям Аблая — что назначение жалованья «приучает киргизов считать снисхождение необходимостью». Тем не менее она хотела получить от Аблая письменное прошение об утверждении его в ханском достоинстве: это подтвердило бы, что хан признает хотя бы номинальную зависимость свою от России. Очевидно, Аблай обдумывал это предложение, но грамоты писать не стал и в Петербург не поехал, послав вместо себя своего сына, который был принят очень ласково и, конечно же, осыпан милостями. Что до принесения присяги, то Аблай не согласился ехать ни в Оренбург, ни в Троицк, ни на сибирскую линию, опасаясь, возможно, потерять доверие китайцев, а может быть, не желая разделить участь Абул-Хаира, которого ненавидела и считала самозванцем вся Степь. Во всяком случае, он отказался встретить русских послов для принятия присяги в своих кочевьях и вскоре вслед за тем ушел в дальний поход и удалился от границы…
В царствование Екатерины стало очевидно, что вся российская политика на Востоке есть сплошной самообман, что вся линия поведения с кочевниками неверна, если за полвека обласкиваний и прикармливания родовой знати Россия так и не обрела себе союзников по ту сторону границы. Явилась другая утопия: пробить в глубь азиатских степей дорогу прогрессу и цивилизации, окультурить кочевников, переведя их на оседлый уклад жизни. Были отпущены деньги на строительство караван-сараев, школ и мечетей, но от этого кочевники не перестали, разумеется, кочевать и совершать свои набеги. Развалины строений, воздвигнутых во времена Екатерины, некоторое время пустыми декорациями стояли еще в дикой степи, продуваемые жгучими летними суховеями и зимними буранами, но скоро от них ничего не осталось. Гораздо более плодотворной оказалась идея правившего при Екатерине оренбургского губернатора, генерала фон Игельстрема: он посчитал, что России бессмысленно искать среди киргиз-кайсаков хана, который мог бы связать их воедино, потому что при родовом строе ни один глава рода не согласится с тем, что он хуже или ниже по происхождению, нежели тот, кого Россия предлагает ему в начальники. Поэтому всю затею с ханами надо бросить, пока они не переведутся сами собой, а кайсакам дать самоуправление, при котором все вопросы в Степи решались бы советом родовой знати. Это очень воодушевило степняков в пользу России, и на первом же форуме Малой орды они избрали главным над собою известного разбойника Сарыма. Пожалуй, для России Сарым был ничем не опаснее Абул-Хаира, и в таком повороте событий ничего не было бы страшного, если бы… Если бы губернатор оренбургский фон Игельстрем не был самым отчаянным бабником. Внучка ненавистного кайсакам Абул-Хаира, дочь его сына, самозванца Нурали, немало постаралась, чтобы влюбить в себя старого повесу-губернатора, а уж затем вместе с ним развернуть все дела в Степи в пользу своей фамилии… Несчастный губернатор в прямом смысле слова пошел на государственную измену, волочась за женским подолом! Самоуправлению в Степи пришел конец, Степь взвыла от негодования, Сарым же бежал в Бухару и оттуда стал бунтовать народ против Оренбурга…
При таком несчастном положении вещей — возвращаясь к тому, с чего мы начали — никакое поэтическое преувеличение Державина не оправдывало титула Екатерины II как «богоподобной царевны киргиз-кайсацкия орды».
Степь не только не принадлежала, но и не подчинялась и сопротивлялась ей.
Однако же Державин собственной рукой написал эти две памятные с детства строки.
В чем тут дело?
V
Вероятно, в том, что мы читали так, как нас учили: быстро, бездумно. А всякий поэтический текст, тем более отдаленный временем от современности, есть загадка, которую надлежит разгадывать по ходу чтения. Если бы в свое время нас учили нормально, а не как недоумков приближающегося коммунизма, все быстро разъяснилось бы. Первым делом в школе следовало бы нам сказать, что Екатерина II в 1782 году была уже бабушкой и сочиняла сказки, которые читала вечерами внуку, будущему императору Александру I. Одна из сказок называлась «Сказка о царевиче Хлоре». В ней рассказывалось, как в стародавние времена, еще до основания Киева, поехали русский Царь с Царицею и дитятей на дальнюю границу своих владений, выяснить, откуда в царстве беспорядки. Покуда Царь с Царицею занимались делами, царевич Хлор, смышленый не по годам, был хитростью увезен в степь ханом диких киргиз-кайсаков. Желая испытать прославленную смышленость мальчика, бусурманский хан задал ему загадку: в три дня отыскать в его владениях редкостное чудо — розу без шипов (аллегория добродетели). Красавица-дочь хана по имени Фелица (а вот вам и царевна!) решила помочь царскому сыну, но хан воспретил ей следовать за ним. Тогда втайне от отца Фелица послала в помощь царевичу своего сына, которого звали Рассудок. Тот быстро рассудил, какой дорогой им надо следовать и каких опасностей избегать: встречались им на пути и приветливые на вид льстецы, которые совлекали путника с прямой дороги и все дальше уводили в свои лести. «Лентяг-Мурза» первым делом предложил мальчуганам курительные трубки и кофе, а узнав, что они не курят и кофе не пьют, тут же взбил пуховые перины, принес столик с фруктами, достал карты, кости и прочий инструментарий для праздного и бесполезного времяпровождения. Были, наконец, и пьяницы — приятный на вид, развеселый народ, ладно поющий песни под волынку: к этим потянуло простодушного царевича, как часто тянет благовоспитанных мальчиков из хороших семей и гвардейских офицеров, но Рассудок настоял на своем и вывел его на прямую дорогу, что вскоре уже привела их к горе, на вершине которой и росла роза без шипов. Хан подивился, что в таких младых летах царевич отыскал чудесный цветок (добродетель), и отпустил его домой к Царю и Царице. Тут, как говорится, и сказке конец.
Сказки бабушки Екатерины вообще были не лишены увлекательности. Но то, что в одной из них возникает восточный мотив, не означает, как подумал бы наш современник, исторической или мифологической заинтересованности Востоком. Скорее, промелькнувшая в сказке восточная тема свидетельствует о знакомстве автора с произведениями некоторых французских писателей, которые давно использовали арабески для погружения персонажей своих аллегорий в приятно удивляющий воображение читателя экзотический контекст. При таком подходе какого бы то ни было правдоподобия в изображении Востока не требовалось: двух-трех тюркских или арабских слов (хан, султан, мурза) было вполне достаточно для создания восточного «колорита»; а то, что персонажи подобных аллегорий и говорят, и мыслят совершенно по-европейски, едва прикрыв свою европейскость бухарским халатом, чалмой или странным именем, никого не смущало. Понадобился гений Гёте, чтобы всерьез повернуться к восточной поэтической традиции и, не довольствуясь более подвесками-арабесками, проникнуть в образную систему и самый ход мысли восточной поэзии. Правда, «Западно-восточный диван» Гёте, сделавший просто неприличными все литературные поделки «под Восток», появился только в 1819 году, через двадцать три года после смерти Екатерины II. Причем это были такие двадцать лет, которые в одночасье преобразили весь облик Европы и начисто вытряхнули весь XVIII век из мало-мальски мыслящих мозгов: можно подумать, что пушки Наполеона и Александра I, захлебываясь картечью, выполнили и какую-то фундаментальную умственную работу. Во всяком случае, после того, как отревели Бородино, Лейпциг и Ватерлоо, ни прежняя философия, ни прежняя литература были уже невозможны.
Но я должен извиниться перед читателем за невольное отступление от темы: пред нами все еще 1782 год, XVIII век еще кажется в полной силе, поэтому и не странно, что представленные нам киргиз-кайсаки с чудными именами курят трубки, пьют кофе, играют на волынке, поливают из лейки огурцы и капусту, а русскому царевичу дают задание отыскать цветок, о котором сами они (если уж пытаться придерживаться реальности) не имеют ни малейшего понятия. Но что за беда, если речь идет об аллегории, а аллегорию написала императрица? Поэтому Державин немедленно откликается на посыл Екатерины и на сказку ответствует одой, продолжая начатую литературную игру. Он тоже пишет пьесу в восточном ключе: «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице, писанная татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Петербурге. Переведена с арабского в 1782 году». Не беда, что «вдохновения Востоком» хватает у Державина только на предлинное это название. Он и не пытается водить читателя за нос, сознаваясь в своих досугах и очень прозрачно описывая всем известные при дворе достоинства своей «богоподобной царевны». Державин родился в каком-то захолустном местечке близ Казани, и происхождение его от мурзы Багрима, всегда бывшее его излюбленной поэтической легендой, на этот раз пришлось как нельзя кстати. Все правила были соблюдены. Итак, он — мурза, Екатерина — Фелица, царевна, дочь киргиз-кайсацкого хана. Почему он выбирает ханскую дочь, а не жену, царевну, а не царицу? Да просто потому, что о ханше в сказке ничего не говорится. Фелица — кроме пары безымянных простолюдинок — единственный женский персонаж в сочинении Екатерины. Обращаясь к императрице как к царевне (и, значит, будущей властительнице земель, которые ей пока еще не принадлежат), Державин ничуть не смущается, ибо знает то, о чем не умеем догадаться мы, люди XX–XXI века. А именно то, что и он, и императрица составляют круг участников некоей почти приватной литературной игры вроде покера, о которой, в соответствии с традицией XVIII столетия, осведомлен лишь очень-очень узкий круг приближенных. Когда же картечь и поколение 1812 года пробивают литературе широкий пролом в общественную жизнь, прежние, приватные и салонные формы литературного бытования постепенно забываются. А когда проходит еще 200 лет и мы, вспомнив о прославленной державинской оде, спускаемся в сумрак руин XVIII века и добираемся, наконец, до библиотеки, то, сами того не желая, оказываемся в поистине дурацком положении: игра, вокруг которой соткалась державинская ода, давно забылась, о сказке про царевича Хлора нам никто никогда не рассказывал… Впрочем, толстый слой пыли на шкафах библиотечной комнаты есть явное свидетельство того, что хранение сие посещается крайне редко. Новые мифы об Эрасте Фандорине и Гарри Поттере занимают, как и положено, место старых… Впрочем, с обстоятельствами вокруг державинской оды мы мало-мальски разобрались…
VI
Не столь, разумеется, легко решался в России вопрос с азийским, не по доброй воле ей доставшимся наследством. Принять его было невыносимо тяжело. Отказаться — оказалось невозможно: Степь сама перла через границу, Степь присягала и отрекалась, врала и грабила, но главное — от нее некуда было деться, Степь всегда была под боком со своим законом и своими «дикими» нравами. Степь нужно было усмирить. В начале 20‐х годов XIX уже столетия назначенный генерал-губернатором Западной Сибири граф Михаил Сперанский 348 отменил в Степи власть посаженных русскими и всех самозваных «ханов» и ввел самоуправление, которое осуществлялось родовыми старшинами, или «султанами». Степь была разделена на волости и округа сообразно родовому делению. Степь впервые почувствовала над собой умную голову и твердую руку. Действуя в этом направлении, русское правительство очень медленно добилось долгожданного мира со Степью…
В 1914 году знаменитый символист Андрей Белый выпустил роман «Петербург». В центре его — семейство Аблеуховых: всесильный бюрократ, сухой мозговик Аполлон Аполлонович и сын его Николай, ненароком сглотнувший и позитивизм Конта, и эсерство в его крайней эстетствующей и, разумеется, террористической форме, из-за чего едва не сделался Николенька отцеубийцей. Род свой — как сообщает автор — Аблеуховы вели от киргиз-кайсацкого хана Аблая, который, якобы, «в царствование императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу», был крещен и при христианском крещении получил имя Андрея и прозвище Ухова. «Для краткости потом был превращен Аб-Лай Ухов в Аблеухова просто».
За три поколения, прожитые родом в столице империи, в Аблеуховых уже трудно было угадать бывших ордынцев. Аполлон Аполлонович в свои 68 лет был тщедушен, очень велик лысеющим черепом и ушаст; «каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуты усталости казались синей и громадней». В образе Аполлона Аполлоновича современники угадывали почти наверняка обер-прокурора Священного Синода Константина Петровича Победоносцева.
Впрочем, все это была выдумка.
Настоящим правнуком Аблая был никакой не Аполлон Аполлонович, а Чокан Валиханов, просвещенный киргиз-кайсак, выпускник кадетского корпуса и знаменитый путешественник, совершивший весьма рискованную поездку под именем купца Алима в Кашгар, тогда недоступный для европейцев. О своем путешествии, столь поразившем географа П. П. Семенова Тянь-Шаньского, Чокан рассказал в статье «О состоянии Алтышара или 6‐ти восточных городов китайской провинции Нань-Лу в Малой Бухарии в 1858–59», которая в разных видах и переработках была опубликована всеми российскими географическими журналами. В результате Чокан Валиханов попал в Петербург, был принят царем Александром II и министром иностранных дел, великим князем Александром Михайловичем, который обещал ему свое покровительство. Одновременно ученые интересы делают его другом будущего ректора Петербургского университета А. Н. Бекетова, упоминавшегося уже географа П. П. Семенова, столичных литераторов, в числе которых был и Ф. М. Достоевский, который сам считал себя «другом» Валиханова. Другим из того же круга был Г. Н. Потанин, искренно восхищавшийся им: «Если бы у Чокана Валиханова была киргизская читающая публика, может быть, в лице его киргизский народ имел бы писателя на родном языке в духе Лермонтова или Гейне».
Судьба Чокана Валиханова сложилась трагически: в Петербурге уроженец степей в двадцать пять лет заболел чахоткой, ему надо было срочно уезжать. Но его удерживали дела. Он во что бы то ни стало хотел увековечить память о прадеде, Аблай-хане, написав про него статью в энциклопедию. Статья вышла в «Энциклопедическом словаре» 1861 года уже после его смерти, которую двадцатидевятилетний потомок степных князей принял в Куянкузской степи. Что ж, родиться в степи и умереть в степи — о какой еще доле может мечтать человек, считающий себя потомком Чингиз-хана?
«…В предании киргизов Аблай, — пишет о своем прадеде Чокан Валиханов, — носит какой-то политический ореол; век Аблая у них является веком киргизского рыцарства. Его походы, подвиги его богатырей служат сюжетами эпическим рассказам 349. Большая часть музыкальных пьес, играемых на дудке и хонбе, относится к его времени и разным эпохам его жизни. Народные песни — «Пыльный поход», сложенная во время набега, в котором был убит храбрый богатырь Боян; «Тряси мешки» — в память зимнего похода на волжских калмыков, во время которого киргизы голодали семь дней, пока не взяли добычу, — разыгрываются до сих пор киргизскими музыкантами и напоминают потомкам поколения Аблая прежние славные времена…»
После того, как приняв двойную присягу Аблай-хан своими увертками, наконец, разозлил правительство и едва не был схвачен и примерно наказан ссылкой или виселицей — смотря по настроению «богоподобной царевны» — несколько непривычно читать полные почтения слова о нем, со всей искренностью написанные правнуком.
«Рыцарство!» Да это ж были те самые рейды «за линию», в которых царила баранта и разбой! А зимний поход на калмыков, когда киргизы по льду замерзшего Каспийского моря вышли прямо на Волгу? Резня, грабеж и убийство! Семь дней, вишь, голодали, чтоб «взять добычу». Ей богу, дон-кихоты!
Впрочем, что до рыцарства…
Все зависит от того, с какой стороны линии рассматривать вопрос…
МИРАЖ, ИЛИ ЗАВОЕВАНИЕ ИНДИИ
I
В 1713 году в Астрахани объявился некий Ходжа Нефес, туркменский старшина с Магнышлака или из Хивы, который, скоро сошедшись с комендантом города князем Самановым, авантюристом, крещеным персом из Гиляна, поведал ему о плане овладения Хивою, который хотел предложить русскому царю. Для этого, открыл он секрет, достаточно повернуть реку Аму в старое русло, в Каспий, куда она якобы и изливалась до тех пор, пока хивинцы, испугавшись бесчинств на море казаков Разина, не перегородили старое русло плотиной и не пустили реку в Арал. Честолюбие Саманова запылало, и он немедля решился препроводить Ходжу Нефеса в Санкт-Петербург, так и не выяснив толком, какое место занимает тот в хивинском ханстве и с какой стати предлагает его русскому царю в качестве трофея. Жизнь Хивы, Бухары и Коканда — трех ханств, оставшихся от грандиозной империи Тимура — всегда была очень скрытой и полной интриг. Ходжа Нефес мог быть посланцем правящего хивинского хана, который, зная о заговоре, грозившем не только его власти, но и жизни, пытался привлечь в союзники русского царя, чтобы сохранить престол. Во всяком случае, Нефес, призывая русских, преследовал какие-то очень конкретные, одному ему ведомые цели, о которых недалекий Саманов ничего не знал.
В Санкт-Петербурге Ходжа Нефес очень кстати сведен был с князем Алексеем Бековичем-Черкасским. Бекович был родом из Кабарды и в детстве звался Искандер-беком; потом, крестившись, он принял княжеский титул. Молодой поручик лейб-гвардии Преображенского полка, князь Бекович в числе многих дворянских детей ездивший за границу обучаться морскому делу, был любимцем царя. Рассказы Нефеса его заинтересовали. Так состоялось свидание Ходжи Нефеса с Петром. Ходжа завлекал царя верноподданническими заверениями, не подозревая, что наибольшее впечатление произвели на Петра слова о перекрытом русле Аму-Дарьи и возможности повернуть его обратно в Каспий — а следовательно, имея флот, проникнуть в глубь Азии, к далекой Индии. Как нередко бывает в подобных случаях, все вдруг стало подбираться одно к одному: явился из Сибири рапорт губернатора сибирского князя Гагарина, что в Малой Бухарии, при городе Иркети (теперешний Яркенд в Китайском Туркестане), найден золотой песок и он, князь Гагарин, готов выслать отряд из Тобольска, который бы, следуя на дощаниках по Иртышу, построил бы одну крепость на Ямышев‐озере, а другую на Балхаше… И хотя от Хивы до Балхаша было полторы тысячи километров, а от Балхаша до Яркенда — еще девятьсот, бывают минуты, когда все это не идет в расчет, царь загорелся — и дал добро на обе экспедиции. Тогда же, обласкав хивинского посла Ашур-бека, он отправил его домой с подарками хану (6 пушек с порохом и снарядами) и просил настойчиво добраться до Индии и привезти ему в подарок барсов и попугаев. Новая затея определенно нравилась царю: теперь, как европейский государь, он тоже мог поучаствовать в розыгрыше мирового кубка под названием «Индия».
II
Неожиданности, связанные с новым замыслом, начались сразу. Не успел царь отправить в Хиву Ашур-бека и назначить князя Бековича-Черкасского главой хивинского посольства, как пришли вести о том, что старый хан хивинский Ходжа-Мухаммед, добровольный российский подданный, убит и на престол Хивы взошел молодой хан Ширгазы. Ашур-бека с подаренными пушками перехватили в Астрахани (они достались потом Бековичу и составили его артиллерию), посольство же Бековича решено было не отменять, а, как говорилось в указе Сенату, послать того в Хиву «с поздравлением на ханство, а оттоль ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, проведать про город Иркет, сколь далек оный от Каспийского моря, и нет ли каких рек оттоль, или хотя не от самого того места, но поблизости в Каспийское море». В конце наказа государь предписал «господам Сенату» «с лучшею ревностию сие дело, как наискоряя, отправить, понеже — зело нужно».
Астрахань петровского времени была окраинным городком, крепко истрепанным мятежами и лихоимствами, вокруг которого в ту пору не было буквально ничего — кроме Гурьева-городка, основанного в начале XVII века рыбопромышленником Гурием на реке Урал, в нескольких верстах от впадения ее в море и обнесенным частоколом для защиты от ногайцев. В 1645‐м устроена была здесь, на самой окраине русских земель, каменная крепость с башнями и гарнизоном из стрельцов. Бекович явился туда с казной и невиданным в этих краях отрядом в две тысячи человек.
По предписанию царя Бековичу надлежало: «…Где было устье Аму-Дарьи реки, построить крепость человек на 1000, ехать к хану хивинскому послом, а путь иметь подле той реки и осмотреть, прилежно, течение оной реки, тако же и плотины… Ежели возможно, оную воду паки 350 обратить в старый ток, к тому же протчия устья запереть, которые идут в Аральское море, и сколько в той работе потребно людей [выведать]… Отпустить купчину по Аму-Дарье реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока суда могут идти, и оттоль бы ехал в Индию, описывая водяной и сухой путь, а особливо водяной, к Индии…»
Поставленная задача была в действительности расплывчата примерно в той же степени, как задачи и представления голландских мореходов, в XVI веке искавших на курсе норд-ост путь в Камбалу и Китай. Тем не менее, глядя из будущего, можно сказать, что в основных своих пунктах задача эта была все же выполнима. Вопрос: а был ли князь Бекович, любимец царя, тем человеком, который мог бы таковую задачу исполнить? Сомнительно.
Прибыв в Астрахань осенью 1714‐го, князь решил выступать немедля, хотя к походу готов он не был и торопился лишь затем, чтобы не промедлить с исполнением царского наказа. 7 ноября Бекович с отрядом в 2000 человек на 30 кораблях вышел в море и направился зачем-то в сторону Гурьева-городка; но флотилия как раз угодила в бурю, корабли разметало да затерло льдом, так что один из них пропал, а еще четыре зимовали — кто в устье Яика (Урала), кто в устье Терека. После этой совершенно бессмысленной вылазки князь возвратился в Астрахань. На будущий (1715) год Бекович промедлил с выступлением, но все ж 25 мая, пополнив войско людьми и артиллерией, ушел на новых стругах из Астрахани, заглянул, без видимого смысла, в Гурьев‐городок, откуда прямиком направился к мысу Тюп-Караган — ближайшему берегу на восточной стороне Каспийского моря. Высадившись на бесплодной песчаной косе, едва достаточно возвышающейся над морем, чтобы не быть перехлестнутой волнами, Бекович, не осмеливаясь ни на шаг продвинуться в глубь берега, повел через Ходжу Нефеса переговоры с береговыми туркменами об Аму-Дарье, стараясь вызнать, правда ли, что русло ее вспять повернуто и можно ли оное вернуть в Каспийское море. Туркмены отвечали, что прежде река Аму впадала в Каспий у Кызыл-Су (Красных вод), да и теперь можно вернуть ее в прежнее течение, разобрав плотину, до которой они брались довести русскую партию, и прокопав канал верст на двадцать в известном им месте. С туркменами на верблюдах Бекович отправил двух офицеров — Николая Федорова и Ивана Званского — вместе с Ходжой Нефесом. Несмотря на жары, стоящие летом в пустыне, отряд этот на восемнадцатый день обнаружил земляной вал длиною пять верст, высотой в аршин с четвертью (то есть всего около метра) и шириною сажени в три (около 6 метров). Решив, что такое сооружение не может перекрывать главный ток Аму-Дарьи и служит лишь для подсобных целей, как, например, сдерживание паводковых вод, путешественники, увидев за валом «большую воду на далекое пространство», не стали заниматься выяснением глубины этой «воды» и пригодности ее для судоходства, а удовлетворившись увиденным, повернули к Красноводскому заливу. И здесь опять увидели то, что желал бы видеть царь: широкий дол на месте старого русла реки и по берегам этого дола — заброшенные селения и остатки арыков… Проводники-туркмены уверяли, что дол идет до самого Каспийского моря, но дальше сопровождать партию отказались, опасаясь встретить в Красных водах соплеменников из враждебных родов.
Бекович, который поджидал отряд, необычайно воодушевился, узнав о результатах экспедиции, и тут же велел проверить и уточнить добытые Федоровым и Званским сведения, послав в глубь пустыни офицера Алексея Тарковского с несколькими проводниками. Тарковский также видел дол, заброшенные селения и арыки, однако, еще не дойдя до плотины, вынужден был вернуться по причинам уже известным (проводники-туркмены боялись сородичей из враждебных кланов). На этом, собственно, и закончился поход 1715 года. Вернувшись 9 октября в Астрахань, князь Бекович составил подробный отчет обо всем Петру и к отчету приложил и отправил в Санкт-Петербург карту морского берега, составленную морскими офицерами. Карты были слабостью Петра, а то, что самые смелые предположения его относительно возможности водным путем проникнуть если не прямо в Индию, то в далекую глубь Азии подтверждались, воодушевило его невероятно. Он вызвал Бековича в столицу, принял его, присвоил ему чин гвардии капитана, написал и отдал ему грамоты для ханов хивинского и бухарского, написал новый указ Сенату, в котором настойчиво просил во всем, что ни попросит князь Черкасский, «чинить ему отправление без задержания»; также вместе с князем отправил он в Астрахань поручика Кожина с заданием сверить карту каспийский берега и под видом купчины пробираться в Индию, ибо дело это казалось достаточно подготовленным.
Не тут-то было! Вернувшись в Астрахань, Бекович опять потерял уверенность. Впрочем, постигло его страшное несчастье: в самый день отплытия флотилии из Астрахани на глазах Бековича упали в воду и утонули его жена и две дочери! О, злой рок! Разумеется, такое горе могло разрушить любые планы, да и вообще перевернуть всю психику человека. Однако Бекович от похода не отказался. Правда, он кампанию 1716 года употребил не на то, чтобы идти в Хиву, а на устройство крепостей по Каспийскому берегу, хотя теперь войско его достигло шести с лишком тысяч и состояло из трех пехотных полков, двух казачьих и шестисот человек драгун. И хотя Петр поручил ему, заложив крепость, сразу идти на Хиву, Бекович по какому-то внутреннему бессилию — или от постигшей его после смерти жены скрытой душевной болезни — всячески уклонялся от этой задачи и вместо одной крепости заложил две, на что и употребил всю осень. Это промедление обошлось ему потом очень дорого.
Первую крепость князь заложил на мысе Тюп-Караган, на той самой безжизненной песчаной косе у моря, где всякое строительство было бессмысленно: вокруг не было воды, а в колодцах, которые он приказал рыть, вода была сильно солона, да в два дня протухала. Протесты Кожина и фон-дер-Виндена ни к чему не привели. В недостроенной крепости посадил он Казанский полк с одиннадцатью орудиями, а сам направился в Красные воды. Перед отплытием с Тюп-Карагана по старой караванной дороге Бекович отправил в Хиву послов Ивана Воронина и Алексея Святаго с подарками и с объявлением о мирных целях экспедиции.
В Красноводском заливе, хорошо обжитом туркменами, Бекович тоже не стал утруждать себя подысканием сколько-нибудь подходящего места для укрепления, боясь, возможно, потревожить туркмен, и заложил у самого моря крепость, в точности подобную тюп-караганской, условия в которой были разве что «еще злее». Так еще до начала похода большая часть войск экспедиции совершенно бесполезно для дела оставлена была умирать в безводных и вонючих прибрежных укреплениях. Так как время было уже зимнее, возле заложенных крепостей оставил Бекович и корабли, а сам с половиною войска вернулся в Астрахань. Тут стали происходить с ним вещи все более странные. Готовясь к решительному выступлению на Хиву весной 1717‐го, капитан лейб-гвардии Преображенского полка Алексей Бекович-Черкасский первым делом обрил голову, облачился в восточную одежду и принял титул Дивлет-Гирея («Покорителя царств»). Тогда же были вызваны им из Кабарды братья, Сиюнча и Ак-Мурза, со своими нукерами. Разумеется, и прибытие этих странных гостей, и в особенности странная метаморфоза, происшедшая с самим Бековичем, повергли в полное недоумение офицеров отряда.
Подозрения в том, что Бекович сошел с ума или, больше того, решился на измену, терзали души его подчиненных до самого конца похода. Кожин, который еще осенью в пух и прах рассорился с ним из-за закладки крепостей, не хотел уже участвовать в предполагаемой экспедиции, доказывая, что она не удастся и требуя особого поручения в Индию. Плавая по Каспийскому морю, он осенью получил от властвовавшего тогда над всеми кочевыми народами степи калмыцкого Аюки-хана известие, что Хива раздражена строительством крепостей на территориях, лежащих у нее под данью, что хан Ширгазы собирает большое войско, а послов Бековича держит «не в чести». Кожин написал обо всем Петру, Генерал-Адмиралу Апраксину и князю Меншикову и самочинно уехал из Астрахани в Петербург, чтоб уличить Бековича в намерении «изменнически предать русское войско в руки варваров». За самовольство Кожин попал под суд и был прощен лишь тогда, когда результаты хивинского похода превзошли все самые страшные его предположения.
Метаморфоза Бековича, разумеется, нуждается в объяснении. Генерал М. А. Терентьев, в своем капитальном трехтомном труде о завоевании Средней Азии рассматривает «случай Бековича» как несомненное предательство. Психологические реконструкции его таковы: восприняв гибель жены и дочерей как «кару Аллаха» за измену вере отцов, он принимает вновь восточное имя, меняет облик, возвращает себе братьев, от которых был отделен, став «русским», и в дальнейшем делает все, чтобы искупить грех своего вероотступничества…
Но возможна и другая реконструкция: не отличавшийся никогда решимостью и самостоятельностью, Бекович, в сентябре 1716 года потеряв жену и дочерей, действительно впадает в своеобразный «ступор», из которого и не выходит. Он действует очень нерешительно, обкладываясь крепостями, как подушками, и подсознательно не желает никаких активных действий, к которым, видимо, просто не способен. Из письма своих послов, полученных им зимою в Астрахани, он тоже знает, что хивинцы собирают большое войско. Чтобы наддать себе решимости перед неизбежным походом, он отступается от лейб-гвардейских чинов и возвращает себе архетипически более близкий ему образ воина (Дивлет-Гирей), вызывает братьев, на которых может опереться, в отличие от сомневающихся в нем русских и немецких офицеров, и дальше, так и не разрешив этим своим колдовством ни внутренних своих, ни тем более внешних проблем, выступает в поход на вероломного, хитрого и самоуверенного хивинского хана…
III
Идти на Хиву Бекович решил, ослушавшись царя, не от Красных вод, а от Гурьева-городка, малой караванной дорогой через степи. В Гурьев в начале мая выслан был купеческий караван и обоз, а чуть позже морем прибыл и сам князь с войском, в котором состояло теперь: 300 человек пехоты, посаженной на коней, 1900 яицких и гребенских казаков и 600 человек драгун. Месяц отряд без смысла простоял под Гурьевом, «точно нарочно дожидаясь жаров», — язвительно замечает генерал М. А. Терентьев. В действительности Бекович все ищет-ищет, но так и не находит опоры. Посылает на стругах сто человек казаков в заложенную Тюп-Караганскую крепость, но только убеждается, что предупреждения Кожина и фон-дер-Виндена были не напрасны. За зиму из 1450 человек гарнизона от плохой воды умерло 500, а остальные находятся в жалком состоянии. Он посылает к туркменам, подвластным калмыцкому Аюке-хану, предложение присоединиться к его походу, обещая богатую добычу, но туркмены, хотя и отвечают согласием, присылают лишь десять человек с проводником Манглаем Кушкой. Видя, что делать нечего, Бекович, «в самое трудное для степного похода время» дает приказ о выступлении. Воистину, здешние степи не видели столь беспримерного перехода! За восемь дней отряд, пройдя без дневок триста верст, был уже на реке Эмбе, где позволил себе два дня отдыха. Никто не повторил подвига воинства Бековича, добравшегося до Хивы за 65 дней через пылающие степи, где поднятые ветром песчинки жалят, как искры, а солнце, как жар-птица, кружит и кружит над головой, роняя свои золотые перья на высохшие спины павших в пути. Четверть своего отряда потерял Бекович в песках. Нам никогда не понять солдат XVIII века! Уже в XIX столетии эти гренадеры петровской и суворовской поры, «чудо-богатыри», вызывали благоговейный трепет у понимающих вопрос военных людей…
В плоскогорьях Усть-Юрта на ночлеге отряд покинули проводники-туркмены вместе со своим верховодом Кушкой и ушли в Хиву, где, по-видимому, подробно поведали хивинскому хану все, что знали о русском отряде, не обойдя стороной и странности Бековича. Ходжа Нефес, бывший невольным вдохновителем всего этого предприятия, сам повел отряд дальше от колодца к колодцу. Правда, пустынные колодцы хранили слишком мало воды, чтобы напоить отряд в три тысячи человек, а также верблюдов и лошадей, — поэтому и ночью люди Бековича не знали отдыха, черпая и черпая воду. В восьми днях конного пути от Хивы Бекович отправил к хивинскому хану еще одного посланника, Корейтова, для уверения хана в мирной цели своего посольства. Хан Ширгазы велел бросить Корейтова и его эскорт в тюрьму, а сам стал готовиться к встрече с русскими. Точный путь Бековича невосстановим: озера, на которые ссылаются некоторые исследователи, высохли; речки, о которых проскальзывают упоминания, не отмечены ни на одной карте, они могли быть попросту затянувшимися арыками. Во всяком случае, от Усть-Юрта отряд кратчайшим путем достиг Аральского моря и по берегу его спустился в Хивинский оазис. О, благословенная земля Хорезма! В то время в разветвленной дельте Аму-Дарьи еще жила прохлада диких пойменных лесов, перемежавшихся тщательно возделанными садами и тучными полями. У русских, впервые за столько дней увидевших зеленую траву, буквально захватило дух от радости. Отряд стал на отдых у озера. Казаки быстро собрались и начали ловить рыбу в ближайшей речке, чтобы после двух месяцев поста порадовать своих какой-нибудь свежатинкой. Увлеченные рыбной ловлей, они не заметили подкравшихся хивинцев и были захвачены в плен. Только одному казаку удалось бежать и предупредить, что враг близко.
Стан русских расположился одной стороной к озеру, а по фронту и с флангов был наскоро укреплен обозными повозками. Повозки едва-едва успели сцепить между собой, как налетели хивинцы и пошел бой. Хан Ширгазы для встречи Дивлет-Гирея собрал двадцатипятитысячное войско, и, хотя у хивинцев не было ни пушек, ни ружей, они налетали волна за волной, осыпая русский лагерь тучами стрел, но каждый раз бывали отбиты сосредоточенным ружейным и пушечным огнем. В первый день бой длился до темноты. Ночью хивинцы отступили, расположившись своей ордой вокруг русского лагеря. Русские, по приказу Бековича, всю ночь укрепляли позицию: вырыли ров, навалили вал, устроили батареи. На рассвете хивинцы возобновили атаки, стремясь прорваться за укрепление, чтобы дать волю своим клинкам, но каждый раз отступали, теряя все больше людей. Бой продолжался без перерыва почти двое суток, и в конце концов хивинское войско, потеряв достаточное количество людей, чтобы осознать свое поражение, отступило вместе с ханом Ширгазы.
Разбитые горстью русских, все потери которых за эти дни составили десять человек убитыми, хивинцы вынуждены были приступить к переговорам. Прибывший в лагерь Бековича ханский посол с самого начала понес околесицу, заявив, что нападение на русский стан совершено было без ведома хана до прибытия его к войску. Разумеется, верить этому очевидному вранью было нельзя. И в русском, и в хивинском стане состоялся военный совет. Хивинский хан был обескуражен поражением, но казначей его, Досим-бей, сказал, что поражение это обернется победой, если удастся выманить из лагеря и захватить предводителя отряда, а для этого нужно в соответствии с его желанием (столь многократно передаваемым его посланниками) вступить в мирные переговоры. В русском штабе майор Франкенберг и другие офицеры высказались категорически против переговоров. Разбить деморализованную хивинскую армию не составляло для русского отряда труда; после этого на престол можно было сажать любого хана, который сделался бы весьма сговорчивым, получив в подкрепление своей власти русский батальон. Один Саманов, очевидно смертельно напуганный ветром смерти, который сквозил над ним в эти дни, высказался за переговоры. Неожиданно Саманова поддержал Бекович, сославшись на то, что отряд сильно утомлен, а лошади и верблюды, все это время остававшиеся в лагере, не могут оставаться без пастьбы… Верблюды! Как будто Бекович не понимал, что после устроенной ему встречи жизнь всего отряда висит на волоске!
Утром следующего дня хивинцы вновь налетели на русский стан, надеясь, что утомленный отряд не успеет принять меры к обороне: но их атака была отбита так же жестко, как и все предыдущие. Тогда вновь явился ханский посланник и просил извинения, сказав, что и на этот раз нападение произведено без ханского ведома туркменами и каракалпаками и что хан накажет виновных. Человека здравого такая ложь окончательно убедила бы в том, что все словесные заявления противоположной стороны не стоят и гроша, но Бекович сделал вид, что поверил им, и отправил к хивинцам двух татар из своего отряда с требованием, чтобы хан прислал двух ближайших людей — Колумбая и Назара-Ходжу — для подписания мира. Этого поворота событий и ждали хивинцы — поэтому требование князя Бековича было тотчас исполнено, и в русский лагерь прибыли приближенные хана. О мире договорились на удивление легко, причем хивинцы клялись на Коране, а князь Черкасский целовал крест в знак нерушимости достигнутых соглашений. Раз поверив в очевидную ложь, Бекович, сам того не замечая, попал в мир театра, в котором перед ним разыгрывались разные сцены с единственной целью — обмануть его. Теперь был черед Бековича ехать в ханский стан. В сопровождении 700 казаков и драгун, со свитой из двух братьев и князя Саманова Бекович прискакал в хивинский лагерь. Ему отвели отдельный шатер, показали людей, виновных будто бы в последнем налете на русский лагерь, которых водили теперь у него на виду на веревке, продетой у одного в ухо, а у другого в ноздрю. На следующий день хан принял князя Черкасского, который передал ему царскую грамоту и подарки: различное сукно, сахар, соболей, 9 серебряных блюд, 9 тарелок и 9 ложек 351.
Хан подтвердил достигнутый мир целованием Корана, угощал Бековича и Саманова обедом, во время которого играла русская военная музыка… Весь этот карнавал продолжался еще день; в конце хан объявил, что надлежит следовать в Хиву, и Бекович, продолжая, сам не ведая того, оставаться заложником хана, послал в лагерь Саманова с приказанием старшим офицерам следовать за ним.
В двух днях пути от Хивы хан расположился лагерем у большого арыка Порсунгул близ города Порсу. Здесь Бекович опять имел свидание с ханом, в ходе которого тот объявил, что не может разместить столь большой отряд в одном городе, и предложил Бековичу разделить его для препровождения в ближайшие к Хиве города. Казалось бы, столь грубая хитрость должна была насторожить Бековича и явить ему всю щекотливость положения, в котором он оказался: русский отряд стоял лагерем в двух верстах — ближе к ставке хана его не пускали хивинцы. Однако ж то был конный отряд, и две версты были бы преодолены в несколько минут… Бекович, как завороженный, так и не взял в толк, что ему давно пора действовать самостоятельно: захватить хана в заложники и, оповестив драгун, вырваться из ханского лагеря к своим…
Однако… Что это?
От конвоя Бековича отделяется пятьсот человек и вместе с хивинскими посыльными скачет в русский лагерь… При нем остается всего двести драгун…
Черт возьми! Несчастный Бекович!
Он соглашается!
Майор Франкенберг и Пальчиков, выслушав хивинцев, предложивших свои услуги для развода отряда на постой, отказались исполнять приказ. Два письменных приказа Бековича также не были исполнены. Нелепость приказов казалась Франкенбергу и Пальчикову столь очевидной, что только после личного общения с Бековичем и угрозы предать его суду майор Франкенберг, специально ездивший в ханскую ставку, вернувшись в лагерь, передал Пальчикову, что делать нечего, надо довериться милости Божией…
Как он не понял, что с ним говорил давно и безнадежно находящийся во власти иллюзий человек? К тому же фактически пленный?
Не успел опустеть стан русского войска, а Бекович слезть с коня, отдав последние приказания, как хивинцы бросились на конвой князя и, рубя направо и налево, оттеснили его от Бековича и его свиты. Бекович, Саманов и Экономов были раздеты донага и на глазах хана изрублены на куски, мертвым отрубили головы и с этими головами на пиках торжественно поскакали в Хиву.
IV
Из степного похода Бековича вернулись всего два человека — Ходжа Нефес, при неизвестных обстоятельствах бежавший из отряда до того, как началась резня, и чудом уцелевший казак из татар Урахмет Ахметов: на их показаниях, далеко не всегда, надо полагать, правдивых и не во всем в точности сходящихся, построен как этот рассказ, так и рассказы всех других повествователей о хивинском походе. Никто ничего здесь прибавить не может.
В Тюп-Караганскую крепость весть о разгроме экспедиции Бековича привез вдруг как с неба свалившийся Ходжа Нефес. Гарнизон был в жалком состоянии. Надеяться на возвращение князя Черкасского с победой теперь не приходилось. На военном совете было решено оставить, как есть, недостроенные укрепления, а самим уходить морем в Астрахань, тем более что туркмены, узнав о гибели русского отряда в Хиве, сделали несколько попыток напасть на крепость.
В Красные воды весть о разгроме пришла также от туркмен: едва прознав о поражении русских, воинственное племя это, в ту пору живущее разбоем и работорговлей, решило взять крепость штурмом. 10 сентября, собрав большие силы, они с суши и с моря неожиданно напали на крепость и даже ворвались в нее, но были выбиты. Однако попыток своих не оставили, так что измученный гарнизон крепости принужден был оставить укрепление. Комендант крепости фон-дер-Винден велел укрепить валом из мучных кулей перешеек, отделявший укрепление от стоящих на берегу кораблей.
30 октября, не потеряв ни одного человека, красноводский отряд вышел в море. Но на том испытания его, увы, не кончились. Налетевшая буря понесла суда к западному берегу, к устью Куры, где остатки отряда и вынуждены были зазимовать. Из трех тысяч отборной пехоты, оставленных Бековичем в береговых укреплениях, весной 1718 года вернулось в Астрахань всего триста человек.
Горестная участь отряда Бековича долго была памятна. На Руси многие годы еще жила поговорка: «пропал, как Бекович».
Так бесславно окончился задуманный Петром первый русский поход на Индию.
V
Но был и второй.
VI
Правда, стоит нам упомянуть о втором русском походе на Индию, как возникает проблема. Ибо, предполагая, что русская история нам более или менее известна и что нам даже более или менее ясна логика ее движения (расширение за счет приращения окраин), мы рискуем зайти в совершеннейший тупик относительно того, когда такой поход мог бы состояться. Даже в начале XVIII века он мог быть только фантазией Петра, внезапно возбужденной посольством Ходжи Нефеса и в результате обернувшейся несомненной авантюрой и крахом всего предприятия. Однако (!). Сколь бы ни был неудачен поход Бековича, как бы тщательно ни скрывалась его «индийская» подоплека, прежде всего это поползновение империи Российской на восток не ускользнуло от внимания англичан. А когда Петр I лично возглавил Персидский поход (1722–1723), недвусмысленно, таким образом, обозначив еще одну область российских интересов на Востоке, англичане встревожились не на шутку. В ход была пущена тайная дипломатия. «Русский государь, — обращались они тогда к турецкому султану, — хочет непременно обладать всею восточною торговлею, вследствие чего товары Азии пойдут в Европу через Россию. Порта (Турция) должна оружием остановить успехи русских на востоке и если она объявит России войну, то получит денежную помощь не только от Короля, но и от всего народа английского» 352. Однако в 1722–1723 русские и турки воздержались от войны и, воспользовавшись слабостью Персии, к обоюдному удовольствию переделили Закавказье, после чего Петр окончательно ушел в свой петербургский («западнический») проект, очевидно даже не заметив, что Англия — главный торговый партнер России, всегда готовый назваться «союзником», — во всем, что касается Востока, занимает последовательно антироссийскую позицию. Петр, повторяю, мог этого не заметить, но уже в начале XIX века двоякая позиция Англии стала для русской дипломатии очевидна.
Таким образом «поход на Индию» лежал бы не только вне логики развертывания империи Российской; он привел бы к прямому конфликту с Англией, которого Россия всячески избегала, поскольку именно на Англию была завязана российская торговля и, следовательно, интересы купцов, промышленников и очень многих видных особ в государстве. И вообще, в то время иметь своим противником Англию, государи мои… Что хотите, но только не это! Однако ж тот, кто решился на второй индийский поход, пошел не только супротив логики развития империи Российской, но и на прямой конфликт с Англией, наперекор всему ходу развития России, словно хотел дать ему совсем другое направление.
До Первой мировой войны на открытую, смертельную схватку с Англией в Европе решился лишь Наполеон. В результате вся Европа была потрясена и обескровлена этой смертельной борьбой до последнего громового вздоха под Ватерлоо.
Но в России — откуда Наполеон? Ни один российский император непредставим рядом с этой фигурой! Кроме одного.
Это — Павел I.
Самый «темный», «неразъясненный» из всех российских самодержцев, исполненный неясных, грандиозных, но так и не свершившихся планов, после убийства в марте 1801 превращенный в карикатуру, в исторический анекдот.
Урод — сын урода 353. Самодур. Солдафон. «Калигула» (А. Пушкин). Бессмысленный тиран. «Сумасшедший».
Но! Царь-рыцарь. «Романтический император» (А. Пушкин). «Помилователь» (А. Радищев). Гроза генералов, любимец солдат. Покровитель наук и земледелия. Наконец — глава высокой духовной миссии, Великий магистр мальтийского ордена Св. Иоанна Иерусалимского.
Воистину, русская история не знала фигуры более противоречивой! Четыре года павловского царствия (1796–1801) наполнены бурным реформаторством, первейшая, очевидная цель которого — «опровергнуть» все основания и итоги «лукавого и развратного» царствования ненавистной матери-Екатерины. Отсюда — мгновенная амнистия всем екатерининским вольнодумцам (А. Радищев, Н. Новиков) и даже польским повстанцам (Т. Костюшко); отнятие жалованных Екатериной II привилегий дворянству; дарование крестьянам трехдневной (только!) барщины; попытка поставить на место гвардию, бывшую душою всех дворцовых переворотов XVIII века, и вместе с тем — самовластье, жестокость, подозрительность, мелочность, непредсказуемость… В Павле как бы сходятся ток и противоток русской жизни; в чертах его то и дело проступает лик фонвизинского Стародума, критикующего развратный и двоедушный век Екатерины с позиций честной старины. Для любого историка Павел — загадка. И Пушкин, и Толстой собирались писать о нем как о совершенно самобытной фигуре русской истории, — и оба не написали. Однако и хулители, и сторонники Павла сходились в одном — что имеют дело с фигурой необычного масштаба и предназначенья. Декабрист Владимир Штейнгель находит, что «кратковременное царствование Павла I вообще ожидает наблюдательного и беспристрастного историка, и тогда узнает свет, что оно было необходимо для блага и будущего величия России после роскошного царствования Екатерины II». Знаменитый генерал А. П. Ермолов, герой 1812 года, при Павле два года просидевший в заключении, никогда не позволял себе «никакой горечи» в высказываниях о бывшем императоре, напротив, «говорил, что у покойного императора были великие черты и исторический его характер еще не определен у нас» 354. Метафизическая, так сказать, задача Павла — остановить время, идущее «не туда», впрыснуть в него «благородной старины». Или, по крайней мере, вернуться вспять ко времени Петра, к началу «славных дел» и продолжить их по своему усмотрению, причем буквально — только по его личному, императора Павла I, усмотрению — а следовательно, все развитие России на протяжении XVIII века — отменить, как ложное, покончить с «просвещением» и неизбежным следствием оного — некоторой «вольностью» (хотя бы только дворянства). Император, окруженный группой «верных», и белый лист истории — вот идеал Павла.
Разумеется, это попятное движение было невозможно, сам круг «верных» у Павла так и не сложился, постоянно подвергаясь перетасовке; лишенное своих привилегий дворянство затаило глубокую обиду на Павла, но никуда не исчезло; передовые люди, которые желали поначалу видеть в Павле глубокого реформатора, в очень скором времени были разочарованы отсутствием какого-либо намека на реформы — все это фактически лишило его опоры и привело к роковой гибели.
Но были планы — и грандиозные.
Невозможно представить, но ненавидевший французское «якобинство» Павел неожиданно решает перевернуть не только империю, но и мировую историю, вступив в союз с Наполеоном для низвержения Англии! Метаморфоза фантастическая! Чтобы в этом деле понять хоть что-нибудь, необходимо рассматривать время как бы под микроскопом, в очень тонких срезах, ибо в переменах взглядов Павла важны не просто месяцы — дни!
VII
Надежным проводником во времени нам послужит А. В. Суворов.
В 1796‐м — по вступлении Павла I на царство — великий полководец екатерининской поры, герой турецких походов, спаситель России от пугачевщины получает полную отставку и удаляется — вероятно, до конца дней своих — в новгородское имение. Главной интригой европейской политики того времени был разгром Франции — страны всемирной пугачевщины, казнившей своего короля. Австрия, Пруссия, Голландия, Испания и, конечно же, Англия, мечтающая в час смуты добить своего главного конкурента в борьбе за овладение миром, пытаются раздавить «французскую гадину», но не преуспевают в этом. Павел спокойно наблюдает, но до поры не вмешивается; политика его остается прежней: в России находит прибежище эмигрантский двор Людовика XVIII, будущий король Франции получает ежегодную пенсию в размере 200 000 рублей; Австрия и Пруссия как монархии, «стилистически» наиболее приближенные к России, считаются ее традиционными союзниками; английский посол Витворт играет весьма значительную роль в Петербурге и, не скупясь, дарит взятками вельмож, от которых зависит подписание русско-английских торговых договоров; кумиром Павла, как и его отца Петра III, остается покойный прусский император Фридрих II, военные «нововведения» и масонство которого он воспроизводит с буквальной точностью. Казалось бы, у Наполеона нет ни малейшего шанса занять первенствующее место в душе русского императора. Однако это случается.
Когда и как?
В момент, когда Павел I взошел на престол, собственно с революцией во Франции было покончено: антиякобинский переворот в Конвенте уже свершился; Директорию, которая наследовала Конвенту, с большой натяжкой можно было бы назвать «революционной», однако Франция все еще жила по своему немыслимому календарю, в котором отсчет новой эры начинался с первого года революции, и оставалась республикой, причем республикой пассионарной и агрессивной, что показал поход генерала Бонапарта в 1796 году в Италию, подвластную тогда австрийцам, которые повсеместно были им разбиты.
Когда Бонапарт — все еще «просто» генерал Директории — в 1798 году начинает египетскую экспедицию, имеющую весьма далекие стратегические цели, складывается вторая коалиция против Франции, в которую помимо Англии, Австрии, Турции и итальянских княжеств вошла и Россия.
В 1799‐м Павел внезапно вызывает из новгородской глуши Суворова и назначает его главнокомандующим войск, направляемых им в Италию против французов. Суворов выполняет приказ, наголову разбивает французов при Кассано, Треббии и Нови, в пять месяцев «очищает» всю Северную Италию и совершает свой беспримерный переход через Альпы.
В это время англичане под командой адмирала Нельсона сжигают французский флот при Абукире, лишив «египетский корпус» Бонапарта возможности возвращения во Францию; Бонапарт решает пробиваться посуху, двигает корпус в Сирию, где войска настигает чума, а честолюбивого генерала — весть о «шаткости Директории». Недолго думая, он бросает корпус и с тремя фрегатами, незамеченный англичанами, возвращается во Францию, где народ приветствует его как освободителя. В ноябре 1799‐го генерал Бонапарт арестовывает Директорию, разгоняет «совет пятисот» и получает, по новой конституции, звание Первого Консула (со всеми правами конституционного государя). Резиденцию переносит в Тюильри и составляет блестящий двор. В начале 1800‐го Первый Консул предлагает мир Австрии и Англии, но те отвергают его.
Когда в конце 1799 года Суворов завершает переход через Сен-Готард, стоивший ему одной трети армии, Павел подбадривает его: «Не мне тебя, герой, награждать, ты выше мер моих» 355. Павел понимает исключительность подвига русской армии и самого Суворова. Именно тогда он присваивает бывшему опальному фельдмаршалу чин Генералиссимуса и велит упоминать его в церквах вместе с императорской фамилией. Однако когда в начале 1800 года речь заходит о новом, совместном с австрийцами походе, Суворов получает от императора в высшей степени конфиденциальное послание: «Плюньте на Тугута, Бельгарда и выше 356. Возвратитесь домой, Вам все рады будут» 357. Но, вернувшись, по велению царя, в Россию, Суворов немедленно впадает в немилость, триумф его отменяется, и он, больной, отправляется в свою новгородскую вотчину, где в мае и умирает.
Что значит такая перемена императора к полководцу, неимоверно возвысившему военный престиж России?
Нет, «самодурством» здесь ничего не объяснишь.
Дело серьезнее.
В несколько месяцев — от начала 1800 года до весны — планы Павла резко изменились. Фактически, отозвав Суворова домой, он выходит из антифранцузской коалиции и начинает проводить — и с каждым днем все отчетливее — политику, направленную на сближение с Наполеоном. Это ускоряет и созревание заговора против Павла, в который первоначально входили: 1) Н. П. Панин, 29‐летний блестящий дипломат, назначенный Павлом вице-президентом коллегии иностранных дел и в этих делах, несомненно, настроенный проанглийски, в отличие от своего шефа, графа Ф. В. Растопчина, всемерно поощрявшего сближение Павла с Францией; 2) О. А. Жеребцова — родная сестра фаворита Екатерины II П. Зубова, красавица, авантюристка; 3) «ферзь» задуманной игры, отменно хитрый царедворец, пользующийся, к тому же, доверием Павла — граф П. А. Пален и 4) английский посол (с 1788 г.) в России, лорд Витворт, через свое правительство, несомненно, финансировавший заговорщиков и поощрявший развитие заговора вширь.
Посла Витворта понять легко: он действует в интересах своей родины и желает любой ценой предотвратить катастрофу, могущую произойти вследствие объединения Франции с Россией. Тем более, что и российский государь высказывался весьма определенно, что не удовлетворен Англией как союзницей и, более того, горит решимостью положить конец корыстолюбивой эгоистической политике и несправедливостям «Великобританского правительства». То, что Англия в преследовании своих интересов двоедушна и корыстолюбива — общее место любой политики вообще. Англичане, разумеется, старались не лезть в пекло и не переходили Альпы, но упрекнуть их как недостаточно рьяных союзников в борьбе с Францией нелегко. Для этого нужен какой-то особенный повод. Что-то «интимное», глубоко личное в хрупкой внутренней структуре российского самодержца должно быть болезненно затронуто, что-то должно было глубоко оскорбить его…
Что же?
Осмелимся предположить, что этой интимной, сугубо личной причиной, повлекшей за собой грандиозную внешнеполитическую перестройку, был захват англичанами Мальты в том же роковом 1800 году. Ведь Мальта — пустынный островок в Средиземном море, неподалеку от французских берегов — с 1525 года была прибежищем мальтийского ордена Св. Иоанна Иерусалимского. Когда после захвата Мальты англичанами мальтийские рыцари, разыграв совершенно театральное действо, в пропыленных каретах и одеждах прибыли к Павлу и попросили у него крова, обещав сделать его Великим магистром ордена, Павел, с одной стороны, был необычайно польщен, с другой — его рыцарское чувство было оскорблено в самой своей глубине.
Драгоценные детские мечтания императора были грубо растоптаны.
Еще в детстве юному Павлу зачитывались истории про орден мальтийских кавалеров. «Изволил он потом забавляться и, привязав к кавалерии свой флаг адмиральский, представлять себя кавалером Мальтийским», — писал в дневнике учитель юного Павла С. А. Порошин. И далее: «Представлял себя послом Мальтийским и говорил перед маленьким князем Куракиным речь…» 358 Учителю не откажешь в проницательности, во всяком случае, он совершенно верно делает вывод, что угнетенность и униженность будущего царя, обида на мать во многом компенсировались воображением, в котором немалое место занимали рыцари, объединенные в некий «дворянский корпус»…
Сами того не ведая, захватив Мальту, англичане попрали самые драгоценные детские мечты русского императора. Но опа-а-асно так грубо тревожить сокровенное сильных мира сего!
VIII
В марте 1800‐го Павел высылает из России лорда Витворта. Отношения с Англией разорваны. Таким образом выбор — либо война с Францией, либо война с Англией — одназначно решен в пользу французов против Англии. Павла как будто и не волнует, что Наполеон в это время — всего только Первый Консул, а не император: «Он делает дела, и с ним можно иметь дело» 359, — решительно заявляет царь. Отныне тот, кто выиграет время, решит судьбу России. Павел не понимает этого. При всей своей подозрительности он не догадывается о заговоре против себя до самых последних своих дней. Все лето 1800‐го заговорщики без устали плетут смертельную паутину, а заграничные курьеры того времени так медлительны!
Однако после «летних каникул» император приступает к решительным действиям.
Едва вернувшись в Петербург, царь объявляет эмбарго на все английские товары, тем самым предвосхищая политику «континентальной блокады», при помощи которой позднее будет пытаться удушить английскую экономику Наполеон.
Растопчин расписывает Павлу блистательные перспективы союза с Францией.
Война с Англией неумолимо приближается.
13 ноября 1800‐го составлены две «инспекции» для грядущей кампании. Предполагаемым полем военных действий избирается Германия. Русская армия по этому плану делится на три части и изначально занимает позиции в Брест-Литовске (главнокомандующий — Пален); Луцке (М. И. Кутузов) и Витебске (Н. И. Салтыков) 360.
4 декабря заключен военный союз со Швецией.
16 декабря оформляется союз всех скандинавских стран против Англии. В поощрение союзникам Дании обещан Гамбург; Швеции — Любек; Пруссии будет предложено занять Ганновер (вассально связанный с Англией), а в случае ее отказа эта область отходит Франции.
18 декабря происходит разрыв с эмигрантским двором Людовика XVIII и высылка его из страны, в этот же день Павел со специальным дипломатическим представителем царя Спренгпортеном отсылает свое первое послание Наполеону.
Наполеон, не дождавшись письма Павла и не зная о нем (что за век? ни телефона, ни телеграфа на худой конец!), на несколько дней раньше, 10 декабря, сам пишет послание русскому царю, предлагая ему союз, «при котором оружие выпадет из рук Англии, Германии или других держав», и делает первые намеки относительно совместного раздела Азии.
Как только письмо русского царя доставлено в Париж, при дворе Наполеона мгновенно оценивают ситуацию: «Раздел мира между Дон Кихотом и Цезарем!» 361
Павел, получив депешу от Первого Консула, тоже не скрывает радости: пробил, пробил час его, императора Павла I, торжества! Осталось уладить лишь кое-какие мелочи — вопрос о Мальте (которую Наполеон хотел оставить за собой), Египте, целостности Неаполитанского, Баварского и Вюртембергского королевств (дорогих Павлу) — и пред Россией преклонит голову и двоедушная Англия, и Австрия, которую в запальчивости Павел называет «слепой курицей». Идея же азиатского похода вдруг взрывается таким количеством точных, выверенных подробностей, как будто она давно созрела у Павла и только ждала часа, чтобы явиться во всех деталях: во всяком случае, Наполеон явно не ожидал, что Россия примет идею азийского похода так близко к сердцу, а главное, поставит ее исполнение в разряд технических вопросов, которые все будут решены к маю 1801‐го…
Наполеон не знает (он только может догадываться по донесениям посланных в Санкт-Петербург шпионок), сколь шатко положение Павла. Для того, чтобы составить военный союз между Россией и Францией нужны, по крайней мере, месяцы. Для того, чтобы созрел и «сработал» заговор, — мы знаем точно — ровно два месяца и 11 дней. Как писал блестящий историк вопроса Н. Я. Эйдельман: «Каждый день все опаснее для монарха. И все рискованнее для заговорщиков» 362. Заговорщики вовсю вербуют сторонников. Вербовка осенью 1800 — зимой 1801 года обычно совершалась на званых обедах: оттого угрюмый, безлюдный павловский Петербург на переломе века вдруг озаряется огнями празднеств. Вербовали «участников», «исполнителей», «посвященных» — узкий круг генералов, офицеров гвардии, сенаторов; гораздо шире — необходимый круг «сочувствующих» — тех же гвардейцев и просто военных, «вольнолюбцев» из штатских; наконец, точно так же вербовали и еще одно немаловажное лицо во всей этой истории — престолонаследника, сына Павла, будущего императора Александра I…
В конце 1800 года планы заговорщиков чуть не разрушила «госпожа Бонейль», шпионка Наполеона, которой удалось скомпрометировать и выбить из рядов заговорщиков одну из заглавных фигур, стоящих у колыбели заговора, — англофила графа Панина. 17 ноября разжалованный Панин выслан из Петербурга, но его удаление — всего лишь одна из «опал» государя: заговор так законспирирован, что даже шпионки Бонапарта о нем не догадываются…
В то же время другая шпионка Наполеона, госпожа Шевалье, добившаяся благорасположения знатного вельможи Кутайсова и самого Павла, угодила в сети Палена, которому через нее удалось-таки то, что не удавалось напрямую: оклеветать Растопчина, представив его царю как «обманщика, ведущего двойную игру». В решающий момент переговоров между Павлом и Бонапартом — 20 февраля — Растопчин, больше всего сделавший для этого союза, внезапно уволен от всех дел, а его должность в коллегии иностранных дел с сохранением должности санкт-петербургского генерал-губернатора перешла в руки главной фигуры заговора, «ферзя»: графа П. А. Палена. «Растопчин проиграл — себя и своего императора» 363, — так расценивает эту комбинацию Эйдельман. Последнее серьезное препятствие на пути заговора было устранено.
IX
Однако дело еще не было кончено: из очередного письма Павла Наполеон узнает подробности своего плана «раздела Азии», который в переработанном императором Павлом виде оказывался не чем иным… как планом похода на Индию, отправленным для согласования и «апробирования» в Париж.
По этому плану Наполеон должен был бы собрать 35‐тысячный корпус под командованием одного из прославленных генералов (Павел настаивал на кандидатуре Массена, разбившего австрийцев при Цюрихе) и по Дунаю направить его через Черное море в Таганрог (русский порт на Азовском море). Оттуда — пешим ходом до Царицына, оттуда — по Волге — до Астрахани. Оттуда — на судах через Каспийское море (недоступное для флота англичан) в Астрабад (ныне Горган, персидский город близ юго-восточного берега Каспия), где французов уже поджидал бы заранее доставленый туда 35‐тысячный русский корпус. Маршрут франко-русской армии спроектирован был на Герат («ключ к Индии»), затем — к Ферраху и через Кандагар к правому берегу Инда. Как и в египетском походе, в армии должны были находиться инженеры, художники, ученые, воздухоплаватели и пиротехники; составлены были соображения также о подарочных тканях и празднествах, которыми следовало влиять на умы азиатских народов… Выступление французских войск было запланировано на май, весь переход с берегов Рейна к Инду был рассчитан максимум на пять месяцев, следовательно, не позже чем в конце сентября 70‐тысячный франко-русский корпус должен был, как снег на голову, обрушиться на англичан… В дополнение к этим мерам Павел велел оснастить на Камчатке три фрегата и отправить их в Индийский океан для отпора английскому флоту…
В середине XVIII столетия Франция в результате кровопролитных войн вынуждена была уступить Англии Канаду и все свои владения в Индии. Вернуть их с помощью России — о таком Первый Консул и не помышлял! План Павла казался чересчур уж смелым… Первые вопросы Наполеона отдают даже робостью: «Пропустит ли султан корабли по Дунаю?» Однако скоро он входит во вкус и делает контрпредложения: задействовать в движении на восток «египетский корпус», который зимой 1800/1801 еще не капитулировал и если бы план был приведен в исполнение, очевидно, сыграл бы в нем свою роль.
Советский историк С. Окунь, глубокий знаток проблемы, оценивал павловский замысел очень высоко: «Нельзя не признать, что по выбору операционного направления план этот был разработан как нельзя лучше. Этот путь являлся кратчайшим и наиболее удобным. Именно по этому пути в древности прошли фаланги Александра Македонского, а в 40‐х годах XVIII века пронеслась конница Надир-шаха. Учитывая небольшое количество войск в Индии, союз с Персией, к заключению которого были приняты меры, и, наконец, помощь и сочувствие индусов, на которые рассчитывали, следует также признать, что и численность экспедиционного корпуса была вполне достаточной…» 364
Наполеон, взвесив все «за» и «против», пришел к подобным же выводам и отослал в Санкт-Петербург своего адъютанта Дюрока с подтверждением своей готовности участвовать в походе, но когда Дюрок в конце марта прибыл в столицу империи Российской, императора Павла Петровича уже не было в живых. Официальная версия гласила: «Скончался апоплексическим ударом». В городе еще ходили слухи о гигантском английском флоте, который вошел или готов войти в Балтийское море через Зунд — пролив между Данией и Швецией, но приказ проверить эти слухи и при необходимости «поставить командующего английским флотом в известность о происшедших переменах» отдавал уже новый царь — император Александр I.
X
Таким образом второй российский поход на Индию, будучи детально проработанным теоретически, так и остался мечтой, своеобразным историческим казусом, который был очень быстро вплетен в серию анекдотических слухов о «сумасшедшем императоре». Единственное, что делало этот поход, несмотря ни на что, реальным, была (тоже очень скоро вошедшая в разряд исторических анекдотов) отправка Донского казачьего войска в «поход на Индию». В нашей ситуации она звучит как преждевременный выстрел, фальстарт или осечка сигнального пистолета, ибо приказ о выступлении генерал Орлов, атаман Донского казачьего войска, получил уже 12 января, явно вне связи с последующими очень тщательными и выверенными по времени проработками. Казакам предписывалось в течение месяца с территории Войска Донского достигнуть Оренбурга, а оттуда в три месяца «через Бухарию и Хиву на реку Индус». Приказ по форме и по содержанию был самым что ни на есть «настоящим»: казакам предписывалось, в частности, торговые заведения Англии в Индостане разорить, «а угнетенных владельцев освободить и землю привесть России в ту же зависимость, в какой она у англичан, и торг обратить к нам». Можно себе вообразить, что казаки были посланы в Индию в качестве, так сказать, передового отряда, — хотя это мало сообразуется с «часовою механикой» всего индийского похода: во всяком случае, «на реке Индус» казаки должны были бы оказаться уже в начале лета 1801 года, за три месяца до подхода основных сил экспедиции. И это заставляет предполагать, что причина, вызвавшая «фальстарт» казаков, была не та, что подразумевается обыкновенно — тем более что ни в феврале, ни в марте, когда и общие, и даже частные детали этой экспедиции были ясны и Павлу, и Наполеону, никто не попытался остановить казаков, успевших ко времени убийства императора ускакать глубоко в киргиз-кайсацкие степи. Значит, приказ о выступлении казаков в Индию и задуманный Павлом «индийский поход» лежат в совершенно разных плоскостях.
В чем тут дело?
Екатерина II после Пугачевского бунта откровенно ненавидела казаков, называя их просто «вооруженными крестьянами». Павел не был бы самим собой, если бы не считал, наперекор своей матушке, что это не так. Казаки были в его Гатчинском потешном воинстве, и один из них, Евграф Грузинов, дослужился до чина полковника, причем пользовался редким благорасположением императора. Это его и подвело. В 1798 году Павел пожаловал Грузинову тысячу душ в Московской и Тамбовской губерниях, но тот, к изумлению царя, решительно отказался от принятия подарка. То был, как пишет Н. Я. Эйдельман, акт чисто казацкой независимости: нежелание быть одолжену сверх меры и за то поступиться вольностью.
Однако отказ от царской милости вызвал у Павла припадок ярости: нимало не скорбя, он заточает своего соратника-гатчинца в Ревельскую крепость, а затем вместе с братом ссылает под надзор на Дон, где осенью все того же, рокового, 1800 года и разразилось, как гром среди ясного неба, «дело Грузиновых». Первым был допрошен Петр Грузинов, отставной подполковник; он заявил, что «не слушает ни генералов, ни фельдмаршалов», за что был тут же арестован. Узнав об аресте брата, Евграф Грузинов разразился «самыми поносными и скверно-матерными словами», да «коснулся при том, произнести такое же злоречивое изречение и к имени императорского величества, что повторял неоднократно». Будучи после этих заявлений неоднократно допрошены с пристрастием, братья от слов своих не отреклись, так что вызвали у следствия глубокое недоумение: как мог Евграф Грузинов, «человек пугачевского склада», так долго находиться при государе? Ответа не было. Но крамола, которой еще не видывала и не слыхивала павловская Россия, — была. Так, идеалом управления страной был, по Грузинову, «всеверующий, всезнающий, премудрый, всетворящий, всевластительный, всесословный, преблагой, пресправедливый, всесвободный Сенат». «Эта формула, — читаем у Н. Я. Эйдельмана, — имитирующая атрибуты Бога из Катехизиса и по сути близкая к пугачевским «неистовым манифестам», дополняется заявлениями Е. Грузинова: «Я не так как Пугач, но еще лучше сделаю».
Разумеется, оба брата были, по выяснении дела, в октябре 1800‐го казнены в Черкасске. Но что было делать с крамолой? Павел, убежденный, что «в России нет важных лиц, кроме того, с которым я говорю, и пока я с ним говорю», не знал, что делать с такими вот неохватным и дерзким самовольством. Выходило, что дворянство боится его, а казаки — нет. Крамола внутри каждого, и она неизживаема. Что делать? Посылать войска на Дон нет повода. И тогда является мысль — услать всех казаков, в количестве 30 тысяч, со всей их крамолой, за тридевять земель, на край света — чтобы там, на том неведомом краю, они бы, лучше всего, и сгинули. Так казаки получают «преждевременный» приказ о выступлении в Индию и, таким образом, попадают в историю «индийского похода»…
XI
История союза Павла с Наполеоном, замысел совместного «индийского похода» — широкие врата, в которые так и рвется проскочить любопытство с бесконечными вопросами: а что было бы, если? Но заигрывание с сослагательным наклонением в истории — бессмысленно, и не только потому, что навряд ли раздел мира между «Дон Кихотом» и «Цезарем» мог бы быть равноправным. Вообще сомнительно, чтобы такая химера, как союз двух самовластных государей, была жизнеспособна. К тому же век Павла неудержимо подходил к концу: ведь, помимо сослагательного, история имеет еще изъявительное и даже повелительное наклонения. Не кто-нибудь, а история повелела ему: «Умри!» И против этого веления бессильны были любые союзы, перемены приближенных, казни, о которых, уходя спать в последнюю ночь своей жизни, говорил император… Россия изжила Павла. За четыре года он расчистил «тяжелую, старушечью, удушливую атмосферу последнего екатерининского времени» (А. И. Герцен) 365, но дальше, со своим романтическим, но отнюдь не просвещенным абсолютизмом, становился против логики необходимого стране движения — и прежде всего развития культурного, этического, гражданского… Россия при Павле до конца прожила историю своего рабства, и в конце концов, выяснилось, что она этого рабства не хочет. Задержись Павел на троне — и вся история пушкинского и декабристского просвещения не состоялась бы, не было бы ни великого духовного подъема 1812 года, ни декабрьского выступления 1825‐го. Вся духовная история России исказилась бы…
Мы отклонились от темы, но следует все же добавить к сказанному несколько слов, потому что сюжет еще не исчерпал себя. Совместный русско-французский поход на Индию не состоялся de facto. Для русских и для французов, очень скоро встретившихся лицом к лицу на полях сражений, это быстро стало очевидным. А вот Англия восприняла случившееся совершенно иначе: для нее сам замысел был равен исполнению. Поэтому после окончательной победы над Наполеоном в 1815‐м Россия, которую историческая логика XIX столетия все дальше вовлекала в азиатские дела, стала врагом № 1 Англии на Востоке. И хотя «индийская тема» в российской политике была в XIX веке полностью исчерпана 366, это противостояние России и Англии на Востоке имело разветвленное продолжение в открытой и тайной дипломатии, торгово‐разведочных «экспедициях», заказных убийствах и открытых столкновениях: самым мощным была Крымская война, начатая в 1853 году Англией, Францией и Турцией для «окорота» России по всему фронту. Продолжается это противостояние России и Запада и теперь, но это — уже не область исторических курьезов, а текущая политика, о которой мне, признаться, не хочется говорить.
XII
С легким сердцем возвращаюсь я из путешествия во времени: смыслы, тем более смыслы колониальных завоеваний, «приобретений», военных интриг, кампаний и побед — кажутся мне очень примитивными и в принципе сейчас уже неважными. Чего-то другого ждет от всех нас новый век. Первобытное мышление «текущей политики» со всеми ее «государственными интересами», выхолощенными представлениями о человеке и возможном для человека счастье, становится просто непереносимым. Я бы хотел думать о земных проблемах с тою же степенью чистой веры в торжество человеческого разума, которая присутствует в футуристических утопиях Жака Фреско. И с той же ответственностью за перемены, которой отмечена жизнь Шри Ауробиндо 367. Индия, по счастью, так и осталась для России мечтой. Только в пространстве мечты мог возникнуть захватывающий художественный и духовный проект Николая 368 и Святослава 369 Рерихов. Для сотен — или тысяч? — или десятков тысяч? — счастливчиков мечта смогла превратить завоевание Индии в духовный поиск, связанный с практикой йоги, погружением в буддизм или в еще более древнюю индийскую мудрость. Или в музыку. Мечта! — какой, в самом деле, простор для музыки после бесконечных военных маршей, слаженного боя солдатских сапог, грома орудий и хрипа раненых, которые услаждали слух честолюбцев минувших веков! Tala Rasa Ranga 370. Однажды в Тбилиси, в крошечном саду, прикрытом виноградными лозами, мне удалось извлечь несколько звуков из индийского ситара — и это прикосновение к Индии под черным звездным небом Грузии было воистину волшебно… Индийский бог Сома курился в сознании струйкой терпкого дыма, красное вино домашней выделки, врезанное в стекло, как драгоценный гранат, кусок сыра и помидор составляли центр празднества, которое рождалось, как чудо жизни, музыки, любви и дружбы, на языке которой так прекрасно умеют говорить грузины…
ХАЗАРСКИЙ ЛАБИРИНТ
I
Книга Милорада Павича «Хазарский словарь» по мере перевода ее на разные языки неожиданно сделала массовым интерес к «открытой» им волшебной стране — Хазарии — прежде занимавшей умы лишь очень небольшого числа специалистов. Владения Хазарского каганата — могущественной «кочевой империи» раннего Средневековья — простирались от дельты Волги до Крыма и Днепра, но, однако, о хазарах мы знаем из византийских, армянских, русских и арабских летописей, но почти ничего от них самих. Мастерски выстроенный роман-лексикон действительно производит впечатление грандиозной литературной реконструкции некоего «словаря словарей», где сведены воедино все известные христианские, мусульманские и еврейские сведения о таинственной стране хазар, воспоминания о которой нет-нет да и всплывают в литературной памяти — то в «Песне о вещем Олеге» Пушкина, то в романе Павича.
Археология занялась хазарами сравнительно недавно — лишь в середине минувшего века. До этого долгое время казалось, что сама страна хазар канула в безвозвратное прошлое, не оставив по себе никакой запечатленной в материи памяти — ни развалин, ни летописей, ни произведений искусства, ни даже могил. Так что Павич знал, где можно выпустить на волю свою фантазию. Побывав впервые в Астрахани, я с изумлением узнал, что на самом деле никто даже не знает, где была хазарская столица — Итиль. Почему-то это потрясло меня больше всего: я рассчитывал увидеть если не развалины стен, то хотя бы какие-то валы, по которым можно бродить, тем более что нечто подобное было обозначено на подробной карте Астраханской области на одном из волжских островов под туристически-прямолинейным названием: «развалины городища Итиль».
Я вышел на археологов, которых занимал тот же вопрос. Они посмеялись:
— Вы не первый, кого это потрясает. Впрочем, если хотите, позвоните месяца через два.
— А что будет месяца через два?
— Вот тогда это и выяснится…
II
Путешествия из города в город или с континента на континент с томиком любимого автора в руках давно уже стали традицией. Но, взяв книгу Павича в качестве путеводителя по Хазарии, рискуешь попасть впросак: там можно обнаружить все что угодно — историю доктора Исайло Сука и его убийства, небылицы о подкреплении мужской силы ядовитыми грибами, строфы прощального слова еврея из «жидиады» и построение пальцев на грифе лютни при исполнении «пестроряда шайтана» — но только ни слова о Хазарии и о том, где ее искать, высадившись, скажем, на станции «Астрахань-пасс.», в самом сердце Хазарского каганата.
Аврам Бранкович, один из любимых персонажей Милорада Павича, родился в 1651 году в Трансильвании, хотя семья его пришла в придунайские страны откуда-то с юга, усвоив шесть языков, меж коими отмечены русский, еврейский и турецкий. Спустя тридцать восемь лет средь битвы с турками он, спящий, был заколот юношей с одним седым усом и стеклянными ногтями, в тот момент приснившимся ему. Павич приписывал хазарам способность видеть сны, которые сбываются наяву. Передача этого генетического признака по наследству продлевает историю хазар до наших дней.
Аврам Фиркович, возможно не имеющий никакого касательства к герою Павича, а возможно являющийся его прототипом, родился и жил в Крыму и никогда не участвовал, тем более спящим, в битвах между сербами и турками, чем и обеспечил, вероятно, свое долголетие. С Бранковичем, персонажем «Хазарского словаря», безусловно, роднит его страсть к собиранию редких книг и манускриптов, посвященных Хазарии. До конца своей жизни Аврам Фиркович прожил в старинном, XVIII столетия, доме в бывшей — и тогда уже почти всеми покинутой — столице крымских караимов, Чуфут-Кале. А когда в 1875 году он почил в бозе, среди собранных им по миру рукописей, помимо разной давности манускриптов пятикнижия Моисеева обнаружилась копия ответа хазарского царя Иосифа видному еврейскому сановнику на службе у кордовского халифа Хасдаю ибн-иль Шафруту. Письмо было написано в Х веке, когда Кордова, как и другие области Испании, была под властью арабов. Впервые эту переписку опубликовал в 1577 году в Константинополе изгнанный из Испании Исаак Акриш. С тех самых пор подлинность ее вызывала сомнения, несмотря на наличие второй, «оксфордской» рукописи. Гонения на евреев в Европе как раз набирали силу, и кто мог поручиться, что им не взбрело в голову — хотя бы и в прошлом! — намечтать себе чуть ли ни целую империю где-то на волжских берегах? Однако обнаружение еще одного — расширенного — варианта переписки и сличение трех текстов подтвердило, что подлинность документов неоспорима, а следовательно, испанские евреи еще в Х веке нащупывали в Поволжье обетованное им царство, откуда воссияет свет и начнется распространение «истинной веры» по всему миру…
Ответ царя Иосифа начинается с традиционых изъявлений благосклонности к собеседнику, а заканчивается чудной поэтической недомолвкой: «Ты еще спросил меня относительно «конца чудес». Наши глаза устремлены к…»
К чему? К небу? К Богу? К пустыне? К ветру? К морю? К реке? К восходу? К закату?
III
Вся сложность изучения хазарского вопроса для современных ученых заключена в том, что до самых недавних пор непонятно было, какие исторические памятники принадлежат собственно хазарам. Весь список «хазарских древностей» (находок, которые ученые однозначно приписывают хазарам) исчерпывается несколькими десятками наименований, из которых наиболее знаменит ритуальный ковшик с изображенными на нем сценами мифической битвы, несколько реликвариев с богатыми сказочно-мифологическими изображениями, кирпич из крепости Саркел с планом святилища-лабиринта, каменная плита с рунической надписью на ней и еще несколько подобных, но только гораздо более коротких и отрывочных надписей на черепе быка и осколках посуды… Хазарские руны похожи на тюркские, хорошо известные по Сибири и Прибайкалью, но, в отличие от последних, они до сих пор не расшифрованы, ключ к хазарскому языку не найден, и все «послания» хазар остаются немыми для нас. Что же касается могил… «Определенно хазарскими» ученые признают подкурганные захоронения с опоясывающими их ровиками. Курганов таких сотни, и находят в них классический для погребения воина-кочевника набор: останки коня, сбруи, доспехов, оружия.
Но в 1960 году в дельте Волги было обнаружено погребение, очень отличающееся от захоронений всех известных кочевников, признававших над собою власть хазарского кагана: то была могила мужчины с серьгой в ухе где, помимо скелета был найден еще нож и кувшин с рифлением и лощением, непохожий на все, найденные на Волге до тех пор.
Затем были найдены странные захоронения на «Маячном бугре» неподалеку от Астрахани. В них также совершенно отсутствовали черты кочевого погребального обряда. Не было ни сбруи, ни седел, ни оружия, ни стремян, зато были виноградные косточки, семена дыни, проса, рыболовные крючки, нож для обрезки винограда, кочедык для плетения сетей… Такие захоронения мог делать только оседлый народ, круг занятий которого незачем и объяснять: находки говорят сами за себя. Так кто же были хазары — исконные оседлые обитатели низовий Терека и Волги или пришельцы и кочевники? Для того чтобы ясно ответить на этот вопрос, надо взглянуть на проблему с помощью широкоугольной оптики: то есть рассмотреть уцелевшие памятники в возможно более широком контексте.
IV
Первым хазар упомянул сирийский летописец Захарий Ритор в середине VI века. К этому времени в истории стран Азии произошли важные события. Огромные территории подпали под власть Тюркского каганата — исполинской «кочевой империи», раскинувшейся на степных просторах от Китая до Волги. Тюркский каганат недолго просуществовал в притязаниях на все стороны света: со временем он распался на западный и восточный. Восточный — со ставкой на Балхаше — породил впоследствии многочисленные тюркоязычные народы Средней Азии. А с Западным вышло совсем не так просто. Как и все молодые и переполненные энергией народы — а хазары были, собственно, одним из тюркских племен — они занимались не столько скотоводством, сколько грабежом, совершая регулярные набеги на Закавказье и Крым. Так они и попали в поле зрения летописцев. Кроме того, во время этих набегов они не могли не повстречаться с народом, обитавшим на островах волжской дельты, который и оставил после себя древние могилы земледельцев и рыболовов. По-видимому, этот народ позже был попросту ассимилирован хазарами, но полностью не исчез, ибо и гораздо позже, в арабских летописях, упоминалось, например, что «хазары не производят ничего и не вывозят ничего, кроме рыбьего клея». Вряд ли варить рыбий клей стали бы воинственные тюрки. Скорее это все те же жители дельты, о которых даже в летописях не осталось следа. Лишь несколько странных погребений…
Византия — на примере своих крымских владений — мгновенно оценила опасность, исходящую со стороны новых «хозяев степи», и поспешила уже в 579 году заключить с ними союз и направить агрессию хазар через Закавказье на Иран, своего давнего врага. Первый прорыв хазар в Закавказье через Дарьяльское ущелье закончился неудачно: персы разбили их при Герате, чем надолго охолодили их пыл. Однако хазарам приглянулась плодородная долина Терека, и они «зацепились» там, воздвигнув крепость Семендер недалеко от современной Махачкалы. В 627 году они разгромили Дербент — пограничную крепость, тогда принадлежавшую персам, штурмом «в лоб» взяв его неприступную стену. Древнеармянский историк Моисей Каланкатуаци был очевидцем этого штурма и описывает хазар с нескрываемым омерзением: «…видя страшную опасность со стороны безобразной, гнусной, широколицей, безресничной толпы, которая в образе женщин с распущенными волосами устремилась на них, содрогание овладело жителями, особенно при виде метких и сильных стрелков, которые как бы сильным градом одождили их, и как хищные волки, потерявшие стыд, бросились на них и беспощадно перерезали их на улицах и площадях города… Как огонь проникает в горящий тростник, так входили они в одни двери и выходили в другие, оставляя там деяния хищных птиц и зверей…» В тот же год византийцы и хазары осадили Тбилиси. Грузины вынесли на стену тыкву и нарисовали на ней лицо кагана: вместо бровей — тонкие черточки, подбородок голый, редкие волосы на усах, ноздри — шириной в локоть, — и кричали: «Вот царь ваш!»
Впрочем, все эти события происходили, собственно, еще в дохазарской истории. Механизм ее был взведен далеко от тех мест, куда хазары совершали свои набеги. В 659 году арабы с благовестом новой веры вторглись в Согдиану, сокрушив не только Персию, но и Западно-Тюркский каганат со ставкой на озере Балхаш, а китайцы, захватив Джунгарию, отрезали хазарам путь на восток: поэтому тюркский каган из царственного рода Ашина вынужден был бежать за Волгу. Так хазары обрели новую родину, а на исторической карте появилось то, что, собственно, и принято называть Хазарией. Власть кагана признавало все тогдашнее население степи: многочисленные тюркские племена и племена будущих финно-угров (например, венгров), а также жители кавказских предгорий — хуны (аварцы) и аланы. Булгары, огузы, венгры, печенеги и другие народы, населявшие каганат, прошли через него, как сквозь золотое сито, лежащее в потоке времени, на которое эти народы налипали, влекомые течением истории, чтобы потом, увлекаемые силой того же течения, отлипнуть от сита, прихватив несколько крупинок золота, первые навыки культуры, и пуститься в собственное историческое странствие, которое для одних оказалось достаточно успешным и продолжительным (как, например, для венгров), а для других, как для половцев, закончилось налетом из разверстых степей первых монгольских отрядов.
V
Предание гласит, что во дворце великого иранского шаха Хосрова Благословенного стояли три гостевых трона — для императоров Византии, Китая и хазарского кагана. В книге византийского императора Константина Багрянородного «О церемониях византийского двора» также предписывалось послания хазарскому кагану запечатывать специальной золотой печатью. И то была не лесть, а политика: хазары занимали стратегическое положение меж Волгой и Черным морем, и главная хитрость была в том, чтобы сохранить с каганом добрые отношения и тем самым обезопасить себя от подвластных ему кочевников. И хотя хазарский каган сам был варваром и язычником, как и все тюрки, поклонявшиеся небесному богу Тенгри, с ним вынуждены были считаться. Извивы внутренней и внешней политики дважды вынуждали претендентов на византийский престол заключать символический брак с хазарскими принцессами. Один такой союз вышел вполне удачным и привел к воцарению в Константинополе императора Льва IV (правил в 775–780), известного под именем Лев Хазар. Этим событием было отмечено завершение целого периода не только хазарской, но и мировой истории, ознаменованного арабской экспансией. Как это ни странно, Хазарии пришлось защищать Византию не от степняков, а от совершенно неизвестного прежде грозного противника. За какие-нибудь тридцать лет после смерти пророка Мухаммада воины ислама захватили Сирию, Египет, Месопотамию, Иран и взяли Византию в стальное полукольцо. Единственными союзниками греков в борьбе с арабами оказались хазары. В 652 году арабы через Дарьяльское ущелье дошли до Дербента и взяли его, намереваясь превратить в северный оплот ислама; они также пытались взять старую хазарскую столицу Беленджер, но хазары отбили их нападение. Сейчас не время судить, заслуженно или незаслуженно хазарам приписывается роль главного фактора, помешавшего распространению ислама на север. Арабо-хазарские войны продолжались без малого сто лет, и именно они позволили Византии удержать свои владения в Малой Азии и сохранить статус великой державы. Для хазар войны эти закончились поражением, хотя порой удача, несомненно, баловала их. Особенно обнадеживающим было начало VIII века, когда воинству кагана удалось в очередной раз взять Дербент и на целый год перенести военные действия сначала на территорию нынешнего Азербайджана, а потом в Армению. В 730 году хазары разбили арабов в битве при Ардебиле и прошли половину пути до Багдада: таких поражений арабы просто еще не знали. Конец войны, возможно, виделся хазарам в радужном свете, но тут и случилась одна из тех неожиданностей, которыми так богата история. В 737 году сильная арабская армия вновь водрузила знамя ислама в Дербенте и вторглась в Хазарию. Семендер и Беленджер были стерты с лица земли, каган признал себя побежденным. Арабские источники утверждают, что условием мира было принятие каганом мусульманства. Стараясь обезопасить себя от обязательств, данных победителям, каган вынужден был спрятать свою столицу в кроне Волжской дельты. Так возник Итиль.
Тут и начинается одна из самых сложных в хазарской истории партитур: вопрос о принятии хазарами иудейской веры. Доподлинно об этом известно чрезвычайно мало, зато «мифология» вопроса чрезвычайно обширна, тем более что он и по сей день не утратил некоторой идеологической заостренности. Писатель Артур Кёстлер благодаря хазарам изобрел панацею от антисемитизма, именно к хазарам возведя начало восточноевропейского еврейства. По крови хазары не семиты, значит, не семиты и их отдаленные потомки, значит — бессмыслен и антисемитизм. И это лишь одна из умозрительных концепций, воздвигнутых на базе «хазарского иудаизма». Ряд историков вслед за Львом Гумилевым считают, что принятие иудаизма не только изменило природу власти в каганате, но и привело его в конечном счете к гибели. Другие ученые видят в этом разумный и целесообразный шаг: если бы каган принял ислам, он оказался бы вассалом халифата, приняв христианство — стал бы вассалом Византии. Но откуда каган древней тюркской династии Ашина узнал об иудейской вере? Кто преподал ему и Тору, и Талмуд? Разумеется, это должны были быть евреи. Но откуда на Волге евреи в конце VIII века? О, бесконечные хазарские вопросы!
VI
Знаменитое письмо хазарского царя Иосифа было ответом видному еврейскому сановнику, служащему у кордовского халифа. Поскольку сановника более всего интересовало, правда ли то, что он услышал от купцов — а именно, что на Востоке существует могучее иудейское царство, а следовательно, царь и армия, готовая выступить в поход за освобождение евреев от плена и гонений, — царь Иосиф прежде всего рассказал историю обращения Хазарии в иудаизм. Он пояснил, что хазары происходят от «сынов Иафета», т. е. не являются семитским народом, и приняли иудаизм добровольно при царе Булане («Булан» по-тюркски — Лось) после того, как тому дважды во сне явился ангел и повелел выстроить храм истинной веры. Далее повествуется о победоносных походах, которые, якобы, вел Булан для того, чтобы добыть золото и серебро для построения храма. Законы жанра требовали не только ангела и победоносных войн, но и традиционного спора о вере. И о таковом было рассказано: иудейский раввин переспорил и христианского «епископа», и мусульманского проповедника, обратившись сначала к христианину, а потом к мусульманину с единственным вопросом: какую веру он считает более истинной — веру пророков или веру оппонента. Христианин сказал, что вера пророков более истинна, чем мусульманство, мусульманин же признал ее более истинной, чем христианство. Таким образом каган убедился, что даже противники считают веру пророков наиболее истинной, и выбрал иудаизм.
Все сказанное должно было необычайно вдохновить далекого автора письма к царю. Тогда вся еврейская история была полна легенд о потерянных после вавилонского пленения еврейских коленах, которые якобы существуют где-то там, за мифической рекой, и придут в конце времен, чтобы собрать евреев, рассеянных по земле. Хазарское царство в этом смысле естественно воспринималось как заря новой эры.
Евреи жили в Хазарии давно. В начале VI века, после резни, связанной с гражданской войной в Иране, некоторая часть евреев бежала на Кавказ и осела, как и хазары, на Тереке еще до начала истории Хазарского каганата. Поселенцы мирно пасли скот, стараясь не ссориться с соседями, и исповедовали свою веру, о которой мы знаем лишь то, что она была крайне упрощена. Один из древнееврейских источников, известный как «кембриджский аноним», называл их евреями колена Симова, позабывшими веру предков. О хазарах той поры он сообщает, что те жили «без закона и без письма». Евреи-переселенцы, как сообщает аноним, «породнились с жителями той страны, и смешались с язычниками, и научились делам их».
В «Хазарской книге» Иегуды Галеви рассказывается, что, решив принять иудаизм, царь Булан поведал о своих видениях своему «визирю» и они вместе пошли в пустынные горы и нашли пещеру, «в которой некоторые из иудеев праздновали каждую субботу», там они открылись им, приняли их веру и совершили обрезание; мало-помалу они открыли свою тайну всем приближенным, а когда сторонников новой веры стало много, они «осилили» остальных хазар и заставили их принять иудаизм. Когда это произошло, неясно. Называемая в комментариях к «еврейско-хазарской переписке» цифра — 740 год — кажется правдоподобной. О том, какой иудаизм восприняли вчерашние язычники, можно лишь строить предположения. Несомненно, эта вера очень отличалась от правильного раввинистского иудаизма, что признает и царь Иосиф, сообщая в своем письме, что только внук Булана, царь Обадия, «поправил царство и утвердил веру надлежащим образом и по правилу. Он выстроил дома собрания и дома учения и собрал мудрецов израильских, дал им серебро и золото, и они объяснили ему 24 книги священного писания, Мишну, Талмуд и сборники праздничных молитв…» В конце концов хазары обрели, надо полагать, «правильную» веру. Гаон Саадия (882–942), возглавлявший талмудическую академию Багдада, неоднократно в своих писаниях упоминает хазар; в частности, он рассказывает об одном месопотамском еврее, отправляющемся в Хазарию на поселение, как будто это случалось чуть ли не ежедневно… Авраам ибн-Дауд сообщал, что в Толедо ему доводилось видеть потомков знатных хазар, «которые были ученые (талмудисты)…». Хазария, несомненно, обрела известность среди еврейства и вошла в еврейский мир, но в то же время на хазар поглядывали с опаской: «воинственные тюрки-иудеи казались, наверное раввинам невидалью, вроде единорога, подвергнутого обрезанию», — едко замечает Артур Кёстлер.
Тем не менее евреи, особенно купцы, с обнаружением «иудейского» царства на Волге, стали наведываться в Хазарию и селиться там. Они понимали выгоды местоположения Итиля, находившегося на самом перекрестье торговых путей — через Хазарию шли две торговые артерии: с Востока на Запад (одно из ответвлений Великого шелкового пути) и с Юга на Север, по Волге, в Великую Пермь, откуда юг получал драгоценные меха. Расселившись в городах, евреи занялись торговлей, к чему хазары способностей не проявили. От Красного моря до Китая было около 200 дневных переходов, а вокруг северного Каспия еще больше. Но северным путем тоже пользовались, так как в халифате Аббасидов восстания были делом заурядным.
Лев Гумилев, создавший целую теорию «еврейского переворота» в Хазарии, несомненно, ошибался в масштабах «еврейского присутствия». Красочно и даже убедительно написанная им картина Итиля как крупнейшего торгового города, не находит подтверждения в археологии. Среди тысяч предметов, найденных на нижней Волге (да и в хазарских поселениях на Тереке), еврейских, собственно, нет — ни украшений, ни амулетов, ни предметов культа. Больше того: здесь практически не находят арабских денег, что подтверждало бы гипотезу о том, что Итиль был великим торгом. Скорее он мог быть транзитной точкой на караванном пути, а все участие хазар в торговле сводилось главным образом к взиманию десятины. Однако, Итиль был все же настолько богатым городом, что мог покупать лучшие по тому времени военные доспехи из Ирана и Закавказья, приглашать зодчих для строительства крепостей из Византии и заказывать ювелирные украшения у лучших мастеров Азии. Повторилась ситуация со «скифским золотом»: скифы, никогда не занимавшиеся ювелирной практикой, делали заказы грекам на свои скифские украшения — и так возник знаменитый «звериный скифский стиль». Подобно этому родился «хазарский лотос», ременные пряжки с ликами, потрясающие золотые сосуды…
VII
Последствия смены веры были неоднозначны. Михаил Артамонов — общепризнанный научный авторитет по истории Хазарии — пишет о жесточайшей «гражданской войне» в Хазарии, о которой повествуют византийские хроники. Очевидно, родовая знать кочевых народов не хотела сдавать свои позиции и жить по новой вере. С принятием иудаизма изменился статус самого кагана: он стал «правителем без власти», символом, вокруг которого еще объединялись кочевые народы. Фактически же власть перешла к «беку». Артамонов пишет о том, что беком был и «царь Булан», от которого и произошла династия хазарских «царей». Родовая аристократия, недовольная тем, что «беки» превратили кагана «в бессильного сакрального царя», восстала против них. Прежде бек отвечал за набор ополчения и пополнение казны. Именно в интересах бека было упрочение городов, сосредоточение богатств в одном месте, развитие торговли, системы взимания дани с соседей: то есть некое плановое хозяйство, противостоящее анархии рискованных военных походов. Бек был заинтересован в передаче власти по наследству для ее стабилизации и в уменьшении роли старой племенной аристократии. В общем-то именно в интересах бека было принятие иудаизма, провозглашающего веру в единого Бога: предполагалось, что это сплотит массу племен, входящих в каганат. Но попытка создать в каганате более жесткую государственную структуру не удалась, а возможно, и не могла удасться на таком продувном месте, как поволжские и причерноморские степи, которые всегда были столбовой дорогой кочевников. Нам никогда не разобраться, что творилось в это время в степи. Но некоторые последствия известны: венгры ушли сначала в Поднепровье, а потом в Паннонию. Часть булгар откочевала с Волги на Дунай. Вслед за венграми в Европу устремилось и племя каваров. Эта часть населения каганата напоминала о далеком прошлом, когда хазары совершали первые набеги в Закавказье. Кавары слыли отважными воинами и великолепными мастерами по обработке металлов. Возможно, именно их предки по приказу кагана учились у грузинских мастеров изготовлению предметов из золота, серебра, железа и меди после взятия Тбилиси в 629 году. С каварами предание связывает клад, известный как «сокровище Надьинмиклош», обнаруженный в 1791 году около венгерской деревушки с тем же названием. В нем было 28 великолепных золотых сосудов Х века. Исследователь венгерских древностей А. Барта отмечал, в частности, что фигура «князя-победителя», который тащит за волосы пленного, и инкрустация на других кувшинах близки по стилю находкам в Нови Пазаре в Болгарии и в хазарском Саркеле.
Хазария изменилась. Раньше это была типичная «кочевая империя», связанная, как и все пластичные образования подобного рода, сетью династических браков, интересами общей безопасности и, по возможности, общей наживы, о чем должен был заботиться владыка своих подданных — тюркский каган. Теперь часть населения осела в городах, живя уже не войнами, а торговлей и земледелием. Степнякам трудно было принять такой образ жизни, так же как и новую, непонятную им религию. В результате города с оседлым населением и степь стали жить разной жизнью. Иудаизм приняла только хазарская верхушка, и теперь «царю», чтобы иметь под рукой верных воинов, недостаточно было, как прежде, кликнуть клич степнякам — пришлось нанимать наемников. Первыми в этой роли выступили гузы, откочевавшие на Волгу из дельты Сыр-Дарьи, где в IX веке их застигла настоящая экологическая катастрофа, когда река сменила русло. Но в конце концов, хазарские правители стали приглашать к себе наемников из Ирана, вернее, из двух маленьких горных княжеств севера, решив, что гузы значительно уступают в воинской доблести воинственным горцам. Разумеется, наемникам надо было платить. А поскольку приезжали они «на службу» с семьями, содержание их обходилось недешево. Откуда же брать для этого деньги? Начались войны, нацеленные на то, чтобы обложить данью соседние народы.
В их число — при постоянном расширении территорий для сбора дани — попали камские булгары, буртасы (по арабским источникам, народ, живший на берегах Волги от нынешнего Саратова до Казани), мордва, марийцы, вятичи, северяне и поляне. Славяне-поляне оказались последними в этом списке: до IX века хазары и славяне не встречались. Но уже в 834 году против славян на Дону хазары, пригласив византийских мастеров, построили крепость Саркел. Подъем вод Каспия в это время лишил хазар более чем половины возделываемых в дельте Волги угодий. Война со славянами за новые плодородные земли была бы, вероятно, неизбежна, но тут в историю, как всегда неожиданно, вломились незваные гости — викинги.
VIII
В IX и Х веках викинги — дружины морских разбойников из Скандинавии — терроризировали всю Европу. Викинги грабили Англию и Францию, викинги нападали на арабские корабли и мечтали о взятии Константинополя. Викинги — Аскольд и Дир — в 862 году пришли в Киев, и обнаружив, что славянская династия князей, основавших город, «сгинула», самозванно стали править в нем. Наконец, разведав путь до Волги, в 909 году викинги — в числе которых были, конечно, разбойники-ушкуйники из северной Руси — внезапно объявились в Итиле. Несомненно, натолкнувшись на большой и богатый город, они должны были бы разграбить его. Но этого не произошло. Почему? Может быть, город не был таким уж богатым? Или хазары оказались хитрее? Головорезов с севера решено было пропустить на Каспий. Больше того, с ними был заключен договор, по которому за свободный проход назад они обязывались отдать хазарскому кагану пятую часть добычи. Поистине, нет ситуации, из которой хитрец не извлек бы выгоды для себя! Не десятина — так вдвое больше! При этом речь шла отнюдь не только о выгоде материальной. Обстановка в исламском мире, от которого зависело благополучие торговли, давно требовала урегулирования. Еще в конце IX века власть на южном побережье Каспийского моря и в Тегеране захватили персидские шииты, началась религиозная война, в результате которой все прежде налаженные торговые связи были разорваны, а транзит север — юг, которым жила Волга, практически перестал приносить доход. Против шиитов надо было начинать войну — но кто будет ее вести? Для войны с мусульманами нужны были воины-иноверцы… А «гвардия» хазарского царя состояла, как назло, из мусульман, да еще из тех самых прикаспийских провинций… И тут, как на заказ, являются русы (норманны и викинги западноевропейской истории), которые могли бы сыграть на Каспии роль карательного отряда. Что они примерно и исполнили, учинив настоящий разгром южного каспийского побережья, бывшего оплотом мятежников. На следующий год пираты вновь наведались на Каспий, а в 913 году пришли к Итилю с самым большим флотом в 500 ладей. Но тут совместное хазарско-варяжское предприятие дало сбой. Поначалу пираты, как всегда, обрушились на южный берег. Но то ли богатства края были исчерпаны предыдущими набегами, то ли нежданных гостей здесь уже ждали, — но по какой-то причине викинги повернули на Ширван и Баку, где сидели правители, поставленные халифатом, друзья хазар, и устроили здесь такую резню, которой до тех пор и не видывали каспийские берега. Вернувшись в Итиль с огромной добычей, варяги, как обычно, отгрузили положенную часть царю Вениамину, однако тот не спешил их пропустить. Самостоятельная инициатива пиратов ему не понравилась. И он позволил своей мусульманской гвардии «отмстить» пришельцам за кровь мусульман и за полон женщин и детей. Битва викингов с воинами ислама продолжалась три дня, и в конце концов Аллах даровал победу своим сынам. Тридцать тысяч русов полегло в этой битве. В плен не брали. Оставшиеся в живых пытались бежать вверх по Волге, но по пути все были истреблены поволжскими народами. Из похода не вернулся никто.
Казалось бы, это должно было разрушить «союз» викингов и хазар, но он оказался крепче, чем можно было ожидать. Как ни странно, в очередной раз объединила их борьба с Византией. В свое время Хазария помогла византийцам сдержать натиск арабов. Но по мере врастания в мусульманский мир, окружавший ее, Хазария изменила свою позицию по отношению к Константинополю: она мечтала прибрать к рукам византийские колонии в Крыму. Викинги же простодушно хотели добраться до Царьграда и разграбить его. Разумеется, не все было гладко: скажем, сын Рюрика Олег, сев на княжение в Киеве, присвоил себе хазарскую дань 371, что удовольствия в Итиле вызвать, разумеется, не могло. Но, с другой стороны, победоносный поход Олега на Царьград в 907‐м не мог не порадовать хазар. Византия была устрашена и унижена. Между Хазарией и Византией назревала война. Когда она началась, хазары прежде всего разбили войско, посланное киевским князем Игорем (младшим сыном Рюрика) в Крым, и потребовали от побежденного князя отправить огромный флот на Царьград. По-существу Игорь действовал как вассал Хазарии. «Кембриджский аноним» подтверждает это. Этот поход, как известно, закончился чудовищным поражением воинства князя и гибелью всего флота от «греческого огня». И все же конец Хазарии был близок. Ибо с варягами на Руси произошло то же, что с тюрками, пришедшими на берега Терека и Волги: они выросли на славянских землях, которые стали их родиной, и их задача была уже не грабить, а «володеть», для чего, прежде всего, надо было освободиться от «союза» с хазарами. Царь Иосиф в своем письме упоминает об упорной войне, которую он ведет с Русью, защищая мусульманские земли. Вероятно, война началась сразу после паломничества княгини Ольги в Константинополь, где она приняла христианство, что, опять же, на дипломатическом языке того времени означало заключение союза с Византией. Однако, «война», о которой пишет царь Иосиф, не принесла видимых изменений на исторической карте, пока не подрос сын Ольги, получивший славянское имя — Святослав.
В 964 году Святослав пришел в землю вятичей на Оке и освободил их от хазарской дани. Он понимал, что нанести Хазарии решающий удар через донские степи, контролируемые конницей степняков, не удастся. Он действовал как предки, как варяг. В 965 году дружинники Святослава срубили ладьи и спустились по Оке и Волге к Итилю. Что было дальше, можно только предполагать: но город, еще недавно столь восхищавший арабских географов, исчез без следа…
IX
Эта победа решила судьбу войны и судьбу Хазарии. Центр сложной системы исчез, и система распалась. Русским нечего было делать в дельте Волги, и они ушли. Дальнейший поход Святослава — по наезженной дороге перекочевок хазарского кагана через Черные Земли к среднему Тереку, то есть к Семендеру, а затем через кубанские степи к Дону — прошел беспрепятственно. Хазарские евреи бежали в Ширван и Иран. В несколько лет Хазария полностью преобразилась: из могущественной державы, способной вершить дела мировой политики, она превратилась в тихую заводь истории. На месте разрушенного Итиля вскоре выстроен был новый город — Саксин. Арабский путешественник Аль-Гарнати, родом из арабской Испании, прожил в нем 20 лет. Он пишет, что это был город, равного которому не было во всем Туркестане. Но населяли его лишь гузы и булгары, исповедующие мусульманскую веру. Саксин пережил монгольское нашествие и исчез только в 30‐е годы ХIV века, когда его затопило поднявшимися водами Каспия.
В «Повести временных лет» последнее упоминание о хазарах датируется 1106 годом, когда половцы совершили набег на Заречск, а князь послал им вдогонку воевод Яна да Ивана-хазара (хазарская община в Киеве существовала с начала Х века, когда киевляне и были обложены хазарской данью). Раввин Петахия, еврейский путешественник из Германии, около 1180 года прошел всю восточную Европу в поисках страны хазар. Таковых он обнаружил к северу от Крыма, чудом уцелевших в пространствах, которые у русских не назывались иначе как «дикая степь». Впрочем, в книге, записанной с его слов, отмечено, что рабби Петахия в стране хазар не застал уже ничего, «кроме женского воя и собачьего лая».
X
Хазарский каганат оставил после себя единственный устойчивый культурный след — миф. Хазария, как некое виртуальное государство, десятки веков возникала (и продолжает возникать) то в литературе, то в географии. Генуэзские и венецианские купцы в своих документах до XIII века называли Крым «Газарией». Мифологический «словарь» Милорада Павича — лишь одно из возможных ответвлений хазарского мифа.
Поразительно, что каганат, существенно повлиявший на множество процессов раннесредневековой истории, не создал ни этнической традиции, ни культурного поля, на котором развивалась бы культура народов‐преемников. Лишь А. Барта утверждает, что «все пути, которые мы тщательно исследовали, в надежде обнаружить истоки венгерского искусства Х века, возвращают нас на территорию хазар…».
В течение двух веков между походом Святослава и монгольским нашествием в дельте Волги продолжалась жизнь постхазарского государства, которое утратило свои имперские амбиции и буквально «выпало» из мировой истории. С приходом воинства Чингиз-хана Хазария бесследно исчезла, оставив после себя лишь множество народов, которые растворились в самых разных культурных традициях. Хазары дельты смешались с монголами. Ученик Франциска Ассизского, Иоанн де Плано Карпини, упоминает в своей грандиозной «Истории монголов» и хазар, исповедующих иудейскую религию. Христиане-аланы оказались в горах Осетии. Хазары-христиане должны были искать единоверцев и перебрались на Дон, где жили бродники — народ смешанного происхождения, — говорившие по-русски и исповедовавшие православную веру. Хазары принесли с собой на Дон привычную им технику — саманный кирпич, из которого был построен поселок на развалинах Саркела, и стали возделывать здесь виноград. По иронии истории позднее они оказались союзниками монголов, защищаясь от половцев, и так растворились в этногенезе Золотой Орды. Печенеги, бывшие когда-то подлинными хозяевами степи, в 1034 году в последний раз осадили Киев, но, потерпев неудачу, ушли в степи между Днепром и Дунаем. Часть из них перешла на Балканы и приняла православие. Венгры и болгары вписались в европейскую историю и культуру. Об остальных ничего не известно. Вероятно, в искусстве каждого «постхазарского» народа каким-то отблеском запечатлелись черты, свойственные культуре каганата в древности. Но как выявить в столь разных традициях приметы, которые являются специфически хазарскими? Говоря о «хазарской культуре» мы, по сути, говорим о россыпи зеркальных отражений, солнечных «зайчиков», которые нам никогда не собрать воедино. Лишь сегодняшние археологические открытия, возможно, позволят сказать о хазарах что-то более определенное.
XI
Прошло два месяца. Город обнаружился километрах в сорока от Астрахани, в самой гуще волжской дельты, где река, как крона раскидистого древа, начинает ветвиться на бесконечные протоки и рукава, превращающие сушу дельты в беспрестанно меняющийся лабиринт. Я так воодушевился, что сманил с собой группу из телекампании «ВИД» и вместе с нею поехал на раскопки. На лодке переправились мы через Волгу от села Самосделка на безымянный остров. От Самосделки сторонкой держалось тут несколько домов, которые сами себя называли просто «деревня». На острове густо росли сочные травы, поэтому несколько мужиков развели здесь коров. От этого и потянулась вся история. Неподалеку от хоздвора было место, издавна известное как «красные пески» из-за обилия кирпичной пыли и обломков обожженной глины. Даже в самую высокую воду место это оставалось сухим, и потому крестьяне выбрали его, чтобы поставить большую скирду с запасом сена на зиму. А чтобы коровы раньше времени не растрепали сено, скирду окопали глубокой траншеей. Вот тут оно все и вылезло: странной формы кирпичи, осколки посуды, кости. Никаких таких умных мыслей фермерам в голову не пришло, разве что обеспокоились, что кости зацепили: не оказался бы старый скотомогильник, не покосило бы скот ящуром… Ну, а дальше все по схеме: черепки, черепа, непонятные осколки. Мальчишки. Классический сельский учитель истории Александр Пухов, в один прекрасный день заявившийся в Астрахань с целой сумкой этих черепков. Потом ученые. Когда мы с телегруппой оказались на Самосделке, было давно понятно, что речь идет не просто о поселении, и даже не просто о городе, а о городе очень для своего времени большом. И хотя в раскопе — площадью в сорок, примерно, квадратных метров — не было ни стен, ни башен, а только, скажем так, фрагмент городской улицы, в котором открывались интерьеры трех домов и небольшая площадь меж ними — шурфы, пробитые по границе «красных песков», позволили определить площадь города: примерно два квадратных километра. Для XI–XII века это очень много. И если это город такого размера, то естествен вопрос — какой?
Принципиально важным оказалось участие в экспедиции почвоведов. Они обследовали всю громадную территорию дельты и пришли к довольно-таки радикальному выводу: мест, где большой город в принципе мог бы быть построен, в дельте Волги всего два-три. А поскольку там тоже были сделаны пробные раскопы, но ничего обнаружено не было, то можно заключить, что Самосделка — это вообще единственное место, где в дельте Волги можно было бы основать город. А таковых известно только два — Саксин и Итиль…
Помню таинство раскопок, девушек, однообразными ласкающими движениями рук будто пытающихся выманить из сухой красноватой земли какое-то странное признание, человеческий скелет, стены домов, сложенные из обломков обожженного кирпича. Было видно, что кирпич этот явно вторичного использования. На некоторых кирпичах заметны были следы известкового раствора, а сама кладка сделана была на глиняном — значит, кирпичи вырваны из каких-то более ранних стен… Выходит, Саксин был построен не просто на развалинах Итиля, но и непосредственно из его плоти… Внутри раскрытых домов были земляные полы и система отопления в виде канов — горизонтальных дымоходов, они отходили от печи-тандыра, в которой пекли лепешки. Суфы — глинобитные лежанки — обогревались этими дымоходами. Захоронения — прямо внутри домов, под земляным полом… Это странное соседство живых с мертвыми в одном доме, конечно, свидетельствовало о чем-то… О чем? Ну, например, о том, что в городе, несмотря на его большую площадь, свободного места не было, скученность строений была невероятная, а это могло означать только одно: что перед тем, как город окончательно затопило, его уже сильно подпирала вода… Среди находок в верхних слоях больше всего было битой керамики, золотоордынских монет. Но, как сказала руководитель работ, старший научный сотрудник Института этнологии РАН Эмма Зиливинская, где-то на третьем штыке лопаты монеты Золотой Орды заканчивались. И это значило, что студенты-археологи, осуществляющие раскопки, заглубились уже в значительно более древние горизонты…
Пораженные, стояли мы на краю раскопа, и жаркое солнце пылало в выгоревшем небе. Зато в тени растрескавшихся вековых ив было чудесно, прохладно, легко; загорелые студентки заглядывались на нас, а мы заглядывались на них, и было хорошо; потом незаметно подкрадывался вечер, разноцветные красивые ужи сползали в старицу поохотиться за лягушками, из тростника выходили к водопою лошади, и казалось, что они глядятся в отраженье неизбывных былинных времен; хлопал выхлоп, и вдали начинал тарахтеть двухтактный движок «Болиндер» помпового применения, который заводил дядя Коля Покусаев, оставленный доживать в сторожке рыбоводной конторы, чтобы время от времени подбавлять живущим в зеленой канаве осетрам свежую, богатую кислородом воду. В Сомовке бил лопастью хвоста сом, вспугнутый купающимися девушками, вспыхивала звезда, загорался огонь, сам собою завязывался разговор. Однажды я увидел у огня хазарскую принцессу Атех из книги Павича и подошел к ней, чтобы сказать ей, что она нравится мне. «Да, — сказала она, — я заметила». Потом разговор стих, месяц спрятался в ивах. Мы оказались не слишком многословными, зная, что больше никогда не встретимся и слова не нужны. Увы, на срезе хазарского мифа даже любовь неуловима. О принцессе известно, что она так и не смогла умереть, но днем она надевала совсем другое лицо, нежели ночью, и я попросту глядел бы на нее, не узнавая. В глубокой тьме мы с режиссером и оператором возвращались в отведенную нам хозпалатку без пола, стоящую в непроходимой гуще конопли, и засыпали на голой земле. Во сне по нашим лицам бегали тушканчики…
Говорят, что если сделать зеркало из гладкой соли и заглянуть в него, можно будет на дне его увидеть Хазарию: она узнаваема по плоским островам, заросшим столетними ивами, табунам гнедых коней, бредущих в травах вечного кочевья, блеску сухого тростника, скрывающего невидимых лучников, да вечерней перекличке скворцов, в песнях которых, говорят, еще уловимы звуки подлинной хазарской речи…
ПРЕВРАЩЕНИЯ АЛЕКСАНДРА
Разрывая плоть времени вокруг Каспия, неизбежно наталкиваешься на захватывающую с детства историю походов Александра Македонского. Достаточно нескольких цитат из жизнеописаний Александра, нескольких исторических метафор, чтобы оживить эту древнюю сказку… Гром и молния! — тьма ли сошла с гор, или, напротив, ветвящиеся голубые разряды с треском разъяли ночь, но вся азийская история, которая издалека кажется просто сном в заколдованном царстве, вдруг озаряется ослепительной, испепеляющей царства и народы вспышкой, которой, несомненно, были походы Александра, надолго, вплоть до мусульманской эры, преобразившие всю азийскую историю. Мы не будем слишком уж углубляться в эту историю, но один взгляд на нее все-таки необходим. Как необходим и пристальный взгляд на Грецию.
I
Александр Михайлов, философ, переводчик и историк культуры, как-то сказал, что самая распространенная ошибка при изучении истории — полагать, что люди, жившие за две с лишним тысячи лет до нас, или даже за двести или сто лет, думали так же, как мы. Нет. Они думали иначе. Именно поэтому Александр не мог, как он это делает в фильме Оливера Стоуна, сказать, что сражается за «свободу» Персии. Он вообще не думал ни о какой «свободе». Чтобы понять это, нам предстоит совершить головокружительный прыжок в прошлое. Без этого нам не добраться до сути. Ибо Александр не просто свершил невозможное, он пошел против всей греческой стратегии и тактики, против самого греческого способа мыслить. Цивилизации маленьких торговых городов и государств, каковой и была Греция, цивилизации островов и полуостровов, расселившейся по всему Средиземноморью и на побережье Малой Азии, были чужды и страшны не только огромные пространства, на которых во все стороны простерлась Персидская держава, но и сама имперская идея, которая скрепляла эти пространства. Там, в далях Персии, скрывался край земли, предел мира, как на карте Гекатея Милетского (ок. 550 г. до н. э.). Поэтому, чтобы победить персов, нужно было не только дойти до предела и преодолеть тысячи километров неизвестных, гораздо более опасных, чем море (где греки как раз чувствовали себя хозяевами), земных пространств, нужно было представить себя Державой, способной противостоять колоссу Персидской империи. Никаких таких представлений греки не имели, да и не хотели бы иметь, если судить по всей их истории, сохранившимся сочинениям их историков и философов. Именно это не давало им никакой надежды одержать над персами окончательную победу, почему большая часть малоазийских полисов в общем охотнее принимала персидского правителя-сатрапа, нежели воодушевлялась идеей войны с персами. Только Александр совершил невозможное: он разбил персов на суше, на их земле, он, не имея флота, уничтожил их флот. Он отринул страх перед пространством, устремившись после разгрома Дария в глубины Средней Азии, о которых даже позднейшие историки и географы не могли сообщить ровным счетом ничего определенного… Александр, несомненно, воин запредельности. Он выходит за все пределы, мыслимые греческой цивилизацией, хотя в некоторых крайностях (вероятная причастность к отцеубийству) он вполне укоренен в драматургии греческой жизни.
Александр появился на арене спустя сто лет после времени, которое историки иногда несколько сентиментально называют «золотым веком» греческой истории. Собственно, период этот, охарактеризованный возвышением Афин, сплочением афинского союза и внезапным рождением, причем в неожиданно зрелой, почти современной форме, принятых потом в наследство Европой наук и искусств — прежде всего, конечно, философии и драмы, — был очень коротким: он получил название «пятидесятилетия». Точные даты: (479–431 гг. до н.э)372. Это было «пятидесятилетие» афинского расцвета, но отнюдь не мира, ибо между последними сражениями греко-персидской войны, оказавшейся победной для греков, до первых стычек междоусобицы, в которой главную роль сыграли Афины и Спарта, постепенно втянувшие в свою ссору все мало-мальски влиятельные греческие провинции и города, прошло меньше десяти лет.
Опять-таки сошлюсь на Александра Михайлова: поразительно, что беспрецедентный по последствиям — прежде всего для Европы — переворот в культуре Греции связан с людьми одного-двух, от силы трех поколений. Геродот 373 — отец истории и географии — не был афинянином и для афинян был метэком, чужестранцем. Однако он подолгу бывал в Афинах, дружил с Периклом 374, политиком, с которым связывают время расцвета Афин и, следовательно, понятие о демократии, и с Софоклом 375, наиболее, пожалуй, знаменитым из первых греческих трагиков, ставшим классиком уже в Античности… А вот время Сократа — первого из собственно европейских философов (470–399 гг. до н.э) — уже выламывается за пределы афинского «пятидесятилетия». Он был участником междоусобных войн, храбрым афинским солдатом, но гражданская война подтачивала не только экономику Греции, но и ее дух. И сам смертный приговор, вынесенный Сократу Ареопагом за «растление юношества» философией и поклонение «новым божествам» 376, носил характер той нравственной неправды, которая присуща только демократиям, потерявшим свой ясный духовный ориентир.
Пораженный гибелью Сократа и тем, что в Афинах никто не вступился за него, Платон, его ученик (427–347 гг. до н. э.), пытался продолжить его дело, стремясь в садах Академии, где он философствовал с учениками, самостоятельно выдумать идеальную форму общественного устройства, в которой бы не было места несправедливости. Затем он сложил «Законы»: так впервые получила философское обоснование форма тоталитарного государства.
Учеником Платона был Аристотель (384–322 гг до н. э.). После смерти учителя он оставил Афины по политическим соображениям. Некоторое время странствовал, пока не оказался в Пелле наставником десятилетнего Александра, сына Филиппа II, царя Македонии. Афины долго еще оставались центром греческой жизни и учености, но солнце их медленно клонилось к закату.
Столь часто идеализируемая нами форма греческого полиса, города-государства, оказалась главной причиной того, что после победы над персами Греция, после короткого порыва к единению, оказалась разделена еще более непримиримо. Греция, конечно, всегда была разделена, прежде всего торговыми интересами. И «межевые войны» между полисами никогда не прекращались. Но Пелопонесская война между сторонниками Афин и сторонниками Спарты была войной изнурительной и жестокой, да и продолжалась она двадцать семь лет (431–404 гг. до н. э.), которые превратили Грецию из цветущей страны в край безвозвратно запустелый и не ведающий правды. Никакая окончательная победа над персами не могла быть одержана греками уже потому, что то одно, то другое воюющее государство именно к Персии бросалось за поддержкой и за наемниками. О, греческое коварство! О, предательство! Не было подлости, которая не была бы совершена. Не было слова, которое не было бы нарушено. Не было земли, в которой царил бы покой. Никогда еще Эллада не знала стольких бедствий, изгнаний и убийств, писал греческий историк Фукидид. Борьба «аристократов» и «демократов», интриги, заговоры, клевета, персидское золото! Старели, становясь неплодными, виноградники, запустевали оливковые рощи, перекупались за бесценок земли. Греки торговали греками не только на внутреннем рынке, но и продавали их персам. В Персии теперь были целые поселения, заселенные греками. Коррупция и измена привольно себя чувствовали за крепостными стенами Афин. Примеры героев никого не убеждали. Ничтожные амбиции и ничтожные выгоды разделяли греческие провинции хуже буйного помешательства. Может быть, внешнее давление было слишком слабо? Может быть, раньше других проснувшись на заре античного мира, греки не почувствовали еще (как это почувствовали потом римляне) страшную силу варварских племен, которая напирала на их границы? Да, пожалуй, грекам неизвестен этот страх перед варварами…
II
Возвышение Македонии (когда-то окраинной области в Северной Греции) для греков было подобно грому среди ясного неба. Македония не была собственно греческим государством — и, следовательно, была государством варварским. Язык македонский греческим тоже не был, но каким он был — позабыто. Но Македония рано стала подражать грекам, что сыграло в ее истории решающую роль. Она приняла греческую письменность, спортивные состязания на манер Олимпиад, в македонской столице, Пелле, работали знаменитые поэты и художники, меж коих и великий Еврипид. Однако это не значит, что македонцы и думали, как греки. Их брутальное появление на исторической арене и почти мгновенная гегемония над Грецией подсказывают, что это было не так. Возможно, эллинскому миру, чтобы совершить переворот, подобный походу Александра, нужен был варвар, воин, а не купец. Александр и был им. Разумеется, он с детских лет обучался у Аристотеля, но что мы знаем о тех коноводах, которые учили его держаться в седле и нашептывать заговоры на ухо коню? О воинах, что обучали его совмещать в сердце ярость и хлад в рукопашном бою, рубиться мечом, разить копьем и спать на голой земле? По-настоящему Македония заявила о себе при царе Филиппе, отце Александра. Будучи царем полуварварского государства, он решительно вторгся в политику Греции и неожиданно захватил в ней одну из первых ролей. Нет сомнения, что без отца Александр не стал бы Александром. Если бы вся «подготовительная» работа не была проделана Филиппом, Александр увяз бы в греческих распрях. Царь Филипп все приготовил к прыжку своего сына в вечность истории. Конечно, ему понадобилась целая жизнь на эту подготовку, но действовал он смело и решительно: для начала прорубил для Македонии окно к Черному морю и, тут же ввязавшись в одну из греческих междоусобиц, воспользовался ею для вторжения в центральную Грецию. Греки пытались сопротивляться, но были биты. Филипп в мгновение ока окрутил довольных и недовольных и в 337 году до н. э. собрал в Коринфе конгресс, в котором приняли участие все греческие государства, кроме Спарты. Там был торжественно декларирован всеобщий мир и, что для нас важнее, принято решение о походе на Персию. Похоже, царь Филипп, отец Александра, прекрасно понимал, что утихомирить Грецию нельзя иначе, как обещая ей войну. Все, все хотели перемен! Аристократия мечтала очистить Грецию от всего «лишнего» населения. «Лишнее население» мечтало о богатстве и землях, которые оно обретет в походе. Военачальники мечтали о славе. Все, все должно было измениться! Но кто знал, что все изменится так скоро?
Разумеется, поначалу Греция полисов не пожелала подчиняться «варварам». Едва Филипп умер, повсеместно вспыхнули мятежи. Вступив после смерти отца 377 на трон, двадцатилетний Александр с примерной жестокостью усмирил Элладу, разгромил «семивратные Фивы», союзников Спарты, по легенде, срыв город до основания и из всех жилищ сохранив только дом великого поэта прошлого — Пиндара. Он подчинил себе Фессалию, покорил Афины и вернул себе верховную власть в Коринфском союзе, заключенном когда-то меж греческими городами его отцом. Греция почувствовала безжалостную руку македонца: плевать ему было на тонкости греческой «политики», да и на греков вообще. С помощью золота своего отца, добытого в горах Пангеи, он купил тех, кто не прочь был повиноваться, желающих повиноваться он поставил плечом к плечу и обещал им царство, не желающих повиноваться он уничтожил. Мальчишка объединил страну, бросив эллинов в горнило Азии, откуда часть не вернулась, а другая отбросила историю полисов и начала писать историю царств…
Царство… И не царство даже, а империя, охватывающая весь мир, — вот к чему он стремился. В истории взаимоотношений Востока и Запада Александр — поистине уникальная фигура. Он — единственный европеец, который, поставив Азию на колени, вернулся из походов с азиатской моделью переустройства мира. Это фантастическая, полная явных и тайных драм история, контуры которой осмеливаемся мы очертить. Предвосхищая великих завоевателей позднего времени, Александр отправляется в поход с грандиозной задачей: и это не месть, не нажива, не новые земли и торговые пути, во имя которых ведутся войны от начала времен. Конечно, все это тоже как-то присутствует в замыслах и влияет, если не на Александра, то на солдат и стратегов его армии. Но ему грезится иное. Может быть, в начале похода он и сам точно не знал — что. Но потом задача прояснилась: овладеть всем миром, объединить Европу и Азию, подчинив их одному правителю, создав всемирный пантеон богов, сплавив разноплеменные обычаи, перемешав кровь, и таким образом достичь нового уровня в порядке мироздания… Да, именно так. Не меньше.
III
До походов Александра Македонского Азия, откуда одно за другим обрушились на Элладу нашествия Дария I и Ксеркса, не просто оставалась для Европы тайной. Европа как бы не осмеливается взглянуть Азии в глаза. Деньги, товары, рабы и наемники — все это долгое время перетекает в одном направлении — с запада на восток, в котел Азии. Азия воплощала в себе неприступность и титаническую силу мировой империи — персидской монархии Ахеменидов, простиравшейся от ближних грекам малоазийских пределов до современного Туркестана, от Кавказа до Персидского залива. И хотя греки называли персов варварами, ничего подобного величию и роскоши Персии в плане, скажем, градостроительства, греческая цивилизация не создала, равно как и не сделала тогда еще ничего подобного в культурном освоении своих колоний. Персы, в свою очередь, считали варварами европейцев, себя же — хозяевами мира. Именно они наследовали древним цивилизациям Вавилона, Ассирии и Египта, их войска не знали себе равных ни по числу, ни по грозной силе, их цари и жрецы обладали первой настоящей религией со своим писанием — «Авестой» — и первым великим пророком — Заратустрой.
Со времен российских гимназий начиная изучать историю человечества с Древней Греции, мы нисколько не представляем себе, как была устроена жизнь у персов, их ближайших соседей и врагов. В этом смысле для нас небезынтересен отрывок из «Географии» Страбона. «С пятилетнего возраста до 24 лет дети упражняются в стрельбе из лука, в метании дротика. В верховой езде и в борьбе. В учителя наук они берут мудрейших мужей, которые переплетают свои учения с мифическими историями […]. Перед утренней зарей учителя будят юношей звуком медных инструментов и собирают в одно место, как бы на военный парад или на охоту. […] Учителя требуют от учеников отчета в каждом уроке и вместе с тем заставляют их громко говорить, упражнять дыхание и легкие, а также научают переносить жару, холод и дожди, переходить бурные потоки, сохраняя при этом оружие и одежду. Кроме того, персидских юношей обучают пасти скот, проводить ночи под открытым небом, питаться дикими плодами, как, например, фисташками, желудями и дикими грушами. Этих юношей называют кардаками, так как они живут воровством (слово carda означает «мужество» и «воинственный дух»). Их ежедневная пища после гимнастических упражнений состоит из хлеба, ячменных лепешек, кардамона и жареного или вареного мяса; питье их — вода. Охотятся юноши верхом на лошадях, пуская метательные дротики, а также с луком и пращой. Вечером юноши упражняются в посадке деревьев, собирают целебные коренья, изготовляют оружие, плетут тенета и силки. Мальчики не касаются охотничьей добычи, хотя по обыкновению приносят ее домой. Царь назначает награды победителям в беге и других видах пятиборья. Мальчики украшают себя золотом, так как персы ценят его огненный блеск. Вот почему они из уважения к огненному блеску золота не кладут покойнику золота, так же как не зажигают ему огня».
Грекам принадлежал логос — слово и число. И, следовательно, трагедия и история, геометрия и астрономия, логика и расчет, которых у персов не было. Персы гораздо более, чем разуму, доверяли интуиции, для чего пробуждали глубинные пласты психики (сегодня мы сказали бы: бессознательного) питьем галлюциногенного напитка — хаомы. Геродот не без удивления писал о персах: «Важнейшие дела они решают, будучи опьяненными. Принятое же решение предлагает на следующий день хозяин дома, в котором происходило совещание. Если оно им нравится [и] в трезвом состоянии, они его принимают, если же не нравится, то они отказываются от него. Если же они что-нибудь решают в трезвом состоянии, то они его еще раз решают, будучи опьяненными» 378. В этом, пожалуй, и была принципиальная разница между персами и греками. Греки первыми среди населяющих Европу народов вверили себя разуму: поначалу он был лишь орудием выживания, покорения природы. Но, как выяснилось в первом же столкновении Запада и Востока, поставленный во главу угла разум оказался не только орудием, но и грозным оружием, беспощадно рассекающим более аморфную психическую матрицу 379 персов: а это, согласитесь, поважнее, чем разница в численности войск или в их построении. Просто до Александра никто не догадывался, какую силу несет в себе отточенное, как меч, «европейское сознание», какое грозное оружие оно представляет само по себе.
Однако европейская психологическая матрица сформировалась не сразу. Долгое время греки с мнительной осторожностью едва-едва осмеливались прикоснуться к малоазийскому берегу — столь близкому, что название Боспорос — «коровий брод» — в каком-то смысле упраздняло границу между материками, превращая ее из действительной водной преграды в символическую. Но кто сказал, что символ — несерьезная вещь? На малоазийском берегу греческие полисы превращались в маленькие сатрапии, подчиненные персам: в каком-то смысле это служило гарантией их безопасности, и, возможно, они расценивали такой поворот событий как не столь уж большое зло. Значит, азиатская сатрапия выходила на поверку не хуже Афин? Конечно, Афины никогда не согласились бы с этим, но разве сами они не превратились в своего рода сатрапию, осудив на смерть Сократа? Десятилетнего Александра обучал философии и другим наукам Аристотель, так что молодой царь, видимо, понимал кое-что в символических фигурах истории и языка… Но Александр, получив греческое образование, был все же македонянином, а значит, «варваром». Логика, этика, поэтика и прочие заумности учителя тесны для него, поэтому-то никто острее его не ощущал неимоверную притягательность Азии: сладость и полноту ее жизни, огромность ее пространств, достойных стать ареной подвига, судьбы и рока, которые он, Александр, решился удерживать в своих руках.
IV
Конечно, ни Филипп, царь македонский, ни сын его Александр не представляли себе масштабов предприятия, в которое выльется начатый еще Филиппом поход. Филипп вообще в некотором смысле пытался лишь канализировать агрессию, скопившуюся в Элладе, как навоз в Авгиевых конюшнях, за десятилетия гражданских войн, и для этого направить ее вовне, на старого врага — Персию. Александру, несомненно, задача виделась иной. Разноцветные сполохи индийских царств застили ему взор, и пустынные провинции Персии, как миражи, сверкали перед глазами, он мечтал… Ну, конечно же, получить этот мир целиком! Он не знал, что только из Европы весь остальной мир кажется маленьким. Но какова бы ни была у него аберрация зрения, Александр, несомненно, явился именно в тот час, когда Древней Греции потребовалось триумфально завершить свою историю. Распадающаяся на куски Греция, суровой рукой Филиппа удерживаемая от гражданских войн, использовала свой единственный шанс — пришельца, полуварвара — чтобы на закате своего существования совершить невиданный в истории переворот, ворваться в Азию, разрушить Персидскую державу и собрать вокруг своего крошечного полуостровного ядра огромный эллинистический мир, который, в конце концов, о чем бы там ни мечтал Александр, впервые стал символом победившего Запада. Если бы этого не произошло, Греция, вероятно, в скором времени просто тихо погибла бы. Но воин, нужный для победы, всегда появляется вовремя. Таков был Александр, сын Филиппа, царь Македонии. Вряд ли, конечно, он предполагал, что на то, чтобы только марафонски обежать вселенную, которую он собирался обустроить, у него уйдет десять лет. Он попал в ловушку случая, который, как резину, растягивает время, связывает пространство в невероятные узлы и, в конце концов, вершит свою власть над прямолинейными предначертаниями рока. Александр не думал выходить за пределы изведанной вселенной, за край карты: его привел туда случай, ответвления бесчисленных обстоятельств, которые он и вообразить себе не мог. Он-то полагал, что разобьет властелина Вавилона (по иронии истории — тоже Дария, ничем, однако, не походившего на своего великого воинственного предка, Дария I) в первой же решающей битве и, пленив, получит из рук его царские регалии…
Впрочем, мы неоправданно упростили и укоротили путь Александра на Восток. Едва не получив смертельную рану в первой же схватке своей армии с персами, Александр потом целый год мелочно разбирается с малоазийскими греческими полисами, принявшими власть персидских сатрапов, не помышляя ни о какой Греции. Александр скрутил этих жалких соглашателей, как пучок соломы, опробовав на них свой гнев. Он пока не осмеливается вторгнуться глубже в Азию, но вызов уже брошен — в империи, основанной великим Киром, он распоряжается, как в своей Македонии. Дарий молчит. Прошло больше года, прежде чем воинство Александра тронулось-таки на юг и встретилось с громадной армией персов недалеко от города Исса, в долине между морем и горами. Эта битва могла решить и решила все. Позиция Александра была невыгодна, численно персы превосходили его армию раз в десять. Дарий полагал, что Александр попытается обороняться. Вместо этого тот бросил свою знаменитую фалангу 380 на правый фланг персидской армии, смял его и, сам ринувшись в гущу боя, прорубился к колеснице Дария. Два царя встретились. Дарий не выдержал противостояния и бежал, бросив войско, обоз и семью. Его мать, жена и обе дочери оказались во власти Александра. Военные трофеи греческого воинства были неисчислимы…
Но дело не в трофеях. Главное — Александр вырвал у Дария его волю и сразу выиграл войну.
Отвергнув мирные предложения персидского царя, Александр стремительно двинул армию еще дальше на юг — в Палестину и Нильскую долину, Египет. Третья по богатству провинция Персидской державы, давно мечтавшая освободиться от чужеземного наместничества и ежегодной дани в 12 тонн серебра, восторженно приветствовала «освободителя». Здесь вновь возникает странный эффект замедления времени. Следующая — и последняя — битва Дария и Александра состоится только через два года. Маршевый военный темп, взятый было историей, сменяется совершенно иной и по скорости, и по звучанию музыкой.
В Египте основана первая Александрия — которая уже очень скоро, при Птолемеях, станет одним из главных культурных центров античного мира. Целый год Александр блаженствует, обласканный жречеством, на берегах Нила. Кстати, здесь он и совершает паломничество к оракулу Амона-Ра. Язвительные римские историки постфактум утверждали, что к этому подталкивало его тщеславие, поскольку в древности такое же паломничество предпринимали Персей и Геракл. Однако «прорицатель в точных выражениях сказал царю, что он — сын Зевса». Но даже сын Зевса на протяжении еще двух лет медлит выходить за пределы хорошо знакомого ему мира Средиземноморья; он обустраивает разные его концы, но совсем не стремится в глубь азиатского материка, желая Азии, но одновременно боясь ее. И только под давлением обстоятельств, которые мы не можем назвать иначе, как обстоятельствами Судьбы, Александр в конце 332 года до н. э., получив подкрепление из Фракии (соседнего с Македонией балканского государства), снова выступает в поход.
V
Дарий ждал его. Может быть, в этом ожидании таилась обреченность — во всяком случае, он позволил Александру с сорокатысячным войском перейти Тигр и Евфрат, не делая попыток напасть на него, и здесь, близ города Арбелы, «на широкой, уравненной природой и инженерным искусством равнине Гавгамельской встретил его с миллионною армиею» (несомненно, эти цифры многократно преувеличены, но они по меньшей мере дают представление о том изумлении, которое испытало войско Александра, увидев противостоящие ему силы врага!). У Дария были слоны, индийская конница, боевые колесницы, несокрушимые в стойкости армянские и персидские воины и полудикие лучники со склонов Кавказа, исправно явившиеся на зов царя Мидии, вассала Дария. У него были греческие наемники, которые готовы были противопоставить фаланге Александра свою фалангу. Неравенство сил было столь чудовищно и очевидно, что Парменион, второй после Александра полководец в македонской армии, советовал царю напасть на персов ночью. На что Александр будто бы заявил, что не хочет краденой победы. Однако в истории случаются моменты, когда Судьба, сделав фаворитом одного, совершенно отворачивается от другого — и в этом случае решительно ничто не может помочь ему. Более того, обстоятельства сраженья и военное искусство той или другой стороны как будто бы совсем не играют в таком случае никакой роли: войско Александра могло быть рассеяно первым же ударом колесниц и слонов; войско Дария могло выдержать напор знаменитой фаланги. Но нелюбовь Судьбы делает Дария робким даже при благоприятных для него обстоятельствах: он видит, как рвется надвое фаланга его врага, как, не выдержав удара тяжелой кавалерии, сдает назад конница Александра, но страх так и не отпускает его. И когда он вдруг видит прямо перед собой неистового Александра, прорубающегося к нему во главе небольшого отряда, Дарий, развернув колесницу, обращается в позорное бегство, увлекая за собой всю свою армию… Порядок сохранили только греческие наемники. Остальная армия была распылена. Потери персов, разумеется, никто не считал, но по тем временам они были огромными. Александр, как ангел смерти, реял над бегущими до полуночи, покуда не достиг Арбел, чтобы убедиться, что не успел и на этот раз: Дарий ушел. Так Александр, потеряв, как утверждают историки похода, всего несколько сотен человек, становится властителем исполинской монархии, основанной некогда великим Киром 381. Столицы Персии — Вавилон и Суза — сдались ему, и все их население, предводительствуемое халдейскими 382 жрецами, вышло ему навстречу с дарами, цветами и жертвенными животными. Богатства персидских столиц были баснословны и вошли в историю, солдаты Александра, выступившие в поход нищими, в мгновение ока стали богачами, описания государственных сокровищ Ахеменидов не оставили равнодушным ни одного историка…
Легко представить себе, сколь велико было желание Александра после решающей победы вступить в Вавилон триумфатором. Однако Дарий внутренне был уже неспособен стать лицом к лицу с избранником Судьбы. Он в очередной раз бежал в Эктабану — летнюю столицу своего царства, где в последний раз сформировал войско. Войск Дария Александр теперь, конечно, не боялся. Победившей армии он отдал на разграбление Персеполь — «священную столицу», усыпальницу и сокровищницу персидских царей. И каким бы романтизмом с древности до наших дней не был овеян образ Александра, персепольская резня все-таки заставляет нас трезвее взглянуть на собственные представления о «романтизме» избранников истории. Солдаты упивались грабежом несколько дней. Цитадель, где пряталось население города, Александр сжег. Все мужчины были убиты, женщины и дети проданы в рабство. По настоянию знаменитой куртизанки Таисы, пожелавшей отомстить за сожжение Афин Ксерксом, был сожжен царский дворец, построенный Дарием I.
Куртизанка отомстила за «обиду», нанесенную Греции 150 лет назад, — это ли не ирония истории?
В марте 330 года до н. э. Александр решает захватить Дария. Теперь, когда Азия оказалась в его руках и более не страшила его, он хотел оставаться в ней единственным властителем. Дарий, конечно, мог бы встретить Александра в горной Мидии и начать с ним войну в непривычных для греков условиях. Но надлом уже произошел. Поначалу Дарий еще надеется, отправляет уцелевшие сокровища и гарем в Гирканию 383, прикаспийскую провинцию, а сам с десятью тысячами всадников вновь бежит — на этот раз еще дальше — в Парфию 384, надеясь, словно в ширмах, скрыться в неисследимых пространствах окраин своей бывшей державы.
В опустевшей Эктабане Александр объявил об окончании войны «за отмщенье греков»; щедро одарив, отпустил домой фессалийских всадников и других греческих союзников. Он думал, что большая армия не нужна ему. Кроме того, он понимал, видимо, что зашел уже далеко. Слишком далеко для чужеземца. Но отсюда на родину шла «царская дорога» персидских царей, и, как бы долга она ни была, следуя от одной почтовой станции до другой, можно было вернуться в Грецию. Те, кто последовал за Александром (а их оказалось немало), в некотором смысле вернуться уже не могли. И дело не в том, что часть полегла в сражениях против неизвестных царей и племен в глубинах Азии, а часть была истреблена безжалостными лучниками солнца в песках пустыни Тар при возвращении из индийского похода. Мертвые не в счет. Живые тоже не могли вернуться: часть, устав от войн, осела в далеких азиатских провинциях империи Александра, в какой-нибудь из последних Александрий, основанных на краю мира, оставив местным иранским племенам несколько незабываемо прекрасных черт лица, принесенных с греческою кровью. Да и те, кто прошел весь путь вместе с Александром и вернулся шесть лет спустя в Вавилон, не могли остаться прежними, пройдя через горнило Азии. Они оставили Грецию навсегда.
VI
Тем временем в свите Дария созрел заговор: потерявший волю к сопротивлению царь был больше не нужен. Инициатором заговора были Бесс, сатрап Бактрии, и Набарзан, начальник персидской конницы: по преданию, Дария заковали в золотые цепи и, посадив в отдельную колесницу, поспешили дальше на север, где за отрогами Эльбурса 385 и Копетдага лежали бескрайние пространства пустынных провинций, Бактрии 386 и Согдианы 387, над которыми до сих пор простиралась их власть.
От Каспийских ворот до Бактры больше тысячи километров, половина этого расстояния приходится на бесплодную пустыню: зачем пустыня Властелину мира? Разве он пришел, чтобы властвовать над песком? Однако, выслушав послов Бесса, Александр пришел в совершеннейшую ярость. Бактрийская конница была лучшей в войске Дария; эта конница и прилепившиеся к ней варвары признали Бесса своим вождем; Бесс был сатрап царской крови, он хотел царства. С этим Александр смириться не мог. Александр один желал властвовать над миром! Он оставляет войско и, взяв еды на два дня, с отрядом разведчиков и лучшей конницей «друзей» — примкнувших к нему бывших персидских военачальников — немедленно пускается к лагерю, где произошло пленение Дария. Скачка продолжается ночь и половину дня. Однако, когда погоня достигла места, где был лагерь Бесса, она увидела только следы лошадей и повозок и давно остывшие угли костра. Едва ночная прохлада остудила воздух, погоня возобновилась и вновь продолжалась ночь и половину дня. Но когда Александр со своим отрядом ворвался в деревню, где останавливался на привал Бесс, он опять застал его лагерь пустым. Отчаяние охватывает Александра. Его люди и кони смертельно устали. Он не знает, что делать — пространство оказывается сильнее его. И тут являются жители деревни и подносят дар избраннику Судьбы — протыкают в пространстве дыру, указав преследователям короткий путь через пустыню. Тем же вечером всадники Александра в третий раз пускаются в погоню и наутро настигают Бесса. Завидев Александра пред собою, персы в ужасе бросаются в разные стороны, даже не пытаясь сопротивляться. Со страшной яростью рубя задних, воины Александра пытаются нагнать тех, кто находится впереди, но самозванцы ускользают от них. В разоренном лагере в простой повозке греческий военачальник находит Дария, беспорядочно исколотого пиками. Судьба его, наконец, свершилась. Плутарх повествует, что, увидев над собой греческого воина, Дарий попросил воды, выпив же, сказал, что жалеет только о том, что не может отплатить добром за добро и отблагодарить Александра за доброту к матери, жене и детям…
Неизвестно, застал ли Александр Дария живым; однако, завернув его тело в собственную хламиду, вывез из разоренного лагеря мятежников и впоследствии с почестями похоронил в усыпальнице персидских царей. Однако непредвиденные обстоятельства вновь встали на его пути. Теперь силы, враждебные ему, сосредоточились в Бактрии, где прятались Бесс и его сподвижники. Александр не собирался идти на север и на восток; в его планах был поход на юг, к сокровищам Индии, однако, как в классической греческой трагедии, Судьба оказывается сильнее его.
Древняя история полна патетики; но, по-видимому час, когда Александр решился преследовать Бесса до края ойкумены, потребовал от него подлинного красноречия. Он должен был убедить войско в необходимости следовать за ним до предела Земли. Это удалось ему: затерянным вдали от родины солдатам не на что было рассчитывать, кроме как на свою сплоченность.
Поначалу через ущелья Эльбурса Александр тронулся на отдых в Гирканию — плодородную долину, прилежащую к Каспийскому морю на юго-западе, и, несмотря на враждебную настороженность горцев, через четыре дня достиг ее. Пред ним открылась прекрасная страна.
Все древние по-разному, но в согласном восторге расписывают плодородие Гирканской долины.
Думал ли Александр, что когда-нибудь окажется здесь? Навряд ли. С начала похода прошло уже пять лет. Он успел понять, что мир значительно больше, чем кажется из-за «коровьего брода». Но с этим открытием теперь, здесь, ему было нечего делать. Спускаясь в Гирканскую долину, Александр заметил вдали блеск обширной водной глади. Если бы у царя была карта, он мог бы разгладить ее на коленях и понять, что вышел к Каспийскому морю, которое древние размещали у самых дальних пределов мира. У Александра не было никакой карты, и он вынужден был ориентироваться без нее. Морской залив, казалось, был не меньше понта 388 — но вода в нем была преснее, чем обычно в море, поэтому Александр предположил, что это лиман Меотийского озера 389. Он и сам все еще не верил, что зашел так далеко…
Вся география Каспийского моря в Античности — это, в сущности, история нескольких цитат, вернее, обломков сочинения неизвестного автора, которые впоследствии многократно использовались для создания историй и географий великого похода. Но становятся ли эти строки в силу своей немногочисленности менее драгоценными для нас? На каспийском берегу, как свидетельствуют некоторые древние историки, произошла встреча Александра с царицей амазонок по имени Фалестрида; Александр провел с ней тридцать дней, чтобы она зачала от него ребенка. Развлекаясь охотой, Александр будто бы убил последнего в Гиркании льва. Здесь же сдались ему многие сатрапы и греческие наемники, не знавшие больше, кому служить. Он был взбудоражен неизвестностью: где-то там, за бесчисленными горизонтами открывающихся за Каспием пустынь, скрывался Бесс, самонадеянный безумец, посягнувший на царственное величие. Александр не ведал страха. Он верил, что Судьба, раз встав на его сторону, будет благосклонна к нему всегда. Однако сейчас на пути его стояли марды, которым имя его не внушало ни почтения, ни ужаса: надо было внушить им ужас. Он заступил за край карты. Неизвестная Азия ждала его.
VII
Он вторгся в Азию, чтобы примерно покарать Бесса — вероломного больше, чем опасного — но и сам угодил в ловушку. Азия оказалась беспощадна и огромна, как многократно увеличенное пространство Средиземноморья. За краем мира открывался еще один край, а далее еще; и народы, населявшие эти окраины, народы, строящие города, но не расставшиеся еще с дикостью, были неисчислимы. В битвах с ними таяли силы и надежда, ибо они были неистощимы, как волны песка, и победа над ними не приближала общей победы. От усталости меж старыми соратниками, как змеи, стали клубиться обиды; они понимали, что закоснели в походах и бесчисленных битвах, и пытались размягчить очерствевшие чувства вином, но вино здесь не успокаивало, а только до бешенства возжигало изможденные нервы; обиды закаменевали в сердце, как спекшаяся глина; друзья переставали смотреть друг другу в глаза; созрели заговоры; пролилась кровь — и все это в крошечном отряде, взявшемся огнем и мечом покорить необъятный континент.
Вероятно, безвозвратность, одиночество, оторванность от родины и затерянность в песках были сначала просто чувством. Потом «невозвращение» в Грецию, в культуру и нравы Греции обрело у Александра характер решения. Он двигался к пределу, но не обретал его. Отсюда, из далека Азии, и Македония, и Греция казались теперь на удивление маленькими, смешно кичащимися своим превосходством над «варварами». Теперь только варвары окружали Александра — а он не достигал над ними превосходства: марды и массагеты, парфяне и бесчисленные «скифы», которых он различал только по цвету волос, да по тому, на север или на восток они бросались удирать, напоровшись на железную волю отряда. Он сражался теперь с кочевниками: стрела дикаря отколола ему кусок берцовой кости; камень дикаря, ударив в шею, едва не убил его…
Иногда на его пути вставали города в плодородных долинах. Если город не сдавался, воины Александра брали его штурмом и убивали всех. Если сдавался — они делали вид, что расточают милость, которой у них уже не было, и отдыхали от жестокостей войны в пирах и забавах, которые во всей своей торжествующей похоти вновь обнаружатся только в истории некоторых римских императоров.
В Парфии Александр как-то впервые облачился в персидскую одежду: сначала он надевал ее дома, принимая варваров и близких друзей, но царственные одежды Ахеменидов требовали и особого отношения к себе — персы, ставшие его союзниками, и варвары, служившие в его войске, падали перед ним ниц, чего греки, в силу свободного достоинства эллинов, делать не хотели или попросту не могли…
Однако, видя, что это нравится царю, многие его друзья последовали его примеру, и он приблизил их; вместе они проводили время между боями: он дал им багряные одежды и персидскую сбрую для лошадей. В его гареме теперь было столько же наложниц, как и у Дария: ежедневно они становились вокруг царского ложа, чтобы он мог выбрать ту, которая на этот раз проведет с ним ночь. Властелин мира избрал себе новую Судьбу. Задумывался ли он, что, уходя, старая Судьба может забрать с собой и столь привычную, столь неизменную его удачу? Он верил в свою удачу до конца. Столь уже скорого.
Старые воины Филиппа ворчали, что, победив, потеряли больше, чем захватили на войне; что, покорившись чужеземным обычаям, они сами стали побежденными… Александр, как мог, пытался утихомирить их, но конфликт касался выбора культуры, всей смысловой оболочки, в которой живет человек, и не мог быть разрешен простым приказом. Александр, несмотря на Аристотелево воспитание, неожиданно сделал выбор в пользу культуры, которой противилось все греческое. За испытанную на себе жестокость Азии он желал получить ее негу и поклонение. Письма, посылаемые в Европу, он запечатывал своим перстнем, а те, которые отправлял в Азию, — перстнем Дария, хотя друзья еще некоторое время осмеливались говорить ему, что одному не изжить судьбы двоих.
Зимой 329 г. до н. э. он перешел хребет Гиндукуш (который и сам Александр, и его воины считали Кавказом, указывая даже гору, к которой якобы прикован был Прометей) и, в два месяца подчинив себе Бактрию, тронулся в Согдиану, где нашел последнее прибежище Бесс. Птолемей, будущий владыка Египта, был послан с кавалерией через Окс (Аму-Дарью) и захватил сатрапа-самозванца. Закованный в цепи Бесс ждал у дороги, когда Александр во главе армии проследует мимо него. Поравнявшись с пленником, Александр сурово спросил, как смел тот убить своего повелителя и провозгласить себя царем? Не получив внятного ответа, он велел отрезать Бессу уши и нос, а затем казнить, привязав за ноги к вершинам двух склоненных деревьев. Лютость восточного владыки овладевала им по мере того, как отряд углублялся в даль неизвестного материка. Он перестал быть великодушным.
VIII
Он приказал убить Филата, начальника своей гвардии, заподозрив его в заговоре; затем, опасаясь мести, он отправил убийц к отцу Филата, Пармениону, бывшему его правой рукой все время с начала похода, — и беспощадные убийцы, в доказательство того, что в точности исполнили приказ, привезли ему голову любимого войском военачальника, как голову паршивой собаки. На пиру после взятия Мараканды (Самарканда) за язвительное слово он в пьяной ярости пронзил копьем любимого друга Клита, когда-то спасшего ему жизнь, после чего несколько дней лежал в палатке в нервной горячке; пажи, боясь и ненавидя его, задумали заговор — он истребил пажей. Он истребил бранхидов — малоазиатских греков, переселенных из Милета в Согдиану Ксерксом. В свое время их предки хранили оракул Аполлона близ Милета, но отдали Ксерксу все сокровища храма. Потомки отступников в знак своей покорности вышли навстречу Александру за стены города. Но Александр разучился миловать: все население до последнего человека было перебито, священные рощи вырублены, стены сровнены с землею. Он научился тешить кровью своего демона.
В Согдиане — на дальнем краю мира — Александр взял себе жену, хитростью овладев укрепленным городом Сисмитры, устроенным на вершине скалы. «На вершине скала плоская и покрыта плодородной землей, способной прокормить 500 человек. Там Александр был принят с гостеприимной роскошью и отпраздновал свадьбу с Роксаной», дочерью наместника этой области. Тогда же, в день свадьбы, он затаил смертельную обиду на Каллисфена, своего историографа, открыто от имени греков отказавшегося воздать ему божественные почести. Каллисфен был племянником Аристотеля и самою своею фигурой воплощал связь с культурой Греции вообще. Понимал ли это Александр? Несомненно. И потому, казнив впоследствии Каллисфена, как якобы причастного к «заговору пажей», он тоже сделал принципиальный выбор, отсекая наследие своего учителя 390. Но мало было отречься от Аристотеля — нужно было вырваться из греческого мифа, где правит возмездие и Судьба: мифа, который разворачивается по законам трагедии, столь хорошо и Аристотелю, и Александру известным. И он уходит — все дальше на восток или в восток — понимая, что эринии, воплощающие разъяренное правосудие, не простят ему невинно пролитой крови друзей и соратников. Он чувствует, что все далеко не так гладко, как в первые годы похода, и наивно думает обмануть Судьбу, укрывшись в Азии, над которой законы греческой трагедии не властны, а справедливость есть просто право сильного. Он доходит до Индии, прежде чем его солдаты понимают, что он ведет их в бесконечность беспамятства — и на берегу Инда отказываются следовать за ним дальше, к городам и сокровищницам, переливающимся всеми оттенками драгоценного блеска, как в волшебном сне…
Азия заставила его забыть самого себя.
Он сжег прошлое, как сжигал военную добычу, чтобы не тащить за собой тяжелый обоз.
Из Азии он вернулся азиатом. Впрочем, Александр ведь и не вернулся домой: он сделал столицей Вавилон, сердце бывшей Персидской державы. Ценности Европы показались ему ничтожными по сравнению с могуществом Азии и ее роскошью. Азия покорила его, изменив его характер неслыханными объемами тщеславия и сладострастия; он снял с себя простую одежду греков и облачился в пышное одеяние персидских царей. Вернувшись из Индии, он стал обустраивать свою исполинскую империю, взяв за основу не греческую, а персидскую культуру. Помимо Роксаны он берет себе в жены и, как племенной жеребец, покрывает дочерей Дария и Бесса, чтобы смешать свою кровь с кровью последних представительниц царственной династии Ахеменидов. Древняя магия крови оказывается важнее для него, чем сомнительное совершенство греческой политической культуры и этики. Он щедро одаривает своих полководцев, женившихся на знатных персиянках, и из собственной казны дает приданое десяти тысячам персидских девушек, чтобы склонить македонян брать их в жены. Наконец, незадолго до смерти он посылает в Грецию приказ причислить его к сонму небожителей и чествовать его по всем правилам, как бога — с алтарями и жертвоприношениями. После перехода через Гиндукуш он не боялся Олимпа; ему важно было лишь стать вровень с богами, чтобы избежать их постыдного вмешательства в его судьбу. Он полагал, очевидно, что как-нибудь договорится с влиятельным Аполлоном, во имя которого свершил немало кровавых дел, а заручившись его поддержкой, справится и с гневом могучей Афины — вечной девственницы с тупым мечом, воображающей себя распорядительницей чужих судеб, да еще этой, Фемиды, с завязанными глазами…
IX
Азийский выбор Александра был поверхностным — вряд ли его заинтересовали путаные тексты «Авесты» и предписанный религией Заратустры моральный закон: этика пророка оставалась для него неизвестной, да если б он и узнал о ней, то воспринял бы, скорее всего, как сущую галиматью, подобную «поэтике» его учителя Аристотеля. Приблизив к себе персидскую военную аристократию, он повсюду гнал жрецов и, где смог, подверг истреблению духовные писания зороастрийцев. Вообще, духовные вопросы не интересовали властелина мира уже потому, что, завоевав мир силой, он тем самым подтвердил свою правоту во всем, в том числе и в собственном духовном совершенстве. Воистину, то был Сверхчеловек, явившийся задолго до Ницше. Но в Индии он впервые столкнулся с парадоксальным духовным опытом, незнакомым и пугающим для него, опытом, в котором его победы и властительство ничего не значили. В свете этого опыта он был не велик, но жесток и жалок. И путь его побед оказывался путем невиданных кровопролитий и предательств, ведущим в пустоту. Он был великим воином, он испытал все мыслимые наслаждения, но все же в глазах индийских аскетов остался лишь глупым, да, пожалуй, и злым мальчишкой, которому не под силу понять вещи, которые в его возрасте должен бы понимать каждый мужчина… Александр был наслышан об индийских отшельниках, и когда войско достигло северной Индии, он отправил Онесекритоса (ученика школы Диогена), чтобы тот привел к нему такового от имени Полновластного Господина людей и сына могущественного Зевса. Посланник нашел йога Дандамиса (имя, вероятно, искажено греческими авторами) в лесу под деревом и предупредил, что, если тот явится, Александр осыплет его подарками, если же нет — отрубит голову.
— Если Александр — сын Зевса, то и я его сын, — ответил йог. — Мне от Александра ничего не нужно. А он, как я вижу, все блуждает по морям и землям, и нет его блужданиям конца. Пойди и скажи Александру, что Бог, наш Высший Царь, никогда не наносит людям оскорблений и не творит зла. Он — Создатель света, мира, жизни, воды, тел и душ… Только этого Бога я чту — Бога, которому отвратительно любое убийство… Александр не Бог, ибо ему придется вкусить смерть. Как может быть хозяином мира человек, не добившийся власти даже в своей внутренней вселенной?
Высказав свое мнение об Александре, аскет продолжал:
— Дары, обещанные вашим царем, мне ни к чему. Все, что я действительно ценю, это деревья, дающие мне кров; плодоносящие растения, дающие мне пищу, и воду, которая утоляет мою жажду. Страстно копимые богатства в конце концов разрушают того, кто их накопил, лишь усугубляя печаль и смятение, которые и без того являются уделом всех непросветленных людей. Даже если Александр отрубит мне голову, разрушить мою душу не в его власти. Пускай он пугает своими угрозами тех, кто жаждет богатства и боится смерти. Пойди и скажи Александру: Дандамису ничего твоего не нужно, а если ты хочешь получить кое-что от Дандамиса, тогда иди к нему сам.
Озадаченный, вернулся Онесекритос в стан греков и слово в слово передал Властелину Мира слова аскета. Александр внимательно его выслушал и после этого «еще больше захотел встретиться с Дандамисом — нагим стариком, в котором завоеватель многих народов увидел единственного достойного противника» 391.
Однако так и не отправился к нему. Специфический опыт святости, который был уже достоянием буддизма и аскетов Кришны, не был еще известен в Греции, а в тонкости персидского благочестия Александр не вникал — ведь он победил персов… Причастность к божественному сулила как будто славу и почести, достойные богов, а здесь переживание Бога было сродни добровольной отверженности от себя и от мира, в которой, однако, святой обретал невиданную силу, пророческий дар, царское достоинство и свободу.
И Александр… испугался? Ну уж нет. Просто до сих пор он твердо знал о себе, что именно он — самый крутой парень во всей Вселенной, и каждый день, каждый человек подтверждали это. Ему не хотелось, чтобы убежденность его поколебал какой-то нищий отшельник с неустрашимым духом. Как пишет Плутарх, он попытался разрешить ситуацию безопасным для себя способом: устроив диспут с индийскими мудрецами. Однако это не утолило его духовный голод (и не могло утолить — они попросту говорили на разных языках), и он не успокоился, пока не нашел себе в Индии учителя, настоящего йога, который стал сопровождать его в походах. Греки звали аскета Каланос. Он пережил с Александром страшное возвращение из Индийского похода через пустыню Тар и в Сузе отказался следовать за ним, до конца избыв свой земной путь и добровольно взойдя на погребальный костер. В изумлении войско смотрело, как, войдя в огонь, святой застыл и не шелохнулся, пока не сгорел дотла. Последние его слова были обращены Александру: «С тобой мы еще увидимся — в Вавилоне».
Есть ситуации, в которых человек не может поступить по-своему. Предположим, что Александр стал бы постигать невероятную правоту своего учителя. Мог ли он отступиться от задуманного еще в юности, отрешиться от власти, покинуть войско, которое без него погибло бы? Он так не сделал. Значит, собственная «правота» была для него очевиднее, чем все прозрения индийских пророков. Он и не стремился к жизни «в духе». Такой жизни для него еще просто не существовало. Удивительно, что именно Александр, великий пассионарий Античности, первым прикоснулся к индийской мудрости, содержащей в себе иррациональную, неевропейскую мысль, логику, в отличие от логики Аристотеля, представленную множественностью истин; учение о подчиненности человеческой жизни закону кармы и психологию, воздвигнутую на основе йогических практик, в которой человек — не более, чем пылинка космоса. Но Александр не понял всего этого. Он возил с собой Каланоса как живой образец этой иной правды, он, может быть, искренне любил его и втайне восхищался им — но сам постичь его правду и использовать ее в том мире, куда он возвращался, не мог. И потому в Вавилоне он вернулся к преобразованиям, о которых мы уже говорили: начал строительство своей необъятной и гибельной Евро-Азийской империи. Великий Александр, возможно, был первым владыкой, которому было известно о себе (ведь йоги сразу сказали ему об этом), что в душе у него нет мира — и больше: что душа его смятенна… Но для царей, возможно, это знание не является столь уж важным. И он начинает заниматься обустройством мира внешнего — с азартом, достойным древнегреческого геометра.
X
Превращения Александра и реформы, им намеченные, так возмутили и напугали греков, что сразу после его смерти начался распад огромной империи, очерченной им как проект; причем распад этот, разумеется, начался с войн, которые повели между собой его ближайшие сподвижники, «диадохи», оказавшиеся правителями на стыке двух миров — Европы и Азии. Европа не хотела пускать Азию к себе. Греция не хотела иметь ничего общего с распавшейся на царства империей Александра. Она хотела жить удельно, раздельно, торговать, осваивать какой-нибудь крошечный Херсонес на черноморском берегу и охранять свою самодостаточность в своих полисах. Конец этому хотению положил только Рим, захвативший Грецию в середине II века до н. э. Египет, Сирия, Мидия и Парфия сыграли свое соло несколько спустя, уже как провинции или противники этой другой, Римской империи.
До конца эллинистического мира было еще далеко; но судорога походов Александра, пробежав по всей Евразии, быстро затухла; в истории нарастала дрожь новых напряжений, связанных с войнами Рима на Западе и с бесчисленными кочевниками на Востоке. Одно время власть над большей частью бывшей Персии взяли парфяне: со временем они и восстановили Персию из обломков державы Дария. Даже римлянам не удалось одолеть их. В этом смысле Александр долгое время был недостижим: римляне так и не смогли продвинуться дальше него в глубь Азии. Конечно, «европейское» влияние, принесенное экспедицией Александра и римскими легионами, было очень поверхностным и быстротечным. Азия не могла перестать быть Азией. И лишь греко-бактрийские цари из своего отдаленного, скрытого за горными хребтами и пустынями царства предприняли последнюю попытку расширить границы античного мира, колонизовав Фергану и открыв путь в Китайский Туркестан, что сделало возможным проникновение на еще более отдаленный восток греко-персидских художественных влияний.
Бактрийское царство пережило разрушение римлянами Карфагена (126 г. до н.э), историю Христа и разорение Рима вестготами (410 г.) и вандалами (455 г.), но и оно пало, завоеванное в конце VII века арабами-мусульманами.
Мир стремительно менял свой облик. Над Каспийским морем готовились расцвести звезды «Тысячи и одной ночи»…
ИСМАИЛИТЫ: ИСТОРИЯ ИКАРА
I
Исмаилизм наряду с суфизмом можно назвать вершиной мусульманской мысли. Правда, возникает сомнение в том, насколько эта мысль мусульманская: в ее подоплеке ясно чувствуется гностицизм. Но ввиду того, что за семьдесят лет, минувших со времени открытия коптских гностических евангелий 392, сколько-нибудь универсальное определение гностицизма так и не было найдено, мы, включив гностицизм в порядок вопросов, касающихся истории и религиозной философии ислама, рискуем сформулировать тему, неразрешимую в рамках этого повествования393. Так что сойдемся на том, что исмаилизм — это мощное ответвление шиизма, которому на рубеже I и II тысячелетий н. э. удалось совершить несколько поразительных духовных прорывов. Каждый раз, сталкиваясь с опасностью в своем историческом и духовном движении, исмаилиты выбирали нетривиальные решения, «обыгрывая» своих противников и, что, может быть, важнее — давая своему исповеданию веры импульс внутреннего развития.
Как писал Мирча Элиаде, во всех исламских расколах теснейшим образом связаны три фактора: генеалогия, теология и политика. Именно они и стоят у истоков исмаилизма. Началось с того, что у шестого шиитского имама Джафара ас-Садика (702–765) было трое сыновей: Абдаллах ал-Афта, Исмаил и Муса-ал-Казим. Два первых сына умерли раньше отца, так что большинство шиитов в Персии и поныне считают седьмым имамом Мусу. Однако часть паствы посчитала, что законным воспреемником должен считаться Исмаил (которого отец «забраковал» за питье вина). Внутренняя необходимость такого разногласия и раскола была связана с некоторыми крайними тенденциями в шиизме — например, с желанием адаптировать «чуждую» веру, что персидские исмаилиты и сделали, объявив персидский, а не арабский языком богослужения. Кроме того, «крайних» не устраивало положение вещей, установившееся после смерти Пророка: Мухаммад пережил интенсивный опыт богообщения, записанный в книге Завета (Коране), и оставил пять столпов веры: салат — молитвенный канон; закят — узаконенное подаяние; саум — пост от рассвета до сумерек в течение всего месяца Рамадан; хадж — паломничество и шахада — символ веры, т. е. повторение слов: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк его» — которые и стали основой религиозной жизни. Но как же так? Пророку досталось все, а последующим поколениям — ничего, кроме возможности послушно исполнять эти его предписания и толковать, в узких пределах допустимого, его речения? Это глубоко противоречило человеческой природе. Показательно, что уже через сто с небольшим лет после смерти Пророка 394 первыми не согласились отныне и вовеки довольствоваться пятью заповедями веры суфии: они стали искать прямой мистический контакт с Богом, что первоначально было воспринято как святотатство. Шиитам тоже нужен был «прямой контакт» с Богом. Это было связано с эзотерикой ислама. Они хотели обрести ту полноту знания, содержащегося в Коране, на которую намекал сам Мухаммад 395. Для этого нужен был учитель, имам. И если большинство шиитов близко подошло к установлению равенства между первым имамом Али и пророком Мухаммадом, то исмаилиты придали и всем последующим имамам почти божественные черты. С одной стороны, имам — посредник между Богом и правоверными. С другой, не занимая места Пророка, он разделяет с ним его славу и дополняет его дело: «смелая мысль, оставляющая открытым путь для будущего религиозного опыта», — высказался по этому поводу Мирча Элиаде 396. Действительно, если бы вклад имамов в развитие религиозного опыта «засчитывался» в исламе, путь для свободного развития этой религии был бы открыт.
Но так как «выбранный» исмаилитами имам Исмаил умер (755 г.), они стали считать седьмым имамом его сына, Мухаммеда ибн-Исмаила, который, опасаясь за свою жизнь, должен был скрыться в горной области Демавенда 397. О том, были ли у него потомки, и если были, то, где находились, ведал лишь узкий круг избранных, окружавших верхушку движения. Так в истории исмаилизма началась эпоха «сокрытия», которая продолжалась более ста пятидесяти лет. Каким образом исмаилитское движение, при зарождении потерявшее своего вождя, не выродилось в обычную секту, а продолжало жить интенсивной духовной жизнью? Что это за фигура — «скрытый имам»? И не благодаря ли ей исмаилитам удавалось на протяжении стольких лет исповедовать исполненный страстного желания свободы «духовный ислам»?
Чтобы разобраться в этом, нужно разделить время горизонтальное, историческое, и время внутреннее, вертикальное, являющееся временем духовного раскрытия и восхождения. В историческом времени «сокрытие» имама было вызвано цепочкой внешних (генеалогических) причин, которые, в сущности, неважны. Не так уж и важно, где скрывается настоящий имам. В «вертикальном» времени «сокрытие» — подсказка для гностической мысли.
«Скрытый имам» в доктрине исмаилитов — сущность, как будто, фантомная — на самом деле принадлежит не физической, а духовной природе. Он есть то же, что в традиции иранского суфизма именуется «шахидом» — личным наставником в сверхчувственном мире. Так как Аллах принципиально непостижим, познание его возможно только через имама, «небесного учителя». Встреча с ним пред-ощущается как вспышка горнего света, а появление его совпадает с состоянием жгучей любви. «Между небесной личностью светового вожатого и объектом его любви — то есть личностью земной, к которой обращена любовь небесная, — существует взаимоотношение, которое можно назвать эпифанической связью, поскольку оно позволяет узреть духовным оком присутствие «горнего свидетеля», — писал по этому поводу французский исследователь иранского мистицизма Анри Корбен 398. Скрытый имам — есть свет высокого напряжения. Божественный свет, влекущий к себе «искру Божию», которую человек носит в себе, а мистик раздувает до яркого света высших духовных состояний. Так «скрытый имам» — Сияющая Пустота — стал первым обретенным сокровищем исмаилитов.
Шиитский гнозис, как и суфизм, являет нам лик ислама, принципиально отличный от суннитского доктринерства и законничества. «Пространство» веры принадлежит в нем не физической, а духовной географии, оно разворачивается не по горизонтали, а по вертикали между макрокосмосом Божества и микрокосмосом человека. Имам времени открывается лишь тем, кто нашел в себе силы для духовного рождения. Только там — в пространстве инобытия — и возможна подлинная встреча с Невидимым. Имам времени есть живой божественный логос: он возвещает истинный, эзотерический смысл пророчеких откровений. Поэтому для исмаилитов персона имама иерархически выше персоны пророка. Имам развивает то, что было только намечено в основах веры. И поскольку Аллах непознаваем, а имам является совершенным человеком или «ликом Божьим», постольку знание имама есть «единственное возможное для человека знание Бога». По Корбену, следующая фраза принадлежит Вечному имаму: «Пророки приходят и уходят. Они меняются. Мы же сущие от века… Божьи люди не суть сам Бог, но они неотделимы от Бога». Следовательно, «лишь вечный имам как Богоявление делает возможным понятие об основах и закономерностях бытия: будучи «данным в откровении», он есть само бытие. В своем земном обличье он есть проявление высочайшего Слова, истинные врата всех времен, он образ Вечного Человека, в котором виден лик Божий 399.
Столь же знаменательно убеждение, что самопознание человека предполагает познание имама: речь идет, разумеется, о духовном познании, о «встрече» с сокровенным имамом, невидимым и непостижимым в чувственном плане. Как утверждает один исмаилитский текст, «тот, кто умирает, не познав своего имама 400, умирает смертью бессознательных». Корбен прав, видя в следующих строках, возможно, наивысшую идею исмаилитской философии: «Имам сказал: Я буду вместе с моими друзьями ищущими меня, повсюду, на равнине, в горах, в пустыне. Тот, кому я открыл мою сущность, то есть тайное знание меня самого, уже не нуждается в физическом общении. И в этом заключается Великое Воскресение» 401.
Невидимый имам сыграл решающую роль в мистическом опыте исмаилитов. Упрощение этого опыта, а потом и забвение его, обратный перевод религиозного чувства из внутреннего, «вертикального» мира в горизонталь, на землю, в мир реальной истории, а потом и политики, подготовило почву для ожиданий, связанных с «концом времен» и явлением избавителя — грядущего имама Махди. В этом ракурсе стоит взглянуть на фигуру имама Хомейни. В «горизонтальном» мире он — несомненно, подлинный имам своего времени.
II
В 1055 году в Иран вторглись турки-сельджуки. Страна со времен арабского завоевания не знала такого опустошительного нашествия. В последующие сто лет история исмаилизма есть, по сути, история сопротивления. Турки избавили Персию от власти багдадских халифов, но, как бы то ни было, арабское завоевание было делом давнишним, с арабами была связана вся история ислама. А турки-сельджуки и примкнувшие к ним огузские кочевые племена, вывалившиеся из брюха Средней Азии, были настоящими дикарями, «джиннами», власть которых угрожала всей персидской культуре.
Это отчасти объясняет, почему верхушка исмаилитов — иранская аристократия — оказалась связанной с крестьянами и ремесленниками, чьи цеховые организации варварски были разрушены завоевателями. Объединению крестьян и аристократии способствовало и то, что амиры — наместники турецкого султана — получали от него в качестве награды за службу как земли иранского «рыцарства», так и общинные наделы крестьян. Пока волна нашествия катилась по разгромленному Ирану, никто не смел поднять головы. Но в сельджукском султанате, как это почти всегда бывает, вскоре после победы началась неудержимая и кровавая борьба за власть, что позволило персам собрать силы для сопротивления. С историей этой поистине героической борьбы неразрывно связано имя Хасана ас-Саббаха и крепости-замка Аламут.
Хасан ас-Саббах, ставший, благодаря книге Марко Поло, известным в Европе как «старец горы» 402, родился в середине XI века в городе Кум, где поселился еще его отец, по легенде, принадлежавший к древнему роду йеменских царей доисламской поры. Позднее семья переехала в другой город — Рей — бывший центром исмаилизма. Там-то в возрасте 17 лет Хасан познакомился с исмаилитским да‘и [проповедником, «зовущим»] Амиром Даррабом, от которого он принял посвящение, и узнал имя имама времени — египетского халифа Ал-Мустансира 403. Довольно скоро Хасан был замечен главным исмаилитским да‘и Персии Ибн‘ Атташем, который приблизил его к себе и отправил учиться в Египет. Пробыв там три года, Хасан ас-Саббах вернулся в Персию и девять лет странствовал, исполняя обязанности, возложенные на него Ибн‘ Атташем, покуда не пришел в горную область Рудбар и прилежащий к ней Дейлем, населенный непокорными горцами, и не решил, что настала пора для решительных действий. К тому времени турки владычествовали в Персии уже тридцать пять лет, и за это время недовольство, связанное с их правлением, только усилилось. Хасан присмотрел принадлежащий некоему аристократу замок Аламут, устроился туда учителем, вместе с единомышленниками распропагандировал гарнизон, после чего уже не стоило труда овладеть этой твердыней. В 1090 Аламут перешел в руки исмаилитов. Через шесть лет «правая рука» Хасана, Бузург-Уммид — храбрый военачальник из простых горцев — захватил вторую по стратегической важности крепость в округе — Ламсар. Это послужило сигналом к восстанию крестьян и ремесленников во всей округе. Вскоре все турецкие амиры были изгнаны, и на освобожденных землях возник недосягаемый для сельджуков район, позднее ставший ядром исмаилитского государства. «…Мы не располагаем подробными сведениями о реальной налоговой системе и религиозных обязанностях, введенных на подконтрольных исмаилитам землях. Однако известно, что добыча, захватывавшаяся исмаилитами в военных кампаниях, распределялась поровну среди всех. Свое участие в совместных мероприятиях, таких, например, как улучшение ирригационной системы в различных местностях или строительство крепостей, исмаилиты рассматривали как деятельность, направленную на благо всей общины. Стоит отметить, что четкого деления на сословия и внутрисословные группы, в том виде, в котором оно установилось при сельджуках, среди исмаилитов, именовавших друг друга «товарищами» [«рафиками»], не существовало. Любой человек, обладавший необходимыми способностями, мог достичь высокого поста, например, стать губернатором крепости или главным да’и региона…», — пишет иранский исследователь проблемы Фархад Дафтари 404.
В горах Эльбурса исмаилиты захватили множество крепостей, в противовес которым турки и выстроили замок Баладе, который я видел в Иране. Вооруженные гнезда исмаилитов существовали в труднодоступных горных районах по всей стране. Однако, в 1105 году власть перешла к султану Мухаммаду Тапару, который положил конец династическим распрям и собрал силы, достаточные, как казалось, для преодоления внутренней болезни империи Сельджукидов, которой были разъедающие ее восстания. Туркам удалось взять крепость Шахдиз и навсегда изгнать исмаилитов из центрального Ирана. Был потерян весь запад: не выдержали турецкого натиска и были разгромлены почти все исмаилитские оплоты в хребте Загрос. Но север (Рудбар) и северо-восток (Хорасан) исмаилитам удалось удержать за собой. Восемь лет турки осаждали Аламут, Ламсар и другие крепости Рудбара, выжигая посевы и время от времени решаясь на очередной кровавый приступ. Хасан ас-Саббах, со времени захвата Аламута никогда не спускавшийся из крепости вниз, приказал отправить женщин в безопасные места, а мужчинам — не терять присутствия духа. Турки поражались мужеству защитников крепости и, похоже, начинали суеверно бояться их. Во всяком случае, когда в 1118 году султан Мухаммад Тапар отдал богу душу, его военачальники спешно сняли осаду Аламута и поспешили убраться из проклятого места.
Вероятно, личность Хасана ас-Саббаха наложила отпечаток на ход событий: это был человек невероятной воли и бескомпромиссных взглядов. Составленная им великолепная библиотека свидетельствует, как будто, о широте его кругозора. В то же время очевидно, что это был человек, умеющий слепо ненавидеть и в убеждениях своих доходящий до фанатизма: «Во время его правления никто в долине Аламута не пил открыто вина, была запрещена также игра на музыкальных инструментах. Хасан ас-Саббах казнил обоих своих сыновей: одного — за питье вина, другого — за предполагаемое соучастие в убийстве… хотя позднее это предположение и не подтвердилось» 405. Он основал институт фида‘и — дерзких и неумолимых убийц, — благодаря которым орден исмаилитов получил свое второе название: «ассасины» — убийцы 406. Политические убийства стали оружием мести. Обычно они применялись против лиц, причастных к гонениям на исмаилитов, тем более если они привели к массовым казням407. В то же время Хасан ас-Саббах подчеркивал, что главным средством борьбы для исмаилитов остается восстание или война. Он умер, назначив своим преемником Кийа Бузург-Уммида, коменданта крепости Ламсар, в 1124 году.
III
Незаметно подступили новые времена: военные действия против исмаилитов зашли в тупик. Еще при неутомимом Кийа Бузург-Уммиде султан Махмуд II посчитал целесообразным вступить с ним в мирные переговоры, чтобы избавить империю от излишних кровопролитий; в том же направлении действовал и его сын, султан Санджар (ум. 1157), который попросту отказался от преследования исмаилитов, что, разумеется, привело к смягчению политического климата в управляемой им Персии. С одной стороны, после смерти Кийа Бузург-Уммида и вступления в должность его сына Мухаммада (1138) исмаилитское государство «было сплочено и имело установленные границы. Оно владело своим собственным монетным двором и управлялось центральным руководством, базировавшимся в Аламуте. Земли [этого государства] были отделены друг от друга большими расстояниями, раскинувшись на пространствах от Сирии до Восточной Персии» 408. С другой стороны, именно в это время исмаилиты «обрели многих сторонников в рядах сельджуков‐амиров, которые без их поддержки не смогли бы удержать свои позиции в отдельных районах» 409. Исмаилиты стали важной составляющей местных сил сельджукского султаната. Это неожиданное «потепление» политического климата в Персии привело к существенным подвижкам в духовной жизни Аламута.
Напомним, что и Хасан ас-Саббах, и Кийа Бузург-Уммид возглавляли исмаилитскую общину, будучи худжжа (печатью, свидетельством) скрытого имама. Они говорили собратьям о близком пришествии последнего, но, разумеется, не смели и думать о том, чтобы самим провозгласить себя имамами. Длительный мир изменил внутреннюю ситуацию в общине. И когда в августе 1164 года Хасан, младший сын Бузург-Уммида, неожиданно устроил церемонию публичной молитвы у подножия Аламута, после чего фактически провозгласил себя Имамом Времени — Тем Самым, кто свидетельствует о Господе и направляет на пути к нему, — исмаилитская община не возмутилась. Она ждала его, хотя этим жестом Хасан решительно вывернул «внутреннее время» мистического опыта во «внешнее время» истории.
Но что значит стать Имамом Времени? Это значит открыть истину во всей ее полноте. Или, подобно Христу 410, имам сам должен был явить собою «путь, истину и жизнь» 411. В любом случае что-то должно было существенно измениться. Хасан Бузург-Уммид понимал это. И он провозгласил перед собравшимися «Великое Воскресение». Фактически, пишет Анри Корбен, «речь шла не более и не менее, как о наступлении эры духовного ислама, полностью освобожденного от духа законничества, от рабства перед Законом, — религии личной, позволяющей человеку открыть и оживить для себя духовный смысл пророческих вдохновений» 412.
Вечное наказание в аду, так же как и вечное блаженство в раю, объявлялись фантазией. Рай и ад находятся не где-то — в ином времени и в ином измерении — а здесь-и-сейчас, внутри каждой человеческой души. «Исмаилиты воскресали для новой жизни в «духовном раю» и отныне все «внешнее» (захир) учение с его намазами, обрядами и предписаниями шариата становилось необязательным для массы верующих» 413. Все это весьма напоминало слова Христа о Царстве Божием внутри нас, то есть в душе верующего, при услови, что тот освободился от злых помыслов и нечистых чувств.
Трудно оценить смелость этого шага. Можно, конечно, вообразить себе, что в наши дни некий небесный посланник является людям и широко оповещает их, что Великое Воскресение настало. Сегодня. А день такой обычный, будний, серенький. Вам, скажем, сорок пять лет. Вы во второй раз женаты, у вас первые проблемы со здоровьем, дети от первой и второй жены, машину давно пора менять, ну и прочее. А тут — Воскресение. Как отнестись к этому? Ни в какое Воскресение вы, разумеется, не верите, но тут посланник — дело серьезное. И вы говорите ему, что еще не освободились от обычной мирской жизни, да и вообще, от Воскресения вы ожидали бы чего-то большего. После него жизнь должна стать яснее и полнее, чем в повседневной толчее, ей не нужна вся эта житейская проблематика. А тут — Воскресение объявляют, а жизни, как она есть, никто не отменял.
— Ну, а кто тебе самому запрещает сделать жизнь ясной и наполненной? — спрашивает посланник. — Возьми это. Это не невыполнимо. И вообще, мы там, на небесах, посовещались, посчитали по голосам и единогласно решили, что Великое Воскресение должно быть прямо сейчас объявлено. И от вас самих теперь зависит, какой вы сделаете свою жизнь. Во что превратите свой день, и день следующий, и так всю жизнь день за днем — в рай или в ад. Так что — живите, здравствуйте. И на Бога не обижайтесь.
Сказав это, посланник исчезает. И надо жить. Жить в жизни, как в раю. Вы скажете — это невозможно, на то она и жизнь. Но что интересно? Что большинство исмаилитов эту идею приняло. Приняло ответственность за рай и ад в своей душе здесь-и-сейчас. Для этого нужно большое мужество.
Историки исмаилизма обычно ссылаются на то, что, как и во всяком герметическом учении, в исмаилизме существовало множество степеней посвящения, фактически «свобода» от закона подразумевалась только для верхушки посвященных. Действительно, в ордене существовала сложная иерархия: члены двух низших степеней — фида‘и [жертвующие жизнью] и ласики [примкнувшие] — знали лишь внешнюю доктрину учения и не освобождались от исполнения мусульманского закона. Член третьей степени — рафик [товарищ] — уже частично посвящался в тайны «внутренней» эзотерической доктрины. Но только члены трех высших степеней — да‘и — полностью посвящались во внутреннюю доктрину исмаилизма. Для них следование «внешнему» учению — молитвам, обрядам и нормам права — было необязательно 414. Однако члены низших степеней, простые крестьяне и ремесленники, слышали о «внутреннем» учении, надеялись когда-нибудь узнать эту тайну тайн, связанную со знанием о себе и о мире.
Показательно, что в начале XX века, спустя более семисот лет после описываемых событий, А. Бобринский, столкнувшись с исмаилитами в нагорном Бадахшане, населенном таджиками, в своих заметках указывает на то, что «внутренняя» доктрина, предназначенная когда-то для избранных, пропитала все учение «секты» исмаилитов. Он рассказывает о своем разговоре с одним из пиров [наставников] исмаилитов: «Говорил он о Боге, о добродетели, об уважении к старцам. Более близким своим ученикам понемногу открывал истинное учение секты. Признавая молитву, он пояснял, что истинная молитва заключается в том, чтобы хорошо говорить, говорить чистое 415, помнить всегда Бога и хорошо во всем поступать. Не отвергая праздников, говорил, что истинный праздник для последователей секты — посещение своего наставника, пира, беседа с ним, хороший поступок, совершенный человеком. Не отказываясь от постов, говорил, что Бог требует не воздержания желудка, а воздержания нравственного, что и есть истинный пост. Не отрицая рая и ада, он говорил, что они обретаются не где-нибудь на небе, а находятся здесь, на земле, в душе каждого человека, у кого рай, у кого ад, от человека зависит иметь в душе то или другое» 416. «Люди должны быть, как братья, друг друга не обижать. Важно быть добрым, честным», все остальное неважно. Если человек оступился и совершил скверный поступок, он «должен прийти к пиру, искренно раскаяться, помолиться с пиром и тогда только Бог может ему простить» 417.
Пир Саид Ахмед поведал А. Бобринскому, что «в действительности у нас нет ни праздников, ни постов, ни намазов, ни общих молитв, ни мечетей. По пятницам, вечером, у пира или у халифа собираются старики, старухи, а из молодежи мужчины и женщины более достойные. Читают книгу «Каломи-пир», объясняют читанное, поют известные места из книги на память, играют на музыкальных инструментах и тут же ужинают» 418.
«На мой вопрос: «неужели душа никогда не найдет покоя?» пир ответил: «душа найдет покой, когда попадет в хорошего человека» 419. Здесь налицо буддийское представление о постепенном очищении и восхождении души через ряд перерождений, которое было намечено еще в раннем исмаилизме и зороастризме.
«На мой вопрос: существует ли у них обрезание? — пир, не особенно удивившись вопросу, ответил: «что ж у нас сохранилось бы от магометанства, если бы мы уничтожили и этот обряд!» 420
А. Бобринский верно обобщает результаты своих наблюдений: «Секта исмаилья — одна из самых радикальных шиитских сект: последователи ее принадлежат к так называемым моатилла, то есть лишающих Бога всяких атрибутов. По словам профессора А. Е. Крымского, философская сторона учения исмаилья имеет много общих черт с радикальными ветвями суфизма, «причем, надо это заметить, историческое происхождение их различно» 421.
Приняв во внимание это свидетельство А. Бобринского, можно сказать, что Великое Воскресение, провозглашенное когда-то Хасаном, сыном Бузург-Уммида, нашло глубочайший отклик в сердцах рядовых представителей исмаилитского движения. Но тот факт, что доктрина Воскресения фактически уравняла в правах элиту ордена и его рядовых членов, не прошел даром для имама Хасана. Спустя полтора года после объявленного Воскресения он был убит в замке Ламсар своим шурином, властительным феодалом, видимо, по наущению исмаилитской верхушки, которая стала опасаться энтузиазма и активности рядовых участников движения. Сын Хасана, Нур ад-Дин Мухаммад, отомстил за отца, вырезав семью убийцы и продолжил линию Хасана, что и привлекло в ряды исмаилитов много новых приверженцев из народных низов.
IV
В 1152 году умер султан Саладин, и сельджукская империя распалась. Персия вновь оказалась под властью аббасидского халифа ан-Насира (1180–1225). У исмаилитов появилось время для духовного поиска. Нур ад-Дин Мухаммад (1166–1210) — также признанный имамом времени — посвятил свое долгое и мирное правление систематическому уточнению и совершенствованию доктрины Великого Воскресения. После углубленной проработки она предполагала полную личностную трансформацию участников движения, которые, как ожидалось, теперь, в эпоху Воскресения, получили возможность познать имама в его подлинной духовной ипостаси. Но такая постановка вопроса и от имама требовала быть Истиной, как учил Христос. Без этого познание «сокровенной истины» было бы невозможным. На имама, таким образом, ложилась колоссальная ответственность: отвечая за свою «подлинность», он удостоверял подлинность истинной, глубинной реальности, хакика. Вслед за имамом верующему предстояло обратиться от мира внешнего, видимого, к внутреннему миру неизменных истин, что является общим призывом всех авраамических религий.
В те же годы, предшествовавшие монгольскому нашествию, исмаилизм переживал последний взлет. Окончательно оформилась исмаилитская космогония: согласно ей, Бог-абсолют пребывает в состоянии вечного покоя. «Он не является непосредственным творцом мира, как учат иудейство, христианство и ортодоксальный ислам. Бог-абсолют простым предвечным актом воли… выделил из себя творческую субстанцию — Мировой (или Всеобщий) Разум. Это первая эманация божества. Мировой Разум обладает всеми атрибутами божества; его главный атрибут — знание. Молитвы следует обращать к нему; у него много эпитетов: «первый», «покрывало», «дух»… и т. д. Мировой Разум произвел вторую, низшую эманацию — Мировую (или Всеобщую) Душу… Она несовершенна, ее главный атрибут — жизнь» 422. Мировая Душа порождает материю, а последняя — землю, планеты, живых тварей, т. е. весь видимый и невидимый космос.
Отражением Мирового Разума в чувственном мире является Совершенный Человек, Пророк, по терминологии исмаилитов, — натик («говорящий»); отражением Мировой Души в чувственном мире является помощник пророка — самит («молчащий»), задача которого — объяснить людям речи пророка путем раскрытия и истолкования внутреннего смысла речей и писаний пророка. Такие помощники были у каждого из пророков: так, Моисей был натиком, а Аарон (Харун) при нем — самитом; Иисус Христос был натиком, а апостол Петр (Буртус) при нем — самитом; Мухаммад был натиком, а имам Али при нем — самитом 423.
Жизнь человечества укладывается в семь пророческих циклов, каждый из которых является ступенью на пути к совершенству. Шесть циклов, связанных с именами Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада, уже прошли. Седьмой цикл начнется с явления последнего великого пророка — ал-Ка‘има, который появится перед концом мира. Конец мира наступит, когда человечество стараниями натиков и самитов достигнет совершенного познания. Тогда зло, которое есть не что иное, как невежество, исчезнет, и человечество вернется к своему Истоку — Мировому Разуму. Эта смелая концепция, по духу совершенно гностическая, уже не вписывалась не только в ортодоксальный ислам, но с большой натяжкой могла бы быть причислена к шиитской традиции, хотя бы и самой «крайней».
V
Нур ад-Дин Мухаммад скончался в 1210 году. До нашествия монголов было еще 15 лет. Ему наследовал его сын Хасан Джалал-ад-Дин. Обладая весьма сметливым умом, он быстро понял, что исмаилитская община с ее оригинальными концепциями об истинной реальности может остаться на задворках реальности земной, исторической. Стать аутсайдером. Для этого ей надо просто выпасть из исламо-арабского мира. А дальше время сделает все само. И он не только восстановил шариат и пригасил доктрину Великого Воскресения, но и сделал решительные шаги к сближению с суннитскими властями и духовенством, заказывал молитвы за здоровье аббасидского халифа ан-Насира, и отправил свою мать в паломничество в Мекку. Отказавшись играть по правилам своих отцов, он, казалось, совершал только разумные действия, но на самом деле лишь приближал свой бесславный конец. Он умер в 1221 году, когда монголы были уже за Аму-Дарьей, но ему не суждено было увидеть крушения собственных крепостей и, что еще страшнее, крушения людей, еще вчера заботившихся только о том, чтобы одним своим видом возвещать людям истину. Да и какую истину могли они теперь возвестить?! Если бы исмаилиты продолжали упорствовать в своей «ереси», им, по крайней мере, удалось бы сохранить одно сокровище, добытое ими за 470 лет своей истории — твердость духа. Но желание «удержаться на плаву» в Персии Аббасидов, вскоре (1225) затопленной и разгромленной монгольским нашествием, показало, насколько хрупок человеческий дух и как легко Здравый Смысл идет наперекор Мировому Разуму. Исмаилиты, подобно Икару, взлетели слишком высоко, чтобы при падении на землю не переломать себе кости. Сын Хасана Джалал-ад-Дина, Хасан III, был отравлен. Его внук, Мохаммед III, «царствовал», но не управлял, запертый в своем дворце, где его, пьяного, в конце концов и убили… Верхушка движения готова была сдать покорителю Ирана, монгольскому хану Хулагу, ключи от всех крепостей, в то время как «непосвященные», крестьяне, продолжали вести священную войну за свое Воскресение. Крепость Гирдукух сопротивлялась три года, крепости и замки в Кухистане (Иранское нагорье в центре Персии) продержались двадцать лет. И в результате, претерпев неисчислимые гонения, духовные сокровища исмаилитов сохранили до наших дней потомки простых крестьян, сектанты из Персии, Таджикистана и Индии.
Увы, история знает немало плачевных крушений дерзких духовных начинаний, а Мировой Разум вместе с Мировой Душою, похоже, не прочь посмеяться над Здравым Смыслом отвернувшегося от высшей правды человека…
ТАК О ЧЕМ ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА?
I
В юности, решив составить какой-никакой свод философских представлений, я прочитал биографию Христа, написанную молодым Гегелем, жизнь античных философов Диогена Лаэртского 424 и одну, изданную до революции, работу Анри Бергсона, названия которой я не помню, хотя до сих пор горжусь погружением в такую сложную для материализма материю, как интуитивизм. После чего прямо приступил к сборнику афоризмов Ницше и к его «Заратустре», полагая, что именно «Заратустра» разом откроет мне все сокровища человеческой мудрости. Признаюсь, я был намагничен еще и самим именем Заратустры — древнеиранского пророка. Древняя мудрость Персии и блестящий ум Ницше, казалось, должны были сплести невиданный смысловой узор… К своему удивлению, на первых же страницах «Заратустры» я столкнулся не с персидским пророком, а с каким-то парнем, живущим в пещере со змеей и орлом, который не имел к историческому пророку ни малейшего отношения. Поэтическая красота книги выглядела изрядно поблекшей, притчи этого нового Заратустры были надуманны и натянуты, в общем, на этот раз Ницше я не поверил, и единственный вопрос, который остался у меня с тех пор — почему героя Ницше зовут Заратустра и какое он имеет отношение к Заратустре реальному?
Поэтическое и философское завещание Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» 425, которое сам философ полагал величайшим даром своим человечеству — причем таким даром, который человечество будет осмысливать и допонимать еще тысячелетия — и по сей день остается, наверно, самой читаемой его книгой. Примечательно, что после ее опубликования и потом, в годы душевной болезни Ницше, книга эта мало была востребована и обрела, как и все творчество философа, актуальность только после его смерти, перед Первой мировой войной, — когда и настало чаемое автором «Заратустры» переосмысление всех европейских ценностей. Но, едва книга оказалась, наконец, востребованной, с ней случился казус: читающая публика поняла ее превратно, и она довольно скоро устарела, превратившись в забытое философическое иносказание. Между тем для Ницше его книга — это благовест человечеству о Сверхчеловеке как о новой практической задаче, которая встает перед родом homo sapiens в ходе эволюции.
«…До Заратустры не было мудрости, не было исследования души, не было искусства говорить; самое близкое, самое повседневное говорит здесь о неслыханных вещах, — писал о своем творении Ницше. — Сентенция, дрожащая от страсти, красноречие, ставшее музыкой; молнии, бьющие в неразгаданные доселе будущие. Самая могучая сила сравнений, которую мы видели когда-либо — убожество и игрушка по сравнению с этим возвращением языка к природе и образности. — А как Заратустра спускается с гор и говорит каждому самое доброжелательное! Как он касается нежной рукой даже своих противников, священников, и вместе с ними страдает о них! — Здесь в каждом мгновении преодолен человек, понятие «сверхчеловека» становится здесь высшей реальностью, — в бесконечной дали лежит все то, что до сих пор называлось великим в человеке: лежит ниже его. Никому и никогда еще не грезились в качестве примет величия алкионическое, легконогость, присутствие задорной злости и все то, что еще типично для типа Заратустры» 426.
Но мы не живем в мире «чистых идей» и намерений. Идеи, в конце концов, всегда воплощаются во что-нибудь реальное. «Сверхчеловек» — это было именно то, что до революции 1917‐го привлекало читающих нигилистов к творению Ницше. Ибо «гибель богов», которая в начале XX века казалась самоочевидной, необычайно обострила вопрос о том, кто займет освободившееся место. Богданов, Луначарский, Горький, Плеханов 427 на Капри напряженно думали, как назвать этот идеал просвещенного века: «богочеловек» или «человекобог»? Но книга Ницше была все-таки талантливее их рассуждений на эту тему, почему многие все-таки предпочли «задорную злость» Сверхчеловека. Был ли результат? Был. Вся Европа наполнилась «сверхчеловеками». А после грозных потрясений войны и революции этот тип заявил о себе любопытными представителями романтического большевизма, а потом и не менее романтического фашизма. История расправилась с этими героями, доказав их нежизнеспособность. «Сверхчеловек», как реальность идеи, был скоро скомпрометирован людьми, посягавшими на эту роль, хотя, по замыслу автора, он воплощал в себе величие аристократии духа, а отнюдь не ненавистных Ницше революционеров и чернорубашечников. Но реальность неумолима: аристократия духа Сверхчеловека не приняла, аргументация Ницше, прежде казавшаяся столь смелой, стала выцветать, «усредняться», делаться понятной для «масс». Эксцентричные особы легко ею заражались. Сверхчеловек — как эволюция человека к высшим формам существования — остался непонятым. Молния, брошенная в ночь, не разъяла тьмы. В результате Сверхчеловек стал достоянием масс-культуры и воплотился в фигуре Рембо и ему подобных. Это превращение ужасно, но творению Ницше решительно не хватило чего-то, чтобы остаться на высоте. Остаться Заратустрой. Впрочем, мы так и не выяснили — кем был пророк древнеиранской веры на самом деле? И почему Ницше выбрал его, чтоб возвестить о Сверхчеловеке? Почему ему потребовалось заимствование такого знакового имени, как Заратустра, чтобы от его лица нести потом сущую небывальщину, нимало не заботясь о том, чтобы обстоятельства жизни пророка были вплетены в условно-достоверный исторический сюжет?
В лекциях Александра Михайлова 428 интересно говорится о природе заимствования. О том, что оно, заимствование, — это всегда достижение той культуры, которая собирается это заимствование произвести. Потому что для этого нужен перевод одних художественных кодов в другие. Долгое время культура Запада делала это успешнее других и оказалась открытой для новых образов и смыслов. Все это Михайлов рассказывал применительно к «Западно-восточному дивану» (1814–1819) Гёте. В отличие от «Заратустры» Ницше, это удивительное произведение уже вполне забыто и по праву вошло в поэтическую серию «Литературные памятники» как своего рода музейный экспонат. Почему Гёте, кроме «Фауста», задуманного еще во время наполеоновских войн, понадобилось в то же самое время написать еще и «Западно-восточный диван»? Для чего это ему нужно? Ну, в частности, Гёте это нужно, чтобы вновь обрести поэтическую свободу и, написав о Востоке легкую, красивую, глубокую книгу, дать читателю почувствовать жизнь как «смесь, чудную на вид» и тем самым — не без улыбки и не без иронии — поразмышлять о вещах, наиболее для него, как мыслителя, насущных. А что это за вещи, наиболее для него насущные? А это вопрос о добре и зле, ни много ни мало. Излюбленный вопрос Фауста и Ницше. Гёте недолюбливал цеховую философию и не создавал философской системы. Но его философская мысль не бессистемна: она противоречива и лишена завершенности, замкнутости и открыта в бесконечность поэзии. В чем-то это, опять же, схоже с «поэтической философией» Ницше. Так же как и Ницше, Гёте интересует проблема «оправдания зла», как она вообще волновала всех мыслящих людей на протяжении всего XIX века. Ведь если зло существует, то, значит, оно «задумано» и не без умысла включено в план творения? Только на Дальнем Востоке, в культуре буддизма противоположности (например, инь и ян, мужское и женское, черное и белое, жизнь и смерть) встречаются без борьбы; вернее, без разделения на «добро» и «зло», «положительное» и «отрицательное». Ницше, чтобы снять извечную оппозицию добра и зла, существующего в христианской культуре, приходится и самого себя ставить вне этой культуры и вне области, покрываемой этими понятиями — «по ту сторону добра и зла», — и требовать от каждого человека такого напряжения внутренних сил, чтобы, не скатываясь постоянно во зло, стать над добром, над всеми моральными категориями.
Гёте вопрос о добре и зле снимает совсем иначе, чем Ницше. Он видит зло необходимым условием завораживающе-изменчивой игры жизни, без которой эта игра не могла бы быть ни столь интересной, ни столь динамичной. Добро, зло, рождение, смерть, любовь и ненависть, власть и свобода от нее — ничто не существует одно без другого, все это жизнь в ее божественной полноте, поглощающей умозрительное противопоставление «хорошего» и «плохого». Гёте не уничтожает зло, но, по крайней мере, «переплавляет» его в непрекращающемся кипении жизни… Чтобы избегнуть тяжести и нарочитости в своем «поэтическом философствовании», Гёте находит «обходную дорогу» и пишет книгу живописную, экзотическую, а местами и легкомысленную: «Западно-восточный диван». В нем действительно много Востока — достаточно пролистать оглавление: «Книга певца», «Книга Хафиза», «Книга Любви», «Книга изречений», «Книга Тимура», «Книга Зулейки». И даже форма ее кажется восточной, построенной на основе газелей Хафиза или рубаев Омара Хайяма. Но Гёте не знал восточных стихотворных метров и использовал для создания своего шедевра средневековую итальянскую строфу. Это к тому, что «Восток» Гёте есть порождение европейской культуры, взирающей на истинный Восток сквозь прорубленные этой культурой на Восток окна.
Вопрос о заимствованиях, как показывает случай с Гёте, совсем не так прост, как кажется. Поэтому и Заратустра Ницше — это тоже запрос его философствования, запрос на такую фигуру, которая могла бы авторитетно возвестить и о «смерти богов», и о том, что истина лежит по ту сторону добра и зла, и о более чем жалкой роли обычного человека, человека толпы, «нормальность» которого — как говорил один из основателей психиатрии Карл Вильманс — «не что иное, как легкая форма слабоумия». Ницше ищет образ идеального носителя своих воззрений — и не находит. Его положение отчаянное — ведь он аристократ духа, ненавидящий чернь, а в мире торжествующей черни где отыскать ему желанного героя? Кумиром Ницше был Наполеон. Но было бы просто уморительно, если бы Наполеон стал бы стараниями Ницше высказывать мысли, которые философ вложил потом в уста Заратустры.
Случайно попадаются Ницше «Очерки» Эмерсона, которые уместно процитировать. Речь идет о впечатлении, произведенном пророком Заратустрой на китайского мудреца, прибывшего в Бактру ко двору царя Виштаспы, чтобы взглянуть на прославленного пророка. «Персы рассказывают: когда сей китайский мудрец прибыл в Бактру, Гуштасп [Виштаспа] назначил день, в который должны были собраться со всей страны вожди, и золотой стул поставлен был для гостя. Тогда возлюбленный пророк Зардушт выступил среди собравшихся. И мудрец, взглянув на этого вождя, молвил: «Такое тело, такая поступь обманывать не могут, одна правда, чистая правда способна была себя в них проявить» 429. В ницшевском экземпляре книги это место несколько раз подчеркнуто и отмечено, а на полях Ницше написал: «Вот оно!» 430
II
Итак, имя, говорящее само за себя, найдено. Однако это не становится для Ницше поводом для путешествия на Восток — ни воображаемого, как у Гёте, ни подобного тому, которое совершил в свое время Анкетиль Дюперрон (1731–1805), движимый идеей во что бы то ни стало найти и перевести священную книгу зороастризма. Двадцатитрехлетним солдатом он в 1754 году поступил на службу в Ост-Индскую компанию и отправился в Индию, чтобы здесь у парсов 431 научиться читать и понимать «Авесту». Полный перевод «Авесты» был опубликован им только в 1771 году и был настоящим подвигом, благодаря которому подлинные слова Заратустры в каких-то неизбежных искажениях и пугающей неполноте могут быть все же прочитаны нами.
Ницше, однако, эта неполнота не волнует. Его Заратустра — это совсем не пророк Ахура Мазды, который некогда отделил добро от зла, установил основы морали и определил место людей в мире и в извечной битве добрых и злых сил. Пророк Заратустра верил в человека и не сомневался, что в этой битве тот будет действовать заодно с силами света. Он не предполагал иного выбора для человека…
Заратустра Ницше — иной, новый, наново воплощенный, клон, «сын» — называйте как хотите. Ницше называл «сыном». И задача «сына» — последовательно разрушить то, что построил «отец». Отринуть богов, свести воедино добро и зло, сознание и подсознание, отринуть мораль и понять, что единственная битва, достойная человека, — это битва за Сверхчеловека в себе.
Вглядимся попристальнее в Сверхчеловека — такого, каким представлял его Ницше. «…Моя гуманность заключается не в том, чтобы сочувствовать человеку, каков он есть, а в том, чтобы выдерживать то, что я его чувствую… — пишет Ницше в книге «Ecce Homo». — Моя гуманность есть постоянное самопреодоление. Но мне нужно одиночество, исцеление, возвращение к себе, дыхание легкого, свободного, играющего воздуха… Весь мой Заратустра есть дифирамб одиночеству, или, если меня поняли, чистоте… К счастью, не простецкой чистоте. — У кого есть глаза для красок, тот назовет его алмазным. — Отвращение к человеку, к «отребью» всегда было величайшей опасностью для меня…» 432
Заратустра Ницше — аристократ до мозга костей, возможно, лишь египетские фараоны могли бы удовлетворить его жажду чистоты и одиночества. Ему нелегко преодолеть презрение к человеку толпы. Но Заратустра, которого Ницше так любил — должен преступить через свою неприязнь. Это догадка о новом благородстве, новой силе: «Мы, новые, безымянные, еще с трудом постижимые, — говорится в «Веселой науке» Ницше, — мы, недоноски еще недоказанного будущего, нам для новой цели потребно и новое средство, а именно, новое здоровье, более крепкое, умудренное, цепкое, отважное, веселое, чем все бывшие до сих пор здоровья. Тот (…), кто хочет из приключений сокровеннейшего опыта узнать, каково на душе у завоевателя и первопроходца идеала, а равным образом и у художника, святого, законодателя, мудреца, ученого, благочестивого, предсказателя, пустынножителя старого стиля, тот прежде всего нуждается для этого в великом здоровье… Перед нами носится другой идеал, причудливый, соблазнительный, рискованный идеал… идеал духа, который наивно, стало быть, сам того не желая и из бьющего через край избытка полноты и мощи, играет со всем, что до сих пор называлось священным, добрым, неприкосновенным, божественным…» 433
Заратустра Ницше есть, в первую очередь, Дитя, зачарованное (как и Гёте) «игрой жизни», и только во‐вторых — разрушитель и отпетый эгоист, как он был воспринят и впитан образованной толпой. Но даже идеи, понятые превратно, всегда воплощаются во что-то конкретное…
Своеобразие Ницше — в полном отсутствии у него чувствования надмирной сферы. По собственному признанию, атеизм подразумевается всем его существом инстинктивно. Он видит только внешнюю сторону религии, историческую церковь, никогда не проникая в суть религиозного переживания или мистического опыта. Именно поэтому Заратустра должен возвестить о смерти старого Бога и вместо него поставить самого себя — новорожденного, смелого, сильного, доброго, чистого, «алмазного», играющего в жизнь с «веселой злостью»… Только самому себе Ницше дозволяет неистовство в отрицании, скажем, христианства (он бережет Заратустру от бурного проявления негативных эмоций любого рода):
«Что хорошо? — Все, от чего возрастает в человеке чувство силы, воля к власти, могущество.
Что дурно? — Все, что идет от слабости.
Что счастье? — Чувство возрастающей силы, власти, чувство, что преодолено новое препятствие.
Не удовлетворяться, нет, — больше силы, больше власти! Не мир — война; не добродетель, а доблесть (добродетель в стиле Ренессанса, virtu, — без примеси моралина).
Пусть гибнут слабые и уродливые — первая заповедь нашего человеколюбия. Надо еще помогать им погибнуть.
Что вреднее любого порока? — Сострадать слабым и калекам — христианство…» 434
Сила, «воля к власти», война, «подтолкни слабого» — вот что было воспринято и пришлось по вкусу сверхчеловекам всех мастей, когда они, закатав рукава, взялись за переустройство мира. То, что сам Ницше кроток, что кроток его Заратустра — проще, удобнее и целесообразнее было не замечать 435.
От философа не ускользнуло грозное пробуждение черни, то, что потом Хосе Ортега-и-Гассет назвал «восстанием масс». Заратустра Ницше с трудом, против своей воли, говорит с безымянными людьми толпы, которых он не знает и не понимает. Он хорохорится перед ними, как петух, но тупая толпа так и не может разглядеть в нем Сверхчеловека. По-хорошему Сверхчеловеку для разговора нужен еще один Сверхчеловек. Но, увы, великих нет. Заратустра Ницше во многом повторяет злоключения своего творца: ему не к кому обратиться… Ницше описывает автобиографическую ситуацию: да, он чувствует себя закаленным в боях с гидрой «образованной толпы» и хлещет ее самолюбие без пощады. Но что толку? Толпе он безразличен.
Вадим Бакусев — один из тех историков философии, кто стремится дать сочинениям Ницше верное истолкование, — написал интересную книгу 436, в которой утверждает, что все творчество Ницше — от первых, «бессознательных» еще работ, до последних, написанных вполне сознательно, — было не чем иным, как борьбой с европейской психологической матрицей 437, уже в Античности определившей хищнический характер европейской цивилизации, а в наши дни приобретающей все более зловещий облик «царства одержимости». Я не согласен с автором именно потому, что работа Ницше — терминатора, приканчивающего остатки христианских ценностей, не только не была сражением с Матрицей, но и приблизила, насколько это только возможно, ее торжество.
Впрочем, я, может быть, несправедлив к автору? «Ницше contra matricem…» Бакусев так разъясняет смысл используемого им термина: «…Суть европейской психической матрицы состоит в дисбалансе психики как системы, как целого: то, что должно быть на периферии, а именно комплекс разум — сознательное «Я», заняло в психике центральное место…» Чаша ratio перевесила другой важнейший элемент психики — чашу бессознательного, живые, импульсивные чувства, созерцательность, радость жизни, ту радость, о которой говорил Ницше применительно к своему Заратустре. Ну а если, — продолжает В. Бакусев, — одна из этих «чаш» пытается занять место оси, на которой вращаются или стоят «чаши», чтобы заставить целое вращаться вокруг себя, то система, как совсем уж легко понять, будет фатально повреждена 438.
Автор оговаривается, что сегодня все психические и культурные модели подмяты под себя доминирующим выродком — головастым и жадным европеоидом, — по-видимому, сознательно игнорируя опыт мистических традиций христианства, ислама и буддизма, которые первым шагом на Пути истины считают именно отречение от «Я» и от самовлюбленного умствования:
Суфизм — это отказ от нарочитости. А из нарочитостей
наиболее тяжкая — это твое «ячество» 439.
Примеры высказываний такого рода можно было бы умножать до бесконечности — это общее место. То, что сегодня так возрос интерес к духовным традициям Востока и Запада, несомненно указывает на то, что в современном мире существует противоток идей, связанный с пониманием природы человека и, следовательно, будущего человечества.
В этом смысле знаменательно развитие концепции сверхчеловека в работах Шри Ауробиндо. Как и для Ницше, для индийского философа — йогина сверхчеловек есть практическая задача дальнейшей сознательной эволюции вида Homo sapiens. Для Шри Ауробиндо сверхчеловек — не поэтическая метафора, а революционное изменение человеческой природы, которое достигается (как и у всех мистиков) — «подключением» к сверхразуму Вселенной через целенаправленную духовную практику. По счастью, на Востоке логическому интеллекту в познании истины было отведено почетное, но второстепенное место. Первенство всегда принадлежало не разуму, а интуиции, озарению и тысячелетней традиции духовного опыта (каковой является, в частности, йога). В практике йоги человек открывается Свету, «бесконечно превосходящему то слабое свечение, которое он может осознать на собственном уровне», — пишет Шри Ауробиндо в «Письмах о йоге» 440. Таким образом сверхчеловек возникает в результате приобщения йогина к высшим энергиям, для обычного рационализирующего человека, как правило, остающимся за стеной недоверия, которой человеческое сознание обносит все, логически невыводимое из физической «реальности».
Возможно, именно сейчас сознание человека переживает подготовку к великой трансформации, столкнувшись с вырождением гуманистических ценностей, всемирным политическим цинизмом и тупиком в экономике олигархий. Всему этому можно противопоставить только новое видение мира как единой одухотворенной сущности, охватывающей и космос, и Землю, и человека. Впрочем, Бакусев, кажется, не склонен оставлять человеку ни малейшей надежды: «Тот факт, что тип торгаша стал типом, определяющим свойства человеческого вида (неевропейское человечество все сильнее ассимилируется европейской матрицей), а собственно люди вымирают, неопровержимо доказывает: на этом этапе своей эволюции человечество не выдержало испытания европейской матрицей, поскольку ее сущность… в роковом патологическом нарушении психологической целостности как баланса, в редукции психической мотивации к двум-трем первобытным стимулам (захват, удержание и безопасное потребление захваченного) и одному «современному» — выгоде любой ценой (в этот мотив, в эту неаппетитную субстанцию выкипел со временем и весь познавательный напор европейцев)» 441.
Но каким же образом «Заратустра» Ницше мог подорвать корни ненавистной Бакусеву психической модели? Позиция «по ту сторону добра и зла», оказавшись не в руках аристократов духа, а в руках «матричного» человека прошлого века, стала весьма удобной для оправдания как обычного морального нигилизма, так и чудовищных «системных» преступлений большевизма и фашизма. Проклятие христианству обернулось полной пустошью, в которой очутился дух человека XX века, ну, а «Сверхчеловек» стал знаменем «новой аристократии», вылупившейся из наживы любой ценой, так что теперь мы имеем беспредельное самомнение «золотого класса» олигархов, действительно полагающего себя настолько выше и лучше обычного человека, что по отношению к последнему не грех использовать все средства подчинения: перепрограммирование «человека разумного» в «человека потребляющего», манипулирование сознанием через СМИ, тотальный контроль, а в крайнем случае и создание «ужасных сторон жизни» (революций, кризисов и войн) в своих целях: если человечество поубавится на несколько миллионов, «сверхчеловеки» только посмеются от радости. Дух солидарности, который есть основа любого здорового сообщества, им совершенно чужд. Воспаленное «Я», занимающее всю сердцевину психики, как было там, так и осталось, и Ницше только помог вколотить его туда по самую шляпку.
Если бы Ницше, наткнувшись в книге Эмерсона на имя Заратустры, последовал за тем в глубь пространств и времен, то он сумел бы, вслед за Заратустрой, изречь несколько слов, безусловно чуждых «европейской психической матрице», и, как ни странно, это были бы слова не о гибели богов, не о морали «по ту сторону добра и зла» и не о Сверхчеловеке. Это были бы слова о человеческом долге — как та единственная строка, которая была выделена Гёте курсивом в его «Западно-восточном диване»:
И теперь завет мой — без изъятья
Всем кто хочет, всем кто помнит, братья:
Каждодневно — трудное служенье!
В этом — веры высшей откровенье 442.
III
Имя Заратустры, или, как называли его, Зороастра, было известно в Греции Платону и его ученикам. Один из них, Евдокс Книдский, даже сравнивает своего учителя с Зороастром, хотя очевидно, что речь идет о символической фигуре речи, обозначающей высокую мудрость, а не о сходстве взглядов или, тем более, биографий. Реальный Заратустра, по традиционной хронологии огнепоклонников, жил «за 258 лет до Искандера» 443, но ученые отодвигают время жизни пророка до X и даже XII веков до нашей эры, так что реальный Заратустра в гораздо большей степени принадлежит мифологии, нежели истории.
Мифологическая ветвь его родословной называет его отцом Пуршаспу, четвертого человека, выжавшего священный сок хаомы. Но, если хоть на шаг отступить от мифа, мы вступаем в страну пустот и туманностей. Неясно даже, где и когда родился Заратустра. Некоторые убежденно называют Заратустру потомком знатного и богатого мидийского рода, владевшего поместьями в индийской провинции Рагиана. После завоевания Мидии великим Киром мать Заратустры вышла за него замуж. Их дочь Атосса была, якобы, сестрой Заратустры по матери 444.
Другая большая группа ученых считает, что Заратустра родился в Средней Азии. При этом логично указывается, что греки узнали персов и их религию задолго до Платона (428–347 годы до н. э.), но о Заратустре они ничего не слышали. Если Заратустра родился в Средней Азии, то для того, чтобы его имя и смысл его пророчеств достигли западных окраин империи, должно было пройти время. Заратустра реформировал старую персидскую веру, вступив в конфликт с «магами» и членами воинских мужских союзов, обладавшими большим авторитетом у ариев 445. Поэтому он вынужден был бежать в Бактру, чтобы там найти прибежище у царя Виштаспа, откуда слава о нем постепенно распространилась до западных границ персидской державы, где ее и подхватили греки, ставшие именовать реформатора староперсидской веры Зороастром спустя несколько веков после его смерти.
Что означает имя Заратустра (Зардушт), тоже до сих пор неясно. Первый переводчик «Авесты» Анкетиль Дюперрон полагал, что имя Заратустра означает «Золотой тиштр» (Сириус). Однако, выдающийся русский и советский филолог и востоковед М. Стеблин-Каменский утверждал, что «Заратустра» — это ничем не примечательное в Средней Азии имя, последняя часть которого — «уштр» — означает «верблюд», а первая с равным успехом может значить и «желтый», и «тощий», и «старый». «Это, на первый взгляд немного странное, значение приобретает особый смысл, если вспомнить еще несколько древнеиранских имен, имеющих явно уничижительный оттенок: «Не-быстро-верблюдый», «Тоще-лошадный», «Тоще-быкий»… Подобные имена относятся к так называемым именам-оберегам, непривлекательность которых рассчитана на то, чтобы отвлечь от ребенка враждебные силы. Такие имена до сих пор встречаются у иранских и других народов Средней Азии» 446. Больше ничего достоверного о жизни Заратустры мы не знаем. Позднейшая традиция украсила биографию Заратуштры чудесами, но основные моменты жизни Заратуштры представляются следующим образом: «…Заратуштра, небогатый и невлиятельный человек, проповедовал свои идеи сначала безуспешно, затем приобрел немногочисленных последователей, и, наконец, ему удалось получить покровительство царя Виштаспы, принявшего его учение и способствовавшего его распространению. Погиб Заратуштра в почтенном возрасте во время войны с турами, то есть с саками» 447. Есть и другая версия: Заратустра был убит сторонниками тайных воинских мужских союзов, которые с их aesma — «яростью» — и культом наркотического напитка — хаомы, конечно, противились социальным и моральным предписаниям пророка.
Столь же таинственна история «Авесты», священного писания огнепоклонников. По преданию, текст книги был основан на священном откровении, которое Заратустра получил непосредственно от верховного божества — Мазды — и передал своим ученикам. Но в действительности «Авеста» включает в себя несколько пластов текстов, отделенных друг от друга тысячелетиями.
Самое древнее в «Авесте» то, что является содержанием яштов. Яшты — безымянная народная эпическая поэзия, излагающая первобытные мифы о богах. Яшты восходят к глубокой древности и на целое тысячелетие старше остальной «Авесты». Содержание яштов — многобожие, обожествление сил природы…
Непосредственно Заратустре в «Авесте» приписываются гаты (стихотворные молитвы), содержащие откровение о едином верховном боге Ахура Мазде и моральный кодекс древней иранской религии, который в неизменном виде сохраняется огнепоклонниками наших дней.
Наконец, третий пласт текстов («Маздаясна») создавался несколько веков по смерти Заратустры и отражает постепенное возвращение в маздаистский пантеон добрых и злых божеств (наибольшую известность приобрел в Античности Митра — древнеиранский бог Солнца), что в результате превратило маздаизм в синкретическую религию, в которой Ахура Мазда продолжал занимать верховное место, но древние боги (язаты) тоже были возвращены.
По приказу царя Виштаспы содержание «Авесты» после реформ Заратустры было записано на 12 000 досок золотом, а затем в разных местах Персии было изготовлено несколько списков священной книги на пергаментах из бычьих кож. Во время нашествия Александра один из таких списков был обнаружен и сожжен, а другой отправлен в Грецию, где были сделаны переводы научного, медицинского и астрологического разделов книги. При персидских царях домусульманской эры (последний раз — при Хосрове) были предприняты попытки собрать воедино все сохранившиеся тексты «Авесты» и объединить их. Так была создана новая редакция книги. Во время мусульманской экспансии VII–IX веков арабы в Иране и в Средней Азии беспощадно жгли тексты священной книги зороастризма. В результате от «Авесты» сохранилось не более ¼ ее объема, да и в том, что сохранилось, почти половина приходится на повторы. Наиболее древняя рукопись «Авесты», дошедшая до нас, датирована 1278 годом и, следовательно, создана она на тысячи лет позже записи текстов на пергаментах. «Естественно, — пишет Брагинский, — что нет буквально ни одного вопроса, касающегося «Авесты» и понимания «темных мест» ее текста, который не был бы предметом самых горячих филологических споров» 448. Современному читателю может быть непонятна накаленность научных дискуссий: стоит ли эта древняя мудрость того, чтобы ломать из-за нее копья?
И действительно: стоит ли? Мирча Элиаде замечает по этому поводу: «Изучение иранской религии преподносит немало сюрпризов, причем подчас таких, что могут разочаровать исследователя. Мы приступаем к штудированию предмета с живейшим интересом, подготовленные нашим знанием о роли Ирана в религиозном развитии Запада. Если идея линейного времени, заменившая собой понятие времени циклического, уже была известна древним евреям, то иранцы открыли… целый ряд других религиозных концепций. Упомянем лишь самое важное: разработку нескольких дуалистических систем (космологический, этический, религиозный дуализм); миф о спасителе; оптимистическую эсхатологию, провозглашающую конечную победу Добра и всеобщее спасение; …некоторые гоностические мифы; наконец, мифологию магов, которую в эпоху Возрождения развивали как итальянские неоплатоники, так и Парацельс и Джон Ди.
Однако едва лишь читатель, не являющийся знатоком в данной области, прикасается к источникам, как испытывает разочарование и досаду. Три четверти древней «Авесты» утеряно. Из всего, что сохранилось, лишь гаты… сочиненные предположительно самим Заратустрой, способны увлечь читателя-неспециалиста…» 449 В случае маздаизма всякий смысл, любое речение приходится достраивать; в бесчисленных клочочках записанного нам не считать готовой мудрости. Но обретенные смыслы все-таки оказываются достойными того, чтобы потратить время на их реконструкцию.
IV
Первое, что характеризует маздаизм, это принципиально отличное от всех «мировых» религий отношение к проблеме зла: еще при творении мира Ахура (бог) Мазда породил двух близнецов. Духа-Благодетеля — Спента-Майнью, и Духа-Разрушителя — Ангро-Майнью. Таким образом и Добро, и Зло являются порождениями верховного божества.
«…Так как Ангро-Майнью по собственной воле избрал свое злодейское призвание, то Премудрого Господа нельзя считать ответственным за появление зла, — пишет Мирча Элиаде. — С другой стороны, какой выбор сделает Дух Разрушения, всеведущий Ахура-Мазда знал с самого начала, но не препятствовал ему; это может означать, что либо Бог превыше всех противоположностей, либо что существование зла составляет предварительное условие существования человеческой свободы…» 450
Интересно заметить, что Заратустра считал, что все люди правильной веры естественным образом войдут в воинство Ахура Мазды и будут защищать принцип добра. Никаких сомнений в предназначении человека у него не было. Он счастливчик! Он наивен, как Христос, завещая людям лишь три принципа, которых следует держаться: добрую мысль, доброе слово и доброе дело. Добрая мысль — Воху-Мана — это мысль согласно божественному закону (Аши), открытому Заратустре Ахура Маздой. Исповедуя «доброе слово», человек брал на себя обязательство не нарушать данного слова, соблюдать договоры, отдавать долги, не оскорблять никого, не злословить, не клеветать. «Добрыми» считались дела, сопутствующие труду земледельца: возделывая землю, орошая и удобряя ее, разводя скот, содержа его в холе и чистоте, создавая сады и засевая поля культурными растениями, человек вершит свое главное доброе дело сообразно правильному порядку Аши. Знание целебных трав, сохранение в чистоте вод и земли, здоровье, сила, зачатие новой жизни — тоже считались атрибутами Добра.
Будучи в Иране и наблюдая, как тщательно и любовно люди возделывают землю, с какой заботой готовят подстилку для скота, я невольно вспоминал «Плач души коров» — одну из гат, приписываемых Заратустре. Казалось очевидным, что в подоплеке той спокойной старательности, с которой люди трудятся на земле, в глубине одухотворенного отношения людей к природе, к воде, вообще, к красоте данной человеку Земли, лежит гораздо более древняя, чем ислам, религиозная традиция. Которая не может не сказываться и на характере самого ислама, исповедуемого в Иране. Стоит вспомнить «философию дела», на которой покоится иранский шиизм, и «доброе дело» «Авесты». Интересно, что маздаистскому воплощению зла — Друдж — прежде всего приписываются эпитеты «ленивой» и «внушающей лень».
Сегодня по истории маздаизма, «Авесты» и биографии Заратустры накоплен материал столь огромный и столь противоречивый, что нам нет смысла углубляться в него: любителям интеллектуальных загадок лучше сделать это самостоятельно, тем более что история этой религии так давно погружена в гущу ученых споров и комментариев к ним, что сами эти споры и комментарии давно уже интереснее немногочисленных письменных фрагментов, оставшихся от традиции. Это интеллектуальное путешествие через противоборство вечных сотрудников — Добра и Зла — позволит каждому в полной мере оценить и «Заратустру» Ницше, и почти позабытый «Западно-восточный диван» Гёте.
Маздаизм неизмеримо старше современных мировых религий, но он проложил им дорогу, подготовив материал к их будущей внутренней драматургии: идею единого бога, идею о «конце времени» (конце света), идею воздаяния, идею внутренней чистоты (святости) как единственной возможности действительно приблизиться к божеству…
В общем, внутри этой темы есть, чем увлечься и где заблудиться.
Когда эпоха исламского завоевания миновала и мусульмане приступили к изучению наследия покоренных народов, отношение к древним текстам изменилось. Рудаки 451 писал о Заратустре:
Подобна загадке [его] слава, благородство его — [ее] разгадка,
Ибо совершенство [это] — словно Авеста, а его характер —
это Зенд [раскрытие смысла].
Мы приближамся к финалу, как бы много поэзии ни заключала в себе эта тема. Так о чем говорил Заратустра? Какой смысл он раскрыл? Читая переводы «Авесты», понимаешь, что мораль Заратустры — это кодекс поведения людей очень древних: и люди древние, и кодекс древний. Они, люди, только-только еще начали ощущать себя людьми, а особо выдающиеся (Заратустра) уже разговаривали с богами. И мир их, мир — в первом становлении — устроен очень просто и очень конкретно. Все, что полезно человеку и его главному богатству — животным и посевам, — то хорошо. Все, что вредоносно для них или болезнетворно, — то зло. Это не современное изощренное зло, которое может свое зловоние полностью скрыть запахом нежнейших духов, так что в свите ангелов его невозможно будет отличить от светлого воинства Спента-Майнью.
Заратустра Ницше более всего отличается от Заратустры реального тем, что он не простодушен. Он не помолится духу металла и духу огня, не замолвит слово о «душе коров». Он не попросит помощи у Порядка и Справедливости. Ницше хочет Сверхчеловека: обычные люди, тем более, люди труда, какие-нибудь крестьяне, которые поставляли к столу философа свежий сыр и вино, скучны ему. Он — из другого времени. Он один. А люди «Авесты» — еще неотделимы один от другого, они неотделимы от своей веры в то, что правильная, верно понятая жизнь — трудовая и терпеливая — позволит им жить и умереть настоящими людьми.
Интресно и вот что: ницшеанского Сверхчеловека западная «матрица» адаптировала, приняла в себя: «Прирожденные убийцы» — культовый фильм о Сверхчеловеке 90‐х годов XX века — сплошь пронизан аллюзиями на Ницше. А вот чистое простодушие настоящего Заратустры — оно никак не вписалась бы в европейскую психологическую «матрицу». Как не вписываются в эту матрицу современные парсы с их моральным предписанием чистоты: человека, Земли, огня. Ницше не нужно было ниспровергать все, что можно ниспровергнуть, чтобы создать альтернативу матрице. Все, что для этого нужно, и так дано в зороастрийском исповедании веры…
Да исполнится по желанию каждое желаемое, которым
по своей воле распоряжается Ахура-Мазда,
Я же желаю достичь силы и юности;
Постичь наилучший распорядок [Арту] помоги мне,
О преданность [Армайти] моя… 452
Так говорил Заратустра.
Автор выражает глубокую искреннюю благодарность Александру Алексеевичу Дроздову за поддержку этого проекта.
В. Г.
1
Брандвахты — сторожевые суда, стоящие на якоре в дельте Волги, были заведены еще Петром I. В советское время так назывались плавучие, но, как правило, причаленные к берегу понтоны с вагончиком для сторожа, «охраняющего рыбные запасы». Одну из таких брандвахт со стариком-сторожем, доживающим во сне дельты свою старость, я и видел.
2
Улугбек Мухаммед Тарагай (1394–1449) — внук Тимура, выдающийся математик и астроном позднего Средневековья, правитель Самарканда, строитель самаркандской обсерватории. Был изгнан из родного города и казнен по приказу своего сына. Похоронен в мавзолее Тимуридов с собственной головой в руках.
3
Ибн-Сина (Авиценна) (980–1037) — хорезмийский философ, музыкант, врач, по масштабу сопоставимый с крупнейшими врачами человеческой истории (Гиппократ, Гален). Его «Канон врачебной науки» оказал огромное влияние на развитие мировой медицины.
4
Мавераннахр — «страна по ту сторону реки», т. е. по правому берегу Аму-Дарьи, современный Узбекистан.
5
Магриб — область, объятая исламскими государствами Северной Африки.
6
«Изгнанье», пер. Натальи Стрижевской.
7
Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. М., ПСС. Т. 4. С. 50.
8
Джалал ад-Дин Руми (1207–1273) — «наставник с сияющим сердцем» — один из самых читаемых мировых поэтов, шейх суфизма. Писал на персидском языке, жил в Малой Азии.
9
Омар Хайям (1048–1131) — выдающийся математик и астроном. Долгое время жил в Бухаре, затем по приглашению сельджукского султана Низам-ал-Мулка поселился в Исфахане (Иран), где руководил дворцовой обсерваторией. Недоброжелатели считали его безбожником, и действительно, Хайям в своих стихах вдоволь посмеялся над пустосвятами.
10
Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма. М, 1999.
11
Напр.: Корбен А. Световой человек в иранском суфизме. М., 2013.
12
Держи его, держи! (азерб.)
13
Баку был взят осенью того же 1806 года. Обезглавленное тело несчастного Цицианова было перезахоронено в Тбилиси. Гусейн-Кули хан бежал в Персию.
14
Куфическое письмо — древнейшая форма арабского письма, названная так по городу Куфа (близ Багдада) — от более современной письменности отличается отсутствием точек, черточек и прочих облегчающих чтение знаков; долгое время сохранялось в Азербайджане.
15
Ислам, как иудаизм и христианство — монотеистическая религия, допускающая зло — воплощенное в образе Иблиса — лишь как несовершенное творение Господа. Зороастризм основан на признании двух равноправных начал, которые испокон века борются в мире — Спента-Манью (духа святости) и его брата-близнеца Ангро-Манью (духа зла), рожденных верховным богом Ахура Маздой. Поэтому принципиальный дуализм зороастризма вызывал такое неприятие со стороны мусульман. Хотя именно Заратустра поставил гармонию мира в зависимость от торжества справедливости и священной чистоты.
16
См. Часть II. «Тотальная география Каспийского моря».
17
I В своем изначальном мистическом значении слово «шахид» означает «свидетель», в котором Аллах прозревает свидетельство своего существования в человеке и который есть одновременно «искра Божия», «световой двойник» (просветленная духовная природа) человека и его вожатый в сверхчувственном мире. «Каким ты видишь шахида, таким и он видит тебя, и таков ты есть в себе самом. Твое созерцание стóит того, чего стóит твое существо; твой Бог есть тот, которого ты заслуживаешь; Он свидетельствует о твоем существе — светоносном или помраченном», — разъясняет это двуединство человека и его «вожатого» Анри Корбен («Световой человек в иранском суфизме», с. 126).
18
Концевые сноски (I, II, III и т. д.) см. в конце книги.
19
«В память о погибших здесь на службе своей Отчизны…» (англ.).
20
Позднее имя капитана Тиг-Джонса как-то связалось с расстрелом 26 бакинских комиссаров в Туркестане. Шпиону не нужна была такая слава. Он сменил имя. Рональд Синклер: имя никому ничего не говорило. И лишь в 1990-м, с предисловием Питера Хопкинса, появилась книга «The Spy Who Disappeared», в которой Рейджинальд Тиг-Джонс (к тому времени уже два года как покойный) пролил, наконец, свет на подробности своего исчезновения.
21
Коран. Пер. И. Ю. Крачковского, сура «Худ», 120.
22
Карабах — обширная нагорная область, населенная до Карабахской войны смешанным армянским и азербайджанским населением. Во времена СССР считалась автономной областью Азербайджана.
23
Пир в культуре шиизма — особо почитаемое место, обычно связанное с культом святого.
24
Десятина — старая русская мера площади, равняющаяся 1,092 гектара.
25
Кавказская туземная конная дивизия — сформирована в августе 1914, на 90 % состояла из добровольцев-мусульман, уроженцев Северного Кавказа и Закавказья. В годы Гражданской войны принимала активное участие в боевых действиях на стороне белых.
26
Сейиды — потомки (в наше время уже — отдаленные) пророка Мухаммада по линии его дочери Фатимы и его двоюродного брата и зятя имама Али. Почитаются мусульманами-шиитами.
27
Шах Исмаил (1487–1524) — шах Ирана. По материнской линии праправнук Кало Иоанна Комнина, последнего христианского правителя Трапезунда. Восстановил целостность и независимость Ирана через девятьсот лет после сокрушения персидской империи Сасанидов воинами ислама — арабами.
28
Так что Пушкин, пустив в свою «Сказку о золотом петушке» «шамаханскую царицу», уже воспринимал Ширван как миф, страну обманчивой неги, каким он был лишь в редкие десятилетия покоя до монгольского нашествия. Походам безжалостного Тимура, разорвавшим традиционные торговые связи, мы обязаны еще одним почти сказочным сюжетом — снаряжением ширваншахом Фаррухом Ясаром (1465–1501) посольства в далекую Московию и появлением на земле Ширвана первого русского, который когда-либо видел землю нынешнего Азербайджана своими глазами,— это был тверской купец Афанасий Никитин, о чем он сам и рассказал в книге «Хождение за три моря».
29
Население современного Азербайджана — около 10 миллионов человек. В России по компетентным источникам проживает не менее 3 миллионов азербайджанцев, из них 1 миллион — в Москве.
30
Калигула (римский император с 37 по 41 г. н. э.), Нерон (римский император с 54 до 68 г. н. э.).
31
Гмелин, Самуил Готлиб (1744–1774) — выдающийся русский путешественник немецкого происхождения; во время экспедиции в Прикаспийские области и Персию собрал богатый материал, но на возвратном пути был в Дагестане ограблен и взят в плен одним кайтагским князьком, умер в плену.
32
Муаллим — буквально «учитель», уважительное обращение к мужчине старшего возраста.
33
Инанна — в шумерской мифологии богиня плодородия, плотской любви и распри. Мифы, связанные с ней, чрезвычайно запутанны, что свидетельствует об их архаическом происхождении. Однако архетипически Инанна воплощает собой могучие силы природы — женственной, похотливой, плодоносной, но иногда непредсказуемо вероломной и безразличной к понятиям добра и зла.
34
Современные ученые сходятся на том, что жители западного берега Каспия IV тысячелетия до н. э., так же как и жители Северного Кавказа, были представителями одной культуры и одного народа, пришедшего с юга из верхнего Двуречья и с восточных берегов Средиземного моря. См:. Клейн Л. Майкоп: Азия? Европа? // Знание — сила. 1987. № 2.
35
И само слово «навруз», и его сакральная роль праздника, «открывающего» начало новому годичному циклу, заимствованы из зороастризма.
36
В книге Э. фон Дэникена приведены свидетельства древних источников о «небесных битвах» богов и другие данные в пользу того, что на самой заре своей истории человечество стало свидетелем трагических битв, в которых погибла очень развитая цивилизация. Тридцать шесть подземных городов на территории современной Турции являются своеобразным подтверждением того, что «битвы богов» были столь ужасающи, что заставляли людей буквально «зарываться в землю». В этом смысле показательно бытование на Апшероне легенд о второй, подземной Гала, о просторных галереях, способных вместить до трех тысяч человек вместе со скотом. Любопытно было бы разыскать их.
37
Все апшеронские колодцы обязательно имеют название либо по местности, где они расположены, либо по имени мастера, который их выкопал.
38
День памяти об истреблении противниками шиитов семейств праведных имамов Хусейна и Хасана, сыновей дочери пророка Мухаммада Фатимы и первого имама Али.
39
Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) — при императоре Николае I шеф жандармов, глава III отделения собственной Его Величества Канцелярии, из которой выросла потом Тайная полиция.
40
Несторий — в 438 году патриарх Константинопольский. Ересиарх, положивший начало целой ветви восточно-христианской церкви, утверждая, что человеческая природа Христа не претерпела изменений от соприкосновения с природой божественной: потому и Марию он предлагал называть не «Богородицей», а только «Христородицей», так как она родила не бога, а только человека. Патриарх Несторий был низложен, затем сослан в отдаленный египетский оазис Ибис, где через несколько лет и умер. Но споры, поднятые им, не затихали еще два века. Сложившаяся после 435 года в Сирии секта его последователей бежала от государственного преследования в Персию, Месопотамию и Аравию: именно от несториан арабы могли впервые услышать о пророке Иисусе. От несторианства до ислама — один шаг, один «доворот» мысли.
41
Сподвижник пророка Муххамада, его двоюродный брат, зять и первый имам, особо почитающийся в шиизме.
42
Аксакал — старейшина рода, в буквальном переводе — «белая борода».
43
См. Часть II, «Три версии прочтения «Фелицы».
44
См. Часть II, «Завоевание Индии».
45
См. Часть II, «Кровавая чаша».
46
Цит. по: Труды ГИМ. Вып. 182. М., 2010. В. Булатов «Каспийская экспедиция М. И. Войновича 1781–1782». С. 519.
47
Однако — если говорить о воплощении замысла Г. А. Потемкина — в 1841 году на острове Ашурадэ в Астрабадском заливе была-таки устроена русская морская станция, куда еще два десятилетия спустя (и до 1917 года) была переведена из Баку большая часть каспийской военной флотилии.
48
Муравьев Н. Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820-х годах. Ч. 1–2. М., 1822. Примечательно, что эта циклопическая стена, ныне означенная на картах как «стена Александра» — была построена во времена великого шаха Хосрова (531–578), в то же время, что и стены Дербента (тоже приписываемые молвой Александру), для укрепления границ Персидской державы. В смысле скорее символическом стена сохранила свое порубежное значение до сегодняшнего дня: к северу от нее, по р. Атреку, когда-то проходила граница Ирана с СССР, теперь — Ирана с Туркменией. Все с древности было исчислено точно!
49
Муравьев Н. Н. Путешествие в Туркмению и Хиву… С. 55
50
С. Есенин. «Персидские мотивы».
51
Гмелин С. Г. Путешествие по России для исследования трех царств естества. Ч. 3, СПб, 1771–1785. С. 69.
52
В 1853 году — в России и в 1857-м — в Америке.
53
Большая энциклопедия С. Н. Южакова. Т. 14. С. 11–12.
54
Конструктор Шаболовской радиобашни в Москве.
55
Роберт Слайер. Нефть. Кто диктует правила миру, сидящему на нефтяной игле. М., 2011.
56
МИМО — Московский институт международных отношений. Престижное учебное заведение для будущих дипломатов.
57
М. Лермонтов. Мцыри.
58
Девятого декабря 2003 первая террористка-смертница подорвалась в Москве возле отеля «Националь». Этот и еще три крупнейших теракта — два взрыва 29 марта 2010 в московском метро и 24 января 2011 в аэропорту Домодедово — (в общей сложности 75 убитых и 268 раненых) связываются с дагестанским подпольем.
59
II Табасаран — часть южного Дагестана по долине реки Рубас, населенная одним из горских народов — табасаранцами. В XIX веке часть их была свободными землевладельцами, часть находилась в подчинении у местных беков арабского происхождения. Основным занятием табасаранцев искони было земледелие, садоводство, скотоводство. Страна была покорена русскими еще в 1818–1819 годах, но до 1866‐го управлялась местными беками. При введении русского управления разделена на два округа. Название «Табасаран» не является ни табасаранским, ни вообще кавказским. Часть современных исследователей возводит происхождение табасаранцев к иудеям, другие — к племени таваспаров (табатаранов), которые участвовали в совместных походах гуннов, маскутов и других кочевников, появившихся в районе Каспийских Ворот в период Великого переселения народов (IV–VII вв). В древнеармянских источниках встречаются различные формы топонима — Таваспаран, Табатаран, — имеющего персидское происхождение. В переводе с персидского языка форма множественного числа от «табарсаран» буквально означает «предводители войска», «военачальники». Учитывая сходство названий «Табасаран» и «Табаристан», обозначающий область в северной персидской провинции Мазандеран, некоторые исследователи склоняются к тому, что табасараны были переселены шахиншахом персидским Хосровом Ануширваном из Табаристана для охраны Великой Кавказской стены (см. далее по тексту), поскольку они славились как стойкие воины. Может быть, это и справедливо, потому что и теперь еще в Табасаране находится много селений, жители которых говорят по-татски, т. е. на одном из иранских наречий. Однако язык самих табасаранов принадлежит к нахско-дагестанской языковой семье и родствен, скорее, лезгинскому. Отличается тем, что в нем существует система сложных и точных указаний на пространственное нахождение или направление движения одного или нескольких объектов, что привело к необыкновенному разрастанию системы падежей. В табасаранском языке их 46! Численность табасаранцев в Дагестане достигает 120 тысяч, некоторое количество проживает в других регионах России.
60
Т. е. территория, имеющая право самостоятельно осуществлять государственную власть в пределах, предоставленных ей Конституцией РФ.
61
Секрет мастерства (фр.).
62
По приказанию Сталина турки-месхетинцы, проживающие на юге Грузии, были выселены в Узбекистан, в Ферганскую долину, откуда они были жестоко изгнаны узбеками в 1989 году во время становления «национального сознания» узбекского народа перед распадом СССР.
63
III Узбек Султан Гийас ад-Дин Мухаммед (ок. 1283–1341) — хан Золотой Орды, который привел потомков чингизовых орд к исламу. Арабский историк-хронист аль-Му-фаддал сообщает о нем: «Это молодой человек красивой наружности, отличного характера и прекрасный мусульманин, храбрый и энергичный». Ибн-Батутта, известный писатель, удостоившийся личной встречи с ним, приписывает ему высшие степени совершенства: «Он один из тех семи царей, которые величайшие и могущественные цари мира».
Узбек, родом из Ургенча (Средняя Азия), захватил власть в Золотой Орде, приехав в Сарай на Волге с соболезнованиями по поводу кончины правящего хана Тохты. Он убил его сына и его визиря и сам стал повелевать «Улусом Джучи». Внутриполитически это был поворот от традиционных порядков и тюркского шаманизма к исламу, давно утвердившемуся в Средней Азии. 120 прямых потомков Чингиз-хана и представители кочевой аристократии, решившие не изменять «закону и уставу Чингиз-хана» были по приказу Узбека казнены. Причастен Узбек и к давнему спору между Тверью и Москвой за Великокняжеский ярлык. Князь Михаил Тверской был вероломно убит в ханской ставке во время перекочевок хана по прикаспийским степям близ Дербента. Впоследствии Узбек планомерно держал сторону Москвы, посылая войска для разорения тверской и смоленской земли. В 1339 году по наущению князя Московского Ивана Калиты Узбек казнил мучительной смертью князя Александра Тверского с сыном Федором. Не исключено, что одна из драгоценностей российских царей, так называемая «шапка Мономаха», ныне хранящаяся в Грановитой палате московского Кремля, была даром Узбека князю Юрию Даниловичу или Ивану Калите, которым он покровительствовал. Женившись на византийской царевне, Узбек некоторое время поддерживал хорошие отношения с Византией и с Египтом, уступив египетскому султану свою племянницу, царевну Тулунбай. Трижды войска Узбека вторгались в Ширван (находившийся под протекторатом другой ветви монгольских правителей, захвативших Иран — Хулагуидов), но успеха не добился.
64
Н. М. Карамзин. История государства Российского. Тула, 1990. Т. IV. Гл. VII, с. 116.
65
Тохтамыш — хан Белой Орды (кочевавшей за Уралом). После Куликовской битвы (1380), в которой войско крымского хана Мамая было разбито русскими, воспользовавшись междоусобицами, захватил власть в Золотой Орде. Тохтамыш стремился восстановить власть и дань над Русью, потерянную на поле Куликовом, в чем отчасти и преуспел, благодаря удачному походу на Москву в 1382-м. Затем вступил в борьбу с Тимуром, лишился престола в 1395 году и до смерти в 1407-м скитался по степям, стремясь вернуть власть в мелких стычках с новыми ханами.
66
IV Дербент — ныне районный центр в Дагестане, в 120 километрах к югу от Махачкалы. Население — около 100 тысяч человек (в 1897‐м — 14,6 тысячи). Расположен на берегу Каспийского моря, на отрогах Табасаранских гор Большого Кавказа. Территория Дербента замыкает собой узкую береговую полосу, известную под названием Каспийских Ворот — единственного пути для прохода с севера на юг в Закавказье и на Ближний Восток. В противоположность пустынным окрестностям Баку, Дербент славится плодородной, удобной для виноградарства и огородничества землей, доходящей здесь до самого моря. Дербент, видимо, служил с севера границей древней Кавказской Албании, которая стала известна греко-римскому миру лишь после похода Помпея (64 г. до н. э.). Но только персидской династии Сасанидов, которые в IV веке распространили свое влияние до Каспийских Ворот и вытеснили из этих мест римлян (византийцев), удалось сделать город северным оплотом своей державы. Первые стены из сырцового кирпича были возведены здесь персидским шахом Йезигердом I. Однако по-настоящему серьезной крепостью Дербент стал во времена Хосрова Ануширвана (531–579), чье правление совпало с мощной экспансией «кочевой империи» — Тюркского каганата. Арабы называли Дербент Баб-ал-Абваб — «Ворота Ворот», татаро-монголы и турки — Темир-капи — «Железные ворота». В 630‐х годах город был взят приступом хазарами. В 652‐м — арабами. В VIII–X веках Дербент был главным портом на Каспии. В X веке, в связи с распадом арабского халифата, стал столицей независимого эмирата, затем — северным оплотом Ширвана. В 1071 году город захватили турки-сельджуки. В XIII веке в связи с монгольским завоеванием он на время пришел в упадок. Тимур Тамерлан, идя походом на Тохтамыша, не стал брать Дербент благодаря хитрости ширваншаха Ибрагима I. В 1578 город был взят турками-османами и оставался под их властью до 1606‐го. После восстановления персидского владычества шах Аббас отремонтировал городские укрепления, выстроил в обмелевшем море башню, с которой можно было следить, чтобы по мелкой воде торговые караваны не обходили таможню, а также построил поперечную стену, отделявшую цитадель и городские кварталы от бедной приморской части города, издавна известной под названием «город греков», что связано с многочисленными преданиями об Александре Македонском. В 1722 году город был без боя присоединен к России, население приветствовало русского царя Петра I, оказавшегося во главе похода. Жестокий правитель Персии Надир-Шах, вновь получив Дербент во владение, несколько раз разорял город (1740‐е), подавляя восстания жителей. В 1806 Дербент был занят русскими войсками, а в 1813‐м по Гюлистанскому миру с Персией присоединен к России. В конце XIX века древняя крепость представляла из себя мирный город, живущий преимущественно земледелием, виноградарством и рыболовством.
67
V Хосров I Ануширван (Справедливый или Благословенный) (531–578). Выдающийся сасанидский правитель Персидской империи. Приказал перевести на персидский язык лучшие сочинения Платона, Аристотеля и других греческих философов. Основал школы, покровительствовал земледелию, улучшил судопроизводство и систему земледелия и поднял благосостояние страны. Он вел успешные войны с Византией и расширил свое царство от Инда до Средиземного моря и от Яксарта (Сыр-Дарьи) до границ Египта. Предпринял строительство укреплений, которые воспрепятствовали бы северным варварам проникать в тогдашний «цивилизованный мир» (см. по тексту «Великая Кавказская стена»). По жестокой иронии судьбы после смерти Хосрова все его достижения погибли в годы правления его неумного, но жестокого и тиранического сына Гормизда IV (578–590).
68
См. Часть II, «Хазарский лабиринт».
69
См. Часть II, «Хазарский лабиринт».
70
Ранний суфизм — мистическое течение в исламе — совершил свой духовный прорыв вопреки прямым запретам толковать Коран, вне установлений закона (шариата), и часто кажется, что вообще вне исламской традиции (особенно в Персии). За это суфии не раз обвинялись в ереси и были бы раздавлены правоверными мусульманами, если бы мистическая составляющая суфизма не была широко принята народом. После монгольского нашествия суфизм был назван «сердцем» ислама и прошел длительный период адаптации к нормам исламского права.
71
Третий имам Дагестана и Чечни, главный противник Российской империи в годы Кавказской войны (1833–1859).
72
Учениками, последователями, которые воспринимали каждое слово своего учителя как закон.
73
В переводе с арабского «джихад» означает «усилие». «Священная война» — лишь частный случай «усилия». По учению пророка Мухаммада «великий джихад» есть брань внутренняя или самосовершенствование.
74
VI Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — русский писатель. Не закончив университетского курса, в возрасте 23 лет (в 1851‐м) уехал на Кавказ в действующую армию к брату Николаю. Был принят на военную службу и даже получил офицерский чин, участвуя в военных экспедициях в горы. В 1854 году был переведен в Дунайскую армию, а затем в Севастополь. Несмотря на то что Толстой никогда не бывал в Дагестане (его военная «география» ограничивается Чечней), он прекрасно знал обстоятельства, при которых Шамиль стал третьим имамом Дагестана и Чечни и возглавил войну горских народов против Российской империи. В рассказах «Набег», «Кавказский пленник», «Рубка леса», «Ведено», а также в повестях «Казаки» и «Хаджи-Мурат» ярко запечатлены реалии Кавказской войны.
75
VII Хунзах — крупное селение на западе горного Дагестана, расположенное на обширном Хунзахском плато, представляющем собою естественную крепость. Поэтому Хунзаху самой природой было предопределено стать центром горного Дагестана. С VI по XI век Хунзах был столицей раннефеодального царства Сарир. Династия правителей, христиан, находилась в родстве с персидскими шахиншахами-Сасанидами. В «Картлис Цховреба» (собрании древних грузинских летописей) утверждается, что легендарный предок аварцев «Хозоних из Лекана» жил на равнине северо-восточного Кавказа. Оттуда он под натиском скифов «переселился в горную теснину, воздвиг там город и назвал его своим именем, т. е. Хозоних» (искаженное Хунзах). Древнегрузинские летописи утверждают, что в свое время аварцы не были горским народом и им принадлежала обширная территория в степи, «от моря Дарубандского (Каспийского) до реки Ломеки (Терек) и до великой реки Хазарети (Волга)». Хазары, появившиеся на берегах Волги и Терека после распада Тюркского каганата со ставкой на Балхаше, не могли не встретиться здесь с аварцами. Однако, история Хазарии успела завершиться, когда в XI–XII веках в Хунзахе возникло христианское государство, позже широко известное как Хунзахское нуцальство. С XIV века в Аварию проникает мусульманство. Жители Хунзаха на протяжении двадцати пяти лет сопротивлялись переходу в ислам, но в конце концов вынуждены были подчиниться. Хунзах драматически пережил события Кавказской войны — здесь сторонниками Гамзат-бека была уничтожена вся правящая верхушка, слишком «размягченная», по мнению предводителей джихада, контактами с русскими. После войны, как и везде, здесь действовало народно-военное управление, предоставлявшее горцам большую самостоятельность в организации внутренней жизни. Сейчас — районный центр, население — 3,7 тыс. человек.
76
Гамзат-бек (? — 1833) — второй имам Дагестана и Чечни, один из предводителей горцев в годы Кавказской войны, наставник Шамиля. Считал, что главный вред чистоте веры и независимости Дагестана наносит местная аристократия, которая охотно идет на контакт с русскими, принимает подарки, военные чины и звания.
77
Барятинский Александр Иванович (1814–1879)—генерал-майор, с 1856 года — командующий Кавказским корпусом и наместник Кавказа.
78
Сленговое название Махачкалы, в 1921 году получившей свое название (вместо прежнего — Петровск) в честь дагестанского революционера Махача Дахадаева.
79
В декабре 2011 года этот список пополнил племянник Али, редактор демократической газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов.
80
Андрей Желябов — русский революционер, один из организаторов и руководителей партии «Народная воля» (1879–1883), которая средствами террора добивалась свержения самодержавия в России и установления демократической республики. Казнен после убийства царя Александра II в 1881 году.
81
Уздень (кумыкск.) — лицо, принадлежащее к феодальному дворянству Кабарды и Дагестана.
82
Суфийского наставника.
83
В селе Пирогово Тульской области находится филиал музея- усадьбы Л. Толстого. Здесь жила сестра Толстого, Мария Николаевна. Как-то раз, будучи у нее в гостях, Толстой, возвращаясь с прогулки, увидел смятый плугом, разорванный, но еще живой куст татарника, который и послужил образным ключом ко всей повести «Хаджи-Мурат». В 2009 году рядом с усадьбой был установлен памятник Хаджи-Мурату, посвященный всем — дагестанцам, чеченцам, черкесам, русским — павшим в войнах на Кавказе.
84
Теперь уже бывшему.
85
Абрек — изгнанник из рода, ведущий скитальческую разбойничью жизнь.
86
Мукденское сражение было крупнейшим сражением Русско-японской войны (1904–1905), в котором на сопках Маньчжурии пало 90 тысяч человек, что в совокупности с другими военными неудачами царского правительства предопределило скорое окончание войны в пользу Японии. На Калке русские и половцы впервые в 1223 году столкнулись с монгольскими отрядами Сабудая и Джэбе, которые не смогли взять Дербент и в результате «рикошетом» унесенные в поднепровские степи, отпраздновали победу на костях побежденных русских и половецких князей, живыми уложенных под пиршественный помост.
87
Кадий — в исламе судья, толкующий законы шариата; в Андалале — избранный глава вольного общества, задачей которого было следить за исполнением законов шариата и законов Андалала.
88
Урбеч — размолотые льняные семена с маслом и медом. Обычно намазывается на хлеб домашнего приготовления.
89
Крепость называется «Хонда Халадух». «Хонда» — это по-аварски северный склон горы. Название означает «Крепость на северном склоне». Южный склон называется «сос».
90
Имеется в виду героическая оборона Севастополя (1854–1855) во время Крымской войны и сражение на Куликовом поле, где в 1380 году объединенные силы Руси разбили орду крымского хана Мамая, что ознаменовало начало духовного подъема, в результате которого Русь освободилась от татарского ига.
91
VIII Аббас I Великий (1557–1628) — персидский шах из династии Сефевидов. Он реорганизовал войска, с помощью которых в 1597 году изгнал из Хорасана (северо-восточной провинции Ирана) узбеков, возвратил завоеванную турками провинцию Азербайджан, Ширван и Грузию (1603–1607) и в 1623‐м завоевал даже Багдад, причем проявил страшную жестокость. В союзе с англичанами в 1622 году разрушил цветущую португальскую колонию в Индии — Ормуз. Жестоко преследуя суннитов, Аббас относился терпимо к христианам. Испания и Англия имели представителей при его дворе. Аббас вступил в сношения с Московскою Русью ради совместных действий против турков и крымских татар. Свою столицу Испагань Аббас украсил великолепными зданиями, устроил дороги, оживил торговлю, выстроил множество караван-сараев и энергично поддерживал общественный порядок в стране.
92
Эти глаза защитников города по преданию захоронены под каменным столбом во дворе дербентской Джума-мечети.
93
Братищев Василий Федорович — дипломат XVIII в. С 1736 г. он был переводчиком при русском консуле в Персии, а по смерти последнего в 1742 г. был назначен русским резидентом в Дербент.
94
Черкасский Алексей Михайлович (1680–1742) — князь, канцлер при императрице Анне Иоанновне (1693–1740).
95
Николай I (1796–1855) — российский император (1825–1855).
96
На самом деле все сложнее: восстание подготавливалось к началу Русско-турецкой войны (1877–1878). Было известно, что одним из военачальников турок на Кавказском фронте является сын имама Шамиля. И в выступлении принял участие не только Согратль, а несколько аулов, хотя восстание так и не стало массовым. Но в памяти Магомеда Согратль остается единственным, неповторимым и непобежденным. Это его небесный град. Можем ли мы судить его за это?
97
Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888) — российский госдарственный деятель армянского происхождения. Граф, генерал от кавалерии, фактический руководитель военных действий на Кавказе в 1877–1878 гг., в 1880–1881 гг. — министр внутренних дел. В 1881-м подал в отставку в знак протеста против отказа правительства Александра III от реформ.
98
«Если математика непротиворечива, то она неполна» — это утверждение следует из теоремы Гёделя о неполноте (1931 г.). Ею неожиданно закончился длившийся больше двух тысяч лет период почти безграничной веры европейской науки в силу логического мышления. Из теоремы Гёделя следует, что мышление человека богаче его аксиоматически-дедуктивной формы. Всякая формально построенная строгая логическая система будет содержать постулаты, которые в рамках этой системы недоказуемы. Так, например, нельзя доказать непротиворечивость данной логики. В отличие от древнегреческой и арабской логики, мысль древней Индии открыто признавала и, более того, подчеркивала невозможность однозначного и непротиворечивого восприятия смыслов.
99
IX Мухаммед ибн-Абдал-Ваххаб (1703–1791) — основоположник ваххабизма. Будучи выходцем из внутренней Аравии, сыном пастуха, он не смог получить основательной образованности, в силу ограниченности впечатлений и контактов с внешним миром, хотя в зрелые годы учился в Басре, Багдаде, Дамаске. Сторонник радикальной реформы ислама путем «возвращения» его к чистому учению Корана и Сунны, к идеалам первых мусульманских общин VII века. В этом он следовал за сектой сирийских и египетских ханбалитов и непосредственно за сочинениями дамаскинца ибн-Теймиййе (1263–1328), в которых объявлялся прямым язычеством культ святых, обращение к их ходатайству перед Богом, паломничество к их гробницам, не исключая гробницы и самого Пророка Мухаммада в Медине. Наиболее яростно ибн-Теймиййе отрицал суфийский путь «просвященного сердца», канонизированный в XI–XII веках. Мухаммед ибн-Абдал-Ваххаб оживил эти идеи, требуя строгого применения «священной войны», джихада, против неверных. Он открыто заявлял, что современная ему форма мусульманства есть отступление от первоначальной его чистоты. Он собственноручно переписал сочинения ибн-Теймиййе и настаивал на возвращении в повседневной жизни к апостольской обстановке VII века — почему и житие пророка Мухаммада он изучал по старейшему «Житию Апостола» ибн-Хишама (ум. 834), а не по позднейшим «разукрашенным» источникам. Но его учение пропало бы втуне, если бы он не был принят под защиту уважаемого и влиятельного шейха Мохаммеда ибн-Сауда. Тот искренне принял учение своего протеже, женился на его дочери и, распространяя ваххабизм с помощью оружия, подчинил себе аравийские племена и оказался основателем династии Саудидов. В полной мере ваххабизм заявил о себе уже после смерти ибн Абдал-Ваххаба, когда его сторонники разрушили почитаемую шиитами гробницу имама Хусейна под Багдадом, перебив 5 тысяч душ «неправо» верящих магометан. В 1803 году они завладели Меккой, а затем и Мединой. В Медине ваххабиты разорили могилу пророка Мухаммада, а в Мекке разбили величайшую мусульманскую святыню — «черный камень» Каабы, поклонение которому они считали язычеством. Также они разрушили купола над местом рождения пророка Мухаммада и его жены Хадиджи. Лишь в 1811 году Османская империя отвоевала Мекку и Медину, вновь открыв их для паломничества мусульман всех толков, которое было запрещено ваххабитами. С точки зрения догматики ваххабизм был признан правоверным, что в начале XIX столетия подтвердил, например, алжирский богослов Абу-Рас ан-Насырий (что, однако, не делает ему чести, ибо показывает, как примитивная экстремистская доктрина, непротиворечивая с точки зрения формальной логики, может успешно конкурировать с подлинными духовными прорывами ислама). По прошествии времени страсти улеглись, ваххабиты отказались от некоторых внешних запретов своего учения, а Саудовская Аравия стала единственным в мире ваххабитским государством. В XXI веке ваххабизм вновь оказался активной политической силой, связанной с изменением роли разбогатевшей Саудовской Аравии в мировой политике. Союз монархии Саудидов с США делает эту химеру особенно опасной.
100
См. Часть II. «Так о чем говорил Заратустра?»
101
А. Дюма. Путешествие на Кавказ. Собр. соч. в 76 т. М., 1992–2011. Т. 75. Часть 1. Гл. XVIII, Дербент. С. 189.
102
Там же. С. 187.
103
Х Назовем несколько имен. В философии — это Василий Налимов, создатель полевой теории смыслов и модели текучей и многомерной человеческой личности. В психиатрии — Рональд Лэйнг, теоретик и практик «альтернативной психиатрии». В психологии — Карл-Густав Юнг и Станислав Гроф, заложившие основы трансперсональной психологии. В теории систем — Илья Пригожин, создатель синергетики (теории самоорганизации). В геофизике — Джеймс Лавлок и Линн Маргулис, авторы концепции «Живой Земли». Впечатляющий политический результат, основанный на практике ненасилия и новом образе политика, явлен в деятельности Махатмы Ганди.
104
Пятница у мусульман — день, подобный еврейской субботе и христианскому воскресенью.
105
Ракат — совокупность коранических сур, молитвенных формул и молитвословий, обязательных при совершении намаза.
106
Сунна — священное предание ислама. Оно состоит из хадисов — свидетельств о поступках Мухаммада и его высказываниях.
107
Аллах велик!
108
Это существенное замечание. В доктрине ислама Христос был предпоследним (и очень почитаемым) пророком, миссия которого в судьбах мира заключалась в подтверждении единобожия и возвещении о скором пришествии последнего пророка (Мухаммада), который придет, чтобы завершить истинную религию. В этом смысле Коран вместе с книгами Ветхого и Нового Заветов должен был бы стать заключительной книгой Библии. В Судный день Иисус вместе с Мухаммадом изобличит иудеев, не признавших в нем пророка, а заодно и христиан, которые (вопреки принципу единобожия) признали в нем сначала Сына Божьего, а затем и вовсе приравняли к Богу.
109
XI Молитва оптинских старцев. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день. Господи, дай мне вполне предаться Твоей святой воле. Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня. Господи, какие бы я не получил известия в течение этого дня, научи принять их со спокойною душою и твердым убеждением, что на все есть Твоя святая воля. Господи, открой мне волю Твою святую для меня и окружающих меня. Господи, во всех моих словах и помышлениях Сам руководи моими мыслями и чувствами. Господи, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой.
Господи, научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними и окружающими меня, старшими, равными и младшими, чтобы мне никого не огорчить, а всем содействовать ко благу. Господи, дай мне силу перенести утомления наступающего дня и все события в течение дня. Господи, руководи Сам Ты моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать…»
110
В коранической христологии Иисус не был распят (см.: Коран, 4, 154–156). А всякое слово Корана — для мусульманина Истина.
111
Безымянные могилы.
112
Повесть Толстого «Хаджи-Мурат» тоже заканчивается незабываемой сценой отрезания головы Хаджи-Мурата одним из дагестанских милиционеров. А. Дюма в своих путевых записках упоминает, что у них это была обычная практика.
113
«Болгарка» — циркулярная пила для резки металла.
114
Цит. по кн. Налимов В.В. Спонтанность сознания. М., 2007. Стр. 221.
115
См. концевую сноску VIII.
116
Ф. Достоевский. Братья Карамазовы. Часть вторая. Великий инквизитор.
117
Ал-Бируни. Индия. М., 1995. С. 38–39.
118
Верую, потому что абсурдно (лат.) — выражение Тертуллиана.
119
См. Часть II. «Исмаилиты: история Икара».
120
Брихадараньяка Упанишада. М., 1964.
121
«40 хадисов имама ан-Навави». Казань, 2000. С. 130. Ал-Джарани, автор комментариев к этому сборнику хадисов, пишет: «Поистине, этот хадис является одной из основ ислама».
122
Согласно «принципу дополнительности» Н. Бора для характеристики сложных систем необходимо применять взаимоисключающие «дополнительные» классы понятий, каждый из которых порождает свою логически непротиворечивую линию суждений, которая, однако, не совмещается с другой — и столь же непротиворечивой внутренне — линией суждений. Примерно так не совмещаются и «дополняют» друг друга христианство и ислам.
123
«Когда рухнет плотина» (англ.).
124
С. Вейль. Тяжесть и благодать. М., 2008. С. 189.
125
Казахи выгнали из Казахстана почти всех выходцев из кавказских республик. То же произошло в Узбекистане и в Киргизии. Почему-то Восточный берег Каспия не принял Западный. Не знаю, о чем мы тут в большей степени говорим: о пространстве или о сознании.
126
Чинки — обрывистые (высотой до 200 метров) плато, которые тянутся параллельно друг другу с юго-востока на северо-запад. Западный чинк, протяженностью около 250 км, отделен от более протяженного Восточного (до 360 км) безводной солонцеватой долиной шириной от 20 до 50 километров, что создает естественное препятствие, делающее Магышлак почти недоступным с суши. К слову сказать, ни один завоеватель, будь то Чингиз-хан или Тимур, никогда не водружал свой бунчук над этими землями.
127
Карагач — общепринятое для Средней Азии название мелколистного вяза.
128
См. Часть II. «Завоевание Индии».
129
Журнал «Разведчик». СПб. № 605, 21 мая 1902 года, «На Каспии».
130
Правда, в арсенале Хивинского хана осталось несколько старинных пушек его отряда, которые видел в 1819–1820 годах Николай Муравьев, когда был с миссией в Хиве.
131
См. Часть II. «Три версии прочтения «Фелицы».
132
Ныне — Мангышлакский залив.
133
Тогда Эмба еще не пересыхала в своем пути к Каспию: эмбенская пойма считалась лучшими летними пастбищами Малой казахской Орды.
134
В своей книге «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819–1820 годах» (М., 1822) Н. Муравьев указывает на то, что разбой был для юноши из кочевого народа настоящей инициацией, не пройдя которой он не мог считаться мужчиной: «Молодой человек, пришедши в мужской возраст, должен ознаменовать пришествие свое в свет подвигом на разбое; он тогда только получает уважение отца и знакомых своих и получает доброе имя…» (т. II, с. 118). Хивинский хан, кроме того, получал пятую часть добычи с каждого разбоя.
135
Название происходит от семи главных рек этого региона, большая часть которых впадает в озеро Балхаш. Для равнинной части Семиречья характерны полынные степи, пески, немногочисленные оазисы. В предгорьях — леса. Этот район считается одним из главных центров зарождения цивилизации в Средней Азии.
136
Несколько раз калмыки уводили за собой с Мангышлака часть туркменских родов, которые приняли российское подданство и по сей день проживают в Астраханской области и в Ставропольском крае России.
137
См. Часть II, «Три версии прочтения «Фелицы».
138
Н. Муравьев. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819–1820 годах. Т. I. С. 113.
139
Имеется в виду восстание декабристов в 1825 году, последовавшее за смертью Александра.
140
Через Усть-Юрт лежала прямая дорога в Хиву.
141
А. Г. Серебренников. Сборник материалов для истории завоевания Туркменского края. Ташкент, 1908. Т. I. С. 31.
142
Его отец, Алексей Кириллович Разумовский, был основателем Царскосельского лицея, где, как известно, учился Пушкин. Помимо законных наследников, он имел четырех рожденных вне брака сыновей, которые, каждый по-своему, прославили своего отца, одарившего их негромкой фамилией Перовских (по названию наследного подмосковного сельца Перово), где императрица Елизавета соединила свою судьбу с двоюродным дедом Перовского — своим фаворитом Алексеем Григорьевичем Разумовским, обвенчавшись с ним в местной церкви.
143
С началом губернаторства Перовского сюда, на границу со Степью, пришло слово: символично, что Перовский привез с собой в Оренбург Владимира Даля, автора «Толкового словаря живого великорусского языка». Даль при Перовском был чиновником особых поручений, который баловался сочинительством. На составление словаря Даля, по легенде, благословил Пушкин. Он приехал в Оренбург в 1833-м на два дня, собирая материалы для своей «Истории Пугачева». Вряд ли в эти два дня Пушкин избежал приема в салоне Перовского, в вилле, выстроенной за крепостными валами. Создавая в окраинной крепости подобие салона, Перовский словно нарочно раздвигал границы ее стен и бастионов, видя будущий Оренбург не заштатной крепостью, но своего рода «столицей Востока», через которую пройдет главный торговый транзит России с Азией. Пушкин едва ли и поехал бы в такую даль, как Оренбург, если б не знал, что встретит там Перовского. Результат: маленькая пушкинская повесть «Капитанская дочка», в которой впервые о России рассказано совершенно необыкновенным степным языком; приоткрыто новое измерение и пространства, и языка. Так же, на лету, поймал Пушкин и главную тему последующего века русской истории: «русский бунт, бессмысленный и беспощадный»…
144
М. А. Терентьев. Завоевание Средней Азии. СПб., 1903. Т. 2. С. 20.
145
Терентьев. Т. 1. С. 125.
146
Терентьев. Т. 1.С. 123.
147
Верста — мера расстояния, принятая в России до революции 1917 года. Равна 1066,8 метра и кратна 500 саженям и 1500 аршинам.
148
Терентьев. Т. 1. С. 157.
149
Терентьев. Т. 1. С. 174.
150
А. Г. Серебренников. Т. II. С. 141–142.
151
Так как в Средней Азии в «Большой игре» XIX–XX столетия успех сопутствовал все же русским, то им и пришлось отвечать на этот коренной вопрос. Мы уже однажды разбирали, что есть «внутренний Туркестан» в необъятной русской душе (см. Часть II, «Тотальная география Каспийского моря»). Повторим только, что влюбленных в пустынную Азию оказалось великое множество. Инженеры, строители, художники, поэты. Культура России очень обогатилась этой «внутренней провинцией». Причем в годы, когда главным богатством Азии была не нефть. Нефть просто не была еще найдена.
152
А. Г. Серебренников. Т. V. C. 50.
153
От тюркского «Куланды» — «остров диких лошадей». Дикие лошади водились на нем до начала XX века, когда на острове возникло русское поселение, обитатели которого пытались одомашить этих лошадей, в чем даже и преуспели. Единственное, к чему решительно нельзя было их приучить, это пить пресную воду.
154
Сажень — старорусская мера длины, равная 2,13 м = 7 футам или 3 аршинам.
155
А. Г. Серебренников. Т. V. С. 248–249.
156
А. Г. Серебренников. Т. III. С. 8.
157
Из них астраханских армян — 24, русских 4 и туркмен 1.
158
Виктор Дезидерьевич Дандевиль (1826–1907) — генерал Оренбургского казачьего войска, потомок французского военнопленного времен войны 1812 года. Подробно исследовал Красноводский залив, где впоследствии был основан Красноводск (ныне — Туркменбашы) — главный порт на восточном побережье Каспия.
159
Николай Павлович Барбот де Марни (1829–1877) — потомок французского военнопленного времен войны 1812 года, горный инженер, профессор, почетный доктор геологии Петербургского горного института.
160
А. Г. Серебренников. Т. V. C. 23.
161
Журнал «Разведчик», СПб. № 605, 21 мая 1902 года, «На Каспии».
162
Название американской рок-группы 90-х годов, восстающей против механицизма современной цивилизации.
163
А. Г. Серебренников. Т. V. C. 139.
164
В район нынешнего города Актау.
165
М. Т. Лорис-Меликов, если вспомнить, подавлял и согратлинское восстание 1877 года. И тоже успешно. Вот ведь редкостный дар — успешно подавлять восстания! Значит, министром внутренних дел был он назначен недаром. Между прочим, предлагал широкие реформы, чтобы увести общество от искушения революцией. Был неглуп…
166
О восстании см. «Военный сборник» 1872, № 3.
167
«Рахмет» — спасибо (казахск.); «рахмат» — спасибо (узбекск.); «рагмат» (ташакур) — спасибо (туркменск.).
168
«Гайдамак» — от тюркского глагольного корня «гайде», «хейде» — означающее «прочь», «вон». По-украински — смутьян, разбойник. В пестрой исторической жизни Украйны XVIII века гайдамаки сначала прославились как вольница, занимавшаяся разбоем и сопротивлением панским (польским) порядкам на Украйне. Восстания 1734 и 1768 годов в киевском воеводстве в наибольшей степени повлияли на отторжение края от Польши. Россию это движение не затронуло, т. к. постепенно прекратилось с разделом Польши в 1772-м.
169
Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) — поэт, переводчик, издатель, академик Петербургской АН.
170
Н. И. Костомаров отсидел год в Петропавловской крепости и был сослан в Саратов с запретом писать книги. Что не помешало ему впоследствии написать двенадцатитомную историю Руси. П. А. Кулиш отсидел в крепости два месяца и был сослан в Тулу.«
171
«Хитати» — качать, покачивать. Намек на нервный тик, который так и не оставил императрицу после декабрьского (1825 года) восстания.
172
Перовский был близким знакомым благодетелей Шевченко Александра и Карла Брюлловых. Александр сделал забавный набросок молодого Перовского в широкополой шляпе на пляже в Санта-Маринелле в Италии. Карл же, будучи мастером парадного портрета, написал таковой в рост, едва только Перовский назначен был генерал-губернатором. Позже Александр Брюллов приезжал к Перовскому в Оренбург и оставил городу караван-сарай в мавританском стиле — одну из оренбургских архитектурных жемчужин.
173
Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский. Документы. Письма. Воспоминания. Оренбург, 1999. С. 307.
174
Отряд генерала Маркозова, двигавшийся из Туркмении, оказался менее удачлив. Он был буквально испепелен пустыней, солдаты доходили до исступления и бросали на ходу все — амуницию, гимнастерки, оружие. То не был бунт: то было коллективное помешательство. По свидетельству генерала Сент-Арно (кстати, главнокомандующего англо-французскими силами во время осады Севастополя в 1854–1855 годах), подобные случаи бывали с французскими солдатами в Алжире. Целые подразделения, измученные жаждой и жарой, не слушали больше приказов и обращались в скопище неуправляемых, бредущих куда-то, из последних сил спасающихся и погибающих одновременно людей.
175
Поразительно полное сходство тропов туркменской сказки «Змея, кошка и собака» и русской сказки беломорских поморов, записанной Борисом Шергиным под произвольным, видимо, названием «Золотое кольцо». Действуют там, помогая простодушному, бедному и доброму хозяину, все те же змея, кошка и собака.
176
Ахунд — высшая степень духовного знания, характеризующая высокую ученость человека.
177
Уйгуры близки и казахам. Кровные «перехлесты» и скрещения в Степи — обычное дело. Есть туркменские и казахские роды, носящие одинаковые названия.
178
Стоит напомнить, что и Огуз-хан, и Татар-хан, и Могол-хан являются мифическими персонажами.
179
Джаннат — райский сад в исламской мифологии.
180
«… Огромный прибрежный оползень, — говорится о нем в описании. — Тяжелая известняковая плита собственным весом выдавила из-под себя мягкую глинистую подстилку, а сама превратилась в будоражащий воображение хаос каменных нагромождений…»
181
Адаевцы считались среди казахов лучшими лучниками.
182
Прославившемся тем, что и этот мавзолей, и все урочище Ханга-Баба, с растущей среди редкой зелени огромной, двухсаженного обхвата шелковицей, зарисовал во время Каратаусской экспедиции 1851 года Т. Шевченко.
183
Бекет-Ата (вторая половина XVIII — начало XIX века), религиозный подвижник, по национальности казах, что и объясняет его невероятную популярность. Остальные мангышлакские святые (аулие) пришли на полуостров в XV–XVIII веках, во время господства здесь туркменов, и были, как правило, тоже туркменами.
184
Умер в 1140 году.
185
«Киргизы [казахи] верят, что если погибающие на воде обратятся с молитвой к Султан-Эпе, то будут спасены непременно»,— пишет неизвестный псевдоним. См. Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1873. Вып. VII. «Предания адаевцев о святых секты ханафие, живших и умерших на Мангышлаке».
186
Как закончил свою жизнь Султан-Эпе, доподлинно неизвестно. Легенда гласит, что он бесследно исчез после оскорбления, нанесенного ему на пиру у отца. Тем не менее могила святого существует и является местом паломничества.
187
Воля Аллаха!
188
Атешгях — храм огнепоклонников, построенный в XVII веке индийскими купцами, потомками бежавших с Апшерона зороастрийцев, в караван-сарае, который они же выстроили и содержали. Неугасимый огонь горит там благодаря естественному выходу природного газа.
189
Во время поездки в Иран я выяснил, что в Йазде (центре огнепоклонников) не существует зороастрийских храмов в форме креста, большинство же в точности похожи на Атешгях, они прозрачны, и иногда для прозрачности их стены построены в виде шестигранника и все пронизаны отверстиями.
190
В религии огня осквернение земли гниющим телом умершего человека считалось святотатством. Поэтому тела умерших забрасывались наверх дахм, так называемых «башен молчания», где их расклевывали птицы. Кости потом сбрасывали в глубокие колодцы, сделанные внизу этих башен.
191
Адай-ата — полумифический предок восьми родов казахов-адайцев — похоронен близ Ташкента, где адайцы изначально кочевали в XV веке. После обретения Казахстаном независимости земля с захоронения Адай-ата была привезена на Мангышлак, где адайцы обрели новую родину, и «упокоена» в специальном саркофаге на одной из вершин Каратау. Весной представители восьми адайских родов по очереди возжигают на вершине огонь, символизирующий их единство: в прошлом огонь на вершине горы означал сигнал к сбору всех находящихся поблизости воинов-адайцев.
192
Сен-Жон Перс. Анабазис. Избранное. М.,1996. С. 49.
193
Сен-Жон Перс. С. 55.
194
Сен-Жон Перс. С. 50.
195
Сен-Жон Перс. С. 44.
196
Сен-Жон Перс. С. 34.
197
Советский геолог и геоморфолог Б. А. Федорович, почитатель Мангышлака, писал: «Если вы захотите составить себе представление о всех типах пустынь земного шара, о черных скалистых голых горах, о сверкающих белизной или нежно-розовых, вычурных «каменных городах пустынь» с затейливыми гигантскими башнями, обелисками и замками… Если вы захотите увидеть все формы рельефа песков и все типы солончаков, увидеть классические примеры куэст [гряд с асимметричными склонами] и чинков… попробовать твердость такыров и посмотреть мрачность каменистой гаммады [арабское название плоских каменистых пустынь] — то лучшего места, чем Мангышлак, вы не сыщете. В этой стране на небольшом пространстве, как в заповедной шкатулке, собран весь арсенал разнообразнейших проявлений природы пустынь».
198
«Барса-Кельмес» в переводе с казахского означает «пойдешь — назад не вернешься». Солончаки эти весной представляют собою группу озёр, которые летом высыхают, оставляя подсохшую с виду поверхность. Но горе путнику, который осмелится ступить на эту «твердую» почву…
199
Сергей Павлович Курдюмов (1928–2004) — российский математик, специалист в области нелинейных структур, автор теории режимов с обострением.
200
С. Курдюмов. Мне нужно быть. М., 2010. С. 121.
201
С. Курдюмов. С. 124.
202
Цит. по кн. Налимов В.В. Спонтанность сознания. М., 2007. Стр. 221-222.
203
С. Курдюмов. С. 126.
204
Ватанабе Казэн (1793–1841) — японский художник, каллиграф и поэт.
205
Ракетное топливо.
206
Гюлестан, Мазандеран, Гилян — названия трех прикаспийских провинций на севере Ирана.
207
Культовая группа из Петербурга, связанная с авангардом и наиболее полно выразившая разрыв молодого поколения с идеологией коммунизма.
208
Официальная цифра потерь Иранской стороны — 200 тысяч человек. Но источник Dead Tolls for the Major Wars and Atrocities of Twentieth Century (#Iran-Iraq) настаивает на 900 тысячах, что, кажется, больше похоже на правду.
209
Н. А. Некрасов. Строки из стихотворения «Поэт и гражданин».
210
«Правда», 23.04.1979.
211
Цит. по книге: В. Б. Кляшторина. Иран 60–80-х годов: от культурного плюрализма к исламизации духовных ценностей. М., 1990. С. 187.
212
Показательно, что мой друг фотограф Андрей Семашко, будучи в Иране в 2005 году, признался, что мысли о том, что «надо успеть» пока не начали бомбить, посещали и его и, более того, тогда и сами иранцы были уверены, что бомбежки начнутся со дня на день.
213
Джурабы — вязаная шерстяная обувь с подошвой из мягкой кожи.
214
Джалал-ад-Дин Руми. Сокровища вспоминания. М., 2010. С. 17 (III, 1445–1449).
215
Талыш — коренная прикаспийская национальность. Талыши проживают по обе стороны границы Ирана и Азербайджана.
216
Основанная великим Киром династия древнеперсидских царей, правившая Персией в 558–330 гг. до н. э.
217
Да, по-французски я говорю, но мне кажется, что было бы лучше, если бы мы все-таки говорили по-русски. По крайней мере, ты мог бы пополнить твой русский (франц. с ошибками).
218
Имама Ар-Ризу халиф отблагодарил, отправив на тот свет отравленной хурмою; для верности ему еще отрубили голову.
219
Ученые-богословы.
220
Я было подумал, что это муляжи, но, рассмотрев повнимательнее, убедился, что деньги настоящие. Наутро Мохсен объяснил мне, что в Иране существует обычай дарить деньги — например, на свадьбу. Но деньги для подарка молодоженам должны быть новыми, только из-под станка. За «новые» деньги ты заплатишь такими же, но старыми, бывшими в употреблении, по своеобразному курсу, который делает небесполезным занятие такой торговлей.
221
«То, что европеец второй половины ХХ века склонен рассматривать, как формы самостоятельной духовной культуры (литературные и философские тексты, музыкальные произведения, картины и т. д.), для традиционной культуры Востока является лишь средством, обеспечивающим выполнение ею главной задачи — передачу от поколения к поколению определенного типа личности, обеспечивающей преемственность духовной культуры». В. Б. Кляшторина. Иран 60–80-х годов. От культурного плюрализма к исламизации духовных ценностей. М., 1990. С. 9.
222
Цит. по: В. Б. Кляшторина. С. 28.
223
См. там же. С. 31.
224
Кляшторина. С. 36.
225
В. Бережков. Тегеран-43. На конференции большой тройки и в кулуарах. М., 1968. С. 15.
226
Если только Рузвельт не хотел всерьез «окоротить» старушку-Англию после войны, что и было проделано.
227
Бережков. С. 19.
228
Бережков. С. 23.
229
Бережков. С. 30.
230
Бережков. С. 35.
231
Я, разумеется, полагал, что отец Александр отправился в Объединенные Арабские Эмираты на отдых, но ошибся. Там у него второй приход, объединенный вокруг недавно построенного храма апостола Филиппа.
232
Храни Господь!
233
Аннемари Шиммель. Мир исламского мистицизма. М., 1999. С. 90.
234
Неологизм Д. Джойса.
235
Джалаладдин Руми. Маснави. Пятый дафтар. М., 2011. С. 141.
236
Каджары — тюркская династия из Закавказья, занимавшая шахский престол в Персии в 1796–1923 годах.
237
Судьба Ахмад-шаха (1898–1930) — вступившего на престол в возрасте 11 лет в трудные для страны годы, подтверждает это: в 1923 году шах был отправлен в изгнание во Францию, где довольно скоро умер.
238
В. Бережков. С. 16.
239
Написано до 2014 года, резко изменившего позицию России.
240
Обширная территория северо-восточного Ирана, примыкающая к Афганистану.
241
В. В. Бартольд. Работы по исторической географии и истории Ирана. М., 2003. С. 223–224.
242
Туркмены влились в Иран в 1040 году вместе с волной сельджуков, родственных им кочевых огузских племен, получивших свое название по имени племенного предводителя Мусы ибн-Сельджука. Натиск этих племен был столь силен, что им удалось сломить сопротивление персов и, разделавшись с правящей династией Газневидов, установить свое господство в Иране, а позднее также в Месопотамии, на территории современного Ирака, Сирии, всей Малоазийской территории тогдашней Византии и в южном Закавказье. Империя Сельджукидов не просуществовала и ста лет. Очень быстро она распалась на множество маленьких царств, большая часть которых уже в XII веке была разрушена более сильными соперниками, а в XIII веке окончательно была сметена с политической карты Средневековья монголами, вторгшимися в Иран в 1223 году. Но сельджуки привнесли в Персию среднеазиатские художественные влияния и даже изменили представления о красоте прекрасного пола: отныне его воплощала быстроногая, с тонкой талией, «луноликая» обладательница коварных раскосых глаз.
243
Значение слова не установлено.
244
Ф. Бакулин «Очерк внешней торговли Азербайджана [персидского] за 1870/71 год».
245
Увы, это невозможно. Большинство мусульман в России — сунниты, а иранцы — шииты, а согласие между теми и другими весьма проблематично.
246
См. Часть I, «Щярг, ветер с востока», гл. XII, «Страна за семью замками».
247
См. Часть II, «Превращения Александра».
248
См. Часть II, «Так о чем говорил Заратустра?».
249
В. Бартольд. С. 127.
250
Paris, 1861.
251
См. Часть II, «Кровавая чаша».
252
См. сноску VIII в конце книги.
253
Мухомор, понимаешь? (фр).
254
Русский вкус.
255
Демавенд — главная вершина хребта Эльбурс, высота 5604 м.
256
Смотри Часть II, «Исмаилиты: история Икара».
257
Территорий к северу от Ирана.
258
Буиды — дейлемская царская династия. Вначале правила Мазандераном совместно с династией Зиаридов, но потом на короткий период (934–1055) овладела почти всей Персией.
259
«Орлиное гнездо» — название главной цитадели и духовного центра исмаилитов — замка Аламут. Аламут возглавлял яростное сопротивление туркам-сельджукам. См. Часть II, «Исмаилиты: история Икара».
260
Литературный псевдоним. Настоящее имя поэта Али Эсфандияри.
261
Нима был в Реште в 1921-м, когда там была провозглашена Гилянская республика. И судя по тому что в 1945 году он принял участие в первом съезде иранских писателей, организованном Культурной ассоциацией СССР, тот, первый контакт с красными был для него вполне удачным. Тогда же в Реште в просветотделе Персармии был, кстати, Велимир Хлебников, но любое предположение о возможности встречи двух поэтов будет чистым домыслом: мы просто ничего об этом не знаем. Хотя исключить такую возможность нельзя.
262
Полная антология стихов и прозы вышла только в 1990-м.
263
Перевод автора по изданию: Nima Youshidj. Une voix dans la nuit. Poemes 1920–1958. 2006, Paris. P. 33.
264
Nima Youshidj. 2006, Paris. P. 15.
265
Nima Youshidj.2006, Paris. P. 15.
266
Дикий лесной бык на мазандеранском наречии.
267
Nima Youshidj. 2006, Paris. P. 96, «Je t`attendrais». Пер. автора.
268
XII Сам Баб, по имени которого и проповедуемое им учение получило название «бабизм», будучи рожден мусульманином, изучил иудаизм, христианство, возможно, восточные религии и греческую философию и признал за каждой религией, за каждым течением мысли свою долю истины, придя к убеждению, что все они угодны Богу и являются отражением последовательных этапов Откровения (как это считается и у мусульман). Но он полагал и самого себя в ряду великих пророков, слово которых призвано увенчать на время религиозную мысль, и проповедовал не столько религиозный синкретизм, сколько терпимость и веротерпимость, открытость другим и миру, братство всех людей, признание равного достоинства за всеми, в том числе равенства мужчин и женщин. Он порицал мулл, обвиняя их в догматизме и неспособности думать, осуждал все мусульманские институты, законы шариата и обряды, поскольку хотел очищенной и чисто духовной религии. После того, как в 1847 году он послал к Мохаммед-шаху одного из своих восемнадцати «апостолов», духовенство решилось на открытые действия против него. На бабидов начались гонения. После прихода к власти нового шаха Насир ад-Дина (1848) страна оказалась на грани гражданской войны: в Зенджане, населенном пункте близ Казвина, начались уличные бои. В Шейх-Табарси была устроена грандиозная резня бабидов. В конце концов и сам Баб был схвачен и 9 июля 1850 года расстрелян в Тебризе. Его сторонники долго еще продержались, основав еще более радикальное направление — бехайство — представители которого отличались ярым космополитизмом, отрицали любой, поддерживаемый духовенством конфессионализм, отвергали все непонятные заповеди и запрещения, настаивали на единстве всех народов, мечтали о единой азбуке и языке, но, пока такой не сложился, просто советовали своим сторонникам изучать побольше иностранных языков. Показательно, что ни в учении Баба, ни в крайних выводах его последователей не было ничего уравнительного, коммунистического. Тем не менее за смелость своих религиозных идей сторонники бехайства тоже были подвергнуты преследованиям в мусульманском мире. Одно время им удалось закрепиться в русском Туркестане и выстроить в Ашхабаде великолепный храм. Они были тепло приняты во Франции и в Америке, где были впервые переведены и изданы их книги. Сейчас в Иране бабизм запрещен, а бехайство не считается мусульманской религией. В то же время бехайский храм в Израиле, в Яффе, пользуется большой популярностью. Подробнее см.: А. Крымский. История мусульманства. Ч. 3. Ваххабиты. Бабизм и бехайство. М., 1912; Ж.-П. Ру. История Ирана и иранцев. СПб., 2012.
269
П. А. Риттих. Очерк о поездке в Персию. СПб. 1901. Ч. 1. С. 6.
270
Персидский фронт мировой революции. Документы о советском вторжении в Гилян. М., 2009. С. 48.
271
Персидский фронт мировой революции, с. 131.
272
Там же. С. 29.
273
XIII «Казачья Его Величества Шаха бригада» была создана в 1879 году. Годом раньше шах Наср ад-Дин совершал свое второе путешествие в Европу. В качестве военного сопровождения высокого гостя по территории Российской империи были использованы части казацких войск, вернувшиеся с русско-турецкой войны. Молодцеватый внешний вид, прекрасная выучка казаков стали главным аргументом в выборе инструкторов для будущих иранских кавалерийских подразделений. Возглавлялась бригада старшим русским офицером в чине полковника, который подчинялся шаху и первому министру, но в вопросах политических зависел от указаний посла России в Иране. (…) Служба в бригаде считалась очень престижной — в нее зачислялись дети знати, представители верных правительству племен. В 1917‐м по инициативе российского Временного правительства бригада получила дивизионный статус, а к командованию частями были допущены англичане — союзники России по Антанте. За время революции дивизия сильно разрослась за счет мигрантов, и если в конце XIX века в ней служило около 1,5 тысяч человек, то к 1921‐му — около 7 тысяч.
274
Там же. С. 31.
275
Персидский фронт мировой революции. С. 31.
276
Там же. С. 34.
277
Там же. С. 39.
278
В действительности в «социалистическое» правительство Гиляна вошли два крупных гилянских землевладельца, чиновники местного аппарата власти, зажиточные торговцы, которые были соратниками Кучук-Хана еще по «Эттехаде Ислам».
279
Персидский фронт мировой революции. С. 55.
280
Там же. С. 57–58.
281
Персидский фронт мировой революции. С. 131–132.
282
Персидский фронт мировой революции. С. 178.
283
Там же. С. 111.
284
Персидский фронт мировой революции. С. 133–135.
285
Там же. С. 202.
286
См. Часть II, «Хлебников и птицы».
287
Прежде всего Реза-шах хотел избавиться от торговой зависимости Ирана от Англии. Он пробовал наладить отношения с США, однако, торговая экспансия Германии в Иран в 1933–1939 годах, для которой шах создал все условия, в годы войны стала для него роковой.
288
Любин Д. М. Ввод Красной Армии в Иран летом — осенью 1941 года. Автореферат диссертации. С. 7.
289
См. Часть II, «Хлебников и птицы».
290
Николя Бувье (1929–1998) — швейцарский писатель, знаменитая книга которого «L, usage du monde» (на русский не переведена), во многом определила философию путешествования во второй половине ХХ века и стала классикой тревел-литературы. В Тебризе Николя Бувье и его друг Тьерри Верне провели позднюю осень 1953 года.
291
Греческое название Азовского моря.
292
XIV Собственно говоря, Александр Македонский и изъявил впервые желание исследовать Каспий, полагая, что он может быть связан с Европой. Один из сатрапов, захвативших власть в Сирии и северной Персии после смерти Александра, Селевк Никатор, отправил своего полководца, Патрокла, в Гирканию, где тот выстроил корабль и, не представляя, какая толща материковой суши довлеет надо всеми его стараниями, доверился волнам Каспийского моря. Никогда еще эти воды не принимали столь большого и прекрасного корабля — ни имени, ни пути которого мы не знаем. В задачу Патрокла входило найти северный выход в океан, но мы не знаем даже, насколько далеко продвинулся он на север: согласно поздним географическим легендам, он нашел и изучил северный морской путь, доставив индусов на германское побережье. Однако из его сочинения или, вернее, из того, что осталось от него в виде цитат, вмонтированных в «географии» других авторов, ясно, что экспедиция, скорее всего, не достигла даже волжской дельты. Патрокл был единственным, кто более или менее знал, что представляет из себя Каспий, но он не осмелился сказать об этом. По возвращении он доложил, что Каспийское море далеко на севере имеет выход в «опоясывающий океан». Он не хотел опечалить пославших его самодержцев и не желал нарушать целостную картину мира, утвержденную учеными авторитетами. Подтвердив ошибку, он оставляет ее в наследство грядущим арабам и прочим народам, которые будут бережно сохранять ее в географической книжности вплоть до XV века. Сам же Патрокл поспешно уехал в Египет командовать флотом Птолемеев.
293
Л. Гумилев. Тысячелетие вокруг Каспия. Сочинения. М., 1998. Т. 11. С. 77.
294
Танаис — греко-римское название Дона и последней римской колонии на границе степей; здесь же в Средние века был основан город Тана — колония Венеции — для торговых переговоров с представителями монгольского мира. Если заниматься пространственными перемещениями Азийско-Европейского пограничья, то необходимо отметить, что в хазарское время (VII–X вв. н. э.) эта линия сместилась на восток, в Итиль, столицу Хазарии. И хотя и генетически, и культурно Хазария была гораздо больше связана с Востоком, отношения ее с Византией были довольно интенсивными, вплоть до попыток христианизировать Хазарию и таким образом сразу включить ее в Европейское культурное пространство.
295
Успешно снявший эту осаду Наполеон Бонапарт очень быстро выдвинулся в военной среде и уже в 1796 году был назначен главнокомандующим французских войск в Италии.
296
См. Часть II, «Завоевание Индии».
297
М. А. Терентьев. История завоевания Средней Азии. Т. 1–3. СПб., 1907. Эта книга, востребованная в эпоху империи, оказалась потом совершенно не нужна «сообществу братских народов» СССР и была забыта. Даже в высших учебных заведениях нет исторического курса, посвященного этим событиям.
298
Художники В. Верещагин, П. Кузнецов, Н. Кашина; писатели А. Неверов, А. Платонов, К. Паустовский и др. Если брать все околокаспийское пространство, то на юге его вырастает крупнейшая фигура В. Хлебникова, а вместе с тем и вся ираноязычная поэзия Средней Азии, и проблема оставленного ею суфийского наследства.
299
«Страна философов» Андрея Платонова. М., 2000 г. Вып. 4. С. 292.
300
Такыр — это неплодная, подсоленная, до гладкости отполированная ветром почва.
301
Пугачев, стараясь сориентировать движение своих войск на север, Астрахань не тронул.
302
Кайтаки, кайтаги — ныне не существующее тюркское племя, некогда заселявшее прикаспийскую равнину и степи в предгорьях Кавказа. Тарки — столица кайтагского уцмийства (от арабского «уцмий» — знатный).
303
Главное его сочинение — на немецком языке: «Reise durch Russland zur Untersuchung d. drei Naturreiche». Ч. 1–3, в четырех книгах, СПб. 1770–1784, со множеством рисунков растений, животных и проч. См. также русский перевод.
304
Перечислять их имена и труды не имеет смысла, поскольку этот свод во всей полноте вряд ли вообще представим.
305
В. В. Бартольд. Сочинения в 9 т. М.,1963–1977.
306
Более того, некоторые неологизмы из рукописей Хлебникова в свою очередь фонетически очень напоминают названия птиц: блазунья, блуждянка, богаш, богва, братуга, грезняк, грезютка, грозок.
307
XV В случае Хлебникова слова «мир» и «Бог» можно считать тождественными. Одно размышление замечательного исследователя личности и творчества Хлебникова Р. В. Дуганова особенно существенно в этом контексте: «Астрономические и математические аналогии в учении (Хлебникова) о слове, разумеется, не случайны. Астрономия и математика или, вернее сказать, космология была моделью для хлебниковской теории слова, где космос слова мыслится вполне подобным космосу мира. Слово есть выражение мира, и поэтому оно не просто рассказывает о мире, но и самой своей структурой изображает мир, оно изоморфно миру. Слово, собственно, и есть сам мир с точки зрения его осмысленного выражения. Но что такое этот бесконечный, разнообразный и единый мир, включающий в себя и человека, и общество, и природу, содержащий в себе все, что было, и все, что будет, и все, что только можно вообразить; что такое этот мир, понятый, осмысленный и выраженный в слове? Очевидно, это и есть не что иное, как миф. И такое «чистое», «самовитое», абсолютное слово есть слово мифопоэтическое. (Оно)… является выражением единства и полноты мира. И поэтому-то всякое художественное произведение принципиально содержит теперь все и раскрывается, как принципиальная бесконечность. В противоположность Блоку и Маяковскому Хлебников берет мир в его первозданной цельности, предшествующей всякому становлению и всякой завершенной раздельности, мир в его изначальном (или, что то же, в окончательном) всеобщем единстве. Это воображаемый, представляемый, потенциально-возможный, энергийно-смысловой мир» (Р. В. Дуганов. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990). «Мы… не разнотствуем с богом до миротворения», — простодушно признавался Хлебников.
308
Как не вспомнить «Очана!» «Мочана!» и «Ок! Ок!» Хлебникова?
309
Важна мысль Р. Генона: обретение способности понимать язык птиц или говорить на нем «равнозначно возврату в центр человеческого существа, то есть в точку, откуда осуществляется его связь с высшими состояниями бытия. Именно эту связь и символизирует язык птиц, ибо птицы, в свою очередь, зачастую служат символами ангелов, то есть самих этих высших состояний. В свое время мы уже вспоминали евангельскую притчу, где именно в этом смысле говорится о «птицах небесных», севших на ветви древа, того древа, которое знаменует собою ось, проходящую через центр каждого состояния бытия и связующую между собою все эти состояния». (Рене Генон, «Язык птиц». В кн. « Символы священной науки». М., 1997).
310
Живота да ясырю — добра и пленников.
311
Костомаров Н. И. История Руси Великой в 12 т. М., 2004. С. 196–197.
312
Тарки — столица кайтагского уцмийства на месте современной Махачкалы.
313
Сарынь — сволочь, голь, братва; кичка — нос корабля.
314
Ярыжные — чернорабочие.
315
Костомаров. С. 199.
316
Река Урал.
317
Город Гурьев.
318
Учуг — рыболовная тоня.
319
Костомаров. С. 199.
320
Костомаров. С. 199.
321
Костомаров. С. 194.
322
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1991.Кн. VI. Т. 11. С. 279.
323
Н. Н. Фирсов. Разиновщина, как социологическое и психологическое явление народной жизни. М., 1920.
324
Костомаров. С. 174.
325
Костомаров. С. 173.
326
Костомаров. С. 175.
327
Костомаров. С. 201.
328
Черкасы — казаки — отсюда Черкасск и др. названия.
329
Ослопье — окованная дубина, палица.
330
Костомаров. С. 203.
331
Дуванить — значит делить добычу.
332
См. С. И. Тхоржевский. Стенька Разин. Пг., 1923. С. 52.
333
Цит. по: Тхоржевский С. И. Стенька Разин. Пг., 1923. С. 52. Оригинал: Chardin. Voyages. Paris. 1811. T. X. P. 137.
334
Ших — одно из 6 привелегированных сословий в тогдашней Туркмении.
335
Небольшое двухмачтовое парусное судно.
336
Буса — большая лодка; беспалубное судно.
337
Костомаров. С. 213.
338
Соловьев. С. 285.
339
Соловьев. С. 285–286.
340
В этом смысле показательно, что рана, полученная Стенькой год спустя под Симбирском, стала переломным моментом в истории всего разинского бунта: неуязвимый атаман оказался все-таки уязвим и, значит, оказался не вполне чудесной, а все же человеческой природы — а человека можно и осудить за его ошибки и слабости. Раненому и к тому же бегущему от государевых войск Стеньке, от которого отвернулась удача, отказывали в помощи жители Самары и Саратова, еще вчера видевшие в нем чудесного избавителя. Социальная машина бунта еще работала на всех парах в то время, когда его тонкая психологическая паутина оказалась вдруг изорванной в клочья.
341
Костомаров. С. 213.
342
Раскат — колокольня.
343
Соловьев. С. 286.
344
Костомаров. С. 175–176.
345
Петр III (1728–1762) — сын герцога голштейн-готторпского Карла Фридриха и старшей дочери Петра I Анны Петровны. Почитатель прусского короля Фридриха II, которого пытался копировать. В 1761–1762 — русский царь, издавший указ о вольности дворянства. Убит в результате заговора гвардейских офицеров с ведения жены, будущей императрицы Екатерины II.
346
Самоназвание «казахи» происходит от тюркского слова «казак, казаки» — вольные люди. Русским название «казахи» было прекрасно известно, но из-за анекдотической газетной опечатки в «Санкт-Петербургских ведомостях» 1734 года, где казахи были названы «киргизами», в официальных бумагах, а затем и в разговорном языке термин «казах» был полностью вытеснен термином «киргиз-казак» или «киргиз-кайсак», что, казалось, объясняется близкой родственностью языков тюркских кочевых народов, которых вообще принято было называть «киргизами» с последующим разделением их по месту обитания или степени родства.
347
Большинство городов северного Казахстана выросли на месте бывших русских крепостей: таковы Атырау (Гурьев), Уральск, Кустанай (Николаевск), Петропавловск, Павлодар. Бывшая столица Казахстана Алма-Ата построена на месте военного укрепления Верный, и даже нынешняя Астана впервые упоминается в 1830 году как казачий форпост.
348
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — выдающийся государственный деятель начала XIX столетия, сторонник глубоких реформ. В 1810–1812 был государственным секретарем при дворе Александра I, но затем впал в немилость, был сослан в Пермь и только в 1816 году возвращен к общественной деятельности. В частности, был генерал-губернатором Западной Сибири. Дни свои закончил в царствование Николая I, будучи воспитателем и преподавателем у цесаревича, будущего императора Александра II, отменившего крепостное право.
349
Аблай действительно совершил несколько беспримерных походов в верховья Черного Иртыша, в Поволжские степи и на Алтай. Он отомстил калмыкам за их самоуправство в Степи в начале XVIII века: он опустошил Джунгарию, куда часть калмыков решила вернуться после своей среднеазиатской одиссеи; после его вторжения калмыки никогда уже не поднялись; рынок был наводнен невольниками, даже в России «калмычонка» или взрослого «холопа» можно было купить за 5 аршин красного сукна или за мерина с придачей от одного до шести рублей. Понятно, что его «присяге» первоначально рады были и российская императрица, и китайский император…
350
Паки — опять, сызнова.
351
«Число 9 обычное и как бы священное число при поднесении подарков: 9 головок сахару, 9 арбузов и проч». См. Терентьев М. А. Россия и Англия в Средней Азии. СПб., 1875. Цит по: </>
352
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 18. Гл. 1. Царствование императора Петра Великого. Цит. по: p1.htm
353
Павел I был сыном Екатерины II и Петра III, убитого, с ведома и по желанию императрицы, ее приближенными.
354
Эйдельман Н. Грань веков. М., 1986. С. 152–153.
355
Эйдельман. С. 82.
356
Имеется в виду, конечно, император Франц I.
357
Эйдельман. С. 83.
358
Эйдельман. С. 74.
359
Эйдельман. С. 188.
360
Почти буквально повторяя расстановку русских сил в 1812 году в войне против Наполеона.
361
Эйдельман. С. 208–209.
362
Эйдельман.С. 195.
363
Эйдельман. С. 233.
364
Эйдельман. С. 225.
365
Эйдельман. С. 70.
366
После подавления восстания сипаев в 1859 году Индия целиком подпала под власть английской короны.
367
Шри Ауробиндо Гхош (1872–1950) — индийский философ-йогин, поэт, революционер, духовный наставник.
368
Николай Рерих (1874–1947) — русский художник, философ-мистик, писатель, путешественник. Долгое время жил и умер в Индии.
369
Святослав Николаевич Рерих (1903–1993) — русский и индийский художник и общественный деятель.
370
Одна из традиционных пьес для ситара, которые исполнял Рави Шанкар.
371
Т. е. повелел окружающим славянским племенам платить дань себе, а не хазарам.
372
В 479 году до нашей эры произошла знаменитая битва при Платеях, знаменующая собой торжество общегреческого оружия; через сорок восемь лет, в 431 г. до н. э., началась Пелопонесская война.
373
Годы жизни Геродота: 484–425 до н. э.
374
Годы жизни Перикла: 490–429 до н. э.
375
Годы жизни Софокла 496–406 до н. э.
376
А что это были за божества? Разум, логика, ratio, позднее превратившийся в злокачественный европейский рационализм, уже ко времени Ницше разъевший всю духовную жизнь Европы (см. книгу: В. М. Бакусев. Лестница в бездну. М., 2012).
377
В 336 г. до н. э.
378
Цит. по: Маковельский А. О. Авеста. Баку, 1960. С. 113.
379
Термин К.-Г. Юнга.
380
Александр усовершенствовал традиционную греческую фалангу. Македонская фаланга, как и греческая, имела 16 рядов тяжеловооруженных воинов — гоплитов; впереди и позади фаланги шли легковооруженные воины — илоты; в ряду фаланги было 1024 человека. Чтобы увеличить ударную силу этого чудовищного фронта, Александр вооружил длинными копьями 2-й, 3-й и даже 4-й ряды фаланги: таким образом сила первого удара многократно возрастала, а от него часто зависел исход боя.
381
Кир II Великий царствовал с 558 по 529 г. до н. э. Основатель Персидской державы и легендарный правитель: античная традиция приписывает Киру доброту, смелость и милость к покоренным народам. Именно он освободил иудеев из вавилонского пленения и восстановил Иерусалим. Жизнь Кира II описал Геродот.
382
Халдея — земля одного из народов вавилонской империи; у греков и римлян «халдеи» просто-напросто отождествляются с Вавилонией.
383
Прикаспийская область на с.-в. Ирана.
384
Парфия находилась на территории современного Ирана и Афганистана.
385
Горный массив в северной Персии.
386
Область, лежащая между реками Хиндукуш и Аму-Дарья в сев. части Афганистана.
387
Область между Аму-Дарьей и Сыр-Дарьей, лежащая на территории современного Узбекистана.
388
Понт (греч.) — море.
389
В древности — название Азовского моря, которое нередко называли и «озером».
390
От Аристотеля он отрекся давно. В труде Плутарха «О счастье и доблести Александра» приводится совет Аристотеля о том, как надо обходиться с народами Азии. Учитель советовал Александру обращаться с эллинами как вождь, а с варварами как деспот. Чтобы о первых царь заботился как о друзьях и близких, а тех использовал, как «животных или растения». Новизна политики Александра заключалась, следовательно, в том, что он отверг совет Аристотеля и привлек на военную службу и в круг личных друзей представителей азиатской аристократии, не делая разницы между греками и не-греками…
391
Цит. по книге: П. Йогананда. Автобиография йога. М., 2008. С. 489.
392
Речь идет о коптской библиотеке, обнаруженной в 1945 году близ египетского селения Наг-Хаммади.
393
XVI Говоря о гностицизме, до сих пор приходится делать упор на особую интонационную и философскую настроенность гностических авторов. Согласно классическому определению А. Гарнака, гностицизм — это «острейшая эллинизация христианства» (М. Трофимова. Апокрифы древних христиан, М., 2008. С. 150). Ж. Киспель уточняет: «гностицизм есть христианизация греческой философии и восточного мистицизма на основе евангелия» (Трофимова, 150). Но поскольку, как вскоре выяснилось, «гностический способ мышления» не ограничивается христианством, но ярко представлен также и в исламе, стало ясно, что эти определения очень частные, нужно подвести под гностицизм другую, более общую основу: «В гностицизме проявляется умонастроение, окрашенное переживанием человеком своей тождественности абсолютному, что присуще и некоторым другим культурам, например, Древней Индии. Особые же черты этого умонастроения в гностицизме раскрываются при разработке таких тем, как знание — самопознание, спасение, а также некоторых других… Это умонастроение искало средств не только понять и обосновать, но и пережить в личном опыте свою продолженность в мироздании, неотграниченность от его основ. Особая роль личного опыта препятствовала созданию единого учения, более или менее твердой догматики» (Трофимова, 154). «Сохраняя трансцендентность Начала, пребывающего превыше бытия и небытия, исмаилитский гнозис обличает ортодоксию как падение в худшую из форм метафизического идолопоклонства», — отмечает А. Корбен («Световой человек в иранском суфизме». М., 2013. С. 104). Важно применить к мусульманству еще одну мысль: «В христианстве [как и в мусульманстве] спасение есть дар свыше. В гностицизме это результат гнозиса, озарения, самопознания гностика, то есть [познания собственной] божественности» (Трофимова, 156). Открытие в себе трансцендентной сущности, «пробуждение ото сна» составляет главный элемент гностической религии. В. В. Налимов полагал, что в гностицизме нашло свое воплощение архетипическое наследство, не скованное догматикой. «Гностицизм в своем многообразии видения мира, по-видимому, является наиболее свободной философской системой» («Канатоходец». М., 1994. С. 316).
394
В 632 г. н. э.
395
Один из хадисов, приписываемый самому пророку, гласит: «У Корана есть внешняя видимость и скрытая глубина, экзотерический [видимый] и эзотерический [скрытый, внутренний] смысл; эзотерический смысл, в свою очередь, содержит следующий эзотерический смысл» и так до семи уровней эзотерического смысла.
396
М. Элиаде. История веры и религиозных идей. От Магомета до Реформации. М., 2009. § 273, с. 151.
397
Кажется странным, что название всему религиозному движению дал Исмаил — человек, видимо, далекий и от религиозных, и от метафизических проблем. Но, как мы покажем ниже, это не имело существенного значения. Видимо, первым настоящим исмаилитом следует считать самого имама Джафара ас-Садика (Верного), который отлично разбирался в философии, не понаслышке знал христианские Евангелия и к тому времени уже «зашифрованное» глубиной веков послание Заратустры.
398
Корбен Анри. Световой человек в иранском суфизме. М., 2013. С. 118–119.
399
Там же.
400
Повторим, что речь идет не о персональной, а о духовной сущности, открывающейся на пути к Богу.
401
Корбен Анри. История исламской философии. М., 2013. С. 110.
402
Крестоносцы называли «старцем горы» другого человека — главу сирийских исмаилитов Рашид-ад-Дина Синана — пассионарного вождя, который долгое время поддерживал контакты с военно-духовными орденами тамплиеров (которые, видимо, взяли у исмаилитов внутренюю структуру ордена) и госпитальеров, отправил посольство в Иерусалимское королевство, созданное крестоносцами в «Святой земле», но в результате ошибки, допущенной кретоносцами, в конце концов разделался с Конрадом Монферратским, возглавлявшим это королевство, подослав к нему убийц (1192).
403
Исмаилиты пользовались влиянием не только в отдельных областях Персии или в Сирии: им принадлежал Египет, в котором правила династия Фатимидов, халифы которой считались исмаилитскими имамами.
404
Фархад Дафтари. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины. М., 2004. С. 133.
405
Там же. С. 142.
406
Французский арабист Сильвестр де Саси, участник египетского похода Наполеона, первым в 1809 году высказал мнение, что слово «ассасин» происходит от арабского «хашишийн», «курильщик гашиша», но, так как он сам употреблял гашиш и прекрасно знал, что гашиш расслабляет и снимает агрессивность, он первым же и отверг собственное предположение. Тем не менее бредовые сказки про фанатичных убийц-гашишистов до сих пор встречаются в литературе об исмаилитах.
407
XVII Рашид ад-дин в своем труде XIV века, основанном на не дошедших до нас исмаилитских документах, приводит список лиц, убитых ассасинами примерно за сто лет при Хасане ас-Саббахе, Бузург-Уммиде и его сыне Мухаммеде I. Всего их 75. Среди них 8 государей — халифы, султан, атабеки; 6 вазиров (высших сановников), 17 эмиров (военачальников) и валиев (начальников областей), 6 раисов (градоначальников), 13 казиев (судей) и муфтиев (высших духовных лиц, облеченных правом выносить решения по религиозным вопросам), главы религиозных сект, как, например, вождь керрамитов в Нишапуре, имам зейдитов Табаристана, придворные сановники, данишменды (ученые), сейиды (потомки Пророка), а также несколько исмаилитов, изменивших движению. Этот список неполон (в него не вошли несколько позднейших жертв, как, скажем, Конрад Монферратский). Зато он дополнен списком фидаев, совершавших убийства. Среди них выделяется один русский раб (гулам-и руси), убивший Абу-л-Фатха Дихистани, вазира сельджукского султана Баркйарука в 1097 году. Русский раб в Иране мог быть одним из многих полонян, которых половцы после своих набегов на Русь продавали в Крыму в страны Передней Азии. Так как фидаем-убийцей можно было стать только добровольно, следует предположить, что этот «русский раб» сам пришел к исмаилитам и принял их учение. Подробнее см: И. П. Петрушевский. Ислам в Иране в VII–XV веках. СПб., 2006. С. 317–318.
408
Фархад Дафтари. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины. М., 2004. С. 145.
409
Там же. С. 143.
410
В отличие от ортодоксального ислама, который довольствуется пересказом библейских событий в Коране, исмаилиты знали евангельскую историю по первоисточникам и точно приводили в своих сочинениях евангельские цитаты.
411
Евангелие от Иоанна, 14:6.
412
Цит. по: М. Элиаде. История веры и религиозных идей. От Магомета до Реформации. М., 2009. § 274. С. 152.
413
И. П. Петрушевский. Ислам в Иране в VII–XV веках. СПб. 2006. С. 319.
414
См. Петрушевский. С. 315.
415
Несомненно, «чистое слово» исмаилитов тождественно «доброму слову», входящему в священную триаду зороастризма («добрая мысль», «доброе слово», «доброе дело»); влияние древней иранской религии на моральную сторону учения исмаилитов очевидно. До сих пор таджики из горных кишлаков хранят верность этой традиции.
416
Бобринский А. Секта исмаилья в русских и бухарских пределах Средней Азии. Этнографическое обозрение. М., 1902. № 2. С. 15.
417
Там же. С. 19.
418
Там же. С. 16. Книга «Каломи-пир» («Слово старца») была написана пиром Колон Маулино Шо Носиром в Хорасане. В течение 72 лет Шо Носир читал четыре книги: Таурота Мусо, Енжиль-Усо, Забур-Дауд и Фиркон Махомета (Пятикнижие Моисеево, Евангелия, Псалмы Давида и Коран). По прочтении этих книг Шо Носир нашел, что во всех них написано одно и то же и всё, что в них написано, можно найти в «Каломи-пир».
419
Там же. С. 13.
420
Там же. С. 17.
421
Там же. С. 4
422
И. П. Петрушевский. Ислам в Иране в VII–XV веках. СПб., 2006. С. 305.
423
Там же. С. 306.
424
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986.
425
Написано в 1883–1884 годах.
426
Ф. Ницше. Ecce homo. ПСС, М., 2009. Т. 6. С. 259.
427
Группа российских социал-демократов, разрабатывавших в эмиграции идеи «богостроительства».
428
Александр Викторович Михайлов (1938–1995) — культуролог и историк философии, переводчик.
429
Р. Эмерсон. Эссе. М., 1986. С. 311–312.
430
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М., 200., ПСС. Т. 4. С. 339.
431
Парсы — современные огнепоклонники.
432
Ф. Ницше. Ecce Homo. М., 2007. ПСС. Т. 6. С. 203.
433
Цит. по: Ф. Ницше. Ecce Homo. М., 2007. ПСС. Т. 6. С. 253–254.
434
Ф. Ницше. Антихрист. М., 2007. ПСС. Т. 6. С. 110–111.
435
См.: Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. М., 2007. ПСС. Т. 4. См. «Притчу о трех превращениях», «О бледном преступнике», «О дереве на горе», «О базарных мухах» и др.
436
Бакусев В. М. Лестница в бездну. Ницше и европейская психическая матрица. М., 2012.
437
Термин К.-Г. Юнга.
438
Бакусев. С. 22–23.
439
Абу Саид. Цит. по книге: Кабир Хелмински. Знающее сердце. М., 2007. С. 34.
440
Цит. по книге: Величенко А. Е. Тайна йоги Шри Ауробиндо. СПб., 2005. С. 139.
441
Бакусев. С. 113.
442
Гёте И.-В. Западно-восточный диван. М., 1988. Завет староперсидской веры. С. 117. Пер. В. В. Левика.
443
Т. е. Александра Македонского. Поход того начался в 334 году до н. э., следовательно, по верованиям парсов, Заратустра жил на грани VI и VII веков до н. э.
444
Маковецкий А. О. Авеста. Баку, 1960. С. 136.
445
Сразу вспоминается военный мужской союз кубачинцев «Батирте», который неожиданно воскрешает эту довольно специфическую тему в горах Дагестана.
446
Стеблин-Каменский. Цит. по книге: «Авеста» в русских переводах. СПб., 1998. Вступительная статья С. Соколова «Зороастризм». С. 8.
447
«Авеста» в русских переводах. СПб., 1998. С. 9.
448
«Авеста» в русских переводах. И. С. Брагинский. Авеста. С. 31.
449
История религиозных идей: от каменного века до эливсинских мистерий. Глава XIII. Заратустра и религия иранцев. М., 2009/ § 100. С. 372.
450
Там же. § 103. С. 382.
451
Абу Абдаллах Джафар Рудаки (ок. 860–941) — родоначальник поэзии на фарси.
452
«Авеста» в русских переводах. СПб., 1998. Гаты Заратустры. «Путь праведности». С. 133. Пер. И. С. Брагинского.
Василий Ярославович Голованов
Каспийская книга. Приглашение к путешествию
Дизайнер Е. Поликашин
Корректоры М. Алхазова, Т. Озерская
Компьютерная верстка В. Фролова
ООО Редакция журнала
«Новое литературное обозрение»
Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет:
Новое литературное обозрение
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



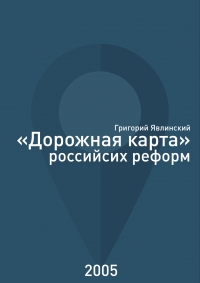
Комментарии к книге «Каспийская книга. Приглашение к путешествию», Василий Ярославович Голованов
Всего 0 комментариев