Иван Панфилов По тайге — не по карте
Рисунки Т. Анпилоговой
Рабочие топоотряда поторапливают с выходом в тайгу. Мы уже делали вылазки на лыжах. Снег еще, как вата, но вот-вот первый зимний буран прибьет его.
С отрядом я сработался. Все мы привыкли друг к другу. Если была необходимость, каждый мог сделать любую работу: прорубить просеку, провешить створ, измерить длину и угол наклона — за исключением работ с теодолитом. Я в отряд свой верил и намеревался долго работать с ним.
Неожиданно все мои планы рухнули. Я получил приказ о переводе на базу экспедиции в Ноглики. Втайне от меня ребята из нашего отряда стали просить руководство экспедиции, чтобы на новом месте им разрешили работать вместе со мной. Но партию оголять нельзя. Удовлетворили просьбу только Можелева и Недогадова, чему я очень обрадовался.
А на базе экспедиции встретил еще Кирилла Кожухова.
— Вот это явление!.. Ты как здесь?
— А вот так! Мы с Хамовым отпросились у Добрынина. Опять в твой отряд.
Кириллу я обрадовался искренне. Но Хамов-то зачем объявился?
Я наотрез отказался брать его в отряд. Но он клянется-божится, что будет человеком, и я смиряюсь. Омраченное Хамовым настроение неожиданно скрашивается настоящей радостью: к нам идет проводником старый Яргун, личность почти легендарная. У нас будет один из лучших проводников Северного Сахалина.
Район будущих работ — горы Даги. Для меня там все ново. Вообще мне не приходилось еще бывать в длительных переходах и далеко от населенных пунктов, да еще в зимний сезон. Топографические карты нам на руки не выдавали — получил в камеральной группе вычерченную кальку. С выкопировкой работать плохо, ориентироваться по ней трудно. А кто в тайге поможет и подскажет? Все надежды возлагал я на Яргуна.
Путь предстоял длинный. Мой наставник Бушев советовал:
— Лучше идти по побережью. Для лыж, правда, плохо: снег ветра раздувают — сквозняки там дай боже. Но заливами еще труднее идти — по соленому снегу лыжи совсем не скользят.
— Ну вот, куда ни кинь — всюду клин.
— Не думай, что я тебя пугаю, так оно и будет. А если другого хочешь — зачем такую профессию выбирал? Привыкай быть первопроходцем.
Да я за это и люблю свою профессию. На любое белое пятно земли первыми ступают топографы. Понятно, если человек идет впервые, на него и обрушиваются все главные трудности и лишения. Зато он первым же видит самое интересное… Он — первый фотограф, первый рисовальщик, первый поэт в новом краю.
Давным-давно прочитанные книги оставили в памяти образ землепроходца — богатырского сложения, подобно Илье Муромцу, и почему-то обязательно в кольчуге. Снаряжал он коней или струги…
А мы всю поклажу чаще тащим на себе. За плечами — охотничий дробовик, на лямках — огромный мешок-«гардероб». Чего там только нет! Запасные портянки, ведра, чайник, бритвы, наждак, курево, книги, печка, масло… Все убранство завершает отточенный топор, привязанный сверху к «гардеробу». За орудиями своего труда — теодолитами, горными компасами, топорами и прочим — разведчики следят очень тщательно.
Получили на складе спецодежду: валенки, телогрейки и… легкие хлопчатобумажные брюки. Даже ватных брюк не оказалось, какие там кольчуги… Бушуев ругается на чем свет стоит:
— «Зэков» теплее одевают! Зимой в тайге, в этаких брючишках!.. Что, топографы хуже уголовников?!
Рабочие уже насадили на топорища топоры, наточили их, сделали крепление к лыжам. Каюр Яргун подогнал упряжь. В распоряжение отряда выделили три упряжки, по пять оленей в каждой. Яргун по нескольку раз на дню впрягал оленей в нарты и делал пробные выезды, искал правильную расстановку оленей. Он, казалось, угадывал характер чуть не всех оленей. Для меня так они все одинаковы, разве что по росту да по ветвистости рогов как-нибудь отличу…
Мы готовились к выходу в тайгу на всю зиму. В бараке-общежитии кипела работа. Ребята отпарывали петли, крючки, пуговицы, пришитые по-фабричному, «на сопли», — садили их на крепкие суровые нитки. На валенки сверху нашивали кожу, чтобы в долгой дороге не перерезались креплениями. Из старых автомобильных камер резали резинки — натягивать на носок поверх лыжного крепления, для надежности.
Несведущий человек, заглянув в общежитие, увидел бы сплошной хаос. Шьют, куют, клепают, стругают… Валяются лыжи, печи с трубами, обрывки проволоки, брезента, свечи, консервные банки, гвозди, валенки… Накануне выхода на работу каждый предмет займет только ему одному отведенное место.
Самое тяжелое имущество упаковали на нарты. Что полегче, решили нести в «гардеробах». Строго и придирчиво отобрали самое необходимое: в далекой дороге даже лишняя катушка ниток — и та накладна.
Все готово, за исключением «малого»: у меня нет валенок. Но вот поздно вечером Можелев принес со склада завалявшуюся новую пару. Оказались как раз по ноге — под хлопчатобумажный чулок и портянку.
— Никуда не годно, — нахмурился Можелев. — На два размера надо больше.
— А ты другие еще имеешь? — посмеялся я. И в тот же вечер подогнал на валенки лыжные крепления.
Ясным морозным утром мы отправили в Даги оленьи упряжки, сами следом пошли на лыжах.
— Ты бы ехал до поселка на нартах, — предлагали мне ребята, — а то выдохнешься в самом начале.
— Пусть лучше я выдохнусь, чем олени.
— Ой, не шути, Ваня. На большой переход в таких валенках…
— Ничего, втянусь.
Ноги мои распухли. Вот когда я по-настоящему осознал, каково мне будет в сорокакилометровом переходе от Ноглик до поселка Даги… С тоской посмотрел я в сторону Ныйво, — далеко впереди маячили темными пятнами оленьи упряжки.
Я ни шагу больше не мог ступить на лыжах и снял их. Не шел, а плелся.
В Даги мы с Можелевым пришли поздно ночью. Ребята давно ушли вперед. На ночлег остановились в нивхской избе. Хозяйка, старая нивха, сидевшая на полу и курившая трубку, внимательно следила, как я пытаюсь стянуть валенки. Я отделил от ног присохшие портянки — пальцы кровоточили. Молча старуха поднялась и через некоторое время принесла мне деревянную долбленку — «орнг» — с теплой водой. Я с благодарностью посмотрел на нее, но она опять исчезла и вернулась бормоча, неся какой-то сосуд с густой жидкостью и полотенце. Положила около меня, села снова на пол. Смыв с ног кровь, я воочию увидел свою плачевное состояние: пальцы потерты были чуть не до суставных костей. Как же завтра идти?! Чтобы они зажили, месяц, не меньше, понадобится…
Старуха, показывая на фляжку, проговорила:
— Нерпа, нерпа…
— Вытри сначала насухо, — посоветовал Можелев. — Потом смажь нерпичьим жиром.
Пока я проделывал всю процедуру, старуха снова сходила куда-то — принесла белую тряпку и торбаса. Положила все рядом, села на свое место, взяв трубку, и больше ни во что не вмешивалась. Разорвав пополам белую тряпку, я тщательно перевязал раны, осторожно обул торбаса и виновато улыбнулся.
Николай Можелев сказал:
— Сядешь, Ваня, на нарты. Часть груза на себя переложим.
Я еще пытался протестовать, но он отрезал:
— Не спорь. На профиле нам без техника делать нечего!
Только под самое утро я крепко уснул. И проспался… к полудню. Рассердился на себя и на ребят, что не разбудили, на Можелева — больше всех, он первый попался на глаза.
— Почему не поехали? Сам знаешь, дни короткие, сказано было — затемно встать?
— А мы тут с хлопцами посоветовались. Давай-ка задержимся на подбазе. Дополучим продукты, найдем для тебя валенки…
— Значит, из-за меня не пошли? — злился я.
Можелев тоже повысил голос:
— Да ты гляди, чертовщина какая за окном! Ты еще настоящего бурана не видел!..
Пока я выглядывал в окно и раздумывал, нашелся и третий довод.
— Однако завтра нивхи принимай у себя гостей на родовой праздник, — вмешался Яргун. — Сибко-сибко обидятся, когда гости накануне уйди. Оставайся, Ивана!.. Большой праздник иди… И буран большой иди — в поселке бывай надо. Оставайся!
Нивхи редко ошибаются в предсказании погоды. Предсказывают они по разным признакам: по направлению ветра, противостоящего морскому течению, по окраске солнца на восходе и заходе, по морской воде в любое время суток, по игре сивучей и нерп… Коли нерпы скапливаются косяками неподалеку от берега, наигравшись-накувыркавшись в воде, часто вылезают на берег — быть плохой погоде. Если на побережье усиливается ветер-свистун — опять жди непогодь. Таких примет у них великое множество.
Медвежьи праздники — «чхыр-лерид» — идут из_ глубокой старины. Останки медведей устроители их складывают в два отдельных сруба, метрах в двухстах на север от селения; в одном срубе — кости, в другом — только черепа. Ученый-археолог, если возьмется по медвежьим останкам определить давность стойбища, сделает это без труда. По числу черепов в срубе можно точно определить количество праздников. На каждом убивают лишь по одному медведю, и счет ведется еще дополнительно, зарубками на срубах.
Современный человек на этих древних, как мир, праздниках словно переносится в эпоху первобытнообщинного строя. Ведя вековую борьбу за существование, нивхи придумывали себе многочисленных богов. Боги были земные и неземные. Земные боги — шаманы и медведи — считались главными.
В представлении нивхов жизнь как у людей, так и у животных, бесконечна. Только на земле одна ее часть — видимая, а вторая жизнь — потусторонняя, «млыво». Если нивху посчастливится убить медведя, лису, соболя, дикого оленя, значит — охотнику все это посылает высшее божество. Добыча, стало быть, уже перенесла все невзгоды на земле, и божество направляет ее в «млыво», в котором душа зверя вновь обрастет кожей, — он опять явится на свет в первоначальном виде…
— По этой легенде, Яргун, получается, что люди все время убивают одних и тех же медведей?
— Да, мы раньше тоже так думай.
Во второй половине дня к хозяину, устроителю празднества, стали съезжаться на собачьих, оленьих упряжках, а то и просто на лыжах почетные гости. По старинной традиции, медвежьи праздники собирают нивхов, связанных родословной линией.
Молодому медвежонку, пойманному ранней весной в тайге, привязывают к шее цепь. С осени закрывают его в крытый сруб, который строят из дерева-кругляка. На матерого медведя цепь никогда не надеть. Пока зверь мал, его ежедневно выводят на прогулку. Вскоре одному человеку такие прогулки становятся не под силу: со своего поводыря невольник-мишка нередко снимает «сатаны» — штаны вместе с кожей. Быстро взрослеющего на хороших харчах зверя выводят уже два человека. Когда медведь становится опасным и для двух людей, к медвежьей цепи привязывают чурбак, который своей тяжестью утихомиривает разыгравшегося зверя.
Приходит пора готовить священное дерево — «наню». В тайге выбирают высокую ель, доставляют на морскую косу и вкапывают в землю. Молодежь очищает ствол до самой верхушки от ветвей; при этом юноши лазят по дереву без каких-либо приспособлений — тоже традиция. На самой верхушке оставляется «голова», и чуть ниже — две широко раскинувшиеся ветви-руки.
С утра взрослое население собирается у медвежьего сруба. Женщины занимают места у «тятнда» — это музыкальный инструмент, сделанный из ошкуренного, высушенного дерева. Они бьют по нему, как по барабану, и в такт ударам переступают с ноги на ногу. Получается слаженно и довольно эффектно. Слова ритуального пения передаются из поколения в поколение, содержание их примерно такое: «Вот медведь, провожаем земного медведя в потустороннюю жизнь».
Медведя выводят из сруба и привязывают длинной цепью к разукрашенному «наню». Для него уже приготовлена полная нарта еды — зверя кормят в последний раз. Медведь зло поводит коричневыми глазами, время от времени рявкает с досады. Удары «тятида», звон цепи, громкий разговор мужчин и визг ребятишек, лай собак, грохот морского прибоя — все сливается в один праздничный шум… Привыкнув к нему, зверь немного успокаивается и принимается за еду. Ест жадно — хорошо! Нивхи радуются, словно дети, и говорят, что зверь пожелал быстрее попасть в «млыво».
Стрелять в медведя первым предоставляется право самому молодому охотнику-нарху.
Юноша-нарх сначала приступает к пробным стрельбам из лука, в столб, вкопанный на берегу моря. Расстояние отмеряют в два раза большее, чем при настоящей стрельбе в медведя. Пробная стрельба сама по себе интересна, особенно, когда море бывает чистое от льда. Если стрелок промахнется — стрела улетит в море. Утонуть она не утонет: на втором конце сделано оперение. Мазиле никаких поблажек — он должен лезть за стрелой в ледяную воду. Понятно, что ждет стрелка на охоте, если он не попадет в медведя или только ранит его; поэтому к пробным стрельбам юноши относятся серьезно и целятся тщательно. В столб стрелять надо три раза, и все три стрелы должны попасть в цель.
С первого раза молодой нивх попал. Второй раз — промазал. Тут же разделся догола и поплыл за стрелой почти за сотню метров от берега. В старые времена, если судорога сводила человека в воде, его и не спасали — значит, так хотел «Топ-ызнг», хозяин моря. Наш молодой стрелок оказался выносливым. Достав стрелу, он теперь целился тщательно и точно попал. Но поскольку из трех раз он попал только дважды, старики стрелять в живого медведя ему не разрешили — таков обычай.
Второй нивх оказался опытнее и удачливее. Ему и было предоставлено право убить медведя.
С привязи спускают самых сильных и ловких собак. Голодные собаки набрасываются на медведя со всех сторон. Тот быстро преображается, встает на задние лапы и с завидным проворством крутится на месте. Задача стреляющего — суметь изловчиться и подстрелить медведя, пока тот не успел поранить ни одну из собак. У нивхов собаки ценятся высоко.
«Тятид» и пение смолкают. Стрелок, присев и плавно натягивая тетиву, напряженно следит за медведем; он ждет, когда зверь откроет левую половину груди… Сверкая наконечником, летит стрела, затем другая… Страшный рев разносится вокруг, но вот он затихает — зверь рухнул замертво…
По ритуалу медведь остается лежать на земле. А гостей и участников праздника приглашают к застолью.
Какого угощенья здесь только нет!.. Медвежье мясо — вяленое, жареное, сушеное, мороженое и вареное; нарезанная большими кусками оленина; свежая, жареная, копченая рыба — кета, горбуша, навага, корюшка, таймень; жир — медвежий, нерпичий, олений; строганина из мороженого мяса и наваги… Соусы, приготовленные из клюквы, брусники, черники, шиповника, черемухи, рябины, настоенные на лекарственных травах. Арака, тоже приготовленная на пряных травах, ягодах и кореньях…
На второй день готовят медвежатину. Варят в большом медном котле, прямо на улице. Голову варят отдельно, бросая в бульон маленькими порциями коренья медвежьей дудки.
Вареное мясо нивхи делят на части — по числу здравствующих в роду семей. По увесистому куску медвежатины подносят и нам, топо-. графам. Нивхам, живущим далеко, мясо вялят и отправляют причитающуюся им долю с попутчиками, часто по всему Северному Сахалину.
После обильных угощений второго дня хозяину избы подают сваренную голову. Он разрубает большим ножом ее на четыре неравные части: одну — себе, вторую — нам, третью — нархам и четвертую — родичам, не присутствующим на празднике.
— А женщинам? — спросил я у Яргуна, заметив, что и на этот раз женщин не угощают.
— Нивха не должна знай больше мужчины, — ответил Яргун.
Под вечер второго дня медвежьего праздника подул сильный ветер. По мутному небу ползли тяжелые снеговые тучи, и повалил такой густой снег, что за несколько шагов ничего нельзя было рассмотреть. На побережье Охотского моря крутило, словно в гигантском снежном котловане, снсг и песок смешивались в одну серую липкую массу. Морские валы набирали силу, увеличивались.
Буран свирепствовал неделю. На седьмой день он утих, и сразу грянул мороз. На темнеющем небе появилась опрокинутая чаша с мерцающими звездами. Яргун сказал, что хорошая погода устанавливается надолго.
Продвигаться было невозможно. Снег такой, что олени проваливаются по самый живот. И чем дальше от залива Даги в глубь острова — тем труднее и труднее.
Посоветовавшись, мы решили сделать вот что. Впереди нарт должны идти в форме уступа три лыжника; причем первый идет полностью по целине, а двое за ним — уже только одной лыжей по целине. Первому идти тяжело, последним — легче, поэтому они все время чередуются. Вначале смена происходит через триста метров, потом — через двести, сто, а к концу дня, когда все выдыхаются до полного изнеможения — и через пять-десять метров. Идя таким образом, мы оставляем на снегу четыре лыжных следа. Это уже торная дорога для оленьих упряжек, если не подкинет каких-нибудь сюрпризов рельеф…
На карте рельеф обозначен емкими и точными топографическими знаками, красочный литографический оттиск выглядит очень эффектно. Одно удовольствие путешествовать по нему, только… мысленно. Тут человек становится сказочным богатырем: с любым грузом «переплывает» море и реку, переходит озеро и топкую марь, взбирается на любые горы.
Совершенно иное, когда идешь наяву, и не с мнимым, а с физически ощущаемым грузом.
Вот, к примеру, на карте море — зелено-небесного цвета, с ярко-синей береговой отмывкой. Красиво… А не скажет карта, что зимой на этом побережье постоянно свищут холодные пронзительные ветры.
Местами обозначено мелководье: через всю ширину реки хаотично разбросаны голубые треугольники — пороги. Через такое место плот перетаскивают волоком. Недалеко от порогов реку пересекает зубчатая линия — «пила». Это водопад — любой плот будет наверняка разбит в щепы.
В углу карты нарисовано огромное болото, по-сахалински — марь. Болото настолько велико, что его пришлось подразделить на травяное (вертикальные параллельные черточки), камышовое (трилистник) и моховое (между двух точек черточка). Голубые сплошные линии — марь непроходимая, а вот «кружева» из прерывистых линий — марь труднопроходимая. На мари нанесены кружочки с подсечками — это редкий низкорослый лесок. Обычно древесина здесь трухлявая, слабая: тонуть будешь — зацепиться не за что.
Вертикальные столбики с собственной тенью — вырубки. Дерево с поднятыми голыми сучьями — горельник. Всегда очень трудно ходить по «коричневым точкам» — песку.
На самой вершине горы расположен равнобедренный треугольничек. Это и есть пункт триангуляции — основа основ всей геодезической работы. Нам до него еще шагать и шагать.
Чтобы не мучить больше ни себя, ни оленей, решено устроить ночлег. Я как стоял, так и повалился на снег. Ни думать, ни двигаться не хотелось, полнейшая апатия. А надо встряхнуться. Ставить палатку, рубить дрова, варить ужин…
На сотню метров от палатки Яргун отвел оленей, знает, что далеко не уйдут — отпустил их. Вернулся в палатку. Вид у него подавленный.
— У нас на пути до самых гор оленьего моха много-много, — сказал он. — Однако в горах Даги его будет мало-мало…
Я насторожился:
— Ты откуда получил такое мрачное известие?
— Ягель расти на ровном месте, на горах нет…
— Мы же договорились, что необязательно вверх забираться. Между сопок лагерь раскинем.
— Ты меня. слушай дальше. Где два-три года не ходи оленьи стада, там ягель есть. Тогда оленям кушай хватит надолго, еще останется. У нас с тобой оленей мало. А если там ходи большое стадо? Быстро кушай, топчи все вокруг…
— Почему там обязательно должно большое стадо пройти, Яргун? Напрасно, наверно, ты беспокоишься.
А у самого даже спина и ладони вспотели. Не будет корма — Не будет оленей, вся наша экспедиция пойдет прахом… Что если многоопытный Яргун прав? Тогда остается один выход: отправлять каюра с оленями в Ноглики. Со всем остальным как будет — с перебазировками, с полевыми работами — вовсе не ясно.
— Подожди мрачный быть, — поняв мое состояние, снова заговорил Яргун. — Там, на месте, я лучше посмотри.
Я печалился о днях будущих, а беда подстерегала меня в эту же ночь. И если бы не Яргун — сидеть бы мне, как старшему, «сроком до восьми лет», как оговаривалось законом того времени. Кто-то из наших опрокинул рассол из-под вымачиваемой кеты. Олени так же, как наши коровы, любят соленое, но «пересол» может погубить их. Они вылизали снег до самой земли, изжевали часть палатки, облитую соленым. Не так уж страшно, если бы они потом не наткнулись на мешок с солью, лежавший на нарте около палатки. Мы спали, как убитые. Яргуна подняло недоброе предчувствие. Он вылез из палатки и, увидев животных возле мешка с солью, тотчас отогнал их. Спас оленей от неминуемой гибели, и меня с ними заодно… А то ведь — «срыв производственного задания», и разговор короток. После этого случая мы на каждую кочевку заносили мешок с солью в палатку или подвешивали на деревья.
Чем дальше уходили мы в тайгу, тем все позднее снимались с ночлега. И не из-за неорганизованности, не из-за лени, а из-за того, что ночью наших ездовых оленей разгоняли далеко по тайге бездомные разбойницы-росомахи. Охотиться на них времени не было, и непросто это: росомаха издали чует человека и к себе не подпускает. Мучились мы, мучились, по утрам собирая оленей, пока Яргун не отыскал в арсенале своей памяти старинное нивхское средство, основанное на той же, росомахиной «чуткости». Он стал привязывать на шею каждого оленя тряпочки. Утром их снимал, складывал в мешочек и запихивал к себе под малицу, чтобы у тела была. Такие ошейники пропитываются человеческим запахом, способным держаться продолжительное время. От росомах мы избавились.
Многому учился я в тайге. Ориентироваться по звездам, распознавать погоду, слушать звуки и шорохи… Труднее давалась «лесная книга». Для нашего проводника Яргуна она была беллетристикой, а для меня — очень сложным задачником. Разве с ходу научишься тому, что нивхи-охотники впитывают с молоком матери, вбирая многовековой опыт? Где обитает заяц, соболь, глухарь? Кто оставил следы на снегу? Как узнать — кто пробежал-пролетел, особенно летом?
Яргун растолковывал мне многие премудрости, говоря при этом:
— Живи много. Сам узнаешь!
Новичок в тайге, я умел пока лишь отличить звериный след от птичьего. Мало что определял безошибочно: заячий след мог узнать, еще росомаший, куропачий.
— Посмотри-ка, начальник, что там, на снегу? — подозвал меня Яргун.
Как мне не хотелось пасовать перед ним, отличным следопытом!
— Четвероногий… Зверь.
— Гм… Разве двуногие звери бывай? — возразил Яргун на мою жалкую хитрость. — Узнавай или не узнавай?
— Не знаю, Яргун, — признался я честно.
— Соболь. След свежий, совсем свежий. Вон — буря дерево выверни. Сейчас он под ней сиди и зорко следи за нами!
Мы все подошли к коряге. Тут же из-под нее выстрелил темно-коричневой окраски зверек и стремглав помчался к такому же поваленному дереву рядом.
— Если, однако, не жалко времени, поймай можно. Так как? Получай зверька? С собой возьми, в поселок принеси? А?
Для охотника сложно убить соболя, не повредя шкурки. А живым его взять каково? Мы бросились за зверьком. Свистели, хлопали рукавицами, колотили палками о деревья. Если он выскочит — по глубокому снегу убежит не быстро: днем зверек слегка неуклюж, не то что ночью.
Но соболь не выскакивал. Мы зорко глядели вокруг, заглядывая под корягу, — нету…
Яргун с хитроватой усмешкой глядел на наши растерянные физиономии. Потом подошел:
— Теперь мало-мало покурим. Соболь в дупле сиди, из дупла никуда не ходи.
Он смотрел на нас, улыбаясь одними глазами, и ждал, что же мы придумаем. Прирожденная выдержка охотника-таежника не позволяла подсказывать. Предложений было много: спилить дерево или срубить длинный шест и вытолкнуть соболя к дырке, в которую он проник, стучать по дереву, пока не обалдеет… Но ничего путного не могли придумать. Так не поймаешь, так поранишь… Спорили, спорили — ни к чему не пришли. Кирилл Кожухов покосился на Яргуна, сидевшего на коряге с непроницаемым видом:
— Этак мы до вечера простоим тут, у дерева…
— А-а-а, — Яргун докурил и неторопливо встал. — Теперь, однако, давай лови нашего соболя.
В самом низу дерева, у земли, он приказал мне расширить дырку. Кирилла послал на противоположный конец:
— Осторожно, однако, не стучи. Делай дырку поменьше этой и сиди тихо.
Мы удивленно смотрели на Яргуна, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал распоряжаться:
— А ты, Петра, намотай на палку бересты, подожги и поднеси к нижней дырке. Дым потяни сквозняком. Соболь сибко-сибко не люби дым.
Мы сделали все в точности. Едва поднесли зажженный факел к нижнему отверстию, как сразу же на противоположном конце послышалось фырканье. Стремительно высунулась соболиная мордочка… Как только зверек показался весь, Яргун мгновенно успел обхватить его поперек туловища.
Красивый хищник, с мордой разъяренной кошки, с пышным шелковистым мехом и густой подпушью, был выкурен.
— Смотри-ка… Поймали! — восхищенно закричал Можелев. — Куда мы его теперь?
— В Ноглики, в питомник сдавай будем, — сказал Яргун, тут же соорудивший соболю намордничек.
Мы устроили соболя в чехле от спального мешка, и дальше он путешествовал вместе с отрядом.
Дошли до намеченной стоянки на участке работ. Базироваться здесь будем не более недели, но оборудовали свой выкидной лагерь капитально. Под палаткой убрали весь снег до самой земли, — выбрали ведрами, кастрюлями, отбросали лыжами. Палатку натянули на деревянный каркас и на низ положили тяжелые кряжи — чтобы не снесло ветром. Кряжи одновременно стали и опорами для нар-лежанок, на них положили тонкие жерди, накидали толстым слоем пихтовые и еловые ветки.
Ужин был давно готов, а Яргун, уведший оленей на пастбище, все еще не возвращался. Мы с Можелевым уже собрались идти на поиски, когда он бесшумно вошел в палатку, присел на корточки и молча закурил. Есть не стал, а выкурил подряд несколько трубок и тогда заговорил:
— Я ходи на широких лыжах в распадок. Ходи и не спеши. Я узнай, что в этих местах оленей не было. Снег хороший, иди и пой: «Ай-ай! Вай-вай!» Снег разрой руками и посмотри, сколько ягеля. Еды для оленей много-много… Но она лежи как под стеклом!
— Под зеркалом лежит? — лениво вставил Хамов. Я одернул его:
— Говори, Яргун.
— Я ходи вверх-вниз, много ходи, проверяй оленью еду под снегом. Везде толстая корка, лед… Плохо, однако.
— Лед под снегом?!
— Осень была сибко-сибко с дождями. Сразу после этого ходи сильный мороз.
— Совсем нет ягеля? Что же делать, Яргун?
— Пожалуй, по склонам олени раскопай. Но очень мало. Совсем мало.
Я отчетливо представил оленей, разбивающих в кровь копыта… Значит, старого оленевода не обмануло предчувствие: не одна беда — так другая. Значит, при каждой перебазировке нам тащить имущество на себе. Раз десять за зиму, на большие расстояния… Значит, мы не выполним объем работ.
В палатке стояла тишина. Все были подавлены и расстроены.
— Хлопцы! Подождите горевать! — воскликнул Николай Можелев. — Мы тебе, Яргун, дадим спальный мешок, продукты… Вот жаль, палатки нет второй… Ты завтра, без нарт, уведешь оленей. Не везде же прошедшей осенью гололедица была — разыщешь пастбища!
— Вай-вай, однако, ты молодец, — улыбнулся старик. — Я как раз это соображай в голове.
— А мы, что же, барахло на горбу будем таскать? — спросил Хамов.
— Подожди-ка, — теперь я отлично представил план Можелева. — Мы по выкопировке определим объем работ с этой стоянки…
— И узнаем количество дней!.. — подхватил Кожухов. — Нормально, все нормально!
Мы тут же сели за карту и высчитали, что Яргун со своими оленями должен прибыть к нам на десятый день.
— Старина, а как ты один пойдешь? — спросил Кирилл — Всю дорогу олени шли по лыжному следу…
— А я езжай по рекам. Пока не найду олений мох.
Можелев мечтательно потянулся, успокоившись:
— Я недавно вычитал в одной газетке, что имеется такая жидкость… — Он достал замусоленную записную книжку, полистал: — Во! Хлористо-магниевая щелочь… Способна лед уничтожать. Разгреби снег, намочи составом лед — и, пожалуйста, сколько угодно ягеля!
От такой перспективы Яргун даже прищелкнул языком, что крайне редко с ним бывает.
Утром Недогадов и Кирилл Кожухов остались дооборудовать лагерь, наготовить про запас дрова. Остальные пошли на рекогносцировку.
Начиналась работа.
Первую триангуляционную пирамиду мы не увидели. Поднялись на сопку — должна же быть! На голой вершине из-под снега торчал кол. Разбросали снег, и обнаружили останки деревянного треугольника. На месте упавшей пирамиды срубили и поставили временную веху. Закрепили, чтобы не снесло ветром.
Вот теперь мы «привязались» к своему участку работ. Я ищу в бинокль по горизонту остальные точки — одной-единственной для теодолитных ходов недостаточно. Чтобы начать топоработы, на худой конец надо хотя бы две пирамиды. Обнаружил далеко на горизонте едва различимый силуэт — он то попадал в поле зрения, то исчезал напрочь: рефракция, наверно, приземные слои воздуха колеблются. Второй пункт оказался удаленным от нас километров на тридцать.
С сопки мы засекли по дыму свою палатку. В гористой местности зимой дым виден далеко даже невооруженным глазом.
С рекогносцировки в палатку возвращались другим путем — надо было посмотреть местность, ознакомиться. И чудо увидели.
Сначала понять ничего не могли — что за диво?! Вроде, ель — как ель, но до чего чудно растет. Не вертикально, как положено ей, а параллельно земле… Все четырнадцать-пятнадцать метров ствола тянутся, стелются по земле. А по дереву, через метр-полтора друг от друга, нормально растут вверх от ствола девять елочек. Крайнее деревце, растущее у корня елки-матери, повыше, остальные — меньше и меньше.
А еще говорят: в лесу все деревья одинаковы!
Печурка наша топилась, ребята ждали с ужином. Такой порядок был заведен: дожидаться своих с профиля. В маленькой шестиместной палатке-«простуде» тепло. Но это только с вечера. В эти недолгие теплые часы мы разнеживаемся, лежа поверх спальных мешков. Печка остывает, и мы мало-помалу забираемся внутрь спальников; а утром едва поднимаем головы — вспотевшие с вечера волосы примерзают к ткани… Вместо воды — в ведрах до самого дна лед.
Физзарядка нам не требуется. Снегом умоешься — и хорош. За день так «назаряжаешься», что косточки болят… Напляшешься возле теодолита, согревая пальцы то под мышкой, то за пазухой. Хлеб всухомятку съесть — и то времени жалко. Только и поглядываешь на солнышко — подольше бы не садилось за лесной гребень.
…Отряд вел работы уже больше месяца. К нам вернулся Яргун. На каждой стоянке он умудрялся находить корм для оленей. Пусть не очень сытно, но животные все же были накормлены. Обычно Яргун приходил с пастбищ поздно. Но когда случалось, что возвращался пораньше, было одно занятие, которому он отдавался всей душой — подледный лов. Старик с большим мастерством делал майны, рыбу ловил только самодельными крючками и на естественную приманку — высушенную и обработанную тузлуком рыбешку.
Если у меня была возможность, я старался непременно побыть с ним на рыбалке. Он занимался этим так серьезно и сосредоточенно, что к такой ловле могло подойти одно определение — работа.
Раз мы стояли с Яргуном у переката. Ледяной панцирь сковывает зимой глубокую воду, а на мелководье быстрое течение не дает спрятать воду под лед. Мимо нас проскальзывали гольцы-, наважки, форели… Рыбины как-то странно выпрыгивали вверх. Яргун смотрел на них, и узкие глаза его совсем сощурились-спрятались.
На том берегу неожиданно высунулась из воды усатая плоская мордочка.
— Яргун!.. Кто это?
— Где? — встрепенулся старик, сосредоточенно смотревший в воду.
Зверек успел нырнуть. Там, где он показался и скрылся, лопались по воде пузырьки. Но вот мордочка снова появилась: во рту у зверька, расположенного низко, как у акулы, трепетала рыбка.
— Выдра! — торжественно прошептал Яргун, — Так вот почему рыбешки выпрыгивай из воды…
Зверек покрутил головой и, не обнаружив ничего подозрительного, поплыл к береговому припаю. Секунда — и плоское, узкое тело оказалось на льду. Выдра опять огляделась. И стала кататься, словно собачонка. После «обтирочной» процедуры вскочила на ноги, отряхнулась, замерла.
Яргун предупреждающе взял меня за руку, и мы стояли тихо, не шелохнувшись. Когда хвост зверька исчез в воде, Яргун сказал:
— Выдру испугай, она уходи из этих мест. Совсем уходи.
Вечерами, при свете свечи или «консервного» светильника, мы приставали к Яргуну, чтобы он рассказал о себе. Старый нивх не был словоохотлив, но на одну тему говорить любил. Петр Недогадов, зная, на чем сыграть, вкрадчиво просил:
— Яргун, ты бы что-нибудь о жене своей рассказал.
Яргун поначалу молчал и, набравшись терпения, молчали все мы. Потом он неторопливо начинал.
— Я еще был низенький, когда стал ходи с отцом в тайгу. Мало с ним досталось ходи. Тридцать годов было — умер. Рано. Потом я женись, и ходи на охоту стал с женой. Мамка у меня сибко смелая: одна с ножом и луком иди на медведя. Как это? — а, душа с душой живи мы. Часто трудно бывай. Я хотел, чтоб мне больше трудно, а она возражай: «Тебе и мне, говорит, пополам». Но я старайся делать наоборот.
— Настоящий ты мужчина, Яргун, — похвалил Можелев.
Старик лишь слегка улыбнулся, хотя польщен был. Он знал себе цену.
— Всегда говори: женщина слабая — поэтому никогда не убивай медведя. А моя мамка на охоту ходи порознь, требуй: «Сама!» Собака с ней. Собака лай, медведь становись на задние лапы, а мамка со всей силы вонзай в зверя длинный острый нож и пори ему живот сверху вниз. От сильной боли медведь ори, а мамка проскальзывай под переднюю лапу в сторону. Медведь бери свои кишки и вей, как веревки. И собака на него наседай…
Кирилл передернулся:
— Бесчеловечно как… Хоть и зверь дикий, но такие мучения! Бесчеловечно же, Яргун.
— В старые времена такая охота называй у нас храбростью. А еще у мамки слух был сибко-сибко чуткий, у меня такой не бывай. Припал к земле и меня мани: «Там соболь, под той корягой. Сетку давай». Однако жалостливый был мамка. Далеко зверька стреляй, а близко не трогай. Если не. медведь, а мелкий зверь. Как-то заяц выскочи на нас и уставься… И дрожи весь, слезы из глаз ходи. Запищи, словно ребенок. Мамка думай: за беляком лиса или росомаха беги. Ходи заяц обратно — там хищник, ходи вперед — мы с мамкой… Мамка ходи в сторону и пугай его — к-ак побеги беляк!.. Однако, надоедай я вам своим говори. Может, ложись спать?
— Не-не, рано спать, — гудели мы, — Рассказывай!
— Еще мало-мало. Осенью дело.
От нашего стойбиша охота далеко, залив еще не замерзай. А лед ждать сибко долго. И реши мы с мамкой вкруг ходи, по морской косе. Долго ходи-ходи, а потом отдыхай у тороса. И гляди мы — орлов сибко много, и все летай на лед и обратно. Ходи мы к тому месту. А там таймень лежи, ба-альшой… И орлы пируй над ним. С нами две собачки тогда ходи, а кушай им мало. Мамка говори: «Пусть таймень кушай». Но орлы ведь собак заклюй. И тогда мамка оставайся на берегу с ружьем, а я ходи туда, чтобы орлы на меня нападай. На животе ползи, потому что лед слабый, и тайменя толкай к берегу… Орлы догадайся, один, как стрела, упади меня и клевай в позвоночник. Сразу все отнимайся — нога, рука. Сибко-сибко я испугайся и закричи… Мамка моя разозлись и выстрели. Один хищник тут же летай не надо…
— Разве не запрещают убивать орлов? — спросил я.
— Тогда нет. Теперь строго-строго нельзя. После удара я еще лежи, не двигайся. Мамка палку мне давай и подтягивай за нее. Больно-больно мне, сибко орел тюкай в спину. Не мамка — так лежи я на льду и орел меня доклевывай…
Много у Яргуна за всю жизнь набралось таких историй, слушать его можно без конца.
— Яргун, нивхи народ первобытный, скажи, трудно, когда жизнь меняется круто, хоть и в лучшую сторону?
— Когда вместе с охотничьими припасами нам выдавай мыло, нивхи от него отказывайся: «Мыло, однако, не скусное, с него рот сводит хузе, чем с клюквы…» Еще заставляй нас садить картошку: вместо одной штука вырастай сразу десять. Мы, однако, долго не соглашайся. Потом посажай много-много картошки, штук, однако, двадцать. А через десять дней и десять ночей разрывай землю — картошка не прибавляй… Нивхи кричи: «Нас обманывай!» Ночуй мы теперь не в стойбищах торафе (юртах), а в срубленных русских домах, с широкими лавками, в каждом домике много маленьких домиков-комнат. Я сразу привыкай. А вот мамхать (старуха) еще долго живи в сибко плохой юрте. Она говори — так удобно: на одном месте сиди и можно делай все работы — сварить кушай на костре, спать. Потом мамхать приходи ко мне в гости. Сначала редко-редко, потом часточасто. Кости старый, зачем мерзни в юрте?! В избе тепло, ходи-ходи весь рост, прямой, как охотничий лук…
— Яргун, а почему нивхи дают своим новорожденным такие странные имена?
— Раньше обычай запрещай гилячке родить в юрте. Она заранее ходи в глухую тайгу и строй себе шалаш из жердей и коры. После этого оставайся там одна и живи. В тот шалаш ходи не надо! Все это время следи за гилячкой опасности: ветер и буран, жара и насекомые, зверье и голод… Так нивха часто погибай безвестно. А если роды проходи хорошо, то после них, что увиди первое — то и называй малыша: комар, сучок, ягель, палка, бурундук…
Наша таежная жизнь шла своим размеренным порядком. Мы сделали за зиму несколько перебазировок.
Уже виден был конец работы. Но меня сильно беспокоило, что запасы наших продуктов шли с «большим опережением», чем оставшиеся объемы работ. Не закончив полевые работы и предварительные математические вычисления, выходить топографам из тайги нельзя. Возвращаться потом на объект, за сотни километров — кто на это пойдет?!
На полевые работы выходит огромная армия таежников-разведчиков, взаимодействия их уточняются, как на фронте. Сложная, кропотливая работа сотен людей в партиях, экспедициях конечной целью ставит себе открытие месторождения. Геологоразведчики, буровики, нефтяники-промысловики пойдут по нашим стопам. Четкость, грамотность, добросовестность — вот что требуется от топографов в изначальной этой работе на месторождениях. Знал я одного оператора-магнитометриста: вместо того, чтобы работать на профилях, он «наблюдал» возле своей палатки… В полевом журнале у него все было умно: номера профилей, время наблюдений, погода, показания приборов. Не учел он самой малости. Если бы ему не было лень заглянуть в технический проект, он бы увидел, что подобные работы в его районе уже проводились, только мельче масштабом. Геофизики долго удивлялись, как это у горе-оператора вместо синклинальной складки антиклиналь получилась… А как не получится, если он «наблюдал» в сотне километров от района работ?
Другой топограф так подогнал данные в технической документации, что на поверку вышло, будто он с одного пункта увидел другой пункт… через гору.
Ребята мои, не говоря об Яргуне, из-за недостатка пищи не паниковали, не ворчали. Держались молодцом, хотя жили мы на «подсосе», недоедали изрядно. Брюзжал и возмущался один Хамов, он честил всех подряд, был всем недоволен. Чаще всего это недовольство адресовалось мне: из-за моей непредусмотрительности в отряде преждевременно кончились продукты.
Хамов теперь редко выходил из палатки, а если покидал ее, то только когда нужда приспичит. Про заготовку дров он даже не вспоминал, постоянно ссылался на нестерпимые боли в пояснице, желудке, в голове.
Яргуна он выносить не мог, и были на то основания. Как-то Хамова послали на прорубку просеки. Яргун, возвращаясь с оленьего пастбища, проходил мимо. Хамов курил, отдыхая около дерева.
— Чего, однако, делай Хамов?
— Работаю, «однако», не видишь?
— Моя гляди, как ты работай… Ой, лениво!
— Свою норму выполнил, сколько мне положено. А за других вкалывать не собираюсь.
— Сибко-сибко мала твоя норма. Каждый из нашего отряда прорубай больше, чем здесь у тебя.
— Надень на нос бинокуляры, старый хрен! «Сибко-сибко, мало-мало»…
— Бинокль на свой нос надевай не буду. Но вот что, Хамов. По-одному наши никто не ходи на работу. А ты почему-то всегда один ходи? Я знаю, почему.
— Почему?! — вскакивая с места, зарычал Хамов. Этой правды он боялся пуще всего.
— Другой человек, который с тобой, быстро замечай твои уловки и лень. Вот почему!
— Панфилов заставляет меня работать, Можелев тоже, еще и ты тут выискался, задрипанный указ! — закричал Хамов. — Проваливай отсюда, старая горбуша!
— Однако сибко пронзай тебя мои слова, — спокойно ответил Яргун.
Как был Хамов никчемный человек, так и остался. Зря я ему поверил.
Когда вас мучило недоедание, постоянно хотелось есть и мы старались не говорить об этом, он начинал рассуждать, как бы между прочим: «Доберусь до Ноглик и ввалюсь в чайную; закажу там себе жареной картошки, котлет по-сахалински и все это буду жрать с белым хлебом!» И еще долго говорил о разных диковинных блюдах, названий которых я, например, отродясь не слышал — может, сам придумывал их? — пока кто-нибудь не предлагал ему заткнуться.
— А ну вас к черту! — вопил Хамов. — Я предлагаю вам вариант сытой жизни, слушаете или нет? Давайте пустим на мясо хотя бы одного оленя. Свалим в акте на несчастный случай. Председателю колхоза скажем: олень ногу сломал. Я сам ногу переломаю и на себе, как доказательство, припру! Ну?! Всю заботу на себя беру.
Я сразу даже не нашелся, что ответить.
— Ты, Хамов, конченный тип! — сказал Кирилл Кожухов.
…И вот наступил последний день работы. Мне предстояло выполнить завершающее и ответственное задание — с тригонометрического пункта завизировать смежные пирамиды, расположенные в двадцати-двадцати пяти километрах, — и наши теодолитные ходы будут привязаны к государственной плановой опорной сети.
Посреди дня начала вихлять погода. Еще трудно было определить, что надвигается — снеговой заряд или буран. Снеговая вертокруть дольше часа не пробесится; но если буран — мы задержимся еще на несколько суток. В нашем-то и без того незавидном положении…
Противная серая мгла-туман, выползая из распадков, со стороны моря, стала застилать вершины сопок. У меня еще теплилась надежда, но вот переменился ветер, и я всерьез встревожился.
Нельзя было терять ни минуты. Чуть прояснялось, я начинал «шарить» зрительной трубой теодолита по сопкам. Только нащупаю — как ее сразу затягивает… Такое отчаяние взяло меня, что невольно выругался и в черта, и в бога. Полнейшее бессилие перед стихией, в пору выть нечеловеческим голосом… Безрезультатно простоял под пронизывающим ветром, простудился, и, так и не окончив наблюдений, вернулся в лагерь.
На следующий день погода не улучшилась. Продуктов осталось совсем в обрез: работа не подвигается, а есть-то мы едим… Да в обратной дороге будем не менее недели.
Все было за то, чтобы немедленно сворачивать лагерь и выходить всем отрядом на подбазу экспедиции. Опять идти по целине и бить дорогу для полуголодных оленей. Но ведь обидно!.. Работы-то осталось не более, чем на полтора-два часа…
Собрались и решили: работу во что бы то ни стало закончить. Норму питания каждому человеку убавить на треть.
Вот уже несколько дней подряд мы с Можелевым безуспешно ходим на этот треклятый пункт. Туман белой сплошной пеленой по-прежнему висит над сопками. Промерзнув день, мы возвращаемся в лагерь. Даже Можелев начинает выходить из себя. Ни с того ни с сего напустился на Яргуна:
— У нас с Ваней на душе кошки скребут, а у тебя рот до ушей.
— Не сердись, однако, парень. Сибко большая причина: ночью погода переменится. Завтра вы обязательно работу кончай!
— Ты откуда взял? — чуть не бросился я на шею к Яргуну.
— Ворона на хвосте принесла. — Только тут я обратил внимание, что в одной руке Яргун держит убитую ворону. — Эта ворона сиди против ветра и весь день каркай — значит, усилится ветер, а если ветер усилится, то он гони-гони туман. Сейчас смотри сюда: наша собака давно лежи на снегу, свернувшись калачиком. Будет холод… Холод — ясная погода. Теперь слушай ветер в вершинах, теперь смотри на небо… Будет хорошо!
— Во дает Яргун! — помягчел и Николай. — И ворону-то, ворону, гляди, прибил…
Давно мы за этой вороной охотились. И вот из-за чего. Каждое утро, пока стояли выкидным лагерем, ворона прилетала и садилась на одно и то же место. Если бы сидела спокойно — сиди на здоровье, дерева не жалко; а то ведь прилетит спозаранок и такое карканье устроит, что мы вскакиваем ни свет ни заря от ее гортанного крика. И оставить ничего нельзя было — обязательно сопрет.
Достать ее дробовиком не, удавалось. Хитрая бестия!.. Идешь к лиственнице с пустыми руками или с палкой — подпустит. Покажешься с ружьем — тут же поднялась и улетела. Как она распознает: где ружье, где палка — уму непостижимо. Даже уравновешенного Яргуна она вывела из себя, и он решил ворону обхитрить.
Примерно на полпути от палатки до лиственницы, на которую всегда садилась ворона, был узкий и глубокий распадок, заросший северной березкой и ельничком. Когда ворона улетела по своим делам, Яргун замаскировался в нем с ружьем. Опять появилась ворона. По договоренности с Яргуном ребята тотчас ее. спугнули. Крикунья полетела на излюбленное свое место, к высокой лиственнице. Пролетая над распадком, в котором притаился охотник, она каким-то образом все-таки приметила его — метнулась в сторону. Но было поздно.
Яргун оказался прав: утром над нашей головой мерцали звезды! Впервые за много дней мы увидели долгожданное чистое небо.
На голой сопке, где стояла наша пирамида, дул сногсшибательный ветер. Теодолит так трясло-лихорадило, что центр сетки зрительной трубы долго не удавалось навести с допустимой точностью. Несколько раз, по очереди, ходили мы с Можелевым греться на подветренную сторону; обоим уйти нельзя — ветер сбросит теодолит и разобьет вдребезги.
Но видимость по горизонту все время была отличная. Наконец-то отряду удалось закончить работу. Вместе с нею закончилось и наше пребывание в горах Даги.
Оха-на-Сахалине
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



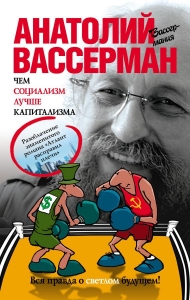


Комментарии к книге «По тайге — не по карте», Иван Федорович Панфилов
Всего 0 комментариев