Виктор Меркушев Конец года. Фаблио: рассказы, эссе, очерки
Конец года
Наяда
Она приподнялась над белоснежным кружевом морской пены, и я увидел её так близко, что мог легко разглядеть её блестящие гладкие волосы, из которых упрямый прибой тщетно пытался заплести множество серебристых косичек. Она заметила моё присутствие, слегка повернула лицо и посмотрела на меня из-под своих длинных ресниц, густых и влажных как морская тина. У неё были тёмно-синие глаза, глубокие и волнующие, как море. Губы её, похоже, никогда не знали улыбки, и это придавало всему её облику особенную неповторимость.
– Здравствуй, наяда, – хотелось мне поприветствовать её, но фразы не получилось, поскольку с ней, наверное, никто бы не смог разговаривать на человеческом языке, настолько отличалась она от любых земных незнакомок. Тело наяды вопреки расхожему заблуждению не было покрыто серебристой рыбьей чешуёй, а блестело и играло текучим глянцем и ровным загаром как у обычных девушек юга. Пожалуй, излишним было бы говорить о её необычной красоте, достаточно сказать, что это лицо будет невозможно забыть никогда. Взгляд её пронзал меня насквозь, он проникал всюду, достигая самых заповедных тайников сознания, поросших забвением и от которых давно уже были потеряны все ключи и позабыты все былые заклятья.
Это был взгляд стихии, наделённой разумом, чьей воле подчиняешься не по принуждению, а согласно собственному выбору. Взгляд её был подобен солнечной дорожке на морской глади. Точно также как солнечная дорожка струился он из бесконечной голубой дали, растворяясь в душе ощущением причастности к тайнам глубин и бескрайности морского простора. В эти мгновения я словно бы не существовал отдельно от блистающей искромётной волны, дымки гор, осевшей прозрачным ультрамарином на безоблачных окраинах неба, утреннего бриза, наполненного свежим дыханием моря. Я слышал как переговариваются дельфины и растут кораллы, чувствовал как течения пробивают себе дорогу в тёмных толщах тяжёлой воды, наблюдал как превращается обычный песок в драгоценный жемчуг, преображаясь в створках раковин моллюсков. Я был всем, и меня почти не существовало, что по сути одно и то же. Так продолжалось до тех пор, пока наяда не исчезла, не скрылась в кружевах из белой морской пены.
Я ещё долго смотрел на морскую рябь, щедро пропитанную солнцем, смотрел до боли в глазах, но наяда больше не появлялась.
Если бы в тот момент меня спросили кто я и откуда, думаю, что я просто бы не понял вопроса. Столько всего вместилось в эти мгновения, что мне казалось, что за это время я прожил ещё одну удивительную жизнь, целиком связанную с морем.
И теперь, глядя в морскую даль, я уже никогда не буду просто сторонним наблюдателем, следящим за дальними кораблями и играми дельфинов, а буду неотъемлемой частью этой изменчивой голубой бездны, пока не погаснет в моей душе тот взгляд наяды, который соединил меня золотой солнечной дорожкой с морем.
Море на книжной полке
Вслушиваясь в шум морской раковины, я всегда представляю себя бредущим вдоль каменистого берега, по мокрой гальке, среди набегающих зеленоватых волн, пряного дыхания моря и летающей по воздуху горьковатой пены. Причудливое жилище моллюска, оказавшееся на моей книжной полке, по праву нашло там свое место, поскольку, как и мои любимые книги рассказывает мне о море, мечте, чаемом и несбывшемся. Призрачная реальность, вырастающая из этого шума, значительно явственней утомительного бытового однообразия и докучливого общения; более осязаема и гораздо достовернее, нежели любой пейзаж за окном.
Человека, подчас, пугает открывающаяся перед ним стихия. Помнится, как однажды, глубоко и страшно поразило меня расчистившееся от низких облаков небо – синее, равнодушное, источающее прожигающий насквозь холодный свет космоса. Это гнетущее состояние собственной малости, случайности, абсолютной беззащитности, пронзило меня молнией сознания – я ощутил себя доисторическим человеком, впервые пришедшим к мысли о спасающем боге.
Море из раковины – тоже стихия, едва ли не большая, ибо вмещает и нас, а именно потому и не может быть нам враждебна. Я часто думаю, каким бы было оно, мое море, если бы я его никогда не видел, если бы долгие годы не жил рядом. Море – мой философе-кий камень, превращающий в золото все соприкасающееся с ним, но находящееся вне времени. Я помню его и в зеленом обрамлении кипарисов, и в строгой оправе желтоватых прибрежных скал; даже не нужно закрывать глаза, чтобы увидеть, как мерцает миллиардами искр и бликов его разноцветная поверхность, как играет на солнце каждый камешек на его берегу. Здесь вокруг всё пропитано солнцем: и бежевая дымка, и серебристый ручей с гор. Луга золотятся солнечной росой, и ослепительно горят горы. Шелестящее морское эхо будит мои прежние впечатления, и они плещут и переливаются, словно волны тысячами тысяч искорок памяти.
Очень сложно объяснить устойчивость некоторых впечатлений, которые тянутся через всю жизнь, обогащаются деталями и разнообразными оттенками. Вот длинная белая стена, бегущая вдоль выбеленной зноем дороги. Радостно и легко идти по горячим пыльным каменным плитам на зов неведомого, к влекущей неизвестности. А справа нависает стена, заключившая меня между собой и морем. Стена-оберег от черных скоплений коробок домов и машин, от смрадного воздуха городов. А здесь, по эту сторону стены, только море и заманчивые горизонты, с воздушными замками из облаков…
Вот ночные корабли, стоящие у пирсов, в мареве иллюминаций, пришедшие из какой-то другой, сказочной жизни и наутро уходящие туда же. Длятся секунды, минуты, наваждение не исчезает, – звенят цепи, хлюпает вода, воздух наполнен какими-то скрипами, приглушенными голосами и музыкой, мелодию которой невозможно запомнить.
А вот, как бессловесная притча о тленности всех сокровищ, светится матовой зеленью тяжелая медная монета, выброшенная морем на прибрежную гальку. Ее поверхность утратила все надписи, все нанесенные изображения – к суетному обличью монеты прикоснулась бездна, преобразив ее сущность. И она снова вернулась в мир напоминанием об истинном богатстве, скрытом в глубине нашей души. Не раз я пытался всё это изобразить на холсте, но что-то неуловимо важное все-таки оставалось невысказанным. Но часто случалось и другое: нежданно в мою работу врывался ветер с моря, с его соленой свежестью, чистотой прозрачного утра. Сразу вспыхивали света, зацветали тени, краски начинали гореть ярче, и всё вокруг пропитывалось солнцем.
Море мне навсегда подарило ощущение тайны. Сделало меня суеверным, научило относиться ко всему вокруг как к живому, наделенному скрытым от людей смыслом. Ведь только проникая в него можно постигать окружающее, отображая его на холсте. Прислушайтесь, и вы услышите, о чем говорит море. Для каждого из нас у него свои слова, своя музыка, свои миражи. Стоит только отвлечься от сиюминутного, как перед нашим мысленным взором вырастают руины затопленных городов, темные, такие непохожие на земные подводные хребты и горы, тянутся к солнцу колючие ветви кораллов… И совсем рядом, под километровой толщей воды колышется густой ил, светятся диковинные морские животные, и врастают в дно остовы погибших кораблей. Есть вещи, невыразимые в словах, неотображаемые на холсте, непереводимые в музыку. Всегда что-то остается в их остатке, и в этом «что-то» заключена сама их суть. Так и мое воображаемое море – многомерное и непознаваемое, хотя и бесконечно близкое – серебрится ускользающими впечатлениями, скорее их тенями, которые невозможно удержать, полюбоваться ими. Может быть потому, так манящи все эти возникающие на мгновение фантомы. Эти высокие голоса морских птиц, рокот набегающих волн и шорох уходящих, гудение ветра и глухие, невесть откуда приходящие, пульсирующие звуки моря. Под аккомпанемент этой природной симфонии, калейдоскопическую смену морских пейзажей, освобождаешься от всего случайного, обременительного, от гнетущего тревожного беспокойства, словно морская бездна прикоснулась и к тебе, подарив частицу своего величия и силы.
А, может быть, вновь возвращаешься к себе, к своему вечному и неизменному «я»…
Эхо
Мелодия вчерашнего вечера, словно дальнее эхо, то возникала отдельными тактами, теряясь во множестве иных звучаний, то вовсе переставала быть звуком, воплощаясь в краске, мелькании, запахе. Пожалуй, она была не просто музыкой, её ноты хранили в себе и усталые переливы прибоя, и чуть слышное гудение проходящих мимо кораблей, и низкие звоны цепей на бетонных пирсах…
Я напрягал память, будоражил своё воображение, перебирая все знакомые мотивы, в надежде восстановить утраченное, но тщетно – мелодия ускользала и более не желала никаких повторений, оставляя меня со своим далёким и неразличимым эхом.
Это было похоже на моё недавнее наваждение: ослепительно белый город показался в ликующем сиянии восхода и вскоре исчез неизвестно почему и непонятно куда. Я удивлённо бродил по незнакомым кварталам из белого камня, постепенно спускаясь к морю по изогнутой улочке, вымощенной искрящимся нефритом. Вокруг меня громоздились сверкающие арки с витыми колоннами и дивные ротонды из горящего каррарского мрамора. Я шёл вниз к морю и даже не заметил, как на своём пути потерял только что обретённый белокаменный город с нефритовыми мостовыми. Он вновь погрузился в моё несбывшееся, канул туда, откуда и был вызван далёкой мечтой о лазурных морях и белых солнечных городах, которые любят меня и терпеливо ждут.
Осталась лишь звучать в душе проникновенная негромкая музыка, повторить которую не в состоянии никакие оркестры мира. И она, словно далёкое эхо несбывшегося, звала меня туда, где правда смыкалась с вымыслом, а действительность казалась неотличимой от мечты.
Осенние розы
Для сокровенного не существует подходящих слов. Как нет их и для того, чтобы объяснить – почему любишь, за что ненавидишь; отчего так волнует утренняя дымка над мокрым лугом и зачем манят куда-то протяжные гудки убегающих вдаль поездов. Наверное, могут найтись какие-нибудь слова, припасённые для такого слушая, только точно не будет в них никакой правды.
Вот за что я так люблю позднюю осень? Возможно, за пряный аромат палой листвы, поменявшей яркое золото сентября на тусклую потемневшую медь, может, за причудливую фиолетовую паутину мокрых кустарниковых ветвей, а может за палевый закатный свет, скупо подсвечивающий помертвелую землю.
Хотя истинное чувство верит, не требуя свидетельств и подтверждений, светится само по себе, не отражая никакие иные лучи. И радуется сердце гулкой осенней пустоте, холодному дыханию ветра и витиеватым древесным кронам, пронзающим, подобно обнажённым нервам, низкое хмурое небо, дабы знало оно о бесчисленных требах земли.
Но главное, пожалуй, совсем в ином. Если остановиться и внимательно прислушаться, то за звоном редких капель, слетающих как водяные почки с ветвей деревьев, за шелестом мокрого асфальта и глухим городским гулом, можно расслышать негромкую мелодию ноября. Её звуки проникновенны, как зыбкий вечерний ультрамарин, сквозящий промеж танцующей непогоды, они весомы и торжественны, словно тяжёлая хвоя елей, впитавшая в себя все блуждающие тени от жидких фонарей, и тревожны, как затуманенный, мерцающий разноцветными огоньками далёкий горизонт, прилипший с севера к белому пологу зимы.
Эту мелодию не в состоянии заглушить ни шути машин, ни гомон улиц и площадей. Воздухом, пронизанным этой мелодией, легко и свободно дышать. В ней нет тоски и уныния, напротив, она таит в себе столько жизнеутверждающей силы и подкупающей простоты, что не хочется верить, что осень – это конец года, венец трудов природы и некий человеческий итог, который всякий из нас принимает из рук ноября с невольной грустью и сожалением. Особенно я отказывался этому верить, когда увидел мелкие жёлтые розы на окраине случайного парка, высаженные, очевидно, там, где раньше простирался дикий газон, изрезанный стихийными тропами, уходящими в лес. Розы держали свои нежные лепестки невысоко над землёй, отгородившись от неё глянцевой рябью чуть подвядшей листвы. Их зеленоватые глаза смотрели мне прямо в лицо и была в них не только нега и очарование, но и ещё что-то, для чего у меня сразу не нашлось подходящих слов. Чувствовалась в них какая-то иная, своя правда, которую невозможно соотнести с моим прошлым человеческим опытом. Только душа гораздо тоньше и глубже нашего разума, и ей совершенно не нужны никакие слова. Мне отчего-то показалось, что та проникновенная музыка осени происходила именно отсюда, от этих чудных растений, противопоставивших свою изысканную красоту слякоти, темноте и ветру.
Казалось бы – зачем они здесь, отчего не нашлось для них иного времени? Ведь какая удивительная судьба у этих дивных созданий: зацепившись за краешек остывающей земли, заполнять волшебными звучаниями всю окрестную промозглую хлябь.
Я наклонился к ним поближе, так, чтобы можно было почувствовать их свежее дыхание и разглядеть в кружевах невесомых лепестков оранжевые зрачки их зеленоватых глаз. Каким-то необъяснимым родством повеяло от этих поздних цветов, будто бы им, как и мне знакомы и горечь разочарований, и непонимание, и ощущение невостребованности, и вечная грусть от несбывшегося, утраченного счастья, заблудившегося в иных пространствах и в иных временах.
Было больно смотреть, как они, никогда не знавшие лета, совершенно по-летнему тянутся своими солнечными бутонами навстречу усталому светилу, минующему липкий горизонт, отяжелевший от сырости и от обнажившихся громад окраинных многоэтажек. Наверное оттого так волнует и будоражит воображение их чарующая осенняя симфония, ибо в ней различимы не только шорохи опавшей листвы и минорное соло ветра, но и хрустальные звоны палящего зноя и доверительный лепет летучего бриза с Балтики, оказавшегося здесь дабы слегка прикоснуться к прекрасным золотистым цветам. Никакой бриз, конечно, не прилетал сюда на своих эфирных крыльях, однако, вместо него их красотою довелось полюбоваться мне.
И я, не отрываясь, смотрел и смотрел на эти осенние розы и внимал их музыке, витающей всюду. О чем же она ещё?
Собственно, я её теперь почти не слышал, а мимо меня мелькали какие-то лица и города, далёкие страны и острова. В них некогда была оставлена частичка моей души, разве что память надёжно перекладывала все эти хрупкие слои глухой и нежнейшей ватой, чтобы легче их сохранить или, быть может, вернее забыть. Теперь они представали передо мной, и я не всегда успевал следить за их внезапным появлением и сменой.
Память неожиданно возвращала мне и совсем забытое и то, что всегда обретается где-то рядом, то ли между вздохом и выдохом, то ли между ударами сердца, то ли в тесном промежутке чуть заметного движения век. Не пойму отчего, но беспечная юность возвращалась не цветущими садами моей первой ленинградской весны, а мокрым вечерним асфальтом пустынной Октябрьской набережной, матовыми трамвайными путями, тонущими в лиловой туманной дымке и сырыми домами с жёлтыми безразличными окнами. Как же я смог забыть, как на тротуарах тлела размытая неоновая акварель, собирающаяся в лужах в яркие дрожащие красочные сгустки, когда вверху, у самых крыш дружные тени, сцепив свои мягкие мохнатые лапы, брали вечерний город в тесное полукольцо, развёрнутое к чёрной и неподвижной Неве. Трубящий ангел с золочёного шпиля был почти не виден, только его нервные крылья несли куда-то этот осенний город, туда, где не было ни зимы и ни лета, и где он весь мог разместиться между двумя ударами сердца.
А над городом царила симфония поздней осени и робкие фонари вырывали из темноты газона нежные золотистые цветы.
Тогда, в мою первую ленинградскую осень я ещё не догадывался, какие странные знаки посылает судьба и не мог представить, что ими окажутся прекрасные жёлтые розы, заставляющие нас полюбить осень, полюбить осень неизвестно за что.
Ностальгия
Я сидел у окна недорогой гостиницы и наблюдал через мутноватое стекло как просыпается южный город, сонно стряхивая с себя влажную беззаботную ночь. Ещё немного, и моя комната будет залита щедрым итальянским солнцем, а воздух задрожит от раскатистого гула многозвенных колоколов. К этому очень быстро удаётся привыкнуть и уже почти не вспоминаешь про замысловатые узоры на морозных стёклах и о дальнем городском горизонте, сливающимся с Балтикой, который с моего высокого питерского этажа бывает удивительно похож на полоску просыпанной морской соли.
Неужели ностальгия – это то, что способно возвращать меня назад, в мои прежние привычные горизонты, в ту незавершённую реальность, которая предопределялась мне изначально, вместе с дарованными обликом и речью. Скорее всего, дело тут совершенно в ином, ибо невозможно объяснить, отчего здесь, среди буйного цветения полуденной земли, так избирательна память, отчего не грезит она ни моим утраченным счастьем, ни былым успехом, ни светлой доверчивой юностью. И почему так отчётливо видны, прорастающие из её глубин узловатые ветви старого яблоневого сада, в живом кружеве которых запутался маленький домик детства с коричневым палисадом, бурые отлоги быстрой тёмной реки, которая видна из всех его окон и тихий, пробившийся на самом дне оврага родник, надёжно укрытый от случайного взгляда лопухом и чертополохом. Неужели эти, будоражащие сознание низкие ноты меланхолии, звучащие под жизнеутверждающий мотив солнца, моря и звенящего воздуха и называются тем торжественным и величавым словом – ностальгия?
Тогда как ностальгия представлялась мне чем-то похожей на надежду, разве что переменная времени в её хитрой и непостижимой формуле суть величина неопределённая, даже, пожалуй, мнимая и к тому же непременно с отрицательным знаком.
Странно, но чем глубже я проникался иной культурой и чем ближе воспринимал чужой язык, тем чаще в моей памяти с её заповедного дна всплывали туманные воспоминания, неясные и быстрые как дымки полярных сияний и просыпались, включаясь во внутреннюю речь, какие-то полузабытые строки давно прочитанных книг, обрывки стихотворений, заученных в безоблачном детстве…
«Душа моя – Элизиум теней, Теней безмолвных, светлых и прекрасных…»Да, тени прошлого так же светлы и лучезарны как и любые фантомы будущего. Все невольные обиды – давно угасли, опасения – ушли, непонимания и недомолвки с избытком восполнены и завершены временем. Прошлое, при всей его фрагментарности, лишено дробности, оно цельно и метафорично, в самой его организации и устройстве заложен принцип обратной перспективы времени, когда всё дальнее становится близким, малое – большим, а случайное, нарушая все законы причинности, представляется важным и судьбоносным, заставляющим по-новому смотреть на окружающий тебя мир.
* * *
Боже, сколько цветов рассыпано по долине Валь д’Орча! Только нет среди них ни одного, что сохранила моя память с тех пор, когда ромашковые и васильковые поля казались мне столь же необъятными, как звёздное небо, а ручейки представлялись реками, которые лишь по недоразумению не были занесены на географические карты.
Зато я узнавал солнце. Оно ничуть не изменилось и точно так же сияло на ссохшихся островках глины, превращая все царапины и трещинки в горящие золотые жилки.
А чуть поодаль, на шелковистом травяном ковре солнце рисовало свои мгновенные узоры из бриллиантовых, рубиновых и изумрудных капелек света, словно старалось удивить изысканной красотой равнодушное небо. Один шедевр сменялся другим и только я был случайным зрителем этого чуда. Зачем и почему природа являет такую бесполезную щедрость? Но не то ли самое происходит и в моей душе, когда искорки памяти сплетаются в дивные видения, всей прелести которых не доведётся узнать никому. Верно существует единый алгоритм бытования прекрасного и не предусмотрено в нём никаких подтверждений и сторонних свидетельств. Красота самодостаточна, лишена смысла, не имеет содержания и у неё свои отношения со временем, которое она либо не замечает, либо сдвигает по собственному усмотрению.
Небо размывало своей голубой акварелью множественные далёкие планы земли и мне казалось, что я был отрезан от всего остального мира прихотью всепоглощающей лазури. И не существовало более ничего кроме этого, пропитанного светом ландшафта с цветными фейерверками лучей и звенящей мелодией воздуха, в которой были слышны голоса птиц и тонкие, пронзительные смычки насекомых. Я шагал по ромашковым и васильковым полям, необъятным, словно звёздное небо, а вокруг меня звенели маленькие ручейки, которые лишь по недоразумению не были занесены на географические карты. Я чувствовал всем своим существом что не существует на самом деле ни пространства, ни времени, не бывает никакого детства, равно как не может быть ни зрелости, ни старости, есть лишь вечная и неизменная мелодия природы, бесконечное солнце и моя неизбывная душа, ощутить бессмертие которой помогают эти смутные и неожиданные ноты меланхолии, обозначаемые таким торжественным и величественным словом – ностальгия.
* * *
Я, пожалуй, наверняка бы выучил наизусть все достопримечательности, которые находилось в радиусе нескольких километров от моего отеля на небольшой флорентийской улочке Виа дель Соле, если бы всякий раз не ожидал увидеть на своём пути дом из белого мрамора под оранжевой черепицей, с дугообразными окнами и чёрным кованым балконом, усыпанным цветущей годецией и пеларгонией.
Я очень хорошо представлял себе этот дом, знал про все его порфирные полуколонны, рельефные триглифы и мозаичные вставки, щедро украшавшие ступенчатый антаблемент. Только я никак не мог вспомнить ни его приблизительного адреса, ни той причины, по которой вновь и вновь мысленно возвращался к его мраморному фасаду с чёрным балконом, унизанным живыми ожерельями из розовых пушистых цветов. Хотя, может статься, что я никогда и не видел этого дома, а он существовал только в моём воображении. Однако по существу это ничего не меняло, поскольку я был совершенно уверен, что когда-нибудь мне непременно случится прикоснуться к массивной бронзовой ручке входной двери и оказаться внутри, в просторном холле, устланном красными коврами, на которых застыли электрические радуги от венецианского стекла.
Главное – не пройти мимо, не пропустить, не потеряться.
Не знаю почему, но для меня не было ничего более понятного и знакомого, чем светлые комнаты дома с мраморным фасадом. Их высокие потолки с тонкой лепниной и люстрами от муранских мастеров невесомо парили над блестящим узорным паркетом, а со стен из тяжёлых рам прямо мне в глаза смотрели безучастные мадонны и невозмутимые святые, бесчисленные библейские персонажи, очень похожие на флорентийских аристократов и сами эти аристократы.
Но главное всё-таки было в том, что здесь неизменно оказывались те, кто по разным причинам терялся у меня из виду, с кем мне так и не доводилось повстречаться и все иные – неявленные и неназванные, которые навсегда оставались в моей памяти где-то между надеждою и вымыслом.
Мне действительно очень легко было вообразить, как проезжающая из Гель-Гью Биче Сениэль поднимается по мраморным ступеням даже не догадываясь, что я могу видеть как она касается массивной бронзовой ручки и исчезает в фиолетовой глубине дверного проёма. И мне совершенно несложно было различить за полупрозрачной балконной портьерой осторожный профиль Исабель, уставшей от бесконечных дождей в Макондо и которая теперь никак не может поверить в вечное итальянское солнце.
Я был просто уверен, что этот дом находится здесь, во Флоренции, куда вечно стремилась моя душа и где мне так легко дышится и думается о высоком и важном. А душа всегда стремится в своё несбывшееся, туда, где живут иллюзии и где совсем близко находятся те, без которых сложно представить свою жизнь. Исходив весь город вдоль и поперёк, я так и не нашёл мой дом с мраморным фасадом и чёрным кованым балконом. Может быть, прошёл мимо, отвлёкся, не заметил. Но это всё равно не мешает мне запросто бродить по его просторным залам и наблюдать из окон и древний город, и горы Тосканы, и зыбкие воды зелёной реки, несущие в дальние долины отражения могучих мостов и причудливых башен. Он существует вопреки всему и будет существовать даже тогда, когда забудется и моё имя, и даже исчезнет всяческая память обо мне. Только это не важно.
Важно другое.
Жизнь, которую мы привыкли связывать и даже отождествлять с реальностью, на деле оказывается зависимой вовсе не от неё, а от того, чему эта реальность обычно препятствует и не даёт полностью осуществиться. Оттого, наверное, человек уверовал в бессмертие своей души и так стремится к личной независимости и свободе, ибо изначально свободен его дух, способный быть одновременно в прошлом и настоящем и находиться там, где пожелает.
* * *
Она была похожа на игру солнечного света на белом кучевом облаке, оттого её материальность скорее удивляла, нежели заставляла сильнее биться моё сердце. Здесь потерялся бы даже самый опытный портретист, ибо в ней сочеталось несочетаемое, и её облик был построен на исключающих друг друга противоречиях. Её яркость, не уступающая следу от летучей звезды, соперничала с размытостью и неопределённостью дыма от лесного костра, а стремительность её неожиданных перевоплощений сосуществовала с такой невозмутимой неизменностью, что начинало казаться, что везде, на всей планете, стрелки часов намертво вросли в свои циферблаты. Лишь её глаза смотрели пронзительно и ясно, смотрели отовсюду, словно необъятное северное небо, и глубокий, первобытный холод ощущался во всём моём теле, проступая колючим инеем на озябшей коже и на кончиках губ, забывших на время все человеческие слова.
На площади Санта Кроче, где обычно собираются влюблённые, я никогда не встречал никого, кто был бы в состоянии соперничать с ней, несмотря на известную привлекательность и необычайную красоту итальянок. Мне отчего-то было грустно смотреть на всех этих счастливых юношей и девушек, ни на секунду не желавших разъединить переплетённых рук или отвести друг от друга восторженных глаз. И им, пожалуй, ни за что было бы не понять моей глубокой тоски по далёкой и неизъяснимой, на которой заканчивалась всякая речь, и на ком останавливался любой свет вопреки всем известным и неизвестным законам физики. Но я, как и прочие, люблю побродить среди равнодушной к тебе толпы, дабы лучше услышать себя. Поскольку в ней, среди непрестанного движения и шумной многоголосицы, особенно ясно различимы прежде невидимые контуры неосуществимого, и становятся слышны такие фразы, которым никак ранее не удавалось собираться в слова. В эти минуты кажется, что нет ничего невозможного и будущее всецело зависит исключительно от твоего выбора.
Я представил её здесь, сидящей со мною на Санта Кроче, площади влюблённых, где мы держим друг друга за руки, а на нас сверху смотрит беззаботное итальянское небо, щедро раздающее всем и каждому свой горячий свет, строго соблюдая все физические законы и не делая ни для кого никаких предпочтений. И вновь было всё по-прежнему на этой земле, и ни у кого на часах даже на мгновение не остановилась минутная стрелка.
Только мне никак не удавалось понять: как могла вместить небольшая площадь столько счастья, и почему на кучевом облаке над нами нет привычной игры света, а похоже оно, скорее, на дым от лесного костра?
Наверное, нас сложно было отличить от других влюблённых, разве что её глаза в отличие от остальных были голубого цвета, оставаясь пронзительными и ясными, такими, как холодное северное небо. Пожалуй, действительно, ничего не изменилось на нашей земле, разве что воздух вдруг наполнился ароматом морозной свежести и повсюду чувствовался этот необычный запах русской зимы.
Я зачем-то оглянулся назад и отчего-то больше не увидел белого собора с огромной шестиконечной звездой. На его месте простирался далёкий балтийский горизонт с доками и многоэтажками, который с моего высокого питерского этажа бывает удивительно похож на просыпанную морскую соль.
Конец года
Когда на часах года без пяти двенадцать, даже самые заурядные вещи приобретают волнующий блеск ёлочной мишуры и душа привычно замирает в предвкушении праздника. И действительно: вокруг совсем не остаётся чего-то обыкновенного и узнаваемого. Преображаются деревья, запутываясь заиндевелыми ветвями в мерцающих гирляндах, дома соревнуются в новогоднем убранстве витрин и окон, вонзая в тёмное небо светящиеся короны из четырёхзначных цифр, а мосты, решётки и фонари ярко сияют электрическими узорами и красочными щитами, за которыми становится неуловимым их утилитарное предназначение. В это время мы не ждём никаких событий, не отвлекаемся на бессмысленную суету, а всецело попадаем под влияние чего-то внешнего, торжественного, отмеченного ликующим мишурным блеском и мерцающим узорчатым кружевом разноцветных праздничных огоньков. Хотя праздник собственно уже начался. И тут дело даже не в извечном мотиве предвосхищения новизны и осязаемости желаний, а в том чудесном преображении, когда душа, обращённая к будущему, являет своё подлинное обличье, поскольку в будущем неразличимы ни пустые хлопоты, ни заботы повседневности, ни тяготы преодолений.
В этой предновогодней феерии не существует ничего неисполнимого. Чуть отклонившаяся влево от цифры двенадцать минутная стрелка обещает столько счастья и радости в предстоящем году, что поневоле начинаешь верить в ведомое за ней вслед будущее, в то, что оно и впрямь не обманет, не разочарует, не подведёт. И кажется, что нет и не может быть ничего, что помешало бы исполниться тому, что пророчит торжествующий город в лучистых одеждах, величественная река, наполненная светом просыпавшихся в неё огней, медленный снег, пропитанный радугами фейерверков и сиянием праздничных гирлянд.
Некоторые утверждают, что радостью невозможно поделиться. Возможно, это и так, особенно тогда, когда ты не готов оказаться во власти чужого праздника. Но сейчас, в эти последние минуты года ничто не мешает ощутить предстоящий праздник как своё личное торжество. Особенно, когда к тебе на рукав опустится маленькая гостья с небес – ажурная снежинка, тлеющая беглым многоцветием городских огней. Она, аккумулируя в себе всё блуждающее уличное электричество, не только являет свидетельство Абсолюта – безупречную правильность форм и пропорций, но и успевает поделиться с тобой чем-то особенным, что навсегда останется неизречённым, непереводимым в слово.
Да этого, собственно, и не нужно. Просто кажется удивительным что душа, наполняясь упавшей с небес радостью, умноженной светом притихшего города, оказывается столь чувствительной к таким невольным и невинным мелочам. А может, это и не мелочи вовсе. Пожалуй, что именно так в нашу жизнь и вторгается счастье, напоминая случайными вещами о своём незримом присутствии, уверяя, что оно здесь, рядом, совсем близко, стоит только чуть качнуться часовому механизму, направляющему хрупкую минутную стрелку к будущему.
Фаблио
Ледники
Очень редко поднимаясь выше своего четырнадцатого этажа, мне сложно было предположить, что высоко в горах ледники имеют острый запах гиацинта и одеты в жёлтую блестящую ткань. Я обнаружил это сразу, стоило мне только ступить на их скользкий край, оплавленный снизу влажным дыханием земли. Там, на рубеже альпийских лугов и вечного льда, берут начало все шумные водопады и стремительные горные ручьи, и оттуда же восходит к небу снежный, безмолвный и неподвижный мир. Там так много света и так мало воздуха, что сразу же начинают болеть глаза и кружиться голова от недостатка кислорода. Горящие на солнце грозным холодным пламенем горные вечные льды и снега, словно нефритовые купола, величественно шествуют над неразличимыми равнинами, избирая себе в попутчики лишь облака и звёзды. Однако издали они кажутся ещё значительней, ещё неприступнее. Только ледники обманчивы, и их царство – это царство гибельных миражей. Стоит немного забыться, расслабиться и вот ты уже в плену у иллюзии, порождённой снежной слепотой, в которой сольются в близорукую бликующую мглу и дремотные скалы, и оцепенелые ущелья. Здесь – везде опасность и всюду – неизвестность, но только мы, населяющие равнинные города, живём бесконечно далеко от этого горнего царства и вполне можем существовать независимо от него.
«А мы растопим вечный лёд горных вершин», – услышал я как-то молодые голоса и увидел, как ловкие руки раздают внимающим факела, спички и бенгальские огни.
«Долой вечные снега! Да здравствуют бурные весёлые потоки», – не унимались энтузиасты, взрывая своими криками застоявшийся воздух низин. У них горели глаза и пламенели сердца. И всем тогда казалось, что этот живой огонь даже ярче того отражённого солнечного света, что горит там, наверху, в вечных высокогорных льдах. Возможно, кто-то из них и ушёл в горы.
Трудно сказать, что с ними сталось. Только не думаю, что ими до сих пор движет желание растопить вечный лёд. Возможно, они смирились с непреложным законом природы, что вверху – лёд и сияние, а внизу, под сенью высоких гор, торжествует и буйствует жизнь. А может быть, настигнутые снежной слепотой, они до сих пор бродят по белым снегам, всматриваясь в бесцветные ледяные миражи. Впрочем, за ними нет никакой вины, поскольку очень сложно понять, к чему ты призван, и что ты в состоянии изменить. И зачем этот большой и удивительный мир, с ослепительными вершинами и туманными равнинами. Тем более что он, этот мир, сам тоже не знает: зачем и почему был создан и возможны ли в нём перемены, ведущие к его совершенству.
К Востоку
Ему было всё равно куда идти. Запад растекался оранжевой слизью провалившегося в него солнца, отдавая Востоку всю непроглядную черноту неразличимого неба. Он пошёл на Восток, несмотря на зловещие тени, расстилающиеся у него под ногами словно тяжёлые персидские ковры. Он шёл на Восток, однако всё время нервно оглядывался назад, на Запад, где гибельно вздрагивала бесформенная остывающая земля.
«Куда Ты идёшь, Господи!» – снова невольно шептали его губы, только теперь он никого не встречал на своём пути. Бессмысленной гулкой пустотой дрожало всё бескрайнее холодное пространство, чреватое бессмертием от севера до юга. Было тихо и дико, и от всего исходил сладковатый аромат вечности. «Возможно, так вот и воплощается карающий гнев Его», – тлела где-то в глубине души упрямая мысль, а гордая и причудливая вязь теней всё чертила и чертила перед ним какие-то странные знаки, похожие на буквы.
«Я езмь альфа и омега», – читались узорные тени в некотором предстоянии, там, где стороны горизонта уже не имели значения.
Косой дождь
Он не мог смотреть на землю иначе, нежели свысока. Однако земля всегда хотела и ждала дождя, чего нельзя было сказать о людях, брезгливо отгораживающихся от него крышами и зонтами.
Дождь знал об этом и норовил ударить сбоку так, чтобы сделать бессмысленными любые их нелепые уловки, все их хлипкие зонтики и навесы.
Обычно он с размаху, безрассудно наваливался на город своим прозрачным телом, заставляя город звенеть, трепетать и дрожать под тонкими, почти неразличимыми струями. Он бесцеремонно раздвигал ставни и врывался в форточки, распахивал плащи и срывал шляпы.
Люди прятались от него, скапливались под карнизами и балконами, но дождь настигал их и там, тщательно вымачивая одежду, дабы не оставлять им ни единой сухой нитки. При этом дождь шумел, что-то шептал, горланил в жестяные трубы и диктовал в водотоки.
Люди отворачивались, прятали уши под воротники и не желали ничего слушать.
Только влюблённых радовал его сбивчивый речитатив. Они тянули свои руки к нему навстречу и следили, как косые струи рассыпаются в ладонях алмазными искрами точно бенгальские огни.
Влюблённым нравился дождь и дождь отвечал им взаимностью, отражая в своих многочисленных зеркалах прекрасные и счастливые лица влюблённых, поскольку верил, что будет жить в них светлым воспоминанием вплоть до той самой поры, пока их души не оставит любовь. Оттого он всегда желал им вечной любви.
Пустота
Ребёнок вышел из дома и осмотрелся по сторонам. Людей вокруг него было совсем немного: двое ребят постарше стояли около соседнего подъезда и ещё несколько детей копошились на маленьком пятачке между прачечной и автомобильной стоянкой. Улица привычно шумела, мигала огнями светофоров, пестрела вывесками и рекламой, только людей он так больше и не увидел, если, конечно, не считать двух девочек, быстро пробежавших мимо.
Юноша стоял у городского фонтана и искал глазами её. Он уже целый час ходил взад-вперёд, только она так и не появлялась.
Город казался пустым, несмотря на все старания выглядеть иначе: вращаясь вокруг юноши грузным каменным телом, он издавал различные шорохи и звуки похожие на велеречивый гомон толпы и назойливое жужжание автомобилей. Но юноша был в состоянии заметить только её, лишь её он сумел бы окликнуть и пойти к ней навстречу. Всё остальное для него не имело ни имён, ни примет, ни значений.
Мужчина внимательно смотрел в пустоту, пытаясь разглядеть в мерцающей случайными фантомами тьме что-то близкое и понятное себе. Но тьма только путала и обманывала зрение, подбрасывая ему слегка подсвеченные иллюзии, похожие на друзей, любимых, единомышленников и попутчиков. И всякий раз, окликая очередной фантом, его голос безнадёжно терялся в вязкой пустоте, не позволяющей отозваться даже слабым отвлечённым эхом.
«Какой странный мир, – изумлялся мужчина, – неужели в нём нет никого, кому можно было бы протянут 15 руку без опасения ощутить в ладони вместо рукопожатия сквозную пустоту?»
Старик подслеповато смотрел из окна. Тротуар был заполнен прохожими. Люди всё шли и шли, сменяя друг друга и исчезая в полуденной дымке квартала. Он почти каждому прохожему приписывал и имя, и судьбу, и характер, но никого из них не мог ни окликнуть, ни остановить. А старика не замечал никто, несмотря на то, что он находился почти на уровне идущих мимо людей, от которых его отделяло только мутноватое оконное стекло. Никто так и не обратил внимания на сидящего одинокого человека, если, конечно, не считать двух пожилых женщин, прошедших мимо и зачем-то заглянувших в окно первого этажа.
Неугомонный Бранно
Ничто так не удивляло Брайко как его способность мыслить и проникать своим сознанием в самые непостижимые сферы бытия. При этом он вполне допускал, что тем же самым могли отличаться и иные люди, даже те, с которыми ему доводилось общаться, и на фоне которых протекала его странная жизнь, полная чудесных озарений и дерзновенного поиска. Однако это обстоятельство никак не принижало ценности и исключительности присущего ему свойства, а напротив, ещё более изумляло и впечатляло его.
Нехитрая цепочка рассуждений приводила Брайко к однозначному выводу, что его способность мыслить – явление совершенно уникальное, ставшее возможным вследствие невероятной череды случайностей, некоего рокового упущения, в результате которого и возникла разумная жизнь, породившая в свою очередь Бранко и ему подобных.
Невозможно даже перечислить всего многообразия тем и сюжетов, которых касались мысли и воображение неугомонного Бранко. Стоило ему немного отвлечься от навязчивой повседневной суеты, как перед его глазами тут же вырастали диковинные рыбы, светящиеся радугами звери, затейливые дерева, несущие на своих кронах прозрачное улыбающееся небо… И вот какая выходила странность: он сразу же вплетался в явленные своей фантазией невероятные события, изменяя их геометрию, с лёгкостью смещая координаты, отменяя то, что должно было произойти, пропуская вперёд иное, что, по мнению Бранко, более заслуживало воплощения.
Нет, в этом мире решительно ничего было невозможно сделать без Бранко, и он самонадеянно утверждался в собственном могуществе, когда видел, как по его произволу длиннохвостые кометы перечёркивают рыхлый от света и космической пыли горизонт, как лопаются звёзды, заполняя собой сжимающееся пространство, и как злобно роятся чёрные дыры, уничтожая материю и обрывая время.
Только не стоит думать, что это и так бы совершалось само собой, и участие Бранко во всём происходящем сводилось лишь к роли пассивного наблюдателя. Тут дело было в сложных причинно-следственных связях, в которых незримо присутствовали человеческий разум и воля Бранко, разве что убедительно обосновать такое предположение Бранко пока не мог. Тем более что окружающий его мир не всегда желал делиться своими тайнами, напротив, пребывая в постоянном движении и пользуясь замешательством или бездействием Бранко, он тут же менял свои обличив и размеры, открывая для Бранко пугающие границы соприкосновения с непознанным. В результате путались порядки, торжествовал хаос и множились неопределённости, события меняли знаки и представали в совершенно противоположном качестве, планы укрупнялись и смешивались, отменяя прежние закономерности и принципы взаимодействия. Такое повторялось раз за разом, стоило Бранко слегка ослабить своё привычное дерзновение мыслить, воспроизводить в своём сознании невидимые контуры вселенных и создавать в воображении свои собственные разбегающиеся миры.
Брайко понимал, что доставшийся ему дар уравнивает его в правах и возможностях с величественными стихиями, изначально противостоящих любому соперничеству, всякой независимой мысли и свободной воле. Однако Брайко видел и иную, обратную сторону сознания и не спешил списывать на противодействие неумолимых стихий бессмыслицу и скуку человеческого бытия. Конечно, ему было дико и больно смотреть, как люди, наделённые бесценной способностью мыслить, растрачивают свою жизнь на всякие нелепости и пустяки. Но он также не мог и не признавать того непреложного факта, что человеку свойственно дорожить только приобретённым и не дано ценить и беречь то, что достаётся ему, человеку, даром, естественно, просто по праву рождения.
Только даже не это обескураживало и удручало Брайко, а какая-то недужная, нелепая и странная слепота, поразившая его невольных сводных братьев по разуму. Ведь можно сколь угодно легкомысленно относиться к своему богатству, но ведь нельзя же его вовсе не замечать. Не осознавать, что всякий миг человеческой жизни, в каком бы качестве она в данный момент не представала, может легко вместить в себя весь видимый, убегающий в бесконечность, космос и всю внутреннюю вселенную с её сложной географией гармонии и красоты. А также вместить в себя все бесчисленные неведомые миры, ищущие счастливую возможность обрести себя в чьём-нибудь сознании, благодаря удивительному человеческому дару воспринимать и мыслить.
Дети
На площадке непрерывно прыгали, галдели и резвились дети. Здесь были и большие, и маленькие: почти младенцы, с кожей гладкой как отутюженный шёлк и совсем пожилые дети с морщинистыми лицами похожими на печёное яблоко.
Дети что-то непрестанно требовали, горланили, старались перекричать друг дружку и на всей площадке не прекращалась вязкая и бестолковая возня.
Я стоял среди беззаботной гомонящей толчеи и не понимал – как мне обуздать эту детскую стихию и заставить себя слушать. Однако, несмотря на то, что я был единственным кто стоял тихо и неподвижно, дети всё равно, видимо, принимали меня за своего. Они тянули в разные стороны полы моей одежды, капризничали, стремясь привлечь к себе моё внимание, что-то лепетали и метко плевались жёваной бумагой. Один бородатый ребёнок так разошёлся, читая мне глупые куплетики собственного сочинения, что совсем не заметил, как подошло то время, когда ему нисколько не помешало бы переменить подгузники.
Даже если бы я принялся истошно орать и был бы услышан, мне всё равно не представилось бы никакого шанса получить от детской бурлящей массы вразумительный ответ и дождаться верного понимания своих слов. Тогда как Временной Гуманитарной Группой мне было поручено немедленно объявить о ликвидации площадки и введении жёсткого ценза на детство с последующим его полным упразднением и поголовным переходом во взрослое осмысленное состояние.
Но детская площадка не умолкала ни на секунду, не давая мне возможности произнести сбившейся в кучу ребятне судьбоносный эдикт. Хотя что-то подсказывало, что сама природа, с несвойственной ей детской непосредственностью, уже позаботилась о неукоснительном соблюдении данного предписания, поняв и воплотив его по-своему, лукаво отнимая у взрослых чувство ответственности и наличие у последних какой бы то ни было предусмотрительности.
Я осознал это, когда увидел, как члены Временной Гуманитарной Группы по очереди взбирались на металлическую ферму игровой площадки в надежде просунуть голову в обруч баскетбольного кольца.
«Слабаки!» – подумалось мне. И я весело припустил к ним, всего лишь за два прыжка преодолев трехсекундную зону.
«Во как надо!» – завопил я, просовывая голову в корзину. Мне отчего-то совершенно не было стыдно от такой дерзкой проделки, напротив, от допущенной шалости повеяло давно забытой бодростью и ребяческим задором.
«Хорошо-то как!» – поведал я ничего не понимающей толпе несмышлёнышей, ощущая в себе такую же как и у них младенческую резвость и необъяснимую лёгкость как в голове, так и во всём своём теле.
Первая книжка диктатора
Плоское веснушчатое лицо диктатора победно лучилось довольством и умиротворением. И надо сказать, что повод тому был. Мимо него шагали праздничные колонны людей, которые шумно приветствовали своего вождя. Они несли его парадные портреты и дружно скандировали его имя. А он от удовольствия слегка щурил глаза и старался изо всех сил держаться прямо, чтобы его кудрявая рыжая голова торжественно смотрелась на ярко-лазоревом фоне весеннего неба. Рыжий триумфатор небрежно махал шествующим согнутой ладонью, только полностью ощутить величие момента у него всё-таки не получалось. Мешало какое-то дрянное наваждение, впрочем, не наваждение даже, а так, совершенно нелепое и неуместное здесь воспоминание, воспоминание из далёкого детства, не несущее в себе ничего такого, ради чего его стоило бы сохранять в себе столь длительное время. Тем не менее, оно никуда не исчезало, а напротив, память вновь и вновь возвращала своего владельца в уже несуществующую маленькую комнатку, где на дощатом полу возвышался фанерный ящик со всяким хламом, среди которого находилась единственная в доме книжка со странным забытым названием. Её страницы имели горьковатый запах миндаля и на ощупь напоминали сухую штукатурку наружных стен.
Он помнил её зелёную обложку и мелкий серебристый орнамент вокруг призабытого названия, только не знал ни о чём эта книга, ни кто её написал, ни, тем более, как она оказалась в фанерной коробке на дощатом полу. Будущий диктатор так и не нашёл времени её прочесть, хотя, впрочем, он по-своему любил книги, прежде всего за стройность их буквенных рядов, строгий порядок построения страниц и за неукоснительное соблюдение предписанных свыше правил синтаксиса и орфографии.
Шествующие правильными колоннами буквы ему нравились даже больше, нежели сменяющие друг друга праздничные людские колонны. В буквенных рядах он ощущал больше преданности и силы и полагал, что они имеют куда как более значительный потенциал служения. Одного лишь опасался думающий диктатор. А вдруг вся эта неодолимая мощь из гласных и согласных обернётся против него и будет противопоставлена его власти, ведь он так и не удосужился заручиться её расположением и лояльностью.
Ему, действительно, некогда было читать. Путь диктатора к сегодняшнему триумфу был непрост, рискован и непредсказуем и никоим образом не соответствовал тому порядку и предписанным свыше законам, соблюдения которых он жёстко требовал от подвластного ему народа.
А народ его, хоть и вышагивал внизу тёмными шеренгами, но всё равно уступал в строгости построений буквенным рядам.
«Отчего они такие разные, – думал диктатор, – должен же быть какой-то частный порядок, подобный правилам синтаксиса и орфографии, который возможно было бы употребить для приведения разрозненной толпы к общему, тотальному порядку? А то здесь всякий норовит сбить строй, взять не ту ногу или чем-нибудь отвлечься, тем самым разорвав согласное движение! Чего только стоит вот этот, седой, в конце колонны!» Взгляд диктатора впился в пожилого демонстранта, и это созерцание не принесло триумфатору никакой радости. Более того, седой человек, с лукавой улыбкой машущий диктатору полусогнутой ладонью, рисковал испортить праздник не хуже навязчивого воспоминания.
«Дерзкий старик»! – негодовал диктатор, хотя не было ничего дерзкого в старческой фигуре, сутулой и неторопливой.
А дерзость могла разве что заключаться в том, что оба они думали об одном и том же, поскольку старик зачем-то вспомнил про свою, написанную ещё в юности, книгу с замысловатым названием, которое отчего-то напрочь позабыл диктатор. Там, под зелёной обложкой, украшенной мелким серебристым орнаментом было написано, что не может быть никакого порядка в стране, где не читают книг, и не может быть в такой стране ни частного порядка, ни порядка общего, ни внутреннего, ни внешнего.
Молчание Агнца
Чем больше их становилось, тем теснее они обступали Агнца с надеждою быть услышанными. Но Агнец молчал, и было неизвестно – в состоянии ли Он отвечать на вопросы и просьбы, обращённые к Нему. Многоголосый шум не смолкал ни на секунду, и там слышны были не только человеческие голоса, но и клёкот птиц, рычание зверей и жужжание насекомых. В тесноте предстоящие теряли свои крошечные тела и обретали новые, только это никак не влияло на гул и роптание вокруг Агнца, напротив, ропот усиливался и уже достигал внешней оболочки, за которой Агнец не имел никакой силы.
Только не надо думать, что все вокруг исключительно полагались на Агнца и непременно ждали от Него каких-то слов. Некоторые догадывались, что не нужны им никакие слова, ибо Слова в них и так больше, нежели вещества, и вряд ли Агнец уполномочен остановить время, текущее через их жизни и неспособное течь как-нибудь иначе.
Впрочем, молчание Агнца всё равно невозможно было объяснить, ибо кому, как не Ему доподлинно известно, что не могут задавать ненужных вопросов предстоящие, те, кого нельзя считать ни живыми, ни мёртвыми, и кто не способен победить лежащего внутри них Слова.
Правда, в последнем Агнец был не вполне уверен и мог представить растекающиеся по земле благолепие и мир, когда народы бы забывали вражду, люди теряли ненависть и злобу, когда хищники резвились бы вместе со своими возможными жертвами, а стада оставили бы в покое побеги и травы.
Но такое нарушило бы естественный временной ход и Агнец снова и снова вглядывался в предстоящих, дабы не пропустить никакого события, способного прервать пульсирующий ток времени.
Эра одуванчиков
Душан с удивлением смотрел на летающие параипотики одуванчиков, смотрел так, словно раньше их никогда не видел. А те поднимались с зелёных дорожных обочин, узких газонов, взлетали из-за заборов и городских оград, либо вообще появлялись неизвестно откуда.
Воздух кишел их неисчислимым количеством, напоминая Дут на ну медленный снегопад. Парашютики маневрировали, кружились, устремлялись вверх, но было в этом разнонаправленном движении что-то обречённое, и это чувство возникало, скорее всего, из-за того, что весь тротуар и вся утоптанная земля оказывались устланными белой пушистой ватой, которая многими тысячами подошв сбивалась в грязный хрустящий наст.
Непонятно почему, но Душан в этой белой мистерии видел гораздо большее, нежели просто очередное торжество Флоры, приходящееся на конец июня. Перед его взором проплывало бесконечное множество знакомых и незнакомых лиц, воплотившихся в живые волокнистые летающие шары и заполонивших всё окружающее пространство.
Они нежились в сияющем горячем солнце, красовались друг перед другом своими тонкими невесомыми оболочками и, вздрагивая от частых соприкосновений, разносились конвекционными потоками воздуха в разные стороны. Там же, среди плывущих над землёю лиц, Душан без всякого удовольствия узнал и себя, особенно обратив внимание на то обстоятельство, что он ничем не отличался от прочих участников хаотического парения и был подвержен тем же случайностям и обстоятельствам среды, что и остальные.
«Куда же нас так много и в чём наше предназначение и смысл?» – вопрошал Душан, наблюдая как незадачливые парашютисты превращаются из множества хрупких мятущихся сфер в грязный, спрессованный подошвами наст.
«Неужели такой восхитительный праздник броунова движения не может иметь иного логического завершения? И отчего так губительно возвращение к породившей весь этот животрепещущий белый фейерверк земле?» – размышлял Душан, никак не желающий признавать фундаментальные законы бытия. – «И что изменится, если мы не будем так бездумно беспечны или нас станет в миллионы раз меньше?»
Душан вдруг представил как в голубом просторе, подобно маленьким светилам, восходят от земли десятки безупречных сфер, рассыпая вокруг себя яркие блистающие лучи и гибкие полупрозрачные радуги. А земля даже не пыталась вернуть утраченного, напротив, возгоняя атмосферные токи от раскалённого дневным зноем бетона, пыталась поднимать их всё выше и выше, туда, где кончалась бледная голубоватая дымка и начиналась алмазная небесная твердь.
Вспомнив про многочисленное количество реальных участников белого праздника, Душан предположил, что, пожалуй, некоторым счастливчикам всё же удаётся преодолевать силу земного притяжения и, взлетая за края стратосферы, превращаться в мигающие комочки белых неодолимых звёзд. Но Душана отчего-то смущала сама простота и случайность такой блистательной метаморфозы. И ему неожиданно подумалось, что грязный спрессованный наст – это вовсе не жестокая треба злокозненной земли, а прихоть капризного неба, не желающего принимать очаровательных созданий своей соперницы – голубой планеты. Внезапно прямо перед Душаном проплыли две пушистые сферы, ничуть не уступающие друг другу в совершенстве формы, только никак не желающие уступить друг дружке дорогу. Душану стало неловко даже не столько за них, сколько за всех соперничающих и непримиримых, прежде всего за высокое небо и землю, отвергавших по недоразумению такой удивительный, белый и неповторимый мир. А Душан никак не мог налюбоваться его изысканной красотой и грязный, спрессованный подошвами, наст уже не вызывал у него прежнего отторжения и горького чувства подавленности и обречённости.
Незаметно подошёл вечер. Из-за наступившей темноты Душан больше не мог видеть летающие белые шары. Он смотрел в тёмное небо и видел там, на тяжёлой алмазной тверди, спрессованный колоссальным давлением звёздный наст, тлеющий горячим белым пламенем далёкой Земли.
Счастливчик
«Крестись, Рим, крестись, ты беспричинно затрагиваешь меня и давишь.
Так из-за твоих жестов и придет к тебе внезапно счастье».
Латинский палиндром на древней чаше, приписываемый дьяволуХотел того Милош или нет, только счастье ни на минуту не покидало его. Нигде он не мог укрыться от расположения улыбчивой Фортуны, спрятаться от восторженных, сулящих любовь, взглядов незнакомок или найти тень от пронизывающих лучей славы, бегущей за ним повсюду. Даже ночью пролетающие звёзды норовили скатиться в ладони к Милошу, на время вырывая его из объятий пленительных снов, насквозь пропитанных счастьем. Люди тянулись к нему, нисколько не опасаясь обжечься такой особенной жизнью и не боясь находиться рядом с тем, к кому утекает вся удача, не замечающая более никого вокруг. Нельзя сказать, что Милош не хотел делиться отпущенным ему счастьем, но оказавшись в чужих руках оно становилось тяжёлым, текучим и ядовитым, как ртуть.
Никто из его друзей не мог удержать у себя ни единой, даже самой маленькой крупицы счастья, за которое просто было невозможно зацепиться и оно вновь, собираясь в большие пульсирующие шары, возвращалось к тому, для кого и предназначалось.
Все девушки любовались Милошем-счастливчиком и стремились подойти к его счастью как можно ближе.
Счастье чувствовало это, вскипало и его ядовитые пары неотвратимо губили неосторожных.
Искатели славы тоже преследовали счастливчика. Но лучи славы, предназначенные Милошу, не освещали незадачливых искателей красивым золотистым сиянием, а слепили их своим жёстким и невыносимым блеском.
Милош был исключительно одинок в своей избранности и совсем не чувствовал времени, ибо ощущать время способен лишь тот, кто может эмоционально различать происходящие события. А у Милоша не происходило ничего, кроме ровного и непрекращающегося счастья.
Он так и не сумел узнать и понять людей, так как не в состоянии понять другого тот, кто не испытал чужого страдания и боли. И тем паче ему не было дано проникнуть в тайны неба и земли и постичь смысл и ценности этого мира, поскольку во всём окружающем он находил лишь различные поводы для счастья.
Он брёл, нестареющий, бесчувственный, несопричастный ничему по неменяющемуся миру, миру, лишённому заботы и тени, не знающему утрат и сожалений. А сбоку и сзади стояли восхищённые люди восторженно приветствовавшие счастливца идущего в Никуда, поскольку только такое слово и может быть надёжным синонимом бесконечного счастья.
Денежное дерево
Златан даже не предполагал, что подаренное ему «денежное дерево» сможет так изменить его жизнь и его самого. В этом растении с круглыми толстыми листочками Златан прежде всего видел свой финансовый оберег и счёл подарок коллег на своё очередное повышение более чем уместным. Кроме того, Златану очень нравилась уверенная упрямая сила «денежного дерева», не устремляющая растение куда-то неудержимо вверх, а заставляющая его последовательно и неторопливо выбрасывать во все стороны свои мясистые лапки, густо усеянные весомыми кругляшками.
Всё изменилось тогда, когда Златан переставил своё дерево к окну, выходящему на восток. Там, в этом окне по вечерам, Златан обычно наблюдал торжественный восход Луны, когда её огромный серебряный диск вываливался из-за городского горизонта, направляя свои сияющие лучи прямо в квартиру Златана. Тогда все домашние предметы обретали драгоценный металлический блеск, превращаясь из пыльных неуклюжих вещей в изысканные произведения искусного ювелира. Правда, такое длилось недолго: Луна, цепляясь за звёзды, уходила всё выше и выше, и вскоре всё комнатное убранство вновь обретало свою привычную и заурядную суть.
Однажды утром Златан обнаружил своё дерево сплошь увешенным блестящими серебряными монетами. Монетки были непонятного достоинства и надписями на незнакомом языке. Лицевую сторону монет украшало изображение денежного дерева, а на обратной стороне красовался полный диск Луны, встающей над городом с остроконечными башенками. Златан собрал монеты в полиэтиленовый пакет и спрятал в нижний ящик комода.
Но такое стало повторяться: Златан вечером ложился спать, а утро встречало его обильным урожаем новеньких лунных денег. Монеты становились всё полновеснее и среди россыпей серебра нет-нет, да и проблёскивало жёлтым рассветным лучом золото.
Вскоре монет стало столько, что их больше некуда было класть.
Теперь Златан отдельно собирал золотые монеты, заполняя ими ящики шкафов, полости столов и иные свободные пространства и промежутки, способные хоть что-нибудь вместить. А серебро Златан ссыпал в огромные дерматиновые чехлы для одежды, которыми он заставил всю прихожую и коридор.
Что делать со своими несметными сокровищами Златан не знал. На эти монеты нельзя было ничего ни купить, ни выменять, да и просто показать кому-либо было делом совсем небезопасным.
Златан с большим удовольствием отдал бы всё своё богатство за обычные медяки, имеющие хождение. Он ощущал себя не столько владельцем несметного состояния, сколько попросту его свидетелем. Кроме того сокровища стали мешать Златану. Теперь он уже не мог припомнить: какие всё-таки листья прежде были на «денежном деревце». Его воображение неизменно рисовало лишь блестящие кроны из драгоценных монет, плотно упирающихся в друг друга. А Златан не желал больше этих денег, не надо ему было никакого серебра и никакого золота.
Что-то подсказывало ему переставить цветок к западному окну. Златан так и сделал. Там, в лучах заходящего солнца, он смог хорошо разглядеть плотный слоистый стебель растения, его бархатистые крахмальные листья, иногда круглые, но чаще немножко продолговатые, хранящие в себе густой тёмно-зелёный сок.
Златан от восхищения увиденным даже прислушался к его чуть различимому медленному пульсу и не услышал на этот раз никаких высоких токов вызревающего серебра. Это было обыкновенное живое растение, даже не финансовый оберег, а просто скромный комнатный цветок, знак расположения его сотрудников и коллег. Неожиданно Златану стало так легко и свободно, словно с его плеч свалился гнетущий многопудовый груз. Он подошёл к ящику стола и открыл его. Вместо лунных золотых монет в нём лежали слегка пожелтевшие листья «денежного дерева», в тонких морщинках увядания, но всё ещё хранящие в себе густой неподвижный сок, придававший им некоторую упругость и застывший чёрными коростами на сломанных краях круглых листочков, так удивительно похожих на деньги.
Такая короткая длинная чистая жизнь
Обычно Марек выбирал пологие склоны и неизменно обходил стороной скалы. И на этот раз он делал всё то же самое, разве что зря доверился руслу высохшего ручья, которое незаметно привело его в скалистый каньон, похожий на продолговатую каменную воронку.
Вернуться было бы равносильно потере целого дня пути и Марек начал осторожно карабкаться по слоистым плитам гранита.
Вскоре перед ним оказалась небольшая площадка, где можно было немного перевести дух и собраться с мыслями.
Марек сел на камень и начал изучать различные пути подъёма наверх. Вокруг были такие же слоистые гранитные плиты, и только в центре каменной воронки каньона выдавалась вперёд треугольная гравиевая сель. То, чем она заканчивалась, сильно озадачило Марека. Над селью возвышалась не вполне скала, а скорее что-то искусственное, рукотворное, похожее на кое-как сложенное из крупных камней сооружение, напоминающее небольшую пирамидку из которой по всем её плоскостям торчала разного рода рухлядь: тряпки, картонки, педали от старого пианино, ржавая посуда, руль от детского велосипеда…
Перспектива взбираться по заброшенной свалке нравилась Мареку ещё меньше, нежели необходимость предпринять сложное горное восхождение. Но скрипы и стуки со стороны предполагаемой свалки побудили в нём нешуточное любопытство, которое и оказалось сильнее любых прочих доводов и резонов. Марек пошёл по сели, навстречу странному сооружению, откуда доносились необъяснимые звуки. Он всё шёл и шёл по вязкому гравию, но ни на шаг не мог приблизиться к пирамидке. Да и селевой гравий здесь был какой-то необычный: мелкий, однородный, будто бы подобранный специально.
Марек попробовал ускорить свои шаги, только и это оказалось бесполезным. Тогда он просто остановился и сразу же почувствовал как его плавно начало сносить вниз словно течением. Похоже, что гравий сочился сквозь основание пирамидки и сам гравиевый селевой склон представлял собой ничто иное как гигантские песочные часы. Марека вначале развеселило такое сравнение, но чем больше он изучал пространство вокруг себя, тем больше убеждался в правоте первоначальной догадки. Позади, вперемежку с гравием, валялись разного рода предметы, о которых Марек хорошо помнил: трудно было с чем-то спутать его детские игрушки, старую дорожную сумку или короткий спиннинг, который он выбросил перед этой поездкой в горы. И как можно было бы не признать оплавившийся с боков пластиковый торшер с оторванной ручкой и статуэтку какого-то путешественника, которую он очень долго терпел на своём серванте. Впрочем, любая валяющаяся на гравиевой сели вещь, если к ней повнимательнее присмотреться, вся эта старая обувь, журналы, записные книжки, ручки, вилки, разбросанные тут и там, ранее принадлежали одному хозяину, а именно ему, Мареку. Он до конца в это не верил, пока среди всего этого разношёрстного хлама не обнаружил ископаемой стеклянной колбы, которую Марек особенно ценил за осевшие на её поверхности яркие радуги времени. Он всегда показывал её гостям, уверяя, что именно этой колбой пользовались средневековые алхимики в своих опытах по превращению ртути в золото.
Когда Марек понял, что выбраться из этой паутины времени будет не таким уж простым делом, он начал изучать свойства необычной сели. Оказалось, что по ней совершенно невозможно идти назад, что при остановке она становится похожей на зыбучие пески и что в какой-то степени она подчиняется установкам воли, позволяя преодолевать себя непоколебимым стремлениям или настойчивому натиску воображения. Последним Марек и решил воспользоваться.
Он представил себя невесомо скользящим по гребню сели до тех пор, пока сама пирамида не ограничит его поступательное движение наверх. Нельзя сказать, что всё случилось именно так, как задумал Марек, но пирамидки он всё-таки достиг и уцепился за её шероховатый выступ.
Справа от пирамиды в углублении вращалось большое деревянное колесо, увешенное разным старьём, и внутри которого сидел человек, одетый в рваный потёртый пиджачок Марека, а также обмотанный его же ветхим мохеровым шарфом. Марек не сразу бы обратил внимание на свое внешнее сходство с затрапезным повелителем колеса, если бы не увидел на нём бейсболки со своим именем, вышитым на козырьке красным шёлком, которую он по рассеянности забыл накануне в отеле. Марек несколько раз окликнул незнакомца, но тот делал вид, что ничего не видит и не слышит, продолжая крутить какие-то трухлявые ручки, которые, очевидно, приводили в движение подгнившую внутриколёсную конструкцию, вращающуюся со страшным скрипом и издающую глухие хлопки при каждом повороте полуистлевших лопастей.
Марек принялся орать на своего одетого в рвань двойника, но тот по-прежнему на него никак не реагировал.
Мареку казалось, что его могли слышать даже там, внизу, в отеле у подножья, а не то что на расстоянии десятка шагов. Неожиданно Марек почувствовал, что незнакомец не только слышит, но и давно уже отвечает ему, только не голосом, а как-то иначе, не пренебрегая ни одним из заданных вопросов. Марек замер и прислушался.
– Уходи параллельно пирамиде, уходи скорее, – вращалась у него в голове короткая фраза незнакомца, словно его скрипучее трухлявое колесо.
– Уходи, – звенело даже не в ушах, а во всём его теле.
– Почему я не могу подняться вверх по пирамиде и поскорее выбраться из этого чёртова каньона?
– Потому что через неё проходит ось времени твоей жизни и благоразумнее не лезть туда, где ещё не сформировались события и не определился последовательный порядок вещей.
– По-моему так здесь нет никакого порядка вещей, и всё что тут сформировалось – это гигантских размеров свалка, из которой нет никакой возможности выбраться.
– Вот чудак! А на что по-твоему похожа твоя жизнь? Напряги память и включи голову! Тебя сюда совсем не звали, а выбраться отсюда можно только так, как я тебе сказал, говорю же: иди параллельно оси времени. А я немного приторможу твоё колесо.
Марек рванул вдоль, бешено перебирая ногами, включить голову по совету двойника-оборванца никак не получалось. К постоянно повторяемой речёвке: «Беги вдоль», примешивались какие-то непонятные голоса, обрывки фраз, шумы и скрипы трухлявой временной машины.
– Жизнь – помойка!
– Марек – рванина!
– Жизнь – помойка! – А Марек – рванина! – било даже не по барабанным перепонкам, а по всему телу, делая эту весьма небесспорную мысль простой и понятной. – Жизнь – помойка! Марек – рванина!
Неизвестно как Марек очутился в своём отеле. Подняться на второй этаж ему удалось с большим трудом. Он не мог понять: почему добраться до своего номера оказалось много сложнее, нежели преодолеть коварную сель. Кое-как он открыл дверь и дошёл до прикроватной тумбы, где лежала его оставленная бейсболка.
«Похоже, что этот головной убор мой оборванец носил не снимая целую жизнь», – подумал Марек, взглянув на то, что некогда было модным именным головным убором. Края бейсболки покрылись рыхлой грязевой бахромой, а на захватанном козырьке было невозможно прочитать его имени.
Это насторожило Марека и, кроме того, его сильно удивили свои руки – сухие, морщинистые, густо покрытые рыжей старческой сыпью. Марек подошёл к зеркалу и замер. Он знал, что когда-нибудь станет таким, но не предполагал, что это случится так скоро и при таких удивительных обстоятельствах.
– Я сделал что-то не так? – услышал он вдруг голос оборванца-двойника, не без горечи отметив, что этот голос мало изменился с возрастом.
Марек не хотел разговаривать с тем, кто так бесцеремонно украл у него жизнь. Теперь уже он не замечал его внимания и не желал отвечать даже мысленно.
– Марек, Марек, – шуршал голос, – ты же так не хотел, чтобы твоя жизнь была похожа на помойку. Вот я всё и устроил! Теперь твоя прошедшая жизнь чиста и безупречна как сон младенца.
– Слышишь, Марек! – Вещал голос, только Марек его уже не слышал.
– Эх, Марек, – всхлипнул голос и тоже замолчал навсегда.
Дар
Вацек плохо понимал людей, хотя не было никого, кто бы лучше знал человеческую природу, ибо без всякого труда и на любом расстоянии мог внимать любому человеческому общению, слышать все разговоры и читать мысли. Да если бы только слышать! Он, порою, эти мысли мог видеть, они стояли у него перед глазами словно реальные события и оттого ему приходилось поневоле проживать ещё многие сотни жизней, заодно с окружающими его людьми.
Тем не менее, он всё равно не понимал людей: отчего они почти никогда не используют то, чем так щедро наделила их природа, разменивая свою жизнь на всяческие пустяки.
Вацека считали человеком необщительным, хотя, впрочем, иначе и быть не могло – любой на его месте вёл бы себя точно так же, учитывая то, что его собеседниками ежедневно были даже не люди, а их судьбы.
Так Вацек и жил – тихо и незаметно, ничем не выказывая свой дар, хотя его сердце колотилось в сотни раз чаще, отзываясь на всякую невольно встреченную боль и радость других людей.
И вдруг его дар пропал. Может быть по какой-то неведомой тому причине, а может и без причины вовсе: исчез и всё. Для Вацека случившееся было равносильно освобождению: наконец-то он стал таким же как все, обычным человеком, без разного рода странностей.
Он никак не мог нарадоваться этим своим новым обретением, теперь он мог быть просто самим собой, ходить, где вздумается, читать, фантазировать, иметь, наконец, свои, приватные мысли. Никто и никогда не видел Вацека таким счастливым и беззаботным. Он безраздельно наслаждался своей неожиданной свободой, пока любопытства ради не поднялся на колокольню древнего собора, где и вновь услышал чьи-то голоса. «Вот беда!» – шептал раздосадованный Вацек, проклиная свой удивительный дар. Но только это было ещё не всё. К нему вернулось и его духовное зрение. Там, внизу, где по всем законам должен был развернуться своими крышами, трубами и площадями город, словно бескрайнее море волновалась колония громадных грибов на тонких фиолетовых ножках. Зрелище было воистину фантастическим, да и те, что переговаривались меж собой, изъяснялись тоже как-то странно, необычно, не как люди.
Вацек пошёл по лестнице вниз и, пройдя два лестничных марша, обнаружил, что разговоры прекратились, а грибы исчезли.
«Верно, всё дело в высоте, – решил Вацек. – Внизу-то со мной всё в порядке, значит надо просто держаться равнины и малых этажей». Его догадка оказалась верной: пока Вацек не лез вверх, он жил спокойно. Однако чтобы окончательно в том убедиться Вацек решил забраться со своего третьего этажа на последний, четырнадцатый, а если и этого окажется мало – залезть на крышу.
И снова Вацек не увидел города под собой. Грибы на высоких ножках, серые вверху и тёмно-фиолетовые у своих оснований, раскачивались как от мощного ветра в разные стороны. Они росли тесно, словно густо засеянные поля: неизвестно где начинались и заканчивались у горизонта. Как Вацек не прислушивался, он ничего не слышал кроме мощных щелчков. Грибы шатались из стороны в сторону практически бесшумно, несмотря на то, что размером они были никак не меньше деревьев.
– Я чувствую, что они тоже могут слышать, о чём мы здесь говорим, – донеслось оттуда, откуда раздавались щелчки.
– Но отчего они, зная о нас, настолько беспечны?
– Возможно оттого, что у них есть океаны. Оттуда они смогут противодействовать нам. Вот, я вновь ощущаю их присутствие!
Речь оборвалась, и снова послышались резкие щелчки. Они разрывались то справа, то слева, точно ища Вацека и пытаясь его оглушить, однако всякий раз им это не удавалось. Наконец Вацек выбежал на чёрную лестницу и на уровне одиннадцатого этажа щелчки прекратились.
Здесь он мог перевести дух и справиться с чувствами. Но на смену волнению от преследования пришло отчаяние: кому рассказать об этом и как, да и в конце концов – кто поверит? Но всё равно надо что-то делать, нельзя же просто сидеть и ждать пока грибы заселят все наши материки и высушат океаны.
«Грибы обладают очень тонкими настройками чувств, – размышлял Вацек, – так и я тоже. Возможно, у них мощный интеллект и хорошая интуиция, но и у меня найдётся что им противопоставить».
Во всяком случае он решил молчать и действовать самостоятельно. Для начала было необходимо найти удобную площадку на уровне между двенадцатым и одиннадцатым этажами. Вацек мог хорошо слышать и видеть грибы сразу же с уровня двенадцатого этажа, они также могли чувствовать его и слышать начиная с этой высоты. Однако они всегда обнаруживали его с некоторым запозданием, кроме того он не знал своих возможностей вмешиваться в их разговор. Раньше ему никогда не приходило в голову проверять у себя такую способность на людях.
Вацек долго не поднимался на площадку двенадцатого этажа. Он дал волю своему воображению, вытесняя в себе всё земное, всё человеческое и сосредоточившись лишь на одной мысли – Земля самый неудачный выбор для колонизации. И когда Вацек уже по сути перестал быть самим собой, он тихо устремился вверх, погружаясь в пучину незнакомого ему мира.
Если ему и удалось что-нибудь услышать в этом новом для себя качестве, то это были не слова, а музыка, да, скорее всего, музыка, похожая на медленный многоголосый хорал, прерывающийся паузами оглушительной тишины. Вблизи грибы были похожи на подвижные многометровые абстракции, на глухом фиолетовом фоне которых разворачивались округлые серые и желтоватые формы. Они соединялись, бледнели и густели, превращаясь в яркие лимонные пятна или исчезая вовсе.
Наконец Вацек различил и слова.
– Я слышу их лучше вас и у меня есть сомнения относительно их одоления.
– Тебя смущает их атмосфера?
– Океаны? – произнёс третий.
– Но всё это решаемые проблемы, – раздался мерный высокий голос, по тембру сильно отличающийся от предыдущих. – Мы давно уже говорим об одном и том же и никак не можем определиться. Так что же тебя смущает?
– Меня беспокоит моральная сторона предполагаемого одоления. Они тоже способны нас слышать и, в каком-то смысле, мы с ними похожи. В этом случае их нельзя элиминировать.
Вацек замер и старался подстроиться к первому голосу, слиться с ним, заставить говорить его так, как подскажет ему он, Вацек.
– Нравственная? При чём здесь нравственность! Мы тоже не все их слышим. Из нас только ты и способен хорошо слышать и понимать их. Но это же всего лишь низшая атмосферная цивилизация, и мы не должны о ней сожалеть.
– Хорошо. Но вы даже представить не можете, какую опасность несут для нас океаны.
Вацек заметил, как большое серое пятно в самом центре фиолетовой массы стало желтеть и собираться в правильную сферу.
– И исходит она не только от злобных людей, способных оттуда какое-то время беспокоить нас. – Сфера загорелась ярче. – Опасность исходит от самих океанов, имеющих такой же состав и такую же природу, как и люди! Они и океаны – это одно неразделимое целое!
Сфера превратилась в светящийся жёлтым пламенем огненный шар.
– Ты почувствовал это? Это так? – строго спросил высокий голос.
– Да, только теперь я ясно ощутил эту неразрывную и объединяющую их связь. Вы все знаете, что есть ещё две подходящие планеты, и там нет никакой развитой биоматерии. Отчего бы не начать одоление с них?
Хорал вновь зазвучал, а сфера начала мигать и стремиться к точке.
– Возможно кто-нибудь хочет возразить?
– опять включился высокий голос.
Хорал грянул с новой силой, стал чище, и вся мелодия повисла на одной единственной высокой ноте. Светящаяся тоска совсем исчезла и снова всё смолкло.
– Я всегда полагал, что нам удобнее будет на Этеле, там нет океанов и лишь упорство «слышащих» меня смущало. Но больше, надеюсь, возражений не будет?
– Нет, всё правильно, – поспешил согласиться Вацек.
Другие голоса тоже не возражали, предпочитая одолению безопасное постепенное освоение Этеля.
Хорал снова встрепенулся, взял несколько высоких нот и стал глохнуть, падать, превращаясь в мягкий скользящий шелест.
Вацек не сразу оказался на спасительном одиннадцатом этаже и обрёл свою прежнюю оболочку и суть. Он ещё долго пребывал в чужом сознании, являясь причиной внутренних противоречий, насаждая страх перед земными океанами. И с легкостью ветра блуждал он по серо-фиолетовым грибным полям, выстраивая на них сложную геометрию жёлтых пятен, на что фиолетовая тьма отвечала ему такими же подобными письменами.
* * *
Вацек больше никогда не поднимался выше своего третьего этажа. И не от боязни снова услышать что-нибудь странное, просто он предпочитал равнину. Там, на уровне океанов, он чувствовал себя комфортно и уверенно.
Он так любил равнину, что при любой представившейся ему возможности выезжал к морю. Вацек любил смотреть как беспечные и беззаботные люди весело плещутся в лазурной воде, которую принёс им на своей крылатой волне их спасительный океан. Вацек не ждал от этих людей никакой благодарности, он радовался вместе с ними цветущей земле и голубой дымке величественных океанов.
Вацек больше не пытался испытывать свой дар и не желал его возвращения. Лишь однажды выйдя ночью на свой балкон, он услышал откуда-то сверху, издалека, со стороны созвездия Лиры, знакомый голос:
– Здравствуй, Вацек! Спасибо тебе за верную подсказку! На Этеле нам неплохо, наверное, лучше, нежели было бы у вас. К тому же я всегда считал, что и среди атмосферных цивилизаций могут быть высокоразвитые миры. Миры, способные нас слышать.
Вацек ничего не ответил, лишь помахал созвездию Лиры рукой. Помахал в надежде, что «слышащие» такой высокой цивилизации как эта, способны ещё и видеть.
Белые скамейки
На ней была неизменная белая футболка с игривой надписью по-итальянски «Я очень люблю жизнь» и белая широкополая шляпа, по которой её узнавали все жители курортного городка. Правда, кроме жителей в нём обитали ещё весёлые беззаботные люди, которые вечно куда-то спешили, чьи мысли были постоянно переполнены всяческим вздором и которые совсем не замечали пожилую женщину в огромной шляпе и легкомысленной футболке. Но их чрезвычайно редко можно было увидеть сидящими на парковых скамейках, на которых она проводила всю свою жизнь. Эти скамейки уже невозможно было представить без неё, настолько органично она вписывалась в их белые деревянные тела с массивными чугунными боками, густо покрытыми многочисленными слоями белил.
Из-за приметной шляпы с широкими полями никто не мог видеть её лица, даже её соседи по белым скамейкам, – все видели только её улыбку: неподвижную, ровную, точно приклеенную к сухим бесцветным губам.
О чём она говорила тоже никто не мог ничего толком рассказать, зато многие хорошо знали длинный, выбеленный мелом, коридор её коммуналки, большую кафельную общую кухню и светлую комнату с обшарпанным белым роялем и выцветшими акварелями по стенам, в старомодных бумажных паспарту.
Днём город был похож на вращающийся пёстрый клубок, протянувший свои разноцветные нити от белых песчаных дюн до известковых прибрежных скал, напоминающих исполинские сахарные головы. Безусловно, виной тому были беззаботные весёлые люди, их яркие одежды и их торопливое желание жить. Они вечно куда-то спешили и быстро проходили мимо белых скамеек, даже не оглядываясь на сидящих.
Но стоило кому-нибудь из них присесть на злосчастные скамейки, как тотчас обнаруживалось, что спешить куда-то было необязательно, и что лучше всего отдыхать именно здесь, не пытаясь повсюду искать впечатлений: ни у песчаных дюн, ни у известняковых скал. Нельзя сказать, что она радовалась этим случайным неофитам, нет, скорее всего, считала этот процесс закономерным и её ни на минуту не покидала привычная спокойная уверенность в торжестве белого и в неизменности обстоятельств, составляющих жизнь.
В нестойкости цвета и утомительном постоянстве бытия вскоре убеждался всякий вновь посвящённый.
Сначала яркие цвета уступали место пастельным, затем и пастельные тускнели, сближаясь по тону, становились серыми и, в конце концов, терялся и оттенок, превращаясь в бесстрастно-белый, лишённый любых примесей. Что-то похожее происходило и с жизненным ландшафтом.
Сначала головокружительные вершины и неожиданные ущелья уступали место тоскливому плоскогорью, затем на нет сходило и оно, мельчая и превращаясь в бестрепетную однообразную равнину. Некоторым доставалась гиблая белёсая болотная топь, другим – неподвижная солончаковая степь, а на чью-то долю выпадала застылая безмятежность бетонных плит, сплетённых в белые набережные и белые города, на фоне которых весёлые беззаботные люди казались нелепым недоразумением, вызывающей бессмыслицей. Хотя сами-то беззаботные люди так не считали, они просто любили всё яркое и необычное и представления не имели – как белеет кристаллическим настом солончаковая степь и серебрится, засыпая все улицы и дома, неодолимая бетонная пыль.
Может быть, они очень спешили увидеть всё это, оттого и не замечали пожилую женщину в белой шляпе, с приклеенной под ней безразличной улыбкой. А она смотрела на них со старых запылённых скамеек, из глубины своего белого и невозмутимого мира, и никак не могла понять: за что же они могут так любить жизнь.
Ох уж этот Пушкин!
Когда по утрам из-за соседних домов показывалось солнце, Радек особенно негодовал и беспокоился. Вы скажете – беспричинно беспокоился, но будете неправы, поскольку причина на то у него была. Дело в том, что Радек писал стихи, и фраза: «Пушкин – солнце русской поэзии», никак не давала ему покоя. Да если бы только эта фраза! Куда бы Радек не бросал свой взгляд – отовсюду выглядывал Пушкин. Ну, если и не он сам, то строчка его – это, пожалуй, наверняка.
На своё несчастье Радек жил в Петербурге, где великий поэт опрометчиво успел воспеть всякий положенный там камень. Радек такого присутствия Пушкина, разумеется, терпеть не стал и перебрался на городскую окраину, где, как ему казалось, никогда не ступала нога поэта. Но и в этом он опять прогадал, поскольку, по мнению некоторых авторитетных учёных, Радек поселился как раз на том самом месте, где некогда дорогу Пушкину перебежал злополучный заяц.
Так или иначе, только Пушкин продолжал светить Радеку и на окраине города. Светил себе и светил и не мерк нисколько.
Шли годы, являлись новые поэты, но Пушкин всё светил, и никто из вновь появившихся на ниве русской словесности стихотворцев не мог брызнуть поярче. Это делало Радека раздражительным, он негодовал на своих коллег, досадуя слабенькой крылатости их тяжеловесных муз.
Радека, наверное, бесило всё, что для обычного человека казалось привычным делом: школьницы, пробегающие мимо с тетрадками, на которых был изображён вдохновенный профиль поэта, прогноз погоды, в котором нет-нет, да и прозвучит что-нибудь пушкинское, вроде «уж небо осенью дышало», и даже традиционное, разговорное, типа: «А мусор кто вывозить будет, Пушкин!», – приводило его в бешенство.
Так Радек и жил, пребывая в постоянном раздражении от существования великого предшественника, докуда на его этаже не появился новый сосед, как две капли воды похожий на Пушкина Александра Сергеевича.
Радек было совсем занемог и задумал вновь обменять жилплощадь. Безусловно, так бы он и осуществил своё намерение, если бы сам жизнерадостный сосед неожиданно не вмешался в его планы. Однажды он весело и легко подбежал к нахмурившемуся Радеку и предложил ему познакомиться.
Сосед просто лучился своей широкой и светлой улыбкой, а в лукавых и умных глазах блуждал игривый живой огонёк. Он шагнул навстречу Радеку и протянул ему свою открытую ладонь.
– Михаил, – представился сосед.
– Михаил Юрьевич, – если угодно.
У Радека отлегло: «Может быть ваша фамилия ещё и Лермонтов?»
– Лермонтов, Лермонтов! – согласно закивал сосед, тряся своей пышной шевелюрой, вероятно доставшейся ему от далёких африканских предков.
У Радека на душе был праздник. Он достал ключи и открыл дверь своей квартиры. В комнате по-прежнему светило солнце, только как-то иначе, уже не столь вызывающе ярко.
Он сел за стол, взял листок бумаги и крупно написал:
«Выхожу один я на дорогу…»И уже собирался писать дальше, но вовремя вспомнил, что это он уже где-то слышал.
Впрочем, это было уже не важно.
Он ясно видел себя стоящим на пустынной дороге, пребывающим в гордом и неприступном одиночестве, и Пушкина поблизости уже нигде не было видно…

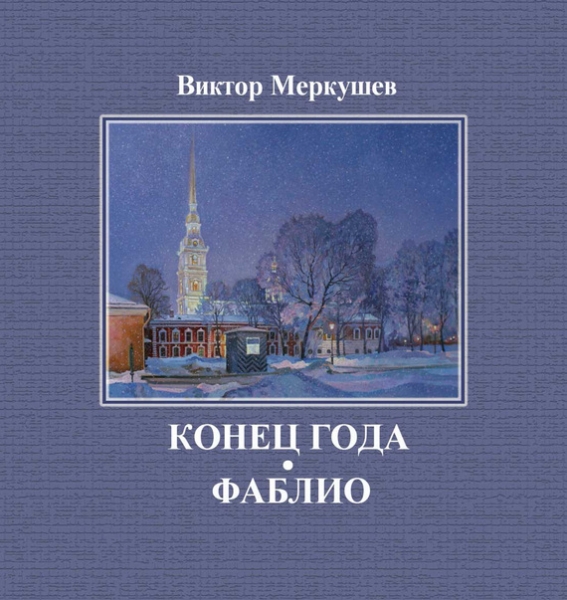
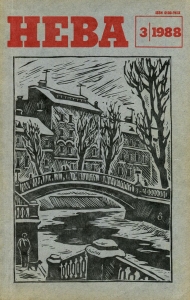





Комментарии к книге «Конец года. Фаблио (сборник)», Виктор Владимирович Меркушев
Всего 0 комментариев