Большой вопрос
БОЛЬШОЙ ВОПРОС
Егоров, парторг крупного завода, получил два настораживающих сигнала: заместитель главного инженера завода Павел Павлович Великанов стал настолько рассеян, что на днях одной из бригад дал ошибочное задание. Только бдительность бригадира предупредила неприятность.
В чем дело?
На этот вопрос частично ответил второй сигнал: у Великанова осложнились дела в семье: он увлекся Ниной, девушкой-комсомолкой, которая работает токарем в цеху его жены Ольги.
Егоров всегда гордился работой и дружбой супругов Великановых. «Павел Павлович опустился до легкомысленного увлечения?» — с удивлением подумал Егоров. Ему трудно было представить себе, что эти умные люди, много лет прожившие душа в душу, перестали любить друг друга. Кто из них виноват? Что с ними случилось? Егорову было ясно только одно: он не может пройти мимо неладов в этой семье, он должен сделать всё, чтобы восстановить в ней любовь и согласие.
— Садись, дорогой! — предложил Егоров Великанову, когда тот зашел к нему. — Я хочу с тобой кой о чем поговорить… Верно ли, что ты обижаешь жену?
Великанов пожал плечами.
— Чем же это я ее обижаю? Просто мы с Ольгой решили разойтись.
— Это что — обоюдное решение?.. А причины?
— Причины? Что касается причин, то они очень сложны… Поговорим о них, Иван Егорович, в другое время и в другом месте… если, конечно, не возражаешь.
— Возражаю, и категорически! Верно ли, что ты спутался с какой-то девчонкой?
Великанов поморщился.
— Зачем передовую работницу и комсомолку называть девчонкой? И не путаемся мы с ней… Мы с Ниной любим друг друга чисто и честно. Что же здесь плохого?
— Что же здесь плохого? А вот мы сейчас всё спокойно обсудим.
— Вон оно как… Иван Егорович, я и не подозревал, что тебя это дело может так заинтересовать. Может, дать объяснение в письменном виде?
— Не иронизируй, Павел Павлович! Я хочу знать правду о твоем быте.
— Пожалуйста! По-моему, дело житейское: я развожусь с Ольгой. Я уже и в народном суде был.
— Уже и в суде был! Вместо того чтобы прийти в свою партийную организацию, рассказать обо всем, посоветоваться, — ты побежал в суд. Нехорошо!
— Ничего нехорошего в своем поступке я не вижу. Наш суд — это та же партия, ее воля, ее разум.
— Какой ты, оказывается, грамотный. Хвалю! Молодец!
— Как суд решит, так пусть и будет, Иван Егорович! — твердо сказал Великанов.
— Так-та́к… что ж, отлично… Значит, если суд не даст тебе развода, ты не уйдешь из семьи? — правильно я тебя понял?
— Совершенно правильно. Но суд разведет нас.
— Ты убежден?
— Убежден.
— Такие уважительные причины?
— Если разочарование в одной и любовь к другой — не уважительные причины, тогда назови другие.
— Так-та́к, — задумчиво повторил Егоров… — Что ж, пожалуй, нам даже целесообразно прервать сейчас нашу беседу. Я хочу поговорить с Ольгой и еще кое с кем. Не прощаюсь, скоро увидимся.
— Только от всей души прошу тебя, Иван Егорович, не трогай Нину. Она очень скромная девушка, скромная и щепетильная.
— Не беспокойся, я не оскорблю ее скромности…
Когда Великанов, встревоженный и огорченный, вышел, Егоров пригласил к себе секретаря комитета комсомола Жатвина.
— Ну, Жатвин, рассказывай, как работаешь, как воспитываешь нашу заводскую молодежь — всем ли доволен, на всех ли участках у тебя благополучно?
Парторг говорил спокойно и даже как будто доброжелательно, но в голосе его и в лице Жатвин уловил нечто такое, что заставило его насторожиться.
— Я спрашиваю, Жатвин, — уже другим тоном сказал Егоров, — почему ты допустил, что твои комсомольцы легкомысленно относятся к вещам, к которым нельзя относиться легкомысленно?
— Я не располагаю такими фактами. Больше того, я считаю, Иван Егорович, что наши комсомольцы на всех участках занимают не последние места.
— Значит, на твоей шипке всё спокойно?
— Если что не так, подскажи, — буду благодарен.
— Кто такая Нина?
— Нина? У нас на заводе больше двадцати Нин.
— Нина, которая работает токарем в цеху Ольги Великановой.
— А-а-а, — удовлетворенно протянул Жатвин. — Нина Ковалева; чудесная дивчина, дисциплинированная, энергичная. В цеху занимает первое место, по заводу — третье. Насчет нее я спокоен.
— А как она ведет себя в быту?
— В быту? Ничего дурного неизвестно.
— А скажи, отбить мужа у товарища по работе — это хорошо или плохо?
— То есть, как отбить?
— А вот так, в буквальном смысле слова. Твоя чудесная дивчина ворвалась в чужую семью и развалила ее. Грош цена такому передовику, такой девушке, такой комсомолке… Эта твоя Нина Ковалева связалась с Великановым, и тот теперь намерен разорвать с женой и бросить ребенка.
— Ну, знаешь ли… — растерялся Жатвин… — Но почему ты думаешь, что это Ковалева ворвалась в чужую семью, по-моему, больше надо спросить с Великанова.
— С него мы спросим особо. А ты прими меры со своей стороны. Пусть Нина продумает свое поведение и свои чувства. Неужели здесь непобедимая любовь?
— Дела сердечные — это дела особого рода. — В глазах Жатвина заискрился лукавый огонек, который как бы говорил: «Зря ты, старина, вмешиваешься, забыл, должно быть, свои молодые годы. У тебя теперь ведь и без того много забот, больших, государственных задач».
Так именно истолковал этот лукавый огонек Егоров.
— Дорогой мой, счастье наших людей, здоровый быт — это неотъемлемая часть государственного плана, — сказал он. — А что касается особой сложности сердечных дел, так не нам с тобой, Жатвин, бояться этих сложностей. Мы, коммунисты, чорт знает с какими трудностями справлялись и справляемся. Надеюсь, что с неустойчивыми сердцами и легкомыслием в быту тоже справимся.
— И что же конкретно ты думаешь делать с Великановым?
— Мы поздно спохватились, Жатвин; любовные чувства у Великанова, да, повидимому, и у твоей Нины, пустили уже глубокие корни. В таких случаях общественное влияние мало действительно. Пусть обратится в суд.
— А если суд согласится с Великановым и даст развод?
— Не думаю. У него ребенок и отсутствие оснований, нужных для развода. Разочарование и новая любовь, которыми он здесь оперировал, — это еще не основание. Сейчас будет у меня Великанова… Надо сказать, у меня прямо сердце болит…
Когда в кабинет вошла Ольга, Егоров бережно усадил ее в кресло. Затем обратился к Жатвину:
— Всего хорошего, Петро. Если возникнут трудности, заходи.
Закрыв за Жатвиным дверь, Егоров негромко спросил:
— Ну, как наши дела, Ольга Константиновна?
Великанова опустила глаза.
— Мне Павел сказал, зачем вы хотите меня видеть. Я очень прошу вас, Иван Егорович, не утруждать себя. Не стоит тратить на меня времени, право же.
— Нет уж извини, потрачу. Поговорим по душам, как друзья, как близкие. Что там у вас произошло с Павлом?
— Что произошло? Не знаю, что говорить… Мне трудно дать себе отчет… Павел намерен уйти из дому.
— И ты согласна на это?
— А что же, я должна его насильно удерживать?
— Но Павел говорит, что вы с обоюдного согласия решили разойтись…
— Может быть… не знаю, ничего не знаю.
— Странно, больше чем странно, — даже обиделся Егоров. — Тебе, твоей семье угрожает, можно сказать, смертельная опасность, а ты твердишь этакие хилые слова: «Не знаю, не знаю». Вот муж твой всё знает. Возьми себя в руки, Ольга Константиновна. Тебе надо всё знать, всё взвесить и трезво оценить. Что ж, и на суде ты будешь говорить: «Не знаю, не знаю»?
— Иван Егорович, — после небольшой паузы сказала Ольга. — Мне очень тяжело, муж оскорбил мою женскую честь, осквернил нашу многолетнюю супружескую жизнь. Мне кажется, мы теперь на всю жизнь останемся с Павлом врагами. Впрочем, я говорю не то, совсем не то… Но я соберусь с мыслями, обещаю вам.
Провожая Ольгу к выходу, Егоров сказал негромко:
— На суде многое будет зависеть от твоего поведения. Повторяю, Ольга Константиновна, возьми себя в руки… а мы, партийная организация, ни тебя, ни твоего мужа не выпустим из поля зрения до тех пор, пока не добьемся своего: ваша семья должна быть и будет восстановлена.
* * *
На столе перед судьями — дело. На серой его обложке скупые надписи: истец — Великанов Павел Павлович, ответчица — Великанова Ольга Константиновна.
Великанов излагает свои требования. Городской суд должен расторгнуть его брак. На ребенка он, Великанов, будет платить по закону, до совершеннолетия, одну четвертую часть своего заработка. Нужно больше — будет платить больше. Он никогда не был эгоистом и не будет им. Он считает необходимым сказать об этом, чтобы подчеркнуть свою любовь к ребенку. Суд, конечно, заинтересуют причины развода. Они подробно изложены в заявлении. По совести сказать, ему тяжело их повторять! Лучше будет, если суд избавит его от этой формальности, от излишней затяжки неприятного судебного разбирательства.
Председательствующий, член городского суда Павлова, как будто соглашается с этими излияниями Великанова и просит ответчицу, Ольгу Константиновну Великанову, подробно рассказать суду, что произошло в ее семье. Павлова почти не скрывает своего внимания к Великановой. Материалы судебного дела характеризовали Ольгу Константиновну лучше, чем ее мужа.
Великанова близко подошла к столу. Она держалась внешне спокойно, с полным достоинством.
Что ж, можно было бы согласиться с настойчивым требованием мужа развестись, разорвать многолетний брачный союз. Уязвленное самолюбие толкает ее именно на этот шаг. Но она не даст согласия на развод. Прежде всего, она не имеет на это морального права. И не только из-за трехлетнего сына Виктора. Нет! Виктор не пропал бы и без отца. Не пропала бы и она без мужа. В нашей стране никто не пропадет, никто не затеряется. Не в этом дело. Она отстаивает свою семью по другим соображениям.
За исключением двух последних лет, в их семье была любовь, взаимное уважение и дружба. Кто же виноват в том, что они стоят сейчас перед судом?! Тяжелый вопрос. Обычно женщины в ее положении думают, что во всем виновата другая женщина… Да, и она имеет основания так думать. И всё же причина не в этом.
Суду известно, что она и он — однолетки, вместе кончили институт, вместе на фронте провели войну, обоих правительство отметило наградами. После демобилизации они поступили на металлургический завод: он начальником ведущего цеха, она — сменным инженером в один из подсобных цехов. Всегда и везде они были вместе и рядом. Пожалуй, впервые она почувствовала себя не рядом с мужем, а позади него, когда ее цех не выполнил плана. Муж решил помочь «отстающей». При горячем участии мужа и его сотрудников она выправила цех и через год шагнула так далеко, что ее имя было названо в числе трех кандидатов на должность заместителя главного инженера завода. Вероятнее всего, она и заняла бы эту должность, если бы не беременность. Она ушла в декретный отпуск, а когда после родов вернулась к работе, ее пригласили возглавить цех мужа, которого перевели на должность заместителя главного инженера завода. Уход за ребенком взяла на себя ее мать.
Жизнь завода захватила Великанову. Часто до поздней ночи задерживалась она на собраниях и совещаниях. Не совсем нормальная жизнь, теперь она это понимает, а тогда не понимала, считала такой образ жизни вполне допустимым. Через некоторое время она узнала, что муж ухаживает за молоденькой работницей. Хотела объясниться. Самолюбие не позволило. И вдруг муж сам ей признался, что увлечен «другой». Она ничего не сказала, не упрекнула ни единым словом. С тех пор о личном они не говорили, да и вообще не говорили ни о чем, избегая друг друга, словно чужие или враги.
Она будет здесь, в суде, откровенной: желание, мужа оставить семью, оставить сына и связать свою судьбу с другой женщиной потрясли ее. Почему она перестала быть для своего мужа подругой? Что заставило его, умного и, насколько ей известно, честного человека, так жестоко поступить с семьей, разрушить долголетнюю любовь? Ее обожгло неожиданное предположение: нет ли в том, что произошло, ее собственной вины?
В то время она еще не могла вразумительно ответить на этот вопрос, не понимала всех своих промахов. Возможно, мешало задетое самолюбие… Решила вернуть к себе внимание мужа, стала нарядней одеваться, чаще посещать театры, много читала. На всё, оказывается, можно найти время, его хватает и для работы, и для культурных развлечений… Жаль только, что муж не заметил ее усилий, ее искреннего желания перестроить свою жизнь, свой быт. Должно быть, он далеко уже зашел в своих чувствах к другой женщине.
Неполадки в семье дурно влияли на ее работу. Не лучше обстояли дела и у мужа, хотя он храбрился, старался быть спокойным, веселым. В его работе тоже появлялись одна трещина за другой. Авторитет его падал.
Как же так получилось: и он и она, умудренные опытом, руководители крупного завода, — запутались в личной жизни? Какой позор!.. Вот почему она решила проследить весь свой путь, всё взвесить, критически оценить каждый свой поступок. Она не хочет кривить душой здесь, в суде.
Да, она хорошо изучила производство, сложнейшие машины, чувствовала, можно сказать, дыхание любого механизма. А вот самый сложный механизм — человека — оставила без внимания. Она забыла мужа и семью. Интересы ее сосредоточились только на заводе, всё остальное казалось ей менее важным. Но когда это другое она стала терять, она поняла, что без этого другого ей не прожить… Как она могла забыть мужа, забыть, что у него есть желания и потребности, которые может удовлетворить только любящая женщина, жена? Как она могла забыть, что у них есть ребенок, которого надо воспитывать, — всё забыла, увлеченная своим делом. А ведь по существу многое из того, что она называла делом, было суетней: лишние совещания, заседания, пустые и никому не нужные дебаты — всё это можно было вычеркнуть из рабочего графика и отдать время семье, быту. Ее работа на производстве нисколько не пострадала бы, наоборот — выиграла бы! Это было бы умное, умелое сочетание быта с любимой работой на заводе. К большому своему огорчению и стыду, она этого тогда не понимала. Вот в чем ее ошибка! Если ей удастся отстоять семью, она этой ошибки не повторит.
Возможно, у мужа есть к ней другие претензии, — пусть скажет, она выслушает, она сделает всё, что будет на благо их семьи, потому что она всё еще любит его, очень сильно любит. Если суд позволит, она расскажет об одном своем письме.
Письмо это она писала долго, несколько ночей провела над ним. Она вложила в него всё лучшее, что имела в своем сердце. Она знала, что не отправит письма по назначению. Разве можно отвлекать личными вопросами человека, озабоченного судьбами тружеников всего мира? И всё же, она написала…
— Прочтите суду письмо! — попросила Павлова.
— У меня нет его с собой, к сожалению.
— Мне кажется, вам трудно говорить, вы волнуетесь.
— Да, я волнуюсь. На моем месте нельзя не волноваться.
— Может быть, сделать перерыв?
— Нет, не надо. Я постараюсь быть спокойной.
— Продолжайте, пожалуйста.
— Спасибо. Содержание письма сводится к следующему. У нас теперь не спорят о том, будет или не будет коммунизм. Мы видим коммунизм, строим его собственными руками. Но коммунистическому обществу нужен и коммунистически воспитанный человек. В коммунизм морально уродливых людей не пустят. Это истина.
И вторая: новый человек с неба не свалится, его надо создать своими усилиями на своей родной земле. Каждый из нас должен работать над собой, все мы должны помогать друг другу.
И вот у меня возник вопрос: «Почему в нашей стране нет закона, который карал бы серьезным наказанием виновных в нарушении устоев советской семьи? Правда, в этой области всё сложно и противоречиво. И первая я подпала бы под действие этого закона. Ведь я сама виновата в разрушении своей семьи, я лишила семью ее цемента — любви, взаимного внимания… хотя формально как будто виноват Павел Павлович…»
— Скажите, — спросила Павлова, — в чем же вы лично находите выход?
— Надо сделать так, товарищ судья, чтобы среди всех нас, во всех наших общественных организациях царил дух недоброжелательности и презрения к тем, кто уродует быт, разрушает семью. Это очень помогло бы людям, которые, подобно нам, сбились с дороги, и которые, я уверена, могут вернуться на правильный путь.
Ольга Константиновна умолкла. Она не была довольна своими объяснениями. Не попросив разрешения у суда, она опустилась на скамью.
— Уточните, истец, причины, которые побудили вас просить о разводе, — обратилась Павлова к Великанову.
— Я еще раз прошу суд избавить меня от этого. Я не только истец, как вы назвали меня, но и… человек!
— Вы пришли в суд с определенными исковыми требованиями. Потрудитесь же обосновать их гласно.
— Воля ваша. Только я ничего нового сказать не могу.
Великанов посмотрел на жену и продолжал, понизив голос почти до шёпота:
— Мы перестали любить друг друга.
— Вы же слыхали, что́ заявила ваша жена, — заметила Павлова. — Она и теперь продолжает любить вас.
— Об этом я узнал здесь впервые.
— Очень плохо! — сухо заметил один из народных заседателей.
— Возможно, что и плохо. Но в вопросах любви не должно быть никаких принуждений. Причины, по которым мы стали отходить друг от друга, она назвала правильно: у меня появилась потребность в отдыхе, захотелось домашнего уюта. Но кому его создать, если Ольга Константиновна находится в таком же положении вечной занятости, как и я? Ей, конечно, не до меня. Я и требовать, конечно, от нее ничего не мог, язык не поворачивался. Самому взяться, — сам устал. А кому, понимаете, приятно, если нет разницы между заводской и домашней обстановкой?!
— Вы же руководитель, — улыбнулся второй народный заседатель: — взяли бы и вы: правили положение. И что это за оправдание: «самому взяться, — сам устал». Неверная у вас точка зрения, дорогой. Хотя вы и коммунист, но создание домашнего уюта и отдыха целиком перекладываете на плечи женщины. А почему? С какой стати? Вы устали. А она нет? На заводе она идет в паре с вами, а до́ма в паре с ней вы идти не хотите, пусть сама несет весь груз! Нехорошо, гражданин Великанов, не по-коммунистически.
— Поздно говорить об этом. Я полюбил другую…
— На сколько лет? — не скрывая иронии, спросила Павлова.
— Не понимаю вашего вопроса.
— Я спрашиваю, сколько времени вы намерены любить эту «другую»?
— Позвольте мне не отвечать на этот вопрос!
— Почему?
— В вашу обязанность, надеюсь, не входит обижать людей, которые пришли к вам за правдой?
— В нашу обязанность, гражданин Великанов, входит исправлять, поправлять и направлять людей…
— Я не преступник и в исправлении не нуждаюсь.
— А в направлении нуждаетесь! Мы, советские судьи, обязаны не только сказать «да» или «нет». Мы должны дать направление для дальнейшей жизни вам и вашей жене… А лично в вашем деле я многого еще не понимаю. Не понимаю, можно сказать, главного: почему вы оставляете жену, семью?..
— Сердцу не прикажешь.
— Плохому сердцу не прикажешь — это верно. А что если ваше сердце снова разлюбит и снова полюбит — третью женщину, что тогда? Что, если вы дальше пойдете на поводу у своего неустойчивого сердца?
— Вы плохо думаете обо мне.
— Я плохо думаю не о вас, а о вашем несерьезном отношении к очень серьезным вопросам… Ваша жена правильно напомнила простую советскую истину: в коммунизм уродов не пустят. А если кто и попытается пройти, тому беда: к нему будут относиться так, как мы относимся сейчас к ворам и другим преступникам, — с презрением, с ненавистью, с законной ненавистью.
— Я не такой уж плохой человек, гражданин судья…
— Возможно… Я даже уверена, что на производстве у вас всё отлично, а вот в быту?.. Заметив у себя в семье нелады, вы должны были, гражданин Великанов, устранить их совместно с женой, прийти к ней с советом, с помощью, а вы что? Устранились и пошли к другой женщине. Разве это хорошо?! Я не представляю себе, как можно рвать с такой женой, как ваша, да еще по таким ничтожным поводам, вернее, при отсутствии каких бы то ни было поводов.
— Но я же честно поступаю, по закону. Пришел сюда с просьбой…
— Скажите, пожалуйста, Великанов, — начала Павлова, — а вы уверены, что ваша новая подруга любит вас так же, как любила и любит вас жена, что она будет так же предана вам? Вы уж не сердитесь на меня. Учтите, суд искренне желает вам и вашей жене только хорошего. Мы хотим предостеречь вас от беды.
— От какой беды? — насторожился Великанов. — Если вы имеете в виду Нину, то я спокоен…
— Это хорошо, что вы уверены в ней. Но не это я имела в виду. Если вам удастся развестись с женой и жениться вторично, — по-моему, к вам на заводе, да и среди всех честных советских людей, изменится отношение, и далеко не в вашу пользу. А это будет похуже какого-нибудь административного взыскания.
Несмотря на доброжелательный тон судьи, Великанов растерянно смотрел то на нее, то на Ольгу Константиновну.
— Нельзя ли устроить перерыв? — спросил он.
Павлова поняла, что Великанов поколебался.
— Что ж, можно объявить перерыв, — согласилась она, и состав суда удалился в совещательную комнату.
Ольга Константиновна и Павел Павлович вышли из зала.
Что происходило в душе Великанова? Может быть, его устрашила картина, нарисованная судьей? Нет, дело было не в этом. Он как-то вдруг со стороны увидел себя и Ольгу… Вероятно, этому содействовала процедура суда, необходимость строго проанализировать свои чувства и, наконец, сама Ольга: перед ним был не инженер, занятый своим инженерским делом и ко всему на свете, кроме него, равнодушный, а любящая страдающая женщина. На него пахну́ло теплом первых годов их любви… Неужели всё это сейчас погибнет навеки?..
Прошло десять, двадцать, сорок минут, судебное заседание не возобновлялось.
Из окна совещательной комнаты судьи видели Великановых, которые ходили взад и вперед по улице, неподалеку от суда. Они заметили, что Великанов взял жену под руку.
— …И вот у меня, — говорил Великанов, — пробудилась к тебе такая сильная жалость… Я вспомнил всё и так живо, так живо… Помнишь, Оля…
— Если только жалость… — прервала мужа Ольга Константиновна.
— Нет, нет! — поспешил он успокоить жену. — Любовь и жалость появились вместе, неразрывно. Мне стало страшно: неужели настал всему конец, неужели мы стали навсегда чужими… и это закрепит суд!
— Не надо об этом думать, Павлуша!
Великановы не вернулись в суд. Они шли всё дальше и дальше, сначала по улице, потом повернули в сад.
* * *
Уход Великановых из суда расценили на заводе как примирение супругов. Однако с уверенностью никто не мог сказать, надолго ли это примирение. Не мог этого сказать и Егоров, который всё чаще и чаще задумывался над судьбой своих «подшефных», как он называл про себя Великановых. Несколько дней он прождал визита к себе супругов, не дождался и пригласил Павла.
— Что ж ты глаз не кажешь, товарищ Великанов? Чем же кончилась твоя затея в суде, каковы теперь твои дела сердечные?
— Честно признаюсь, товарищ Егоров, стыдно было глаза казать… Впрочем, дело не в этом… Мы с Ольгой хотели заглянуть к тебе после… когда из нашей памяти изгладится и самое воспоминание о моем желании взять в жены себе другую женщину. Было ли во мне легкомыслие? Нет, не было. Но супругам надо смотреть в оба за своими чувствами, надо оберегать любовь умом, сердцем, всеми силами. Делаем мы это? Очень редко. Недоразумения, обиды, ссоры мешают нам. Обессиленные ими, мы открыты всякому влиянию, всякому новому увлечению, а оно зачастую беднее того, которым мы долго жили.
— Да, дела сердечные сложны, — сказал Егоров… — Но, знаешь ли, о чем нам нужно помнить всегда? О том, что в нашем советском понимании супружеские отношения заключают в себе не только супружескую страсть, но и взаимное уважение, тесную дружбу, святое обязательство растить детей достойными членами нашего общества. Вот что такое в нашем понимании семья, брак, любовь. Вот чего не должно забывать ни одно сердце.
— Именно, товарищ Егоров, — сказал Великанов. — Именно. Я теперь знаю: если б мы поженились с Ниной, мы с ней не были бы счастливы.
* * *
Судья Павлова дважды вызывала в суд Великановых. Надо было так или иначе завершить дело. Однако на вызовы судьи Великановы не откликались. Уже через год после того как дело было прекращено производством, Павлова получила письмо:
«Сегодня исполнился год со дня нашего примирения. Мы живем очень и очень хорошо. И мы убеждены, что будем так жить до конца своих дней. В этом заслуга ваша, как судьи, и парторга Егорова, с которым вы объединили свои добрые усилия. Именно вы помогли нам понять наши заблуждения, понять и решительно их исправить. Шлем вам, дорогой товарищ судья, сердечное спасибо. Желаем доброго здоровья и успехов в работе. С искренним уважением Ольга и Павел Великановы».
„ЖОН ДУВАН“
1
В Архитектурном институте разнеслась весть: «Степан Корольков влюбился в Ларису Гришаеву… Лариса отвечает ему взаимностью». Эта весть многих удивила, а близких друзей Ларисы задела за живое.
За выпускником Степаном шла неважная слава. За какие же качества славная и умная черноглазая второкурсница полюбила Королькова? Но Лариса и сама не знала, что́ привлекло ее в Степане; наружность — русые волосы с зачесом назад, золотистые усики-кубики, такого же золотистого цвета стрелкоподобные «баки»? А может быть, яркие галстуки с крохотным узелком, пестрые костюмы, зеленая велюровая шляпа, модельная обувь? Всё это у Ларисы вызывало улыбку, — правда, не злую, добродушную. «Ничего тут страшного нет, — думала она. — Молодой человек любит выделяться среди других своей наружностью, быть наряднее. Несомненно, мальчишеское франтовство исчезнет со временем… А пока что эти замашки не мешают ему успешно учиться, быть отличником».
— Смотри, Лариса, не ошибись! — предупредила как-то Гришаеву ее подруга Вера Ермолаева.
— Я слышу это уже не в первый раз, — сказала Лариса. — Почему вы все так озабочены моей судьбой?
— Потому, что любим тебя, потому, что боимся за тебя.
— В таком случае объясни, с какой стороны мне угрожает опасность… Надоели мне эти намеки…
— Хорошо, я тебе расскажу кое-что… Если на Степана смотреть издали, со стороны, в его жизни как будто бы нет ничего дурного. Я знаю — его, как отличника учебы, приняли в комсомол. Потом, окончив с серебряной медалью среднюю школу, он поступил к нам в институт и сразу зарекомендовал себя способным студентом. Всё это похвально, хорошо. Но вот его отношение к девушкам… Он убедил в своей любви не только нескольких студенток нашего института, но и актрису из балета Музкомедии и еще каких-то знакомых, не питая ни к одной из них серьезных чувств. В свое время я попыталась отругать Степана. Он выслушал меня серьезно, но возразил шутливо: «Не бойся, Вера, мои увлечения не более как спорт, только романтический…» Я рассердилась и назвала взгляды Степана пошлыми. Ведь своим поведением он портит девушкам жизнь, оскорбляет их чувства, оскверняет их мечты… Возникла даже мысль обсудить поступки Степана публично. Но на это не пошли те, кого Степан убеждал в своей любви, — испугались стыда. К тому же, раздавались голоса, что формально придраться к Степану нельзя: что в его поступках плохого? Полюбил — разлюбил. Подумаешь, какие-то там сердечные неполадки! Порхает юноша, ну и пусть. Станет взрослым — одумается. И Степан порхал, как мотылек… Теперь ты понимаешь, почему я и многие другие беспокоятся за тебя, — закончила Вера: — Ты полюбила по-настоящему, а он?..
На откровенность подруги Лариса решила ответить такой же откровенностью. Ей самой сначала казалось, что Степан — безнадежно исковерканный человек. Она вызвала его на прямой разговор. Оказалось, Степан до самого последнего времени имел «теорию»: ухаживать можно за многими, любить же только одну. Однако, встретив Ларису, он понял пошлость своей теории. Он любит одну Ларису и хочет ухаживать только за ней. Он не представляет себе, как бы мог теперь ухаживать за какой-нибудь другой девушкой. И так будет всю жизнь.
Не поверить? Какие основания у Ларисы не верить ему? Он не обнаруживал склонности к неправде. Он любит поэзию, знает наизусть десятки стихотворений и превосходно, с необыкновенным воодушевлением и теплотой читает их…
— Я убедилась, что у него яркий ум, благородное сердце…
— А не создала ли ты, Лариса, этот образ в своем воображении? — спросила Вера. — Я думаю, что и другим своим девушкам Степан клялся в вечной любви, убеждал, что давно отказался от своей «теории» и с необыкновенным воодушевлением читал стихи.
— Я не могу понять, зачем тебе и всем моим друзьям нужно так грубо вторгаться в наши отношения со Степаном, в чистую нашу любовь? — дрожащим голосом прервала Лариса.
— Хорошо, — решительно сказала Вера, — извини меня, может быть, мы, в самом деле, не правы… — И добавила, взглянув в черные глаза подруги: — Жаль, что наши привычки бывают иногда сильнее наших добрых намерений… А в общем, ты молодец. Смелая, решительная!..
— Не знаю, какая я, но знаю, что без веры в свои силы, без веры в близкого человека — жизнь не в жизнь…
Степан тем временем усиленно распространял слухи о своем скором браке. Лариса подтверждала их с радостью. И действительно, сразу же после защиты Степаном дипломного проекта друзья поздравили новобрачных.
Молодая чета провела «медовый месяц» в пароходном путешествии от Ленинграда до Сталинграда. Дальнейшая жизнь тоже шла отлично. Лариса добилась «круглых пятерок», и ее зачислили на повышенную стипендию. Степан, как архитектор, быстро завоевал авторитет. Особенно была довольна Лариса покорностью, которую обнаруживал Степан во всем, что касалось «мелочей быта». Теперь он одевался по вкусу жены. Исчезли усы-кубики, пестрые костюмы, яркие галстуки… Теперь уже никто не имел оснований называть Степана «мотыльком», — оскорбительная кличка исчезла… Однако, увы, не навсегда.
В Архитектурном институте среди подруг Ларисы стали открыто поговаривать о том, что Корольков вдруг зачастил в общежитие Медицинского института и, выдавая себя за холостяка, возобновил там старые знакомства. Поговаривали, что в общежитии из-за Степана поссорились две студентки.
Лариса объяснилась с мужем. Тот заверил жену, что всё это ложь, его хотят опорочить, — видимо, кто-то позавидовал их любви. Если ей угодно, она может сходить в институт, в общежитие, и узнать, была ли там, скажем, ссора девушек из-за постороннего человека. Этого ведь не утаишь, не скроешь.
Лариса поверила мужу, его искреннему тону. И в себя поверила, в свои силы: не может быть, чтобы он так быстро разлюбил eel Вероятнее всего, тут сплетня.
Но это было не так. Не прошло и года после свадьбы, как Степана стала одолевать скука. Потянуло к старым подругам… Где-то в душе шевельнулся вопрос: «Не дурно ли это?». Но вкрадчивый голос успокоил: «Ничего! Почему, собственно, нельзя иметь друзей среди женщин и девушек? Неужели же все свои мысли и чувства загнать в четыре стены домашнего очага?!.. Задохнешься, закиснешь, с ума сойдешь от тоски!». Ни жене, ни друзьям он ничего дурного не сделает. У него есть спасительный принцип: увлечений может быть много, любовь — одна. Отказался он от него? Нет, не отказался, от истины отказаться нельзя.
Но неожиданно эта двойная жизнь Степана Королькова не только осложнилась, но и рухнула.
Едва Лариса пришла в себя после первых неприятных известий, как подруги снова заговорили о похождениях Степана. На этот раз очевидцы рассказывали, что сторож Медицинского института в прошлую субботу поздно вечером попросил Королькова оставить женское общежитие. Степан не подчинился. Тогда сторож назвал его «Жон Дуваном» и силой вывел из общежития.
Группа студентов и студенток в присутствии Ларисы затеяла спор: как лучше называть ветреных людей: «мотыльками» или… «Жон Дуванами». Одни стояли за «мотылек» — слово, которое является чисто народным определением легкомыслия. Другие указывали, что куда лучше звучит «Жон Дуван», переделанный сторожем из Дон Жуана. В наше, советское время «Дон Жуан» в прежнем его понимании умер, донжуанство у нас стало явлением исключительным, мелким, то есть «жондуванством»…
Лариса сгорала от стыда. Она догадалась, что спор возник не случайно. Подтверждая эту догадку, Вера ей тут же сказала:
— А может быть, Лариса, ты всё же слишком веришь мужу? Присмотрись… Если факты подтвердятся, на всю жизнь отбей у него охоту к «жондуванству»… Не одумается, не исправится, — оставь его, уйди!..
На этот раз Лариса ни единым словом не возразила Вере. Не заходя домой, она направилась в Медицинский институт.
2
Входя в Медицинский институт, Лариса почувствовала, как трудно будет ей беседовать с секретарем комитета комсомола. Правильно ли, что она обращается в комсомольскую организацию? Девушки, обманутые Степаном, возможно, и не состоят в комсомоле…
…Да и что, собственно, она намерена сказать в комитете, на кого жаловаться, о чем просить? Какая ей нужна сейчас помощь? Не нравится муж, — оставь его, уйди… Чего бродишь по коридорам? Чем ты лучше тех жен, которые выслеживали в далекие времена своих мужей или соперниц и обливали их кислотой? Эх, Лариса, до чего же ты дошла, до какого позора, самоунижения!
И всё же она вошла в комитет. Спросила секретаря. Ей показали на плечистую девушку, что-то диктовавшую машинистке. Заметив Ларису, девушка вопросительно обернулась. Лариса, забыв, что здесь посторонние, рассказала о цели своего прихода (не сказала только, кем она приходится главному «герою» скандала).
Оказалось, в комитете комсомола слыхали о субботнем происшествии. Сторожу нагрубил какой-то шалопай, по фамилии не то Королев, не то Корольков. Сторож в долгу не остался: окрестил его «Жон Дуваном» и удалил из общежития… Если ее, Ларису, интересуют подробности, она может зайти к сторожу, он расскажет, как всё было…
Лариса попрощалась с секретарем и вышла. Она мысленно поблагодарила девушку за тактичность, за чуткость: конечно же, она догадалась, кем приходится Ларисе этот «шалопай»… «Сторож расскажет, как было…» Да, надо узнать всё, всё…
Однако на полпути к общежитию остановилась и вслух сказала:
— Не смей! Дальше ни шагу!.. Зачем тебе срамиться перед старым человеком?!.
— Сраму тут нет, а всё же ходить не сто́ит, — раздалось за ее спиной.
Лариса обернулась и увидела миловидную девушку.
— Наташа, студентка Медицинского института, — отрекомендовалась та и протянула Ларисе руку. Лариса растерялась, но ответила на рукопожатие. Ей показалось, что она где-то видела свою новую знакомую. Но где?
— Я оказалась невольной свидетельницей вашего прихода в комитет комсомола… — объяснила Наташа. — Вы ведь жена Королькова?
Лариса кивнула головой.
После небольшой паузы Наташа продолжала:
— Я хочу помочь вам… Ваше горе мне понятно… В комитете я была свидетельницей, а тогда, в общежитии, — участницей… Я одна из тех девушек, между которыми возникло недоразумение из-за Степана.
Наташа смолкла. Видимо, ей нелегко было говорить дальше. И Лариса тоже молчала. С минуту молодые женщины в упор смотрели друг на друга. Наконец Наташа едва слышно вздохнула. Что ж, она будет откровенна: Степан был дорог ей, любим ею. Нежный, внимательный, заботливый! А как он читал стихи! (Каждое Наташино слово причиняло Ларисе боль: она узнавала свои собственные слова, которые когда-то говорила Вере. Какая ирония судьбы!)
— Да, я была убеждена, что встретила настоящего друга. Каково же было мое горе, когда я узнала, что я у Степана не одна: эти же стихи, иногда в тот же самый день, он читал другой. Другой говорил те же слова о любви, о будущем… Не разобравшись, я набросилась на свою «соперницу», упрекнула ее в хвастовстве. Та, в свою очередь, обиделась на меня. Поспорили. В споре обнаружилась неприглядная правда. И тогда я решила объясниться со Степаном.
— И что же… что он ответил?
— Он мне ответил: «Чудачка ты, Наташа! Выходит, пошутить нельзя. Воображаю, что будет, когда мы зарегистрируемся… Давай не будем сухарями, ограниченными, казенными людьми»… Когда с тем же вопросом обратилась к нему и та, другая, девушка, Степан и ей сказал то же самое…
3
Домой Лариса вернулась на второй день поздно вечером: бессонную ночь и день, полный мучительных размышлений, провела у подруги.
Степан встретил жену встревоженным и радостным возгласом:
— Наконец-то!
Лариса молча прошла в комнату, молча опустилась в кресло.
— Я так волновался! — продолжал Степан, — все отделения милиции обегал, во все больницы звонил, в институте всех на ноги поднял… Чуть с ума не сошел!.. Неужели нельзя было дать знать?
— Нет, нельзя было, — тихо ответила Лариса.
— Почему? Что с тобой? У тебя такой вид…
— Подожди, всё скажу, — так же тихо проговорила Лариса, — да, я всё, всё скажу!..
Степан насторожился; повидимому, жена, действительно, пришла с какими-то неприятными новостями. Неужели кто-нибудь проболтался?
— Всё же я, как твой муж, хочу знать, где ты пропадала два дня и… ночь?
Последнее слово Степан подчеркнул. Лариса кинула на него быстрый взгляд, но ничего не сказала.
— Я хочу знать, — продолжал Степан, — с кем ты была и что делала?..
— Оказывается, ты еще и негодяй! — Лариса поднялась, вплотную подошла к мужу: — краснобай и негодяй! Но на этот раз тебе не удастся солгать…
— Да как ты смеешь! — возмущенно крикнул Степан. — Я не желаю с тобой разговаривать! — Он рванулся к выходу, но Лариса схватила ею за руку.
— Ты не уйдешь, пока мы не объяснимся… Напрасно ты так кричишь и суетишься. Слушай же… Ты только что пробовал изобразить ревность… Смешно, право, ревновать такому… Хотя это закономерно: нарушающие супружескую верность, как правило, очень ревнивы… всех людей они меряют на свой аршин…
— Хорошо! В таком случае, говори, в чем дело! Какие сплетни ты принесла, какой ловкач разыграл тебя…
…И Лариса рассказала мужу всё, что узнала о нем.
— Таким образом, — закончила она, — я обвиняю тебя в предательстве… в обмане, в грязной лжи!
— Но в чем же конкретно выразилось мое предательство?
— В том, что, живя со мной и клятвенно уверяя меня в чистой своей любви, — ты одновременно клялся в любви и другим. Мало того, ты отказывался от меня, ты уверял, что не женат.
— Хорошо, пусть так… я что-то говорил, что-то болтал… С твоей точки зрения — это страшное преступление, но был ли я с кем-нибудь из женщин в близких отношениях?
— Тебе об этом лучше знать!
— Я ничем не осквернил нашей семейной жизни. А ты меня обвиняешь чуть ли не в измене.
— В своих жондуванских похождениях ты никакой измены не видишь?
— Безусловно не вижу. Сколько раз надо тебе повторять, что ни с кем из тех девушек, с которыми я иногда встречался, у меня не было близости… Понимаешь — близости не было. Неужели тебе это трудно понять?
— Нет зачем, всё ясно. И всё подло…
— Прошу не оскорблять! Обращаю твое внимание, Лариса, на одно обстоятельство: когда у тебя нет фактов и доводов, когда нехватает логики и здравого смысла, ты восполняешь их оскорблениями….
— Хватит, Степан Гаврилович, паясничать…
— Вот видишь, снова ругаешься, оскорбляешь…
— Нет, я не ругаюсь, не оскорбляю. Я называю твои взгляды и твое поведение так, как они того заслуживают. По-твоему, изменяет только тот, кто допускает физическую близость?.. А поцелуй — это не близость?.. Заверения, клятвы в любви — это не близость?
— А мне кажется, Лариса, зря ты затеяла всю эту канитель, честное слово…
Степан взял руку жены и, прижимая к сердцу, добавил:
— Это принадлежит тебе, только тебе и никому больше!
— Не смей кощунствовать! — закричала Лариса. — Я не давала тебе повода глумиться надо мной…
— Не лучше ли нам в таком случае прекратить разговор?.. Или, быть может, принять решение, которое коренным образом изменит нашу жизнь?
— Я его уже приняла, и не одно, а два…
— Прошу изложить! Если они устроят и меня, готов присоединиться.
— Искренне советую… Итак, я твердо решила покинуть тебя. Мы должны разойтись… Завтра же я подаю заявление в народный суд… Второе мое решение: я так же подаю заявление в комсомольскую организацию по месту твоей работы…
— Это что же? Месть?!
— Нет, не месть. Если я не сумела доказать тебе, что твое поведение безнравственно, пусть это докажет твоя организация, а заодно и подумает, как дальше поступить с комсомольцем Корольковым. Я же, со своей стороны, искренне хотела бы, чтобы твоим «художествам» был прегражден путь, чтобы они были громко оглашены, чтобы ты твоим уродливым отношением к жизни не калечил людей… Не думай, что мне легко это сделать. Но я должна это сделать!
— Ты хочешь бури?.. Хорошо! Пусть будет буря! Еще посмотрим, кого она сломит!
4
Лариса подала оба заявления. В народном суде заявление о разводе оставили без рассмотрения до публикации объявления в газете. Что касается комсомольской организации, она активно занялась проверкой поведения Степана. Проверку поручили комсомольцу-прорабу, слушателю второго курса заочной правовой школы Сотникову.
Прежде всего, Сотников решил установить имена, и фамилии девушек, за которыми когда-либо ухаживал Корольков.
— Фамилии? Какие фамилии? — возмутился Корольков.
Он пытался прочитать монолог о своем праве на личную жизнь, на ее независимость, но Сотников, спокойно разъяснив Степану, какими правами по уставу обладает комсомолец и какие на нем лежат обязанности, напомнил, что одна из обязанностей, причем первостепенная, — всегда и везде быть честным и правдивым. Корольков вынужден был уступить. Однако он назвал не всех девушек. Пришлось Сотникову пополнить список с помощью Ларисы и ее подруг. Как ни пытался Степан помешать расследованию, заручиться поддержкой товарищей по работе, из этого ничего не вышло. Закончив сбор материалов, Сотников снова вызвал к себе Королькова.
— Чем обрадуешь, Сотников? — спросил Степан. Он решил первым начать беседу, чтобы ошарашить «следователя» и заодно подчеркнуть свое преимущество перед ним.
— Должен прямо сказать: радости в нашей встрече будет мало, — спокойно отозвался Сотников.
— Для кого, позволю спросить, будет мало радости?
— А это мы сейчас посмотрим…
— По-моему, и смотреть нечего… Лучше вспомнить народную мудрость: «Врачу — исцелися сам!». К нашей нынешней беседе это очень и очень подходит!..
— Не понимаю, что ты хочешь сказать?
— Поясню, я человек не гордый… Мне кажется, ты забыл, товарищ Сотников, подсчитать и систематизировать свои собственные любовные похождения…
— А ты бы взял и сделал это за меня…
— Именно это я и сделал, товарищ Сотников. Сделал с превеликим удовольствием…
— Результаты?
— Пока что выявил троих: две Гали и одну Варю.
— Маловато, Корольков. По сравнению с тем, что добыл я, — это, как говорится, капля в море.
— Для «следователя», для такого страстного поборника нравственных устоев, вполне достаточно…
— Тебе не повезло, Корольков. Я никому жизни не отравлял, никого не обманывал, честно искал подругу…
— У каждого, товарищ Сотников, свой метод, но поверь мне…
— Хорошо, поверю! — оборвал Сотников. — А пока что — перейдем к твоему делу… У меня несколько дополнительных вопросов… Кто такая Тамара Голубева?
— Тамара?.. Какая Тамара?.. Ласточкину Тамару знаю, а Голубеву…
— Ласточкину ты сам назвал, а вот молодая балерина из Музыкальной комедии.
— Ах, Томка?.. Да, да, Томку, то есть эту Тамару, тоже знаю… Дела давно минувших дней…
— Ухаживал?
— Наивный вопрос! Почему, если нравится, и не поухаживать?
— А вечно любить клялся? Говорил: «Моя несравненная, неповторимая?»
— Мало ли какой глупости не скажешь, когда над тобой висят луна и прочие романтические реквизиты… Откровенно признаться, не помню, что́ я тогда говорил Томке.
— Ладно. Аню Ладашкину знаешь?
— Аню?.. Припоминаю.
— Почему не назвал ее?
— А потому, что я человек, а не какой-нибудь справочник… Забыл.
— Допустим. Аню тоже клялся любить вечно? Говорил: «Моя несравненная, неповторимая»?
— Я никогда не повторяюсь…
— Неправда! Ты слово в слово повторил свое признание этим двум девушкам.
— Не может быть!..
— Это так, Корольков. И, больше того, ты говорил буквально то же самое всем другим девушкам, за которыми волочился. Повидимому, за тобой напрасно закрепили репутацию находчивого, остроумного и даже изобретательного парня: действовал ты по шаблону, слова употреблял одни и те же, старые, плохие…
— Каждый живет как умеет… Да, Сотников, поработал ты на славу… А они-то… Не дурехи ли? Как им-то не стыдно?!
— Я думаю, Корольков, не сто́ит тебе учить других. Ты лучше скажи, зачем ты так поступаешь?
— Я, товарищ Сотников, не вижу ничего страшного в своем поведении. Делать вам нечего, честное слово… Раздули кадило?..
— Нет, товарищ Корольков, дело твое не раздуто, оно весьма и весьма серьезное…
Сотников встал, прошелся по комнате и снова сел, пристально всматриваясь в Королькова.
— Ты что так меня рассматриваешь?
— Думаю, что́ нам делать с тобой, — ответил Сотников. — Какие меры принять?..
— «В тюрьму его, в тюрьму» — продекламировал Степан.
— В тюрьму — зачем? Не положено. А вот судить будем…
— «О судьи, создайте вы сначала человека, а уж затем ему пишите и закон!» — продолжал издевательски декламировать Корольков.
— Стишками, Степан, не заслонишься… Да, будем тебя судить…
— На основании какого же закона, товарищ будущий юрист?
— Мы будем тебя судить особым судом, в гражданском порядке. Я внесу предложение лишить тебя комсомольского билета, — ты чужой комсомолу человек, — и официально от имени комсомола поддержать в суде заявление твоей жены о разводе. Мы будем просить суд заслушать ваше бракоразводное дело в Архитектурном институте, куда пригласим не только студентов, но и всю молодежь нашей строительной организации. Твою жену, как комсомолку, мы возьмем под защиту.
— Отлично… Возьмете мою жену под защиту… А я, по-твоему, чужой для комсомола человек?..
— Да, Корольков, ты чужой… Чужой потому, что мы высоко ставим любовь. Ты же, опошляющий великую силу жизни, — пошляк. А пошлякам не место среди нас.
Корольков выбежал из кабинета. Спустился по лестнице, вышел на улицу и сразу почувствовал слабость в теле, опустошенность в мыслях.
«…Ты чужой для комсомола человек!» Впервые за свою недолгую жизнь он почувствовал приближающуюся расплату.
ГРАЖДАНСКОЕ ДЕЛО БОЧКАРЕВЫХ
Это дело слушалось в народном суде летом 1950 года. Одни называли его «необычным», другие — «интересным», третьи — «громким». Во всяком случае, оно привлекло в суд много слушателей, целиком заполнивших все четырнадцать рядов зала; народ стоял возле стен, в проходе, даже за дверьми. Такого наплыва посетителей здесь давно не наблюдалось.
Чем же привлекло к себе внимание гражданское дело Бочкарева Семена Михайловича, популярного в городе врача, и его жены Лидии Владимировны — примерной хозяйки и хорошей матери? Жили они обеспеченно и, казалось, дружно. Почему же теперь этот почтенный доктор затеял развод? Да и она, супруга его, как будто не особенно сильно огорчена желанием мужа.
Бочкарев с волнением ждал судебной процедуры. Правильно ли поймут его намерения, не истолкуют ли их дурно? Много Бочкарев думал и о семье. Всю последнюю ночь он не спал, образ жены стоял перед ним неотступно… Нет, не этой — придирчивой, строптивой, ревнивой. Перед ним стояла, с ним задушевно беседовала та, другая жена, чуткая, заботливая, понимающая, молодая… Бочкарев вспомнил прошлое, отдельные факты, памятные даты. Как странно: хорошее ярче всего сохраняется в памяти.
Нелегко было Бочкареву в эту ночь накануне суда, хотя он и тщательно продумал все наиболее существенные свои претензии к жене, а главное, подготовил себя внутренне.
Когда Семен Михайлович увидел в зале своих знакомых, пациентов, почитателей, он ощутил беспокойство: неужели ему надо будет при них давать суду объяснения, говорить о том, что так усиленно скрывалось от людей?
Он прошел к судье Курскому и спросил, нельзя ли слушать дело без посторонних.
Судья понял Бочкарева и даже посочувствовал ему. Но суд вряд ли уважит его просьбу. Ведь наш суд — особый, народный.
Сконфуженный Бочкарев занял в зале свое место.
Вскоре у судейского стола появилась молодая девушка в белой блузке. Это была Иванова, секретарь судебного заседания. Она проверила явку свидетелей, успокоила нескольких, не в меру разговорчивых, посетителей и ушла в совещательную комнату.
Бочкарев рассматривал кресла председательствующего и народных заседателей: первое значительно больше двух других, на каждом из них герб Российской Федерации. Над столом портрет Сталина…
Снова появилась девушка в белой блузке и села за свой стол. Звонок! Присутствующие встали. Вошел суд: председательствующий народный судья Курский и народные заседатели Цветаев и Болотов.
Суд приступил к рассмотрению дела.
* * *
Истец Бочкарев Семен Михайлович, 1910 года рождения, из служащих, беспартийный, с высшим образованием, заместитель главного врача городской больницы, на иждивении жена и дети: Олег 14 лет, Игорь 12 лет и Виктор 9 лет.
Его объяснения:
Граждане судьи! Вы поставили передо мной весьма серьезную задачу — обстоятельно и правдиво рассказать о том, что вынудило меня на развод… В состоянии ли я сейчас выполнить эту задачу? Не знаю. Мне трудно говорить. Знаю лишь одно: уйти мне от семьи, от детей, от их матери — я подчеркиваю — от их матери, — уйти от прошлого не так просто; тяжело, стыдно, страшно… А уйти надо.
Позвольте мне, после этого коротенького вступления, рассказать всё по порядку.
Мы с Лидией Владимировной поженились, когда были студентами Медицинского института. Это было время летних каникул 1929 года. Скажу точнее: это было двадцать лет, два месяца и один день тому назад. Лидии Владимировне было тогда девятнадцать лет и четыре месяца, а мне ровно двадцать один год. День нашей свадьбы являлся, таким образом, одновременно и днем моего рождения. Поженились мы по любви, при полном уважении друг к другу. Через некоторое время у нас печально сложились обстоятельства: заболел наш ребенок. Лидия Владимировна принуждена была бросить институт и уехать на юг к своим родным. На юге Лидия Владимировна прожила два года восемь месяцев и четыре дня, но дочку не спасла — девочка умерла. Спустя год, два месяца и семь дней я кончил Медицинский институт, Лидия же Владимировна с моего согласия решила остаться в роли так называемой домашней хозяйки. Наше материальное положение в скором времени стало хорошим, а потом и отличным. На последнее обстоятельство, конечно, влияли мои успехи как врача. Не хвалясь, скажу: меня любят граждане нашего города, отцы и матери детей, которым мне пришлось спасти жизнь или укрепить здоровье. У вас, граждане судьи, может возникнуть вопрос: к чему я сейчас говорю эти нескромные слова? А вот к чему: пациенты меня хвалят, а собственная жена, уважаемая Лидия Владимировна, обзывает всякими наиобиднейшими словами, приклеивает мне всевозможные оскорбительные клички, низводит мой авторитет на нет… Что́ бы я теперь ни сделал, что бы ни сказал в ее присутствии, — всё не так, неправильно… Чем же вызвано это возмутительное поведение Лидии Владимировны? Не знаю, не могу знать!
Перед вами, граждане судьи, я изложу лишь голые факты, которые понудили меня просить о разводе.
Факт первый. Ни один уважающий себя советский врач не имеет морального права отказаться навестить больного в любой час дня и ночи, если к этому возникла неотложная необходимость. Мой долг, святой долг врача, часто, весьма часто, заставляет меня возвращаться домой поздно вечером; нередко бывает, что меня ночью поднимают с постели и увозят к больным детям.
Раньше Лидия Владимировна, в похвалу будь ей сказано, отлично понимала мое положение и даже гордилась им. С недавнего же времени всё обернулось по-иному: Лидия Владимировна подозревает меня, простите, чорт знает в чем. Стыдно даже назвать эти ее подозрения своим именем.
Факт второй. Многолетняя врачебная практика привела меня к дружбе с некоторыми семьями. Спрашивается, могу ли я иногда от добрых знакомых или друзей принять приглашение, скажем, отобедать с ними? Думаю, что могу, особенно, когда задерживаюсь и вследствие этого бываю голоден. И далее: можно ли жене из-за этого скандалить, ругать мужа, называть его оскорбительными кличками? Думаю, что нет. А как ведет себя в подобных случаях Лидия Владимировна? Постыдно — вот как ведет себя уважаемая Лидия Владимировна!
Факт третий. Как известно, в каждой приличной семье муж и жена ведут себя разумно, согласовывают основное в своей совместной жизни. А как у нас? Я в семье совершеннейший нуль.
Лидия Владимировна и детей настроила против меня. Подражая маме, они не ставят меня ни во что, косятся на меня, как на чужого.
Это, граждане судьи, наиболее существенные факты. Их не много, но они, прошу поверить мне, весьма и весьма тяжелы, невыносимо тяжелы. Я с каждым днем всё сильней и сильней сгибаюсь под их тяжестью. Они разъедают мою душу, мое сердце. Так у нас не живут, так жить нельзя. Я честный советский человек, и я так жить больше не желаю ни одного дня.
На вопрос председательствующего народного судьи Курского —
— Да, я многократно пытался убедить Лидию Владимировну. Ничего из этого не вышло. Могу заверить вас, гражданин судья, что я первоначально терпеливо и даже снисходительно выслушивал нападки Лидии Владимировны, иногда они смешили меня. Но в конце концов передо мной возник вопрос: да что же я, человек или не человек? К дьяволу сентиментальность! Пусть получает заслуженное! Признаюсь, я тоже стал груб с нею, тоже оскорблял ее, иначе говоря, в долгу не оставался.
На вопрос председательствующего —
— Я уже не мог справиться с собой, с обидой, которая разрасталась в моем сердце. Я-то ведь знаю: ничего плохого в моем поведении нет, только служение своему долгу, и никто не дал права Лидии Владимировне оскорблять меня.
На вопрос народного заседателя Болотова —
— Да, я не вижу иного выхода, — только развод…
На вопрос народного заседателя Цветаева —
— И теперь, еще совсем недавно, я пытался призвать Лидию Владимировну к порядку, просил ее взять себя в руки, одуматься. Но она якобы не может вести себя иначе, расшатана у нее, видите ли, нервная система, в чем, конечно, повинен только мой эгоизм.
Поверьте мне, как врачу, нервы тут ни при чем, хотя оговариваюсь: эта сфера не в моей компетенции. В связи с этим прошу суд обратить внимание на некоторые любопытные обстоятельства: наш ад до сих пор мы с Лидией Владимировной оберегали от чужих взглядов и ушей. О нем знает лишь одна моя сослуживица, подруга Лидии Владимировны, которую мы, по обоюдному согласию, вызвали сюда свидетелем. Вне дома я и Лидия Владимировна ведем себя безупречно. Было несколько случаев — три или четыре, не помню, — когда к нам являлись из школы, где учатся наши мальчики, выяснить причины, почему дети стали плохо учиться. Лидия Владимировна ахала, охала, а правды так и не сказала. Мальчики же отставали, безусловно, из-за наших распрей.
Итак, Лидия Владимировна умеет держать себя на людях и не умеет до́ма, с мужем. Что сие означает? А прежде всего то, что уважаемая Лидия Владимировна безответственно относится к своей семье. Видите ли, со мной она не может вести себя хорошо, а вот, скажем, с милиционером может. Почему? Да потому, что за оскорбление представителя милицейской власти ее могут наказать, а за оскорбление мужа… даже у нас нет еще такой статьи, которая оберегала бы… Словом, это ясно.
Какие же тут нервы! Это самая настоящая бытовая распущенность!
Ввиду вышеизложенного прошу вас, граждане судьи, уважить мою просьбу о расторжении брака с моей супругой Лидией Владимировной.
Ответчица Бочкарева Лидия Владимировна, 1912 года рождения, из рабочих, беспартийная, с незаконченным высшим медицинским образованием, занята домашним хозяйством, имеет детей: Олега 14 лет, Игоря 12 лет и Виктора 9 лет.
Ее объяснения:
Что я могу сказать? После таких несправедливых слов мужа говорить нелегко. Не готовилась я, как мой муж, ночами напролет, не распределяла факты по полочкам, как кухонную посуду, не записывала их, эти факты, в голубой блокнот, тисненный золотом. Ну что же, скажу, как сумею. Поймете меня — хорошо, не поймете — буду искать правды выше. Так вот: я согласна на развод и тоже прошу суд прекратить нашу никчемную, никому не нужную семейную жизнь. Только прошу вас, товарищи судьи, не винить в этом меня. Виноват мой муж.
Начну и я издалека. Да, мы действительно любили друг друга. Да, мы связали свою судьбу добровольно, по любви. Да, нас в свое время постигло горе, и это выбило меня из колеи. Всё это так, верно. Верно и то, что мы до 1945 года, до самого окончания войны были счастливы, а последние пять лет ссоримся. Но муж не сказал всей правды, — она горька для него. А правда эта вот в чем: когда у нас родились сыновья, я бросила институт и отдала себя целиком мужу, детям, заботам о них. Я дышала ими, молилась на них, как может молиться преданная жена и любящая мать. Что же дал взамен мне он, мой муж, умный, знающий, всеми любимый доктор?
Буду справедливой: первоначально я имела всё — искреннюю любовь, искреннее внимание. Но с окончанием войны он в сущности исчез из семьи: день занят, вечер занят, ночью занят…
На вопрос председательствующего —
— Нет, до войны этого не было. До войны мы жили хорошо… А теперь… Подумайте только, что получается: у мужа большой общественный труд, слава, почет, добрые знакомые, знатные друзья, его, видите ли, все любят. А у меня: неуловимый, усталый муж, забота о нем, отбивающиеся от рук мальчики, тревога за них, магазины, кухня и многие другие обязанности домашней хозяйки да еще, как презрительно выразился муж, «так называемой».
Муж говорил еще о долге советского врача, об обедах с добрыми пациентами. Не за это я упрекаю его. Много занят — пусть: большому кораблю — большое плавание. Чуткий он врач — хорошо, похвально, сама гордилась этим. Но он считает за труд позвонить домой, чтобы предупредить о позднем возвращении. А я целый вечер подогреваю обед и жду его.
На вопрос народного заседателя Болотова —
— Жду потому, что муж каждое утро, уходя из дому, обещает вернуться во́-время, к обеду. Не было ни одного случая, чтобы он сдержал свое слово. Является поздно вечером, а то и ночью, от обеда отворачивается, правда, извиняясь (спасибо ему хоть за это проявление чуткости), быстро раздевается и еще быстрее засыпает крепким, сладким сном.
На вопрос народного заседателя Цветаева —
— Нет, к детям он тоже охладел. Примерно за последние три года он совершенно отошел от детей, не интересуется их успехами в школе, ничем не интересуется, что касается мальчиков.
Далее, муж перед вами сегодня сетовал на то, что я чуть ли не глушу его таланты, отравляю жизнь, мешаю работать и, кажется, хочу даже поссорить его с нашей эпохой.
Да, граждане судьи, сознаюсь в своих грехах: я стала невыносимой. Да, у нас до́ма ад, и мы скрываем его от посторонних. Всё это верно. Верно и то, что на милиционеров я не набрасываюсь. Но ведь и работники милиции на меня тоже не набрасываются, не обижают меня, почтительны со мной.
На вопрос председательствующего —
— Я не хуже других женщин, наших советских тружениц. Почему же они живут хорошо, по-человечески, а я страдаю? Тружусь я много, и совесть моя чиста и перед ним, моим мужем, и перед моими детьми.
На вопрос председательствующего —
— Верно, по-настоящему разобраться в наших взаимоотношениях нелегко. Я теперь и сама не всегда знаю, где я права, где неправа, где он говорит мне правду, где лжет. А что он стал лгать — это факт. Одна моя приятельница сказала мне: «Мужчинам доверять нельзя, особенно в нашем возрасте». (Ей тоже около сорока лет.) Она точно не утверждала, но как будто именно моего мужа видела в театре со смазливой девчонкой. Муж это категорически отрицает, но я верю приятельнице, а не ему: приятельнице врать нет смысла, мужу выгодно отпираться. Только этим его увлечением и можно объяснить, что он забыл меня. Тяжко мне в этом сознаться, но ничего не поделаешь. Народный суд должен знать всё, раз мы пришли сюда за помощью и правдой.
На вопрос председательствующего —
— Не пропаду… Голова есть, руки есть. Поступлю медицинской сестрой, а дальше как быть, увижу…
На вопрос народного заседателя Болотова —
— Надеюсь, что он будет платить мне на детей, что положено по закону, а больше от него мне ничего не нужно. Впрочем, он как-то предлагал мне поделить детей, грозил добиться своего через суд.
Вот, кажется, всё, что я хотела сказать. Развести нас, повторяю, надо, и чем скорей, тем лучше, особенно для него, любимого всеми доктора, — надо же развязать ему крылья.
После перерыва допрашивали свидетелей.
Свидетель Никонов Валериан Павлович, 1902 года рождения, член ВКП(б), профессор, доктор медицинских наук, главный врач городской больницы, по существу дела показал:
— Я хорошо знаю супругов Бочкаревых, особенно Семена Михайловича, моего заместителя по городской больнице. Что я могу сказать о нем? Прекрасный врач, великолепный общественник, настоящий патриот нашей Родины…
На вопрос председательствующего —
— Относительно причин их развода, мне, признаться, ничего неизвестно. Я от всего сердца сожалею, что у них возник конфликт, который принял такие размеры.
На вопрос народного заседателя Болотова —
— Конечно, как начальник, я мог бы поинтересоваться, но знаете, как-то неприятно: разные люди могут по-разному отнестись к такому вмешательству в семейные дела.
На вопрос народного заседателя Цветаева —
— Конечно, быт моих подчиненных мне не безразличен. Но в данном случае у меня не было оснований тревожиться за судьбу Семена Михайловича. Если Лидия Владимировна нетерпимо стала относиться к самоотверженной работе своего мужа, объясняя его задержки на службе другими причинами, то это напрасно, совершенно напрасно. Семен Михайлович — порядочный человек и, повторяю, настоящий патриот нашей Родины…
На вопрос председательствующего —
— Семен Михайлович неоднократно в беседах со мной тепло отзывался о своей жене, о детях, от всей души сожалел, что у него так складываются обстоятельства, что он меньше теперь уделяет внимания своей семье.
На вопрос народного заседателя Цветаева —
— Нет, зачем же? Семье тоже надо уделять должное внимание, но не за счет службы. Прежде всего государственный и общественный долг, а потом всё остальное — вот о чем я говорю.
На вопрос народного заседателя Болотова —
— О Лидии Владимировне я тоже не знаю ничего предосудительного. Она, по-моему, вполне достойна своего мужа: прекрасная жена, хозяйка, мать, человек, — это общее мнение всех тех, кто знает Лидию Владимировну.
На вопрос председательствующего —
— Мое искреннее пожелание супругам Бочкаревым: не уходить отсюда врагами, прекратить свой спор и дать суду торжественное обещание никогда не возобновлять его.
Свидетель Дуброва Мария Захаровна, 1914 года рождения, беспартийная, с высшим образованием, врач городской больницы, по существу дела показала:
— Я служу вместе с доктором Бочкаревым и являюсь другом детства его жены. Жизнь супругов Бочкаревых мне хорошо известна. Не скрою, многое я знаю только со слов Лидии Владимировны, поэтому в некоторых вопросах могу быть невольно односторонней, тем более, что я до сих пор остаюсь преданной подругой Лидии, страдания которой в какой-то мере являются моими страданиями и глубоко задевают мою душу…
На вопрос председательствующего —
— Последние пять лет живут они плохо. Больше виновен Бочкарев. Он не начинает ссор, но, что важнее, создает условия для них. Он охладел к семье. Какую женщину — жену и мать — не заденет это? Но я хочу быть честной перед судом, а ты, Лида, не сердись на меня: что-что, а ревновать Семена Михайловича у тебя нет никаких оснований. У нас много интересных женщин-медичек, но Семен Михайлович в этом смысле не виновен перед тобой. Ты мне до сих пор не верила в этом, думала, что я не хочу добивать тебя окончательно. Надеюсь, теперь поверишь…
На вопрос народного заседателя Болотова —
— Нет, жить так, как живут сейчас Бочкаревы, нельзя, хотя бы из-за ребят: они их уродуют своими скандалами.
На вопрос народного заседателя Цветаева —
— Нет, зачем? Они должны одуматься, помириться. Для развода у них нет причин. В данном случае я высказываю не только свое мнение. Это мнение всего нашего коллектива. Когда узнали, что я приглашена в суд, меня, как члена месткома, обязали заявить свой протест против развода Бочкаревых… А вам, Семен Михайлович, секретарь партбюро товарищ Локтев просил передать, что напрасно вы уклонились от чистосердечного разговора с ним, затеяв ломку всей своей жизни. Вы извините, пожалуйста, меня за то, что я взяла на себя эту неприятную для вас «миссию». Я действую сейчас и как ваш друг и как представитель общественности.
Замечания народного заседателя Цветаева:
— Будь вы, гражданин Бочкарев, моим хорошим знакомым, мне было бы стыдно за вас. Куда годятся ваши слова и мысли: жена подрывает авторитет! Экая вредительница! А вы что, не подрываете ее авторитета, заставляя каждый день обеды зря для вас готовить и беспрестанно разогревать их? Это у вас жена еще разумная и терпеливая. К тому же зря вы допустили, чтобы ваша супруга бросила институт, медицину. Но уж если допустили, так не считайте, что вы — всё, а ваша жена — ничто. Жена ваша живет не только для себя, но и для вас и для детей. А дети — это великое дело. Спору не может быть, что вы как детский врач любите всех детей. Но почему вы забыли своих? Итак, мой совет: напрасно вы, гражданин Бочкарев, обижаетесь на свою супругу. Я рекомендую вам отказаться от своего заявления и помириться с ней.
Председательствующий — народный судья Курский:
— Прежде чем поставить перед вами основной вопрос о примирении, я хочу сделать несколько замечаний. Я тоже не вижу никаких оснований для развода. Больше того, я не нахожу никаких причин для вашего конфликта; они или выдуманные (скажем, измена), или основаны на явном недоразумении, — я имею в виду чрезмерное .увлечение гражданина Бочкарева служебным и общественным долгом за счет долга семейного. Замечу, кстати, что наше понятие «патриот» охватывает и безупречное, честное отношение к работе и такое же отношение к семье. Не всё и вы продумали в этом вопросе, свидетель Никонов. Семья у нас не «всё остальное и прочее», она в нашей стране — важное звено в воспитании советского человека. Нельзя позволить уродовать детей: дети принадлежат не только родителям, но и обществу; нам нужны здоровые, морально и умственно полноценные дети, будущие граждане великой страны коммунизма. Мы должны всячески мешать супругам разводиться из-за пустяков. Соединили свою судьбу добровольно, по любви, — соблаговолите сохранить эту любовь, устраняйте всё, что мешает вам жить дружно; не поддавайтесь дешевым соблазнам.
Не может быть, граждане Бочкаревы, чтобы вы и сейчас стояли за развал своей семьи; чтобы вы во вторую, может быть, наиболее ответственную, часть своей жизни были врагами. Подрастут дети, они спросят: почему вы не оказались на высоте своего родительского долга?
Это будет серьезная претензия к вам; человечнее не доводить до этого. Я не могу дать точного рецепта, как вам вести себя впредь, если вы помиритесь. Но одно бесспорно: если люди хотят жить хорошо, у них всегда найдутся и ум, и такт, и время, чтобы семью сделать семьей.
Говорят обычно: со стороны видней… Во многих случаях это правильно, например, в вашем конфликте. Мы, судьи и свидетели, и, уверен, подавляющее большинство здесь присутствующих граждан — считаем конфликт несерьезным и горячо желаем вам помириться. Вот и обдумайте, как быть: закончить дело миром или продолжать вражду. Объявляю перерыв на десять минут.
Судьи удалились. В зале тишина. Присутствующие смотрят на Бочкаревых. Многие уверены в благополучном исходе дела. Кое-кто думает иначе: легче поссориться, чем помириться. И если уж Бочкаревы помирятся, то не здесь в суде, нет. Они образумятся окончательно недельки через две-три, не меньше. Все, однако, сошлись на главном: семья Бочкаревых спасена! Несерьезность конфликта обнаружилась в суде с очевидностью.
Семен Михайлович и Лидия Владимировна встали и, пряча глаза от людей, направились к выходу: она — впереди, он — сзади. Супруги с трудом протиснулись через толпу. Никто не посторонился, словно не желая выпустить их враждующими.
ЭСТЕТ
Откроем очередное дело, познакомимся с очередной супружеской четой. Фамилия — Синяковы. Ее зовут Марина Васильевна, его — Яков Николаевич.
Это дело при беглом с ним ознакомлении члену городского суда Павловой показалось самым обыденным. Сначала столкновения между супругами, как правило, из-за пустяков. Потом уязвленное самолюбие приводит к столкновениям посерьезнее. К подобного рода конфликтам Павлова уже привыкла. Небольшое усилие опытного в житейских вопросах человека, разговор по душам, и ощетинившиеся люди успокоятся, уйдут домой, благодарные советскому суду за внимательное отношение. Однако, когда она, подготовляя дело, вызвала к себе супругов, то обнаружила неожиданные трудности. Павлова не знала, кому из супругов симпатизировать, кто из них прав. Видимо, придется пригласить в суд прокурора.
К этому намерению Павловой Синяковы отнеслись безразлично. У каждого из них была своя позиция, каждый из них решил стоять на своем до конца, невзирая на любое вмешательство прокурора: она решила настаивать на разводе, он — категорически протестовать против этого.
Долго и напряженно, с утра до позднего вечера шло заседание суда. Когда же судьи, наконец, закрыли за собой дверь совещательной комнаты, какая-то пожилая женщина сказала:
— Да, сложна жизнь!..
* * *
Они знали друг друга с детства, дружили долго, дружба перешла в любовь, которая, как им казалось, связала их навеки. Однако Марина боялась замужества. Почему? Ответить на этот вопрос она не могла. В душе таились смутные сомнения, но они были настолько неопределенными, что Марина шутя называла их «потусторонними». В конце концов, она согласилась стать женой Якова. Отпраздновали свадьбу. Яков постарался на славу: вечер прошел великолепно. Гости много говорили о тонком вкусе молодого хозяина. Марине тоже понравился вечер: да, у Якова много энергии, инициативы, чувствуется большое стремление к изящному. Они будут жить содержательно и счастливо, как подобает жить в наше время, они имеют для этого всё, что нужно. Он, несмотря на свои двадцать шесть лет, — главный бухгалтер треста республиканского значения; она в двадцать четыре года успела окончить Планово-экономический институт, работает старшим экономистом машиностроительного завода. У Якова Николаевича была хорошая комната, родители Марины обставили ее приличной мебелью. Яков Николаевич имел уравновешенный характер, со всеми был вежлив, учтив. Окружающим нравилась и его внешность: он был высокого роста, лицо приятное, добродушное, голос напевный. Марина во всем была под стать мужу: длинные русые косы, ласковые серые глаза, правильные черты лица. Яков Николаевич горячо взялся за устройство своего быта; он решил строить его на новых началах.
В нашей советской жизни господствует план. В семье, в быту также не должно быть анархии!
Эти соображения он высказал жене.
— Что ж, делай, как знаешь, — выслушав мужа, сказала Марина. — Если нам уж так необходимо планировать свой быт, возьми это на себя.
— А я думаю, удобнее тебе, как экономистке…
— Сознаюсь, не чувствую к этому никакого влечения… По правде сказать, жить по точному плану в семейной жизни… как-то странно. И что мы от этого выиграем?
— Давай попробуем; попытка не пытка. Я убежден, что в строгом домашнем режиме ты скоро найдешь смысл и так привыкнешь к нему, что другого распорядка и не захочешь.
— Ну, скажем, питаться еще можно в определенные часы.
— А что кушать, — разве это не важно?
— Важно-то, важно, но…
— Минуточку!.. Покупка одежды, обуви, посещение театров, концертов, кино, выезды на курорты. Словом, личный бюджет надо держать в руках, да еще как!
— Мне ясно одно, — возразила Марина: — если денег нет или их мало, не помогут никакие расчеты.
— Ты ошибаешься… — Яков заметно стал горячиться. Марина решила его успокоить:
— Я же сказала: делай, как знаешь. Я хочу, чтобы ты во всех наших делах был настоящим главой семьи.
— Благодарю, дорогая, благодарю, но я не хочу насиловать твою волю. Кроме того, не скрою, мне неприятно, что у нас с первых шагов наметились чуть ли не разногласия по такому, с моей точки зрения, серьезному вопросу…
— Яша, преувеличиваешь, уверяю тебя!..
— Нисколько!
— Пре-уве-ли-чи-ваешь, Яша! Да, да! — Марина взлохматила волосы мужа и, улыбаясь, добавила: — А я и не подозревала, что ты такой хозяйственный и… такой беспокойный.
— Это что — упрек или похвала?
— Время ответит на твой вопрос. А сейчас я повторяю: никаких разногласий, во всем полная договоренность!
— От чистого сердца?
— Иначе не может и быть…
— Ура, браво, ура! — восторженно прокричал Яков Николаевич, подхватил Марину на руки и закружился по комнате. Через минуту, бережно усадив жену на диван, стал перед ней на колено и задушевно произнес:
— Вот что, Мара! Запомни, что я тебе сейчас скажу… Я сделаю всё, чтобы наша совместная жизнь была великолепной: ни одного дня без ярких красок, без богатых мыслей, без благородных чувств.
— Спасибо, милый, — растроганно ответила Марина, — благодарю тебя за такую чудесную программу, только излагаешь ты ее несколько странно, и я сказала бы — абстрактно. Я хотела бы услышать от тебя более простые и ясные слова. Ни одного дня, дорогой Яша, чтобы мы с тобой не сделали чего-нибудь полезного и нужного для Родины, ни одного дня без того, чтобы мы с тобой не внесли хотя бы маленького вклада в великое дело построения коммунизма… Не так ли?.. Ты это хотел сказать?
— Да, да, роднулька, именно это… прости меня за пристрастие к так называемой красоте слога… недаром меня еще в детстве мама называла эстетом. — Яков Николаевич поцеловал жену и добавил: — А тебе большое, большое спасибо за поправку.
В течение дальнейших пяти лет семейной жизни Синяковым не раз приходилось вспоминать об этом разговоре: ему — с раскаянием: зря дал повод жене обвинять его в обмане; ей — с горечью. Их отношения сильно осложнились, дело дошло до суда.
«Только что вернулись из народного суда, — писала в дневнике Марина. — Судья Курский убедил меня помириться. Нет, не то слово: мы ведь с Яшей не ссоримся. Со стороны, наверно, кажется, что я пришла в суд без серьезного повода или, что развод нужен мне для каких-то других целей… Один из народных заседателей именно в таком духе и сделал намек. Спасибо судье, поправил его. Этот Курский — тонкий человек. Убеждена, что понимает меня, понимает, что я не преувеличиваю драму. Понимает и сочувствует. Но мне от этого не легче. Не верю я в длительную нормальную жизнь с Яшей. Из пяти лет четыре года я билась с ним, убеждала, просила, умоляла одуматься. Сколько раз он обещал уступить… «уступить» — в этом ужасном для меня слове вся его душа, расчетливая, холодная, а может быть, и жестокая. Вот тебе и эстет!.. Эх, эстет эстет! Вот и сегодня, когда мы возвращались из суда, он сказал: «Уж теперь-то я сдержу свое слово, уступлю тебе. Я хочу, чтобы ты на живом примере убедилась в своей неправоте». Поистине, горбатого могила исправит!..»
В дневнике Марины немало интересных записей. Однако взгляды и переживания только одного супруга могут ввести в заблуждение. Здесь нужны бесстрастные наблюдения, объективное изложение фактов.
Первый год семейной жизни Синяковых прошел, можно сказать, хорошо. Ни одного недоразумения, если не считать размолвки из-за «планирования» быта. Яков Николаевич ведал домашним бюджетом, вся их зарплата поступала в его руки. С согласия жены он часть денег выделял в так называемый НЗ — неприкосновенный запас. НЗ нисколько не стеснял Синяковых: они зарабатывали хорошо, им хватало на всё.
Примерно спустя год Марина обратила внимание на некоторые странности в поведении мужа: он слишком часто стал посещать комиссионные магазины, подолгу любовался антикварными предметами, особенно хрусталем, заводил об этих вещах пространные скучные разговоры. На второй день после снижения цен на продовольственные и промышленные товары Яков Николаевич не только соответственно снизил сумму расходов на питание, но и стал выдавать столовые деньги не на месяц, как прежде, а на каждый день. Это нововведение он объяснил желанием проверить, сумеют ли они уложиться в сокращенный бюджет. Марина была не только оскорблена, но и встревожена: не слишком ли он увлекся «планированием»? Не сузил ли он этим свой духовный мир? Кажется, Яков совершенно не читает, не интересуется ни наукой, ни литературой. И с театрами у них не так уж хорошо: кроме Музыкальной комедии, никаких других театров они не посещают. Марина скоро заметила, что Якова подлинно интересовало только то, что имело непосредственное отношение к нему, как к хозяину комнаты в 26 метров, обставленной красивыми, создающими уют вещами. Открытие это было настолько тяжело, что Марина почувствовала себя несчастной.
— Ты, кажется, перестал читать, — как-то мягко напомнила она мужу.
— Разве? — виновато улыбаясь, Синяков развел руками. — Замотался, окончательно замотался. Сама знаешь, объекты всё растут, продукция в ассортименте беспрерывно увеличивается. Нелегко нам, счетным работникам крупных трестов.
— Дела у тебя, Яша, много, но ведь и у меня не меньше… да и у всех нас, советских людей, не меньше… Я хочу предложить тебе прочесть одну интересную книгу… она о трудовых подвигах наших людей… Читаешь, и так тепло делается на сердце… Так прочтешь? Я положу ее к тебе на стол.
— Прочту, конечно, прочту. Превозмогу усталость и прочту. Я не такой уж сухой человек, как ты думаешь.
— Я не думаю, но я боюсь, что ты… как-то обособился от всего… одни твои гроссбухи…
— Права! Сто крат права! — воскликнул Яков Николаевич. — Учтем все твои справедливые замечания, учтем и подтянемся.
— Можно сделать тебе еще одно маленькое критическое замечание?
— О да, рад буду выслушать!
— Боюсь, обидишься… Я почему-то стала тебя опасаться.
— Это что еще за новость?! Говори всё, что думаешь, откровенно, чистосердечно. В быту это особенно полезно.
— Ты, Яша, так красиво говоришь, что мне даже неудобно продолжать разговор.
— Да что с тобой?! Хочешь поссориться, так и скажи!
— Кто же об этом заранее предупреждает? — рассмеялась Марина. — Если мы с тобой когда-нибудь и поссоримся, то это произойдет мгновенно и, как мне кажется, бурно.
— А если я не хочу или не умею ссориться — что тогда?
— Достаточно будет, если этого захочу я.
— Это как сказать… Не слишком ли ты самоуверенна?
— Нет, не слишком, и даже просто не самоуверенна. Если женщина захочет ссоры, она вынудит на это самого кроткого человека.
— Убедила. Сдаюсь. Учтем, Мара, учтем… А теперь выкладывай камень из-за пазухи… Нет, серьезно, что ты хотела сказать?
— Билеты в театр ты берешь исключительно в Театр эстрады да в Музкомедию.
— Что ж в этом плохого? Хочешь на балет или в оперу — сделай одолжение, всё к твоим услугам…
— Мне хотелось бы в драматический.
— Вот чего не люблю, того не люблю. Ни тебе ярких красок, ни музыки. А без этого и зрелище — не зрелище… Нет, Мара, у тебя в самом деле начинает портиться характер. Но я еще раз, предупреждаю тебя: на ссору со мной не рассчитывай. У меня, видимо, соответствующие участки нервной системы — увы! — от рождения отсутствуют. Впрочем, уж если тебе так хочется в драмтеатр — ради бога, сделай милость, хоть завтра, хоть каждый день…
Время, впрочем, не оправдало этих обещаний.
Книга, положенная мужу на стол, осталась непрочитанной, билеты в драматический театр — не купленными… Однако Яков Николаевич успевал неоднократно посещать комиссионные магазины, одни вещички сдавал на комиссию, другие приобретал… Он мог бесконечно радоваться купленному креслу, обивка которого по цвету подходила к обоям, или лампе с бронзовыми завитушками…
— Устал, уф! — восклицал он. — Только и отдыхаешь у себя в комнате. Хорошо у нас, роднулька, но подожди, будет еще лучше.
И он садился проверять расходы по дому за последние дни.
Отношения с женой осложнялись, хотя он этого не понимал. Прошло немало времени с тех пор, как Яков Николаевич под предлогом эксперимента сковал Марину ежедневными выдачами денег. Вначале она ждала, что эксперимент кончится, но он всё продолжался. Как заводная машина, перед уходом на работу отпускал Яков Николаевич жене установленную сумму, причем делал это молча, с какой-то унижающей важностью. Марина всё больше и больше не понимала мужа, вернее, боялась признаться себе, что слишком хорошо понимает его. Заметив исчезновение со своего стола книги, которую Марина предложила ему прочесть и которую, как он понял, она же и унесла, Яков Николаевич аккуратно раз в неделю стал приносить из библиотеки новинки художественной и научно-популярной литературы. Однако книг этих не читал.
— Книги не любят, когда их чтут, — сказала, наконец, Марина, — они любят, когда их читают.
— Совершенно верно, — невозмутимо отозвался Яков Николаевич, — очень хорошо сказано. Среди нас, роднулька, еще немало таких деятелей-деляг, которые охотно тратят деньги на книги, с гордостью украшают ими квартиру, а спросить кого-нибудь из них, что к чему, содержание той или другой книги, он тебе такое завернет, что сам Жюль Верн ахнет.
Марина решила не углублять неприятного разговора.
Как-то она вернулась домой с семинара по изучению истории партии в двенадцатом часу ночи. Яков Николаевич, как всегда, в это время был уже дома. Он стоял у шкафа, спиной к двери, не замечая вошедшей Марины. Что он делает? Зачем ему понадобились платья Марины? Он доставал их одно за другим, внимательно рассматривал и снова вешал на место. Такой же участи подверглось и белье. Марина не выдержала. Она спросила, над чем он так «вдохновенно» трудится?
Яков Николаевич вздрогнул, круто повернулся, держа в руках розовую, с бледноголубой вышивкой, рубашку жены. Лицо его было красным, глаза горели недобрым огнем.
— Ну, куда это годится?! — спросил Яков Николаевич. — Разве это художественная вышивка? Обрати внимание на эти цветы… Где тут симметрия? и потом, что это за цветы — васильки или ромашки? По-моему, ни то, ни другое. Какой-то неслыханный гибрид, честное слово!..
Марина молча взяла из рук мужа рубашку и положила в шкаф.
— Кстати, я хочу спросить тебя, Мара, когда ты это купила?..
— Кстати, я тоже хочу тебя спросить, — в тон мужу отозвалась Марина, — почему тебя заинтересовали мои тряпки?
— Извини, пожалуйста, у тебя всё в отличном состоянии. Вот только эта рубашка. Где ты ее купила?
— Зачем тебе знать?
— Я написал бы претензию…
Яков Николаевич замялся, еще больше нахмурился, беспокойно погладил свои волосы. Ему очень хотелось спросить, откуда жена взяла на рубашку деньги. Утаила от него какую-нибудь премию или сэкономила на столе, за счет питания? И то и другое плохо, очень плохо, нечестно.
— Перестань, — взволнованно сказала Марина. — Ни слова больше!
— У тебя опять шалят нервы.
— Да, да… шалят… Очень шалят… Мне не по себе…
— Хорошо, хорошо, не буду.
— Ты ужинал?
— Я ждал тебя… Ты же отлично знаешь, что без тебя я не сажусь за стол. Сколько раз я просил не забывать, что дома тебя ждет муж. Это, как-никак, не менее важно, чем выступления какого-нибудь сотоварища по семинару.
— Ты говоришь так потому, что сам не учишься…
— Дорогая моя, я состоял в свое время в кружке… Но время, время горит!.. И потом надо же немного отдохнуть…
— Перебирая в шкафу мои тряпки?.. Эх, Яша!..
Марина страдала сейчас, как никогда: «Муж — тряпичник! Что может быть ничтожнее, омерзительнее?!» А муж как ни в чем не бывало, замяв разговор об учебе, балагурил по поводу доморощенных художниц, которые не могут отличить в своем высоком творчестве ромашку от василька.
— Я еще раз прошу тебя, Яша, прекратить этот никчемный разговор.
— О чем же нам тогда говорить?
— Вот это верно… Нам, кажется, в самом деле, не о чем больше говорить. Давай ложиться спать.
— И это неплохо, — добродушно согласился Яков Николаевич.
Через несколько минут Яков Николаевич спал крепким, спокойным сном. Марина заснуть не могла.
* * *
Она решила еще раз попытаться поговорить с мужем по-хорошему. Напрасные усилия: Яков Николаевич продолжал идти своим путем. Он был доволен собой, своей службой, своим домашним очагом, женой. Не беда, что Марина иногда капризничает. На то она и женщина. Все женщины в той или иной мере капризничают. Самое важное — материально они живут отлично. У них радиоприемник с радиолой, усовершенствованный телевизор, карельской березы полубуфет, зеркальный шкаф. При разумном отношении к ежедневным расходам по дому можно приобрести постепенно еще множество прекрасных вещей. Яков Николаевич стал скупать хрусталь, редкие бокалы, графины, вазы и другие антикварные предметы.
Марина с затаенной неприязнью наблюдала за новой страстью супруга. Яков Николаевич, заметив, что жена не разделяет его любви к хрусталю, принялся добродушно иронизировать над ней: жене нельзя не любить того, что любит муж. Его увлечения должны стать ее увлечениями.
Яков Николаевич долго не решался купить оригинальную вещицу: графин-семирадугу, — смущала слишком высокая цена, и, наконец, решился. Пусть дорого, зато у него будет редчайший графин — семь радуг одновременно; семью семь — сорок девять красивейших линий…
— Поди сюда, Мара, скорей, скорей!..
Марина подбежала к мужу, полагая, что с ним что-то случилось.
— Что за чудо!.. Смотри, считай… раз, два, три…
— Всякому терпению приходит конец! — взволнованно сказала Марина. — Мое терпение, Яша, иссякло… Я больше так жить не могу и не хочу.
Яков Николаевич смотрел на нее с величайшим изумлением.
— Не могу и не хочу! — решительно повторила Марина. — Выслушай меня, выслушай тяжелую для нас обоих истину.
— Что ты затеваешь? Хочешь испортить выходной день?
— Ты портишь всю нашу жизнь!
— Ну, ну, ну! Вот это уж ни к чему!.. Давай-ка лучше отдохнем. Взгляни сюда! — Яков Николаевич раскрыл окно. — Взгляни, какое голубое небо!..
Марина закрыла окно, взяла за руку мужа, усадила на диван. Сама села против него на стул.
— Я подсудимый? — смеясь, спросил Яков Николаевич. Он всё еще не верил, что Марина намерена вести серьезный разговор.
— Подсудимой будет наша личная жизнь, Яша. Мы с тобой должны решительно осудить нашу нелепую личную жизнь.
— Вот те раз!.. Почему нелепую?
— Нелепая она потому, что мелкая, постылая, никому не нужная!.. Мне, Яша, не нравится весь уклад нашей жизни. Мало сказать: не нравится… Он мне противен, я ненавижу его, а нередко и тебя…
— Что с тобой, Мара, опомнись?.. Что ты говоришь, какие страшные слова!..
— Не мешай, Яша. Всё, что я скажу тебе сегодня, накапливалось во мне долго.
Марина встала, прошлась по комнате и снова села на стул. Яков Николаевич напряженно следил за каждым ее движением… Пожалуй, впервые за всю их совместную жизнь Марина заметила тревогу на его лице.
— Нет у нас счастья, Яша. Мне часто говорят о твоей красоте. Верно, ты красив, у тебя этого никто не отнимет. Ты хорошо работаешь, тебя часто премируют. И это верно. У тебя как будто неплохая жена, обладает даже приданым в виде зарплаты и систематических премий за перевыполнение производственного плана. Спорить и против этого нельзя. Питаемся хорошо. Одеваемся хорошо. Комната обставлена прилично: сверкает хрусталем, играет всеми цветами радуги. Казалось бы, за что такую жизнь проклинать? Именно такую жизнь я и ненавижу, она не наша, она — чужая мне жизнь.
— Убей меня, не понимаю ничего. Хотя нет, понимаю одно: в тебе зародились какие-то дикие, чудовищные мысли!
— Не говори глупостей. Ничего дикого, да еще чудовищного, в моих словах нет. Подумай хорошенько сам, и скажи — нормально или нет, когда дома ты занят только своим «планированием», подсчетами, расчетами, когда в них все твои мысли, всё твое сердце. И оно еще вот там, в этих столиках, шкафиках, в прозрачных холодных стекляшках… Подумай, где мы живем, и в какое время живем! Какие дела творятся вокруг нас! А ты равнодушен, ты мертв ко всему, что за пределами балансов твоего треста и этой комнаты. Нас все чураются. Скажи, почему, кроме родных, у нас никто не бывает? Почему нас перестали приглашать твои и мои друзья? Кому нужно такое затворничество, кому нужна эта одичалость? Сколько раз я пыталась изменить наш образ жизни?! Сколько раз ты обещал пойти мне навстречу?! Сколько ты перетаскал из библиотеки домой книг, возвращая их непрочитанными?! Кого ты обманываешь, зачем обманываешь?
— Можно мне теперь сказать? — хмуро спросил Яков Николаевич.
— Я еще не всё сказала… Яша, если ты не послушаешь меня, тогда конец: нам вместе не жить…
— Нельзя ли конкретнее! Чего ты хочешь?
— Я всё сказала. Больше не услышишь ни единого слова…
— Но зато у меня есть к тебе, вопросы!.. Что, по-твоему, я должен сделать с нашими сбережениями — выбросить их, подарить?
— Если у тебя и остальные вопросы в таком же духе, можешь не утруждать себя.
— А я вполне серьезно спрашиваю. Может быть, ты прикажешь выбросить и хрусталь?..
— Не выбросить, а продать, оставив в доме самое необходимое.
— По-твоему, мне лучше коллекционировать почтовые марки, как это делают школьники?
— Лучше марки!.. Расширишь хоть свои знания по географии.
— Может быть, лучше обойтись без оскорблений?
— Если тебя это обижает, прошу извинить. Я сказала без злого намерения.
— Я жду ответа по существу заданных тебе вопросов!
— Нет, ничего ты не понимаешь, — сказала Марина, — ничего.
Яков Николаевич всмотрелся в лицо жены и вдруг улыбнулся:
— Стой! Я понял, всё понял. Я подумаю, роднулька, всё продумаю, всё взвешу, и, мне кажется, мы обо всем договоримся. Ты прости меня: я очень взволнован… ты так ошарашила меня, так много наговорила неприятного, страшного, что голова кругом идет.
* * *
Марина зашла к матери. Раньше ее отношения с матерью строились на началах полного доверия и дружбы. Этому принципу Марина изменила только в последние годы и только в одном вопросе: она скрывала от матери правду о своих взаимоотношениях с мужем. Она не хотела волновать мать. Но на этот раз рассказала всё.
Вера Александровна выслушала дочь спокойно.
— Вот что, Марина, — сказала мать, — постарайся понять меня. Твой Яков — хороший муж. Он не пьяница. Супружеского долга, сама говоришь, не нарушает. Честный человек. Вежливый, почтительный. Здоров. Отличный работник. Что еще нужно для мужа? По-моему, больше ничего. Расчетлив? Ну и что? Это еще не значит, что скуп. И потом, когда муж тянет не из дому, а в дом… В этом, Маряша, ничего дурного нет. Всё принадлежит вам, всё ваше общее. Узок кругозор, мелкие желания?.. Ну, знаешь, тебе же с него не книгу писать. Честный, хороший, уравновешенный работник… На твоем месте таким мужем гордиться надо, а не страдать.
Марина задумалась. Мать удивила и обидела ее своим отношением к ее горю.
— Я понимаю тебя, мама, — сказала она грустно.
— Вот и хорошо, Марина. Я рада за тебя…
* * *
Марина решила поговорить с секретарем партбюро треста, где работал муж. Ничего, что она и Яков — беспартийные. Партии близки и дороги интересы всех советских людей. Муж отзывался о секретаре, как о человеке чутком и умном. Она расскажет ему всё.
Марина предупредила о своем намерении мужа. Яков Николаевич одобрил ее. Может быть, секретарь в самом деле поможет им выйти из тупика! Пусть Марина пойдет к нему одна. Он не боится одностороннего освещения фактов, он верит в ее честность и порядочность.
И вот Марина лицом к лицу с незнакомым ей человеком, секретарем партбюро товарищем Столетовым.
Выслушав Марину Васильевну, жену уважаемого в их тресте сотрудника, Столетов был крайне удивлен. Яков Николаевич считался в тресте образцовым семьянином. Столетов почувствовал себя в роли человека, которому предстоит выдержать серьезный экзамен. Эта молодая женщина поставила перед ним сложные принципиальные вопросы.
Она права, она хочет, чтоб муж ее был безупречным человеком не только на службе, но и дома. Она не против того, чтобы готовить вкусные обеды и исполнять в доме любую, нередко нудную, утомительную работу. Она против затхлого мелкого духа, пронизывающего в их доме всё. Скучно, противно. Можно ли так жить дальше?
Столетов задумался. Действительно, как быть с такими людьми, как Яков Николаевич? На работе к нему нет претензий. Больше того, во многих отношениях он пример для других. Да и в его быту…
— Если кем-нибудь нарушаются лучшие идеалы нашего общества, разве это не заслуживает самого решительного осуждения? — спросила Марина.
— Да, вы правы. В поведении вашего мужа, на первый взгляд, нет ничего плохого. Как работник, он у нас на отличном счету… Сложно всё, очень сложно. Так просто к вашему мужу не подойдешь…
— Я понимаю вас… Но при разговоре с ним имейте в виду: он во всем с вами согласится. Между прочим, эта его подкупающая сговорчивость и меня не раз сбивала с толку…
— Меня он еще никогда не подводил: скажет — сделает. Завтра же поговорю с ним.
— Только не обижайте его, пожалуйста!
— Вот что значит сердце любящей жены!..
Марина, вернувшись домой, рассказала мужу о своем посещении Столетова в самых общих чертах…
— Ничего нового я ему не сказала, Яша… всё то, что тебе известно.
Как же реагировал на это Столетов? Яков Николаевич сгорал от любопытства, но не расспрашивал жену, — не хотел ронять своего достоинства. «Хорошо, — решил он, — если хочешь всё держать в секрете, обойдусь без тебя».
На следующий день Яков Николаевич зашел к Столетову.
— Жена была у вас, теперь моя очередь, — сказал он, грустно улыбаясь.
— Прошу, прошу, Яков Николаевич. Я был рад познакомиться с вашей женой… Так, оказывается, на вашем семейном горизонте есть тучки?
— Представьте себе, есть, но искренне рад, что именно вы будете нашим арбитром.
Долго и взволнованно рассказывал Синяков о своей семейной жизни, о своей любви к Марине, о своем благородном стремлении сделать любимую женщину предельно счастливой. К великому огорчению, то ли она его не понимает, то ли он ее…
— Вся надежда на вас, товарищ Столетов… Случайным мелочам, чудовищным пустякам моя Марина придает потрясающее значение.
— Надеюсь, мы с вами разберемся во всем, — сказал Столетов. — У меня есть к вам вопрос, если разрешите…
— Сделайте одолжение! — поспешно отозвался Синяков.
— Я хотел бы, прежде всего, спросить: себя вы считаете в чем-нибудь виновным, или нет? Какие у вас лично претензии к жене? Что вы намерены предпринять для того, чтобы согнать тучки, как я сказал, с вашего семейного небосклона?
— С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Позвольте лишь несколько нарушить их последовательность. Я хотел бы ответить раньше на второй вопрос.
— Пожалуйста, Яков Николаевич!
— Жена недовольна мной, жалуется на меня; я же доволен женой и не жалуюсь на нее, несмотря на то, что в последнее время она часто раздражается, как вы сами только что изволили видеть, из-за сущих пустяков. Я не упрекаю ее за это. Пусть! У каждого человека есть свои индивидуальные особенности. — Яков Николаевич скорбно посмотрел на Столетова и шумно вздохнул. — У меня тоже есть свои индивидуальные особенности. Почему бы жене не считаться с ними? Марина же требует, чтобы я немедленно стал совершенно другим человеком. Позвольте в связи с этим искренне заявить: как вы решите, так и будет. Я всё сделаю, что вы найдете нужным, что будет в интересах нашей советской жизни, в интересах нашего советского дела.
— Позвольте! — удивился Столетов. — Мы ведь говорим сейчас о ваших интересах, об интересах вашей семьи…
— Интересы моей Родины и мои — неотделимы друг от друга.
— Это вы хорошо сказали, Яков Николаевич… Но лично мне кажется, что более права ваша жена… — И Столетов стал излагать точку зрения Марины на семью.
Сначала Синяков сидел в мучительно-каменной позе, с каменным лицом, но потом вдруг спохватился, улыбка осветила его черты, он стал кивать головой и поддакивать.
— Да, да, конечно, это так! Разве может быть иначе? Ведь я тоже думаю так… искренне рад вашим выводам. Плохого мне вы уж, конечно, не пожелаете… С завтрашнего же дня начну делать всё, чтобы наша жизнь с Мариной засветилась новыми огнями, стала еще лучше, еще краше…
Столетов пристально посмотрел на Синякова и протянул ему руку.
— Даете слово?
Синяков схватил руку секретаря своими обеими руками и стал энергично трясти ее:
— Мое слово — закон, особенно если я даю его человеку, которого ценю, считаю первым среди нас. — Взглянув в глаза Столетову, Яков Николаевич продолжал: — Разрешите мне, пользуясь этой задушевной беседой, спросить — нет ли у вас ко мне вообще каких-либо претензий по работе?
Столетов успокоил Синякова: других претензий нет.
Когда Синяков ушел, Столетов задумался и долго смотрел в окно. В его ушах звучали последние слова Якова Николаевича: «В самое ближайшее время, дорогой товарищ Столетов, мы с Мариной будем рады доложить вам, что между нами полный порядок, полная гармония, полное благополучие…»
Столетов сейчас точно другими глазами увидел этого почтенного трестовского работника. Выйдет ли у них что-либо?
* * *
Через несколько дней Синяков, не дожидаясь получки, выдал жене столовые деньги до конца месяца (на две недели с лишком!), положил перед ней билеты в драматический театр, а на свой письменный стол — стопку книг Ленина и Сталина. Марина внимательно посмотрела на мужа. Весь вид его говорил: ну, что — довольна? Видишь, я исправляюсь. Марина вздохнула и покачала головой. Не слишком ли быстро, так вдруг? Но она ничем не выдала своих сомнений. Дальнейшее как будто опровергло ее сомнения: Яков Николаевич действительно читал книги, действительно работал над ними. Особенно порадовало Марину то, что Яков читает Ленина и Сталина.
— В кружок по изучению истории партии я не записался, Маринушка, — как-то вечером сказал Яков Николаевич, — а индивидуальный план… вот, пожалуйста, — Яков Николаевич показал жене листок, отпечатанный на машинке. — Сам Столетов одобрил.
Яков Николаевич говорил так торжественно и с таким удовлетворением, что она, при всем своем скептицизме, поверила его искренности.
— От всего сердца, Яша, дорогой, желаю тебе успехов. — Марина обняла мужа.
Казалось, семейная жизнь Синяковых стала быстро налаживаться. Перестали по вечерам щелкать синяковские счеты, смолкли разговоры о расходах и комиссионных магазинах… Правда, на вопросы, которые Марина подчас задавала мужу, интересуясь его успехами в индивидуальной работе, он не отвечал толком, отделываясь восклицаниями: «Работаем, Маринушка, работаем! Скоро встречусь со своим руководителем…»
Ну что ж, не хочет до поры до времени хвастаться… пусть уж, пусть!
Однажды Марина проводила теоретическую конференцию. Среди участников конференции разгорелись страсти, была много выступлений и споров. Марина возвращалась домой хотя и усталая, но довольная: представитель районного комитета партии похвалил ее, как организатора конференции, кроме того, отметил ее содержательное заключительное слово. Жаль, что не пришел на конференцию Яша. Обещал, а не пришел.
Якова застала дома. Он сосредоточенно писал и настолько увлекся работой, что не заметил жену.
Не пришел на конференцию, но работает. Хорошо, очень хорошо, дорогой мой!
Марина на цыпочках подошла к мужу и заглянула через его плечо. Яша прорабатывал газетную статью «В помощь пропагандисту».
Почувствовав за своей спиной дыхание, Синяков повернул голову.
— А, это ты, Мара, — добродушно протянул Яков Николаевич. Встал, поцеловал жену в щеку.
— Ну, как на конференции? Всё отлично? Я так и думал. Приготовь поужинать… я скоро закончу.
После ужина Яков Николаевич усадил Марину на диван, сел рядом и раскрыл пухлую тетрадь, одна треть которой была заполнена его крупным каллиграфическим почерком.
— Ты всё любопытствуешь, как идет моя работа… Вот послушай.
Читал Яков густым, напевным баритоном, читал с подъемом, с явно выраженной задушевностью. Иногда он отрывался от текста, делая вид, что записанное хорошо известно ему, что он владеет материалом в совершенстве. Чтение длилось уже минут двадцать.
— Постой-ка, — сказала Марина. То, что читал Яков Николаевич, напомнило ей вчерашнюю статью в газете. — Постой-ка, Яша… — взяла из рук мужа тетрадь, подошла к столу, взглянула на газетный лист. Совпадение дословное!
— Яша! Разве так работают над первоисточниками?! Вместо того чтобы конспектировать труд Ленина, ты без изменений переписал газетную статью. Почему же ты не читаешь самого Ленина?
— Хоть убей меня, не понимаю, что ты хочешь от меня! — У Якова Николаевича задрожал голос, на глазах выступили слёзы. — Уж я ли не хочу идти в ногу с тобой?! Я думал, что обрадую тебя, а ты опять недовольна. Чем плоха статья? Статья правильная. Ведь это же невозможно, Мара. Я, в конце концов, не школьник и не в школе. Я взрослый человек, и у себя дома. Другие мужья чорт знает, что делают, а жёны перед ними в лист расстилаются. Я не пьяница, не картежник, не кляузник, от работы не увиливаю, тружусь без у́стали, а уважения, простого уважения, от собственной жены не имею ни на грош. Ну, переписал статью, что в этом плохого?
Марина задумалась. Яков, нахохлившись, тоже молчал. Молчание прервала Марина.
— Жаль мне тебя, Яша, — с грустью сказала она, — но только жалостью тебе не поможешь. И вообще я не знаю, в силах ли тебе кто-нибудь помочь. Я ходила к Столетову, просила совета у него, но, дорогой мой, если ты сам не захочешь стать другим — никто тебе не поможет. Ведь всё то, что ты стал делать за последнее время, ты делаешь только для того, чтобы успокоить меня, в душе же попрежнему этого не хочешь и от всего совершенно далек. Механически переписал статью «В помощь пропагандисту» и читаешь ее мне! Зачем? Я ведь сама прочла ее в газете еще вчера…
Яков Николаевич схватился за голову.
— Нет, это ужасно! Прошу, умоляю, хочешь, на коленях буду перед тобой ползать. Опомнись, перестань набрасываться на меня, я начинаю подозревать, что ты меня ненавидишь. — Яков Николаевич запустил руки в волосы, отчаянно взъерошил их и стал метаться по комнате. Марина испугалась: истерика у мужчины!
— Яша, успокойся! — Она взяла его за руки. — Идем, дорогой, сядем на диван.
Сели. Яков Николаевич сказал:
— Я буду откровенен. Да, всё это я делал ради тебя, ради того, чтобы в нашем доме был мир. Мир и любовь в семье — что может быть выше этого счастья?! И оно достижимо, это счастье, Мара… Я готов на всё ради него, ты это видишь… Но ты, ты… ты ничем не хочешь поступиться. Мара, будем откровенны… Ты столько сил отдаешь общественной работе и политзанятиям, что я просто брошен, я несчастлив… Я не жалуюсь, я никогда и никому не жаловался на тебя… и Столетову не жаловался, — но я несчастлив. Разве женское дело устраивать конференции? — Яков Николаевич испуганно, но с надеждой смотрел на жену.
— Я устраиваю конференции, а ты тут один? — раздумчиво переспросила Марина. — Но ведь ты мог бы быть со мной, я ведь тебя приглашала…
Яков Николаевич увидел глаза Марины, пытливые, внимательные, и спохватился:
— Да, да, ты права, я мог быть с тобой… И должен быть с тобой… а переписать статью можно было и потом… Да, да… Нужен в нашей жизни радикальный перелом… И он будет, не беспокойся, роднулька.
Через несколько дней, в течение которых супруги Синяковы не возвращались к теме последнего разговора, Яков Николаевич вдруг принес домой ящики и древесную стружку. Разместив принесенное посреди комнаты, он стал снимать с полок буфета и шкафчиков хрусталь, перетирать его и осторожно укладывать в ящики.
— Ты что, переезжать собираешься? — спросила Марина.
Синяков выпрямился:
— С завтрашнего дня я приступаю к распродаже хрусталя. — Лицо его было торжественно, но он точно чего-то ждал…
— Ну что ж, — сказала Марина, — не возражаю. Больше воздуха будет в комнате.
Яков Николаевич засуетился вокруг ящиков.
— Именно, больше воздуха будет в комнате, именно…
Три вечера подряд укладывал Яков Николаевич свой хрусталь и никак не мог упаковать. Сотни раз вынимал он и вновь укладывал вазочки, фигурки, что-то бормотал над ними, что-то приговаривал…
Прошла неделя. Ящики как стояли в комнате, так и продолжали стоять. Марине всё стало ясно. Яков Николаевич сыграл в мелкую игру. Он полагал, что Марина, увидев его упаковывающим драгоценные вещицы, будет тронута силой его характера и закричит: «Что ты, Яша, дорогой! Покупали, теперь продавать? Зачем же?!». Но Марина спутала все его карты. Теперь ему не оставалось ничего другого, как в самом деле продать хрусталь. Однако на это у него нехватало духу. Марина сказала мужу:
— Поставь хрусталь на место, а ящики вынеси… Я не требую от тебя такого самопожертвования. В последнее время, после разговора со Столетовым, ты вообще насилуешь себя… Я не хочу этого. Я думаю, лучше тебе остаться самим собой, делать то, к чему искренне влечет сердце.
Яков Николаевич словно ждал этих слов жены.
— А верно, роднулька, давай-ка жить так, как жили мы семь месяцев назад. У каждого свои слабости, свои страстишки… У тебя свои, у меня свои, и у Столетова, наверное, есть свои… А раньше мы, ей-богу, неплохо жили…
— Очень хорошо, — едва владея собой, сказала Марина, — я согласна, будем жить, но… ты сам по себе, я сама по себе.
— Что-то не совсем понимаю?
— Иначе говоря, мы должны немедленно прекратить нашу нелепую семейную жизнь.
* * *
Спустя полтора месяца супруги Синяковы стояли перед судейским столом. Яков Николаевич и на этот раз был верен себе: он во всем охотно соглашался с народным судьей Курским, и с народными заседателями, и с женой. Он был преисполнен кротости. Его самокритическое отношение к себе, полное признание своих ошибок вызвали всеобщее одобрение. Одна лишь Марина не щадила мужа, она обвиняла его в ханжестве, она не верила ни одному его слову.
Курскому пришлось долго уговаривать Марину Васильевну. В конце концов он добился своего: Марина согласилась на мировую, согласилась без веры не только в мужа, но и в себя. Она пришла домой, раскрыла дневник и сделала в нем очередную запись.
К этой записи, с которой мы познакомились в начале рассказа, остается добавить немногое: Синяковы так и не наладили своей семейной жизни. Правда, Яков Николаевич провел за это время еще одно «радикальное мероприятие», но оно только ухудшило отношения супругов. Синяков купил дачу, обнес ее высоким забором и посадил во дворе на цепь немецкую овчарку. На это были затрачены все сбережения, и пришлось продать половину хрусталя. Яков Николаевич сделал это тайно от жены, рассчитывая доставить ей радость и этим раз навсегда покончить со всеми недоразумениями. Марина была окончательно убита. Зачем им двоим, бездетным, дача?
Они фактически перестали быть мужем и женой: по настоянию Марины, каждый из них стал жить на свои средства.
Теперь Яков Николаевич избрал новую тактику: он мрачно молчал или грустно повторял одну и ту же фразу, сказанную ему в свое время женой: «Делай, как знаешь».
Когда супруги Синяковы снова появились в народном суде, Курский уделил их делу всего лишь несколько минут. В решении суда была записана короткая фраза:
«Примирение сторон не достигнуто»…
Эта фраза открыла Синяковым дверь в Городской суд. Марина вошла первой, вошла с болью в сердце и, как известно, с непоколебимой решимостью вернуть себе независимость и свободу действий. Яков Николаевич и в Городском суде на все вопросы тихо отвечал: «Я решительно не согласен на развод, а там дело ваше: решайте, как хотите, как будет лучше…»
Здесь, в Городском суде, при рассмотрении дела Марина повторила уже известные нам доводы.
— Скажите, гражданка Синякова, — спросила в конце судебного заседания судья Павлова, — вы убеждены, что исчерпали всё… что вам не удастся помириться с мужем?
— Да, убеждена.
— А не считаете ли вы и себя виноватой в чем-либо… возможно, в меньшей степени?
— Единственно, в чем я виновата — в собственном бессилии. Привычки мужа, его взгляды, его желания оказались сильнее меня…
— Может быть, вы всё же измените свое намерение?.. Мне кажется, что целесообразнее и справедливее с разводом повременить.
— Сколько же еще можно страдать? Позвольте мне, граждане судьи, отказаться от мнимого счастья, от узко-корыстных интересов, которые так старательно и так безуспешно пытался привить мне мой супруг.
Прокурор был немногословен. Он решительно высказался за удовлетворение иска. Семью Синяковых нельзя восстановить и укрепить. Таких людей, как Синяков, трудно, а может быть, и вовсе невозможно поставить на правильный путь. Во всяком случае, для этого потребовалось бы много терпения, времени, труда и каких-то особых педагогических навыков. Истица, видимо, выбилась из сил. Могут ли суд и он, прокурор, подсказать ей новые меры, чтобы сохранить семью? Нет, не могут. А поскольку не могут, надо согласиться с истицей и освободить ее от брачных уз, которые превратились в цепи.
Звонок. Публика стихла. Вошли судьи. Павлова огласила решение: иск удовлетворен. Брак расторгнут. Госпошлина по делу отнесена на счет ответчика Якова Николаевича Синякова.
Люди, споря между собой, покидали зал.
Из совещательной комнаты вышли народные заседатели. Яков Николаевич проводил их глазами и направился к судье.
— Можно? — спросил он.
— Зайдите! — отозвалась Павлова.
— Я на одну минуту, — вкрадчивым напевным голосом начал Яков Николаевич. — У меня к вам лишь один вопросик.
— Ах, да, я забыла объяснить порядок и срок обжалования решения.
— Нет, нет, меня это не интересует. Как вы решили, пусть так и будет!.. Вам видней. Мне одно непонятно: почему госпошлину за предстоящую регистрацию развода в загсе отнесли на меня. Ведь дело возбудил не я…
Павлова рванулась к двери, резко открыла ее:
— Уходите, гражданин!.. — И подошла к Марине:
— Вы хорошо сделали, что избавились от него. Желаю вам встретить на своем пути настоящего человека!
БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ
Эти заглавные слова принадлежат члену городского суда Татьяне Павловне Павловой. Она произнесла их во время рассмотрения под ее председательством очередного бракоразводного дела.
Директор одного из крупнейших научно-исследовательских институтов Сударев Сергей Васильевич решил разойтись с женой, Еленой Кондратьевной. Обе стороны были согласны на развод. Хотя народный судья Курский и не видел достаточных оснований для развода этой четы, всё же примирительное производство по их делу носило больше формальный характер и было весьма кратким. Истец сразу заявил: «Не сто́ит тратить времени на бесполезные разговоры. Мы с Еленой Кондратьевной добровольно решили в дальнейшем идти разными путями. Не имеет никакого значения, что заявление о разводе подал я. Его могла подать с одинаковым успехом и моя жена. Думаю, что суд не должен мешать нам жить так, как мы хотим. Это наше желание, надеемся, никому вреда не принесет. Я имею в виду, конечно, общественные и государственные интересы»… Ответчица со своей стороны подтвердила: «Сергей Васильевич прав. Я сама хотела подать заявление, но мужчинам это как-то удобнее. Главное ведь то, что у нас пропали взаимопонимание, взаимоуважение, а следовательно, и любовь».
Курский пытался углубить и уточнить некоторые вопросы, однако попытка ему не удалась.
В Городской суд исковое заявление было подано также от имени Сергея Васильевича Сударева. Однако на этом его заявлении Елена Кондратьевна сделала собственноручную, несколько необычную в судебной практике, приписку:
«С изложенным полностью согласна. Прошу об одном: скорей, скорей!».
Павлова насторожилась: повидимому, это не простая ссора. И, повидимому, это не та вражда, которая исключает примирение…
Все разговоры супругов об обоюдном желании развестись ничего не сто́ят, ничего не объясняют и, если угодно, сбивают с толку. А приписка?.. Только сильно задетое самолюбие могло продиктовать ее. И не ответчица ли толкнула мужа на развод, на подачу в суд заявления? Конечно, Городской суд может в разводе отказать, несмотря на то, что обе стороны его требуют. Закон дает суду это право. Но будет ли прочной семья?
Павлова в порядке досудебной подготовки дела вызвала к себе супругов Сударевых и беседовала с ними первоначально порознь, а потом и совместно. И вот что она выяснила…
Они стали мужем и женой десять лет назад. Первые пять лет детей не было. Не хотела она. «Пока молоды, надо жить в свое удовольствие». Он не разделял этого взгляда, но не особенно возражал: решающее слово в таких вопросах принадлежит женщине, будущей матери. Первый ребенок появился на шестой год супружества. Это была девочка. На девятом году семья пополнилась сыном.
Дети принесли в дом много хорошего, но создали и огорчения. Особенно часто огорчалась неопытная мать, к тому же считавшая, что с молодостью теперь у нее всё покончено. Отец тоже был неопытен в семейных делах, осложненных детьми, однако ему и в голову не приходило жаловаться на судьбу, жалеть о потерянной молодости: он чувствовал себя попрежнему счастливым и молодым.
Разное отношение к жизни супругов Сударевых объяснялось разным их воспитанием. Елена жила баловнем. Единственная дочь у родителей (отец — главный инженер химического завода, мать — заведующая химической лабораторией Текстильного института), она не знала ни в чем ограничений, все ее желания не только исполнялись, но и предупреждались. Сделать что-либо приятное своей дочурке доставляло большое удовольствие хорошо обеспеченным родителям. В школе, а позже и в Медицинском институте Елена училась хорошо. Ее способности и привлекательная внешность поставили ее в центр внимания товарищей. Ей сулили отличную будущность и счастливый брак с выдающимся человеком. Всё это, конечно, дало свои плоды: Елена рано привыкла играть первую роль.
Что ж, пророчества товарищей Елены в какой-то степени оправдались: она успешно окончила медицинский институт и на практической работе врача быстро завоевала авторитет; замуж вышла по любви и за человека, заметного в научных и общественных кругах города.
Иную жизненную школу прошел Сергей Васильевич. Отец — рабочий, мать — домашняя хозяйка, девять человек детей… И всё же в семье Сударевых было хорошо. Родители Сергея жили мирно, боролись с нуждой дружно и воспитали закаленных ребят.
Неудивительно поэтому, что Сергей не сразу заметил перелом в настроении жены, а когда заметил, не смог его понять и одобрить.
Появление детей вызвало трудный вопрос — как совместить воспитание детей с работой?
Один из друзей порекомендовал Сергею в домработницы свою землячку, уральскую восемнадцатилетнюю девушку Полю. Поля оказалась чистоплотной хозяйкой, заботливой няней и скоро заняла в доме положение родного человека.
И Сергей Васильевич и Елена Кондратьевна были одинаково довольны Полей. Они не представляли без этой девушки своей жизни, во всяком случае, до тех пор, пока дети не вырастут. Но что будет с Полей потом, когда нужда в ней отпадет? Откровенно говоря, Сергей Васильевич об этом не задумывался. Елена же Кондратьевна задумывалась не раз. Правда, судьба Поли беспокоила ее по иным причинам. Елена Кондратьевна невольно обратила внимание, что супруг ее чрезмерно добр и внимателен к Поле. И странно: когда он чем-нибудь балует жену, купит ей тот или иной подарок, то непременно сделает то же и для Поли… Что это — случайность, вызванная добротой, или что-то другое? Не зародилось ли в сердце мужа нечто большее, чем благодарность за детей, к этой красивой уральской девушке? Не лучше ли во́-время предупредить опасность? Но как это сделать? Чистосердечно поговорить с мужем?
Долго боролась с собой Елена Кондратьевна и всё же не устояла, не победила навязчивых мыслей.
— Сережа, — как-то сказала она, — пора решить, как мы намерены поступить в дальнейшем с Полей? Кто она — член нашей семьи или домашняя работница?
— По-моему, первое, — ответил Сергей Васильевич. — Поля близкий нам человек, друг наших детей, их воспитательница.
— Это верно. Я имею в виду другое: девушки в ее возрасте думают еще кое о чем, например, о замужестве, о собственных детях.
— Это верно. Ну и что?
— Мне кажется, Поля должна подумать о себе, а мы обязаны помочь ей.
— Жаль, что у Поли только семилетка и она не хочет продолжать образования…
— А ты откуда знаешь? — беспокойно прервала Елена мужа. — Откуда тебе известно, что Поля не хочет, скажем, поступить в какой-нибудь техникум?
— Я как-то говорил с ней об учебе в школе взрослых… Завершила бы десятилетнее образование, и можно было бы в вуз… Категорически отказалась… Я, говорит, довольна своей жизнью.
— Странно, — заметила Елена, — странно, что ты счел уместным вести эту беседу с Полей без моего участия; и мне непонятно, почему ты скрывал от меня свою попытку облагодетельствовать Полю…
— Постой, постой, Лена! Я не понимаю — это что, упрек или…
— Только удивление, Сережа. Ты отлично знаешь, что, во-первых, я не ревнива, а во-вторых, к ревности у меня, кажется, нет достаточных оснований…
— Почему — «кажется» и почему «достаточных»?
— Ты прав, я не точно выразилась: у меня нет никаких оснований. Оставим это. Меня волнует другое: не слишком ли мы эгоистичны в отношении Поли? Мы, против своего желания, можем отнять у нее молодость, погубить ее жизнь…
— Ничего, Лена… молодость всегда останется молодостью: придет время, она возьмет всё, что ей положено…
На этом разговор о дальнейшей судьбе Поли оборвался. Он оставил у супругов плохой осадок. Почему? Сергей Васильевич не мог ответить на этот вопрос. Елена же Кондратьевна боялась, что муж снова заговорит с ней на эту тему и честно признается: «Прости, Елена, но я больше не могу, не в силах скрывать от тебя: мы с Полей любим друг друга. Отчасти ты сама виновата в этом — много работаешь, перестала следить за собой. Сказать откровенно, я выгляжу значительно моложе тебя, Елена». Разгоряченное воображение не удовлетворялось этим, шло дальше.
«Поля молода и красива, — размышляла Елена Кондратьевна. — А какое у нее сердце! Горячее и чуткое. В такую девушку, живя с ней под одной кровлей, нетрудно влюбиться… Нравственные основы? Дети? Ну и что? Нравственность потому так сильно и защищается всеми праведниками в быту, что ее слишком часто нарушают… Почему же не может нарушить ее Сергей? Конечно, может. Не пропадут и дети: Поля с успехом заменит им мать. К сожалению, они уже и сейчас больше привязаны к Поле, чем ко мне».
Со временем Елена Кондратьевна поняла всю вздорность этих мыслей. Жаль только, что трезвость пришла поздно. Поля под благовидным предлогом была удалена из дому: ее определили через знакомых Елены в медицинский техникум города Молотова.
Спустя месяц Полю заменила мать Сергея Васильевича — Матрена Егоровна, подвижная, сухонькая шестидесятичетырехлетняя старушка. Матрена Егоровна давно мечтала жить с сыном. Сережа занимал в ее сердце особое место: она не только любила, но и жалела его. Он был у нее самым младшим, она почти не жила с ним под одной крышей, почти не сидела за одним столом. Сергей рано оставил родительский дом, учился, странствовал. Бывало, заскочит домой на день-два и снова исчезнет на долгие годы.
Пригласив мать, Сергей Васильевич не думал целиком возложить на нее уход за детьми, он собирался подыскать ей в помощь женщину средних лет.
Елена Кондратьевна во всем была согласна с мужем. Однако Матрена Егоровна, узнав, что к ней хотят приставить помощницу, обиделась и решительно восстала против этого:
— Управлюсь я с ребятами и одна! Дело привычное.
— Годы, мама, у тебя не те, — возразил Сергей Васильевич. — И потом ты достойна более спокойной жизни…
— Спасибо, сынок. А всё-таки, пока человек жив и здоров, пока стоит на своих ногах, он должен работать… Одним словом, не обижай старуху. А я буду делать всё так, что и ты и твоя жена, оба будете довольны…
— Что ж, поживем — увидим, — заключил беседу Сергей Васильевич, надеясь всё же в дальнейшем настоять на своем.
Однако жизнь опрокинула эти планы. Подходящей женщины сразу найти не удалось, затем подоспело лето. Сударевы сняли дачу на берегу озера, Матрена Егоровна с детьми поселилась там, сами же Сударевы приезжали только на воскресенье…
Несчастье пришло в семью Сударевых тогда, когда его никто не ждал: в последних числах июля утонули в озере Аня и Виктор. В знойный день они купались со своими сверстниками. Ребят было много. Наблюдали за ними Матрена Егоровна и еще одна женщина, мать десятилетней девочки, тоже дачницы. Наблюдали как будто бы и не плохо, но несчастье произошло так неожиданно, что застало женщин врасплох.
Кто-то из ребят увлек трехлетнего Виктора на глубокое место, и он стал тонуть. Аня ринулась на помощь брату. Один миг… и девочка тоже скрылась под водой. Детей нашли только через четыре часа…
Нужно ли описывать горе Сударевых? Следует лишь сказать, что мать и бабушка слегли надолго. Отец же, хотя работы и не прекращал, но похудел, осунулся, долго не мог прийти в себя.
Как известно, время — неплохой целитель. Помогло оно и Сударевым. Сергей Васильевич, страдая сам, делал всё, чтобы облегчить страдания дорогих ему людей. Елена отзывалась на его заботу и ласку. Труднее оказался доступ к сердцу матери. Матрена Егоровна не сразу раскрыла свои думы. Она считала себя главной виновницей гибели детей. Не доглядела, старая!
Узнав об этом, Сергей решил откровенно поговорить с матерью:
— Ты не вздумай, мама, весь грех брать на себя.
— Эх, сынок, сынок!.. — тяжело вздохнула Матрена Егоровна.
— Если говорить о виновниках гибели наших детей, — продолжал Сергей, — то мы с Еленой виноваты больше всех… Елена поддалась несправедливой ревности, а я ради эгоистического спокойствия уступил ее причудам…
— Не понимаю, о чем ты говоришь, Сережа! (Матрена Егоровна в самом деле не понимала сына: она не знала, почему была удалена Поля.)
— Я говорю, мама, о том, что нам не надо было отпускать Полю…
— Вот, вот, об этом и я думаю: Поля доглядела бы, а я не смогла доглядеть… Стало быть, я и погубила…
— Оставь… ты, как мать своих детей, оказалась на высоте. А вот мы с Еленой…
— Зря, сынок, ты всё это говоришь. Лена думает совсем по-другому. И правильно, что так думает…
— Ошибаешься, мама, Елена никогда, ни одним намеком не обвиняла тебя. Я знаю жену: будь иначе, всё выложила бы на чистоту, ничего бы не скрыла от меня.
Разговор с матерью заставил Сергея Васильевича призадуматься. А что если в самом деле Елена скрывает от него свою неприязнь к матери, именно ее обвиняя в гибели детей?
Он стал приглядываться к отношениям жены и матери, и скоро должен был признать, что мать права.
Он очутился между двух огней: у жены нарастала неприязнь к близкому, родному ему человеку, а мать замкнулась и теперь как будто даже сторонилась сына.
Жена, наконец, высказалась: маме легче будет вне их дома. Всё здесь напоминает ей о трагедии. Кроме того, и им вдвоем будет лучше.
Между Сергеем и Еленой завязалась упорная борьба. С каждым днем Елена всё настойчивей требовала от мужа удаления матери. Пусть отправляется куда угодно, к кому угодно, но чтобы и духу ее не было здесь. Елена уже не скрывала своей ненависти к старухе. Да, именно она, эта старуха, принесла в ее дом горе, отняла у нее детей. Не будь старухи, не появись она в их семье, не было бы и катастрофы…
— Неправда! — резко возражал Сергей. — Не приревнуй ты меня к Поле, мы жили бы счастливо… Вот что, Елена! Я хочу тебя предупредить: со мной ты можешь говорить, что хочешь, но если твоя точка зрения станет известна маме, берегись!
— Прибьешь?
— Я не дикарь, но знаю, что́ в таком случае мне надо будет делать…
Елена Кондратьевна учла предупреждение мужа: стала скрывать от свекрови свою вражду к ней. Это, конечно, был маневр, от мужа она этого и не таила.
— Твоя мать рано или поздно уйдет от нас!
— Никогда!
— Уйдет: ты поймешь мое сердце, мою душу!..
— Будем откровенны, Елена, — сказал Сергей. — Выслушай меня: ты обижаешь меня своей настойчивостью, и даже более, убиваешь мое чувство к тебе… Я понимаю, ты потрясена горем, ты мечешься, ищешь облегчения и допускаешь несправедливость и… жестокость… Да, да, иначе я этого назвать не могу: несправедливость и жестокость исказили твою душу. Одумайся, Елена!
Однако эти слова не смягчили женщину: она продолжала настаивать на своем.
Тогда Сергей поставил вопрос перед женой так: если она не откажется от своего намерения изгнать мать, он сам вместе с матерью уйдет из дома.
— Хочешь уйти? — крикнула Елена. — Уходи, скатертью дорога обоим… Пиши немедленно заявление в суд… Пусть всё до конца идет прахом!..
Вот что удалось выяснить до начала судебного разбирательства Татьяне Павловне Павловой. Ей очень хотелось еще побеседовать с Матреной Егоровной, но Сергей Васильевич и Елена Кондратьевна заявили, что живет старушка сейчас за городом у знакомых, нездорова и беспокоить ее не только вредно, но даже опасно. Пусть узнает об окончательном развале семьи позднее, когда поправится.
Говоря так, Сударевы допустили две неправды: неправду первую — Матрена Егоровна находилась в городе и была здорова; неправду вторую — и Сергей и Елена, несмотря на всю внешнюю решимость разойтись немедленно, в душе не считали, что между ними всё кончено. Сергей надеялся, что в последнюю минуту жена откажется от желания выжить мать из дому. Елена же попрежнему фанатически верила, что муж в конце концов уступит ей. Когда? Это не так уж важно. При желании можно всегда перечеркнуть судебное решение о разводе хотя бы повторной регистрацией брака. Главное — заставить уехать из дому злосчастную старуху и вместе с тем отучить мужа главенствовать над ней, Еленой. Она никому этого не позволяла ни в доме отца, ни среди товарищей!
Павлова пришла в судебное заседание без четко выраженной точки зрения на исход дела Сударевых.
Она не во всем осуждала Елену Кондратьевну; как и истец Сударев, она находила, что ответчица заслуживает снисхождения: ее жестокое отношение к свекрови продиктовано болезнью психики. Эту раздавленную горем женщину надо не осуждать, а лечить. Может быть, и Сударев поступил бы правильнее, если бы на время уступил жене. Возможно, этим путем скорее удалось бы погасить семейный конфликт… Павлова не могла остановиться по этому делу на чем-нибудь определенном. Слишком много пришлось ей в своей судебной практике встречать невесток-эгоисток, безвольных сыновей — мужей этих эгоисток, обездоленных матерей и отцов. Бессердечное отношение к старым людям не находило оправдания в душе судьи…
Перед выходом состава суда в зал заседания в совещательную комнату вбежал взволнованный Сударев.
— Удалите ее, — обратился он к Павловой, — умоляю вас, товарищ-судья, удалите… Она ничего не должна знать… Это ее убьет…
— Вы о ком? — удивилась Павлова.
— Пришла мать… удалите ее… меня она и слушать не желает.
Павлова задумалась.
— А знаете что, Сергей Васильевич!.. Пусть ваша мамаша останется. Взгляните трезво в глаза правде. По-моему, лучше вашей матери узнать обо всем здесь, в суде, чем от третьих лиц.
Павлова преследовала не только эту цель. Она не хотела напомнить Судареву о своем желании побеседовать с его матерью, не хотелось ей уличать во лжи солидного человека («мать больна, живет за городом»). Сейчас представился удобный случай провести эту беседу публично, в открытом судебном заседании.
— Мы допустим вашу мамашу свидетелем…
— Каким свидетелем?! Она ничего не знает!.. Повторяю: мы с женой всё от нее скрывали…
— Напрасно… ведь мать явилась причиной вашего разлада…
— Я очень дорожу ее здоровьем…
— Не беспокойтесь, ничего с нею не случится… Прошу занять в зале свое место, гражданин Сударев! Начнем заседание.
Слова судьи прозвучали для Сергея Васильевича приказанием. Он вернулся в зал, с грустью посмотрел на мать и сел на скамью.
Матрена Егоровна была привлечена свидетелем по делу. К удивлению сына, определение об этом суда она приняла как нечто должное.
Суд кратко опросил стороны по существу конфликта, затем из свидетельской комнаты в зал была приглашена Матрена Егоровна.
В нарушение обычного порядка процесса, Павлова сначала объяснила свидетельнице, что случилось в жизни ее сына и невестки, и уже после этого предложила рассказать всё известное ей по делу…
Оказалось, что Матрена Егоровна только сегодня, за час до прихода в суд, узнала о предстоящей бракоразводной процедуре сына и его жены… Для нее оказалось полной неожиданностью, что она — и только она — помешала их жизни.
— Коль их развод зависит от вас, граждане, — тихо начала свою речь Матрена Егоровна, — откажите в нем, не давайте им развода ни в коем случае. Пустое они затеяли. Жили они счастливо. И счастье еще вернется к ним. А я не хочу становиться на их пути. Не хочу, не могу, прав в моем материнском сердце нет на это никаких… Я очень люблю сына — как же иначе! — да и невестка тоже дорога мне, несмотря на ее ко мне… бог ей судья! Я же, как мать и как женщина, давно поняла ее горе и ни в чем ее не осуждаю. Я прощаю тебе всё, Елена. И ты ей всё прости, Сережа. А вы, добрые люди, проявите к ним понимание и терпение, отошлите их домой в сердечном согласии…
Мать спокойно стояла перед судом. Лицо — бледное, почти восковое, но взгляд твердый, открытый. Павлова с трудом подавляла волнение, заседатели — обе женщины — вытирали слёзы. Послышалось тихое всхлипывание, которое вскоре перешло в рыдание. Это рыдала Елена. Она бросилась на грудь свекрови.
— Мама, родная моя, прости меня! Прости меня, глупую и неблагодарную!
Потом обратилась к судьям:
— Клянусь, что никогда больше не обижу ее ни как мать мужа, ни как женщину, ни как человека.
Судебное заседание завершила Павлова.
— Да, берегите ее, — взволнованно сказала она, — берегите. Это большое сердце!
В АДРЕС ДРУГА
1
Это дело не дошло до судебного разбирательства. Судья Курский, выслушав истицу Ольгу Ивановну Огневу, убедил ее взять обратно заявление о разводе.
Впрочем, сама заявительница тоже не думала разводиться. Она любила мужа и лишь хотела публично доказать ему и его друзьям свою правоту. Эти друзья намекнули ей, что она не права, обвиняя мужа на основании ничтожных недоразумений чуть ли не в безнравственных поступках. Ольга Ивановна взволновалась. Обман, чего бы он ни касался и каким бы мелким он не был, остается обманом. Муж обманул ее, скрыв переписку с посторонней женщиной. Она убеждена, что теперь, когда мы знаем, как надо жить, надо вести суровую борьбу и с мелкими недостатками. Нельзя терпеть их в нашей жизни, как не терпим мы грязных пятен на чистом белье.
Судья должен понять ее волнение: за все десять лет ее замужества она ни разу не солгала мужу, и муж не лгал ей. Правдивость и честность скрепляли их семейную жизнь. Разве можно помириться на другом?
Курский признал правильным обращение Ольги Ивановны к суду. Конечно, она и сама могла бы убедить мужа в том, что его поступок некрасив, но общественное осуждение обладает огромной силой воздействия, почему же не воспользоваться им?
Вместе с тем Курский был против судебного разбирательства дела. До суда надо дать объявление в газете о разводе. Популярность незавидная. Зачем это? Всё, что нужно, он сделает как бы в порядке досудебной подготовки. Она может не сомневаться, что цель будет достигнута.
Доводы Курского повлияли на истицу. Пусть он, судья, поступает, как найдет более разумным. Она доверяет ему.
На следующий день Курский вызвал к себе Огнева и попросил рассказать, чем же он обидел жену.
2
«Не так просто рассказать о себе, тем более, когда тебя обвиняют. Однако попробую.
Мы с Ольгой Ивановной работаем на разных заводах: я — сменным инженером, она — мастером цеха. И я и она одиннадцать месяцев в году имеем дело с металлом. И я и она влюблены в свою профессию.
Кроме любви к труду, мы с женой любим друзей, искусство, литературу, природу, иначе говоря, любим жизнь во всем ее многообразии.
Из каждого отпуска мы с Ольгой Ивановной делали праздник и проводили его вместе, на юге, в живописных местах.
В прошлом году мы заранее запаслись путевками на август в Гагры в дом отдыха. Наступил конец июля, мы уже укладывали чемоданы, как вдруг Ольга Ивановна получила из Албании телеграмму. Надо сказать, что некоторое время назад жена была там в составе делегации, подружилась с одной работницей, и они стали переписываться. И вот эта работница сообщила телеграммой, что в августе она приезжает в Ленинград и мечтает о встрече со своим другом. Жена отказалась от курорта. В первый раз за всю нашу семейную жизнь я выехал на отдых один. Когда сосед по купе в шутку заметил, что мне повезло: для прочности супружеских отношений супруги должны расставаться друг с другом ежегодно не менее чем на 24 рабочих дня, — я разозлился.
Конечно, наши взгляды расходятся подчас с нашими поступками. У вас есть основания упрекнуть меня именно в этой непоследовательности. Что ж, я готов принять ваш упрек как должное. И в то же время, клянусь, я ничем не запятнал своей любви к жене. Письмо — это, спору нет, факт, от которого никуда не уйти, это, говоря на вашем языке, серьезная улика. И всё же я отрицаю ее. Письмо, попавшее в руки моей жены, — результат стечения ряда обстоятельств.
В Гагры я попал впервые. Курорт поразил меня: аллеи платанов, магнолий, пальм, плакучие ивы, лавры, розы… Над парком, убегая в глубокую высь, выстроились в полукруг величественные горы, на них яркозеленые густые леса, за парком морская даль — спокойная, ласковая, манящая. А какой воздух! Какое солнце! Какие закаты! А тихие вечера и звездные ночи!.. Я был покорен этой красотой. Приводила меня в восторг и луна. Она тоже была необычной, особенно глубокой ночью: безмолвно плывет она огненно-пятнистым шаром над черной листвой горного леса… Вы улыбаетесь?.. Однако прошу вас поверить, что вначале красотой природы я наслаждался в совершенном одиночестве, жалея, что со мной нет жены, что она не может разделить моих восторгов. А потом… Что произошло потом? Ничего, что дало бы повод жене обвинять меня. И всё же кое-что произошло. На мою замкнутость обратили внимание окружающие, и первой из них была моя соседка по столику, женщина лет тридцати, преподавательница французского языка в вузе. Она стала иронизировать насчет моего отчуждения, моей гордости. Я изменил свое поведение. И не потому, что поддался насмешкам. Мне самому надоело одиночество, на отдыхе оно хорошо до поры до времени. Я не придавал значения несколько упрощенным нравам, бытующим среди отдыхающих. Ну что зазорного в том, что меня, Егора, стали называть Жоржем? Это смешило многих, смешным казалось и мне: для Жоржа у меня не было никаких данных.
Мой рост — без малого два метра, мой возраст — четвертый десяток, мои седые виски и вообще, будем откровенны, мой угловатый вид, неловкие манеры… По-моему, даже моей Ольге Ивановне не совсем удобно называть меня Егорушкой, но это по привычке, она с первых дней супружества так называет меня. А Жорж, будь он четырежды неладен, воспринимался мною тогда, как курортная шутка. К сожалению, получилось не совсем так.
С преподавательницей у нас оказались общие интересы, вкусы, и мы решили переписываться. Меня интересовала ее дальнейшая судьба, хотелось знать, удастся ли ей защитить свою кандидатскую диссертацию. Я, в свою очередь, обещал новой знакомой прислать свой реферат на тему: «Мораль коммунистическая и мораль буржуазная». И вот тут я допустил нечто такое, что, во всяком случае, не имеет ничего общего с коммунистической моралью, но понял я это, к сожалению, позднее. Я дал учительнице адрес своего друга, выдав его за свой. Я сделал это из боязни обидеть жену: я не знал, как она отнесется к моей новой дружбе, — не подумала бы чего-нибудь плохого, не поддалась бы слухам о курортных нравах.
Тогда же я решил, что в подходящую минуту расскажу жене обо всем. Но когда я приехал домой, всё курортное сразу отошло на второй план, и по правде говоря, забылось.
Месяца через четыре после возвращения из отпуска друг позвонил мне на работу и сообщил, что на мое имя получено письмо.
Вечером того же дня я должен был читать лекцию на мою любимую тему: «Мораль коммунистическая и мораль буржуазная». Перед лекцией я зашел к другу, пробежал письмо и сунул его в портфель. Письмо было теплое, дружеское; конечно, оно посвящалось воспоминаниям о Гаграх, но среди воспоминаний было несколько таких, которые без комментариев могли показаться подозрительно интимными.
Больше всего удивило и, откровенно скажу, не понравилось мне то, что она называла меня Жоржем, а один раз даже «милым Жоржем». Я не ожидал от нее этой вольности: она ведь отлично знала, что я женат.
Я решил после лекции перечесть письмо, а потом уничтожить.
Надо же было случиться так, что Ольга Ивановна за две минуты до лекции зашла ко мне. Правда, зашла не случайно: по ее просьбе я купил «Честь смолоду», книгу Аркадия Первенцева. Книга была в портфеле, портфель на вешалке. Я сказал жене, что покупка в портфеле, пусть она возьмет ее вместе с портфелем. Гардеробщик знал Ольгу Ивановну и выдал ей портфель.
Слушателей собралось, как всегда, много.
Примерно на середине лекции я вспомнил, что письмо осталось в портфеле, и ужаснулся: не наткнулась бы на него жена! При этой мысли меня прошиб пот, я запнулся, голос сорвался, — среди певцов это называется «пустить петуха».
Кое-кто из слушателей иронически улыбнулся. Мне стало не по себе.
«Теперь позвольте перейти к рассмотрению так называемых родимых пятен, — сказал я твердо, — пятен, которые мешают нам двигаться более убыстренными…»
Сказал и споткнулся; вспомнил: «Жорж… Милый Жорж». На конверте чужой адрес… Минуту я молчал. В зале зашептались. «Обнаружит или не обнаружит?» — с мучительной настойчивостью стучало в голове. Я сказал несколько слов и снова сделал длинную паузу. Сотни глаз вопросительно смотрели на меня, но я видел не лица, а сплошное серое полотно с огромными малиновыми кругами. Где-то в конце зала на этом полотне смутно вырисовывался силуэт жены… она роется в портфеле, берет книгу… «Обнаружит или не обнаружит?» В зале зашумели: я, кажется, вслух произнес эти неприятные для меня слова. Напрягаю остатки сил и объясняю: «Мне худо, товарищи… простите».
Опустив голову, сгорая от стыда, я медленно прошел через переполненный зал. Аудитория молчала.
Домой я бежал опрометью, как мальчишка, куда только девалась моя неуклюжесть!..
Я благодарен вам, товарищ судья, что вы внимательно выслушали меня и не осмеяли. Впрочем, если вы когда-нибудь и посмеетесь над моим «происшествием», честное слово, я не буду на вас в обиде. Пороки надо устранять любым путем, в том числе и смехом.
До самого дома меня подхлестывали, стучали в моей одеревеневшей голове всё те же жгучие слова: «Обнаружила или не обнаружила?», «Обнаружила или не обнаружила?». Вот я и дома. Открываю своим ключом дверь, крадучись прохожу коридор… В столовой полумрак. У среднего окна спиной ко мне сидит Ольга Ивановна. Я притаился в дверях. С чего бы мне начать? Может быть, кашлянуть… Я этого сделать не успел: жена встала, включила свет и сказала:
— Ну что же, милый Жорж… Входите!..
ОТЕЦ
1
Осенью 1941 года, находясь на Северо-Западном фронте, в районе Валдайской возвышенности, Федор Иванович Гвоздев получил небольшую посылку из Ленинграда. В ней оказалась пара фланелевого белья и два письма: одно от жены, другое с незнакомым почерком на конверте. Первое письмо Гвоздев прочитал с большим волнением и радостью. Хотя в осажденном Ленинграде было нелегко, жена ни на что не жаловалась: она молодец, выносливая, жизнерадостная, чуткая. Дети — Нина и Володя — тоже живы и здоровы. Они совсем еще крохотные: Нине два года, Володе — четыре.
Тут же по просьбе однополчан Гвоздев прочитал письмо вслух. Был горд и счастлив и как муж и как отец. Но это счастье безнадежно истребило второе письмо:
«Любезный Федор Иванович! Пишет вам соседка по квартире Таисия Валериановна. Душевно сожалею, что пишу это письмо, побуждаемая не радостью, а большим горем, — погибла ваша супруга Елизавета Петровна. Вчера днем она поехала трамваем на главный почтамт, чтобы отправить вам посылку. В это время чужеземные изверги снова стали обстреливать город. Один из снарядов ударил в трамвай. В живых осталось всего несколько человек, в том числе и я: мы с Лизой ехали вместе. Посылку вашу я взяла домой, расшила… вложу в нее это свое письмо, снова зашью и всё отправлю вам как есть… Детей не бросим и будем в дальнейшем сообщать вам о них».
Гвоздев с трудом дочитал страшное письмо.
С этого памятного дня прошло много лет, много было пережито, многое тяжелое забылось, а вот потеря жены до сих пор лежала на его сердце как самое большое горе. Это горе не могли заглушить ни радость победы, ни встреча с детьми, которых спасли добрые люди. Любовь к Лизе, память о ней мешали Гвоздеву связать свою личную жизнь с другой женщиной, создать новую семью.
И всё же, после долгих размышлений, Гвоздев женился. Это произошло весною сорок восьмого года, и произошло это так.
В устройстве быта вдовому человеку стала помогать Машенька Рубцова, учетчица цеха, где работал Гвоздев. Девушка очень быстро нашла общий язык с детьми Федора Ивановича — Ниной девяти лет и одиннадцатилетним Владимиром, и через некоторое время поняла, что не просто дружески привязалась к передовому рабочему завода, хорошему товарищу по работе, но и полюбила его. Как ни странно, но эту любовь Машеньки последним заметил сам Федор Иванович. Товарищи советовали ему жениться, говорили, что лучшей жены для себя и матери для своих ребят он не найдет; ничего не значит, что Федор Иванович старше Машеньки на двенадцать лет.
Машеньку, когда она думала о своем будущем, тоже не тревожила эта разница в возрасте; наоборот, порой ей казалось, что она даже старше Федора Ивановича, зрелее, особенно в хозяйственных вопросах. Что же касается детей, то она уже полюбила их. Машенька твердо верила, что принесет в дом Федора Ивановича радость, заменит ребятам мать, а ему…
И тут у нее всегда ныло сердце. Что это? Неужели она ревнует Федора Ивановича к покойной жене, к прежней его любви? Какая глупость! Если это действительно ревность, с нею-то она справится, пусть только осуществится ее затаенная мечта…
Мечта Машеньки осуществилась, и осуществилась она как-то слишком просто, несколько даже обидно просто для молодой, впервые полюбившей девушки.
— Ну что ж, Машенька, — спокойно сказал Федор Иванович, — видимо, нам с тобой судьба пожениться. Мы будем друзьями, создадим хорошую жизнь и себе и детям…
И всё. Ни слова о любви! Неужели так бывает?..
— Я подумаю, Федор Иванович, — тихо сказала Машенька и решила, что прежде всего она должна узнать истинное его отношение к себе: он женится на ней, потому что любит ее или потому, что ему нужна выгодная домработница? Если окажется последнее, тогда пропади всё пропадом: она порвет с Гвоздевым, уйдет из цеха, а может быть, и с завода, чтобы никогда не встречаться с этим человеком.
Машенька сама испугалась ожесточения, которое поразило ее душу. Она привела в равновесие мысли и чувства и свои соображения высказала Федору Ивановичу спокойно и трезво.
Федор Иванович признался Машеньке, что не случайно так сухо сделал ей предложение, не случайно ничего не сказал о своей любви. Она, конечно, знает, как любил он первую жену, как свято хранит память о ней. До сих пор образ Лизы не поблек в его душе. Говорят, любить по-настоящему можно только раз. Сейчас ему трудно судить об этом. Но, как знать, возможно, что теперешнее его чувство к Машеньке — хорошее, дружеское, вероятнее всего, даже больше, чем дружеское, — перерастет со временем в любовь. Ему, Федору Ивановичу, кажется, что всё дело в Машеньке. Если она сумеет занять его сердце целиком, заполнить светлым, чистым чувством, он будет беспредельно счастлив. Детей это счастье не обидит, ведь они не помнят родной матери. Что же касается ее мыслей о выгодной домработнице, то как же ей, Машеньке, не стыдно!
Машенька поняла Федора Ивановича. Она была совершенно искренна, когда, горячо поцеловав его, сказала в ответ:
— За одну только правдивость, за честное отношение ко мне, ты, Федя, достоин большой любви.
2
Наблюдая за Машенькой, соседи по квартире говорили:
— Ай да хозяйка!
— Вот тебе и мачеха! Холит детей, как родная мать!
Федор Иванович тоже был в восторге от своей жены. Он полюбил ее безраздельно и прочно, всей душой, всем сердцем. Машенька была счастлива: ее любовь к Федору и его детям, ее честное отношение к своим семейным обязанностям сделали свое дело, принесли ей полную победу.
И вот пришел день — Машенька почувствовала беременность. Возможно, в связи с этим ей придется оставить работу. Беда не велика. Воспитание детей тоже работа, да еще какая! Материально они выдержат: Федор Иванович зарабатывает достаточно.
Когда родилась девочка, которую назвали Надеждой, и истекло время декретного отпуска, Машенька оставила работу.
Казалось, счастье прочно обосновалось в семье Гвоздева. И не сразу Федор Иванович заметил первые симптомы нехорошего нового. Маша стала меняться в худшую сторону. У нее исчезло прежнее тепло к Нине и Володе. Всё ее внимание, все ее чувства были теперь поглощены Наденькой. Она поминутно восхищалась девочкой и требовала такого же восхищения не только от мужа, но и от Нины с Володей. Разумеется, дети любили сестренку, но выражали любовь по-своему, по-детски, иногда нежно, а иногда и с шалостями. Это не удовлетворяло и даже обижало чувствительную мамашу, и всё чаще можно было услышать ее окрик и недовольное слово.
Федор Иванович решил поговорить с женой. Оказалось, что скверное настроение молодой женщины вызывали какие-то, пока что не совсем ясные мысли. Во всяком случае, Федор Иванович понял главное: она недовольна Ниной и Володей. Дети с появлением Наденьки якобы резко изменились к худшему: замкнулись, косятся на нее, нет у них прежнего к ней доверия, сердечности…
Федор Иванович спросил:
— А не считаешь ли ты виноватой в чем-либо и себя?
— Я тебя, Федя, не понимаю! Как можешь ты так странно, скажу даже, так оскорбительно ставить вопрос!
— Погоди, не сердись… Разве родители не отвечают за поведение своих детей? Разве значительная доля вины не лежит и на тебе?
— Но ведь Нинка и Вовка уже не маленькие. Это тебе не Наденька…
Федор Иванович впервые обратил внимание на то, как называет детей жена: «Нинка», «Вовка» и… «Наденька». Иногда, когда возникают недоразумения, особенно между близкими людьми, мелочи начинают играть не свойственную им, чрезмерно большую роль. Однако Федор Иванович всё тем же сдержанным тоном возразил жене:
— До совершеннолетия все дети маленькие, и родители обязаны руководить их поступками.
— Ну что ж, руководи, направляй! Дети твои, ты и занимайся ими!..
— А ты что, отказываешься?
— Да, отказываюсь! — Маша не скрывала своего раздражения.
Они замолчали, каждый по-своему думая о том, что произошло. Федор Иванович страдал, увидев другую Машеньку, увидев у нее новые, неприятные черты: строптивость, нервозность, раздражительность. Раньше этого и в помине не было. Откуда всё это? Неужели оттого, что она стала матерью?
На этот вопрос Федор Иванович не мог дать себе сколько-нибудь ясного ответа.
Что же касается Маши — она не ставила перед собой никаких вопросов. Ей всё было предельно ясно. Она была убеждена, что Нинка и Вовка начинают портиться, не помнят ее ласк и забот… Вот она, черная неблагодарность! «Нет! Своего ребенка в обиду я не дам!..»
Когда Маша несколько позже высказала эти мысли мужу, тот оборвал ее:
— Да ты с ума сошла, честное слово! О тебе на заводе до сих пор говорят только хорошее. Посмотрели бы, послушали бы тебя сейчас! Как тебе не стыдно!..
— Нисколько. Не стыдно потому, что я говорю сущую правду. Кому не известно, что обычно отец и мать больше любят детей маленьких, беспомощных… А ты как ведешь себя?! Старшим детям всё: заботишься об их учебе, все выходные дни корпишь над их письменными работами, вслух читаешь их книжки. А Наденьке какое ты уделяешь внимание?!
— Нет, серьезно, я не узнаю тебя. Неужели тебе трудно понять, что нашей Наденьке, кроме молока, ничего пока не нужно?
— Наденьке не нужно, а мне нужно. Почему бы тебе не повозиться с нею, не позабавить ее, не заставить улыбаться… Она так чудесно улыбается!.. Нет, нет, тебе это неинтересно, безразлично. — Маша еле сдерживала слёзы.
Федор Иванович посмотрел на жену и глубоко вздохнул.
— Каждый на свой лад, Мария, проявляет любовь…
Маша вздрогнула: первый раз в жизни муж назвал ее Марией. У нее это вызвало новый прилив слёз, но она решила пересилить себя, терпеливо, молча выслушать его до конца.
— У меня, — продолжал Федор Иванович, — тоже есть свое сердце, свой характер. И я выражаю любовь так, как умею. Пойми, что лично мне все наши дети любы, они все мои. Только я, может быть, не умею за ними ухаживать… Я никогда ни одного младенца не держал на руках, — если хочешь знать, боюсь… Думаю, что ни один нормальный человек не осудит меня за это…
— Значит, ко всему прочему, я еще и ненормальная! Спасибо за откровенность! Нет уж, Федор Иванович, это я тебе не прощу, всю жизнь буду помнить…
— Если хочешь испортить нашу жизнь, не прощай! Но знай: ты не права, ты капризничаешь, придираешься ко мне, к Нине и Володе… А ведь мы одна семья. Что нам делить-то!..
— Раньше я тоже думала, что нам делить нечего. Выходит, ошиблась. Ты показал свое лицо, сам первый стал делить: Нинка и Вовка — одно, Наденька…
— Стоп, Мария, раз ты упорствуешь, прекратим разговор… Но помни: в нашем доме я не потерплю несправедливости.
Маша съежилась от суровых слов мужа. Лучше замолчать. Пожалуй, она вообще перестанет с ним разговаривать, даст ему понять, что с нею шутки плохи, что у нее тоже есть свой характер, свое самолюбие.
Медленно потянулись серые безрадостные дни. Федор Иванович не выдержал тяжелой домашней обстановки и сделал еще одну попытку переубедить жену.
— Подумай, Мария… — с грустью сказал он (жена уже перестала быть для него Машенькой), — подумай, что ты затеяла? В какую пропасть ты толкаешь себя, детей, меня?.. Я не понимаю, зачем тебе это нужно?
— Не мне, а тебе это нужно. А вот зачем, я тоже не могу понять… Мне кажется, Лиза-покойница воскресла в твоей душе, память о прошлом не дает тебе жить в настоящем…
— Говори потише, Мария, не делай достоянием посторонних наши споры…
— Вот как! Я даже говорить с вами, Федор Иванович, разучилась… не умею.
— Да, не умеешь… ты оскорбляешь мое прошлое, а оно будет для меня вечно святым. И я этого от тебя никогда не скрывал… Я хочу, Мария, в последний раз обратиться к твоей совести: опомнись, добром прошу тебя! Иначе, ты сама понимаешь, жить вместе невозможно.
— Не лицемерь, Федор Иванович, тебе это не к лицу: ты всегда был прямым человеком… Я убеждена, что тебе, кроме твоих Нинки и Вовки, никого не нужно…
— Опомнись, Мария! — закричал Федор Иванович.
Но Маша не опомнилась.
3
В народном суде в качестве «государственного арбитра» по семейным делам выступал судья Курский. В суде сравнительно легко были установлены истинные причины семейного разлада супругов Гвоздевых. Маша с появлением у нее Наденьки, как это правильно подметил Федор Иванович, стала матерью только своего ребенка. В Володе и Нине она видела единственную причину всех недоразумений. Против них выдвигалось одно обвинение за другим — и ленивы, и непочтительны, и огрызаются, и грубят… Какой только напраслины не возводила на пасынка и падчерицу когда-то столь любившая их Машенька, которую теперь все, знавшие семью Гвоздевых, чаще, чем по имени, называли мачехой. Мужа же своего Маша обвиняла в злостном попустительстве детям и их дурным наклонностям. Спрашивается, как она, Мария Родионовна Гвоздева, после всех своих забот о детях мужа и после их черной неблагодарности, должна вести себя?!. Может ли Федор Иванович требовать, чтоб она плясала перед ними, заглядывала им в глаза, гладила по головкам, говорила нежные слова? Нет, всякий непредубежденный человек не осудит ее за то, что она не уделяет этим распущенным детям прежнего внимания.
Ругая и осуждая Федора Ивановича, Маша тут же, как ни в чем не бывало, заверяла судей, что она любит мужа и на развод с ним не согласна.
Выход, по ее мнению, будет в том, что отец приструнит Вовку и особенно Нинку. — «Что получается, граждане судьи… На том основании, что девчонка похожа на свою покойную мать, отец ей слово боится сказать, на коленках готов перед ней ползать… А послушайте, что он говорит знакомым о своей старшей дочери, как гордится ею, как восторгается!..»
Федор Иванович, слушая жену, не проронил ни слова: чем хуже, тем лучше — пусть раскроет себя до конца!
Говорил судья Курский. Голос его был суров, слова звучали гневно, тяжело. Курский признался, что судьба Нины и Володи взволновала его. Ему трудно сдержаться, да он и не особенно стремится к этому… Откуда взялись у этой молодой женщины, нашей современницы, такие чувства, на каком основании она разграничивает детей?!
Ответ на это может быть только один. Мария Родионовна поддалась ревности. Она ревнует мужа к умершей женщине, к детям от нее… Вот почему так ненавистна ей Нина: девочка плоха потому, что походит на мать! Стыдно, Мария Родионовна! Разве у Нины и Володи есть иная, кроме вас, мать?! Разве вы не добровольно и без добрых намерений к детям приняли на себя обязанности их матери? Зачем же вы сами убили то лучшее, что украшало вас как женщину, как советскую женщину, как мать? Зачем оскорбили память другой женщины-матери, которая так рано и так трагически ушла из жизни?!
Федору Ивановичу судья предъявил менее серьезный счет, его упрекнул мягче, но всё же упрекнул. Напрасно он, Гвоздев, понадеялся на формулу «стерпится — слюбится». В семьях, созданных без любви, трудно надеяться на хорошее воспитание детей, на полноценную супружескую жизнь, на счастье, которое все мы должны строить с умом и сердцем… Он, Гвоздев, забыл об этом, женился на ответчице не по любви. Правда, Гвоздева на этот шаг толкнула забота о детях, любовь к ним. Всё же, этого мало… Это и послужило источником для ревнивых чувств Марии Родионовны.
Впрочем, тут же Курский обратился к Гвоздеву и с похвальными словами. Совсем не плохо, что он не уступил жене, не дал в обиду детей — Нину и Володю. Частенько бывает обратное.
Слова судьи сильно задели Машу.
Она ревнует? Нисколько! И еще раз повторила свои оскорбительные доводы, что вынудило мужа заявить:
— Всякому терпению бывает конец… Я твердо решил, граждане судьи, отказаться от плохой жены в пользу хороших детей…
Примирение супругов Гвоздевых в народном суде не состоялось.
4
Павлова занялась делом Гвоздевых до судебного заседания, и ей стала ясна картина семейного конфликта. Да, Курский прав, в основе его ревность! До рождения Нади Гвоздевы хорошо относились друг к другу. Почему этого не может быть и впредь? Жена может стать и станет для него снова Машенькой… Она любила детей Гвоздева от первого брака — Нину и Володю. Почему этого не может быть и впредь? Надо усмирить ревность, для которой нет почвы, ибо Гвоздев, сначала к своей второй жене равнодушный, потом горячо полюбил ее. Ревность можно и нужно одолеть, прежде всего, в интересах детей, особенно Наденьки, которую так любит и о которой проявляет такую заботу мать. Надо Машеньке так разъяснить всю нелепость ее поведения, чтоб она нашла в этом разъяснении силу обуздать свои низменные побуждения. И надо смягчить ожесточение Гвоздева.
Следовательно, нечего спешить с судебным разбирательством, нужны встречи и беседы, и прежде всего — с Машенькой.
Гвоздев зашел в суд справиться, на какое число будет назначено слушание дела…
— Еще неизвестно, — заявила секретарь суда.
— Вы уже трижды даете мне один и тот же ответ!
— Товарищ Гвоздев, ваше дело задержала у себя судья. Зайдите завтра…
— А завтра вы мне скажете: зайдите послезавтра!.. — День идет за днем… Дома у меня ад… Вы не имеете права принуждать меня жить в домашнем аду… Я буду жаловаться!
Выйдя на многолюдный проспект, Гвоздев остановился, озираясь, словно искал человека, которому можно было бы пожаловаться на непристойную волокиту в суде. Кто-то толкнул Гвоздева и сказал:
— Отошли бы, гражданин, в сторонку!
Гвоздев медленно зашагал; раздражение не утихало. Может быть, зайти в «полуподвальчик» залить свои неприятности доброй порцией «крепкого»? Нет, не сто́ит. Никогда он не пил, а из-за Машеньки и подавно не станет. Домой идти тоже не хотелось. Что его ждет дома? Очередная стычка, Машенькины слёзы и упреки… Пропади всё пропадом! Не отправиться ли на завод? Не поговорить ли по душам с Абрамовым, председателем завкома? Абрамов — умный мужик и большой знаток законов. Пусть вмешается в судебную волокиту. Гвоздев убежден, что судья Павлова неспроста затормозила дело. Она что-то замышляет; по всей вероятности, она против развода. Посмотрим! Абрамов покажет тебе, как измываться над людьми!.. Абрамов встретил Гвоздева приветливо.
— А ну, ну, давай, выкладывай, друг мой ситцевый, — добродушно басил он. — Что там у тебя стряслось? Не судят? Не хотят?.. Экие канальи!
— Сил больше нет, товарищ Абрамов, — взмолился Гвоздев, — помоги!.. Несколько дней обивал я пороги в народном суде, — то не так написал заявление, то не так переписал его, дважды до суда судья Курский вызывал к себе — уговаривал помириться… Больше месяца, понимаешь ли, ждал, пока наступил мой черед опозориться в газете — оповестить знакомых и незнакомых, всех друзей и недругов о столь важном событии, о том, что, дескать, я, Гвоздев, и моя супруга, Гвоздева, полезли на стенку… Дважды в народном суде откладывалось дело из-за неявки Машеньки… Не помирились. Казалось бы, всё ясно. Так нет, теперь в городском тянут жилы… Да что они у меня воловьи, что ли? Видите ли, даже не могут назначить день слушания дела!..
Абрамов, к удивлению Гвоздева, не выразил ему сочувствия.
— Хорошо, очень хорошо! — убежденно сказал он.
— Что ж тут хорошего? — изумился Гвоздев. — Где же четкость, оперативность, чуткость?.. Выходит, для суда эти качества не обязательны? Разве можно мириться с такой изнуряющей медлительностью?
— А зачем тебя, Гвоздев, понесло в суд?
Гвоздев не понял вопроса:
— То есть как это «понесло»? Где же я должен искать правду, как не в своем, народном суде?
— Да за правдой ли ты пошел в суд? Сдается мне, скорее за кривдой… Погоди, не горячись, друг мой ситцевый! Это хорошо, что дело еще не назначили к слушанию, есть, стало быть, у тебя время подумать, да одуматься…
— Не собираюсь я, товарищ Абрамов, менять линии, у меня серьезные основания для развода.
— Что же ты не пришел ко мне и не рассказал про свои серьезные основания? — Абрамов смотрел строго, без улыбки.
— А чем бы ты помог моему горю?
— Знаешь пословицу: «Ум хорошо, а два лучше»?
— С этим согласен.
— Ну, если согласен, так давай и обсудим твое горе-несчастье.
Гвоздев сначала бегло, а потом всё подробнее и подробнее стал излагать историю своего несогласия с женой. Во время рассказа Абрамов многозначительно кивал головой, а когда рассказ был окончен, сказал:
— Садись в нашу завкомовскую машину и лети домой. Привезешь сюда жену. Если Машенька начнет артачиться, скажешь, что я велел быть ей здесь немедленно. Откажется — рассерчаю. Имею право: на ноги ее поднял, как дочь родную пестовал. Так и передай: на глаза тогда пусть не показывается.
Гвоздева поразило это неожиданное предложение.
— Вот так обсуждение, — усмехнулся он, — это же приказание!
Однако спорить не стал и через час сидел в кабинете Абрамова вместе с Машенькой.
— Что же с вами происходит, милые мои? — спросил Абрамов. — Машенька, у меня волосы дыбом встали от того, что наговорил здесь Федор Иванович. Лучшая наша работница, первая активистка, моя гордость, вышла замуж и вдруг… Какой конфуз! А ну, расскажи-ка ты… По лицу вижу, что не согласна, хочешь спорить… Возможно, с твоей женской колокольни видней. Только говори толково, без шума.
Но говорить без шума Машенька не могла. Снова и снова вставали перед ней все нанесенные ей обиды, все пережитые огорчения, и она бросала их в лицо мужу. Но так как ни Гвоздев, ни Абрамов не возражали ей, постепенно она стала успокаиваться, наконец вздохнула и смолкла.
— Так, — проговорил Абрамов, — так, так… Я, понятно, не врач и не судья, разбираться в ваших чувствах и называть их разными там именами не буду. Но вот что, друзья, до суда вам еще долго ждать, перед вашим приходом я звонил Павловой… Да, да, так пришлось случайно. — В глазах Абрамова мелькнул лукавый огонек. — Судья говорит, что очередь ваша подойдет примерно через месяц, если не позже. Вы же за это время замучаете друг друга. Я подумал, подумал и принял решение: ты, Машенька, вернешься на завод, в свой родной коллектив, к своим друзьям, будешь работать с нами. Мы поставим тебя на работу в полировочный цех, — работа тонкая, ответственная, смотреть надо в оба. Но не бойся, обеспечим тебе хорошее руководство… Ты спросишь, что делать с детьми? А вот что: старшие дети в школе; Наденьку же поместим в детский очаг, очаг у нас хороший… Кроме того, я исхлопочу для тебя сокращенный рабочий день…
Машенька порывисто схватила руку Абрамова.
— Спасибо, товарищ Абрамов! Согласна. Буду работать.
Машенька стала работать в полировочном цеху. Работа оказалась, действительно, тонкой. Каждый день, каждый час заводской жизни приносил Машеньке новые мысли, новые заботы, новые желания. Трудновато совмещать работу на заводе с семейными обязанностями, но другого выхода пока нет. Впоследствии, надо полагать, всё уладится, придет в норму, Две недели промелькнули как один день. Сердце Машеньки заметно смягчилось. После работы подумаешь о доме, и на душе делается хорошо!
Стали ли лучше за эти недели «Нинка» и «Вовка»? Может быть, ей это кажется, но они стали лучше. «Нинка» приметила, что Маша возвращается с завода частенько усталая, и, смотришь, — посуда вымыта, комната подметена, а однажды вдвоем с братцем они умудрились даже полы помыть… Расцеловала бы их за это, честное слово… Славные всё-таки ребята… На следующий день в обеденный перерыв Маша не удержалась и рассказала в цеху о ребятах. Рассказала, и сама удивилась, как ей стало от этого хорошо на сердце…
— …И, главное, всё торопились сделать до моего возвращения, чтоб я не догадалась, что это сделали они, — говорила Машенька и улыбалась.
Но Федору Ивановичу ни про этот случай, ни про другое она так ничего и не рассказала.
Машенька полюбила завод, своего старого друга, с новой силой. Хорошие у нее теперь друзья. Вырвалась она всё же на широкий простор. Нельзя в наше время женщине сидеть взаперти в четырех домашних стенах.
Федор Иванович чувствовал себя тоже неплохо. Дома больше не ссорились: много было заводских новостей, о них хотелось поговорить. Спасибо Абрамову. Действительно, умный мужик… Как всё придумал!..
Прошел месяц. Повестки из суда по делу о разводе всё еще не было. Ну что ж, нет, так и не надо. Однако через полтора месяца Абрамов как бы ни с того ни с сего затеял с Федором Ивановичем разговор.
— Ну, как, друг мой ситцевый, живешь-поживаешь? — спросил он, подмигивая.
— Не жалуюсь, спасибо тебе, — весело ответил Гвоздев.
— Спасибо-то, спасибо… А как там твое судебное дело?.. Поторопить, что ли?
Федор Иванович ответил спокойно:
— Пропади оно пропадом, пусть покрывается пылью…
— Само-то оно не пропадет: прикончить его надо по всем правилам. И я полагаю — миром. Так, что ли?
— Как будто так, товарищ Абрамов.
— Почему же как будто? С Машенькой-то говорил?
— О чем же говорить? И так всё ясно.
— Нет, с женой поговори непременно, а затем придется тебе сходить с ней в суд. Там заявите: так, мол, и так, одумались и решили помириться… Больше, дескать, никогда не будем дурака валять и тому подобное… Кстати, не забудьте поблагодарить судью… за волокиту, — Абрамов спрятал в усах добродушную улыбку. — Я уже договорился с Павловой — завтра утром она вас ждет. Работать будете с вечера…
У Павловой разговор был короткий. Говорила Машенька. Федор Иванович молчал, с удовлетворением слушая жену.
Машенька беспощадно осудила свое поведение, созналась, что умеет в раздражении подобрать словечко, так им ударить, что противник на стену полезет. Она взволнованно похвалила Федора Ивановича, как отца и как мужа. Она заверила Павлову, что больше никогда не испортит своих отношений ни с Федором Ивановичем, ни с его старшими детьми — Володей и Ниной.
Тихие и сосредоточенные возвращались Гвоздевы из суда. Старшие дети, должно быть знавшие, куда отправились родители, встретили их тревожными взглядами.
В комнате было чисто прибрано, на столе стоял букет цветов.
Нина сделала несколько шагов навстречу отцу и той, кто ей заменил мать…
— Здравствуйте, папа и мама, — проговорила она, — вы вернулись… совсем?
Машенька оглядела худенькую фигурку девочки, праздничное платьице, которое она надела, и раскаяние с новой силой сжало ее сердце.
— Нина моя, Нина… дочка моя…
Федор Иванович подошел к жене и дочери, обнял их. И так они стояли минуту, точно измеряли глубину своего счастья.
ВСТРЕЧНЫЙ ИСК
1
Чтобы лучше понять то, что произошло в семье Телегиных, начнем с их прошлого. Собственно, прошлое у них не такое уж и большое, они совсем еще молоды: ему двадцать четыре, ей двадцать.
Лето 1948 года. В Ленинградском Горном институте очередной прием. Желающих поступить в институт значительно больше, чем вакантных мест.
Когда объявили результаты приема, одним они принесли радость, другим — огорчение. Оказались и такие, которые считали свое положение близким к безвыходному. Так именно думала о себе Людмила Андреева. Несмотря на то, что она окончила школу с золотой медалью, ее кандидатуру отклонили: молода (девушке исполнилось семнадцать лет) и хрупка; ей тяжело придется в полевых условиях. (Людмила просила принять ее на геолого-разведочный факультет.)
Она горячо протестовала против постановления приемочной комиссии, называя решение несправедливым и даже оскорбительным. Председатель комиссии в конце концов признал свою ошибку насчет «хрупкости». Однако юный возраст оставался юным возрастом. Единственное, что мог обещать председатель комиссии, — это принять Андрееву в будущем году.
Людмила сухо поблагодарила и ушла. На сердце у нее было тяжело: в Ленинграде ни родных, ни знакомых. Да и вообще она не имела родных, — их отняла война. В Намангане, куда ее эвакуировали, она воспитывалась в детском доме. Она шла по набережной Невы, не отдавая отчета, куда и зачем идет.
— Здравствуйте! — пробасил кто-то над ухом Людмилы. Девушка вздрогнула и вопросительно взглянула на незнакомого студента-горняка.
— Не узнаёте?
— Не узнаю. И узнавать не собираюсь.
— Зачем так резко?
— Терпеть не могу назойливых!
— Простите, но если не ошибаюсь, мы знакомы…
— Вот позову милиционера. Он вам даст необходимые разъяснения.
— Напрасно, Люда… Правильно я вас называю?
Людмила смутилась. Откуда он знает ее имя? Здесь, в Ленинграде, по имени ее никто не называл. Удивительнее всего, что Людой ее звали только в детстве, лет до десяти-двенадцати, а потом, с чьей-то легкой руки, переименовали в Люсю.
— Да, меня когда-то звали Людой…
— Во всяком случае, в Намангане вас звали Людой. Вы были там в детском доме.
Людмила всё еще с недоверием поглядывала на студента: лицо в веснушках, глаза большие, отсвечивают сталью, взгляд острый, насмешливый.
— Если вы меня действительно знаете, докажите это.
— Как видите, я студент. Если угодно, студент-дипломант. Мое имя — Владимир. В прошлом же звали Рыжиком… помните? — И Владимир забавно заморгал глазами — так он в детстве смешил девочек.
— Володя! — радостно воскликнула Людмила. — Как же это?.. Прости… Я так рада, так рада!
Они крепко жали друг другу руки. Но минуту спустя Людмила снова помрачнела:
— У меня большое горе, Володя!
— Всё знаю. И думаю, беда поправима. Во всяком случае, отчаиваться нет оснований. Ты куда-нибудь спешишь?
— Куда мне теперь спешить!
Молодые люди пошли по набережной.
2
В свое время Людмила и Владимир были воспитанниками двух соседних детских домов в Намангане. Там и познакомились Володя-Рыжик и Люда-Беляночка.
Окончив среднюю школу, Володя уехал на Урал, поступил в Свердловский Горный институт. Затем через два года перевелся в Ленинград. Люда осталась в Намангане. Неделю назад Владимир обратил внимание в коридоре института на стройную девушку с пышными вьющимися волосами и лицом, бронзовым от загара… Где-то раньше он встречал ее. Где? Кто она? Он стал ежедневно посещать институт, исподволь наблюдая за девушкой. В конце концов решил навести справку в канцелярии. Узнав ее имя и то, что она из Намангана, Владимир всё остальное вспомнил легко. Тут же ему сообщили, что Людмиле отказали в приеме.
Молодые люди долго ходили по набережной. У Людмилы на душе стало легче, светлей. Теперь она была почти убеждена, что встреча с Владимиром облегчит ее судьбу. Как вырос он! От прежнего Вовки остались, пожалуй, одни лишь золотые веснушки и насмешливые глаза.
Владимир тоном заботливого брата изложил Людмиле свой план. Он предложил ей поселиться у него на правах родного человека. Жить она будет в одной комнате с его теткой. Комната большая, как говорят, со всеми удобствами. Владимир помещается в соседней, маленькой. Тетя будет рада Людмиле, она женщина сердечная.
Затем в ближайшее время он устроит ее работать коллектором в Геологоразведочный институт. Весной она поедет в какую-нибудь геологоразведочную экспедицию, осенью следующего года поступит в Горный институт.
— Согласна? — заключил Владимир и вопросительно посмотрел на Людмилу.
— Большое спасибо! Я никогда, Володя, не забуду твоей заботы!
3
Людмила и Владимир полюбили друг друга.
Они зарегистрировались в загсе. На свадебный вечер пригласили товарищей.
Вечер прошел по-студенчески: было мало вина и много разговоров, горячих высказываний о любви, счастье, о будущей жизни.
— Друзья, — сказал студент философского факультета, — новобрачным часто высказывают всякого рода добрые пожелания: нерушимой любви, прекрасной жизни, вечного счастья и всего такого прочего. Я же пожелаю нашему другу и его спутнице вечной душевной молодости!
— Да будет так! — раздалось со всех сторон.
Звон бокалов, шутки, смех. За первым тостом последовали другие. Студент-архитектор говорил о том, что семейная жизнь — это самая сложная постройка. А, как известно, хорошая постройка требует хороших мастеров, знатоков тонкого искусства. Студент-медик сравнил семью с человеческим организмом: только здоровый организм кипит энергией, волей к победе.
Через некоторое время Людмилу приняли в одну из экспедиций, которую Геологоразведочный институт направил на Кольский полуостров. Владимир остался в Ленинграде, чтобы кончить дипломный проект.
Первая разлука. Она была тяжела, но молодожены понимали ее необходимость. Впереди ясная цель: вернувшись из экспедиции, Людмила станет студенткой Горного института. Как близко исполнение мечты!
Мечта Людмилы стала мечтой и Владимира: он думал теперь о будущем жены, пожалуй, горячее, чем она сама.
На Кольском полуострове Людмила проявила себя способным работником. Лишь перед возвращением в Ленинград она как-то стала прихварывать. Первоначально не понимала своего недомогания, а когда поняла, растерялась. Но она решила скрыть беременность, крепиться, пока хватит сил. Это ей удалось.
Вернувшись в Ленинград, она не сразу решилась заговорить с мужем о своем будущем материнстве. У нее было странное чувство: ей казалось, что она совершила перед мужем какой-то нехороший поступок.
— У тебя будет ребенок? — спокойно спросил Владимир. — Почему у тебя, а не у нас? — Поцеловал жену и добавил: — Поздравляю, Люда!
Людмила помрачнела. Она не понимала мужа, его спокойствия. Лучше бы молчал. Ей казалось, что Владимир должен был бы повести себя иначе.
— А ты обо мне подумал? — сухо спросила она.
— Обо всем подумал: о тебе, о себе, о нашем малышке.
Владимир обнял жену.
— Ты прости меня, Володя, — сквозь слёзы улыбнулась Людмила. — Прости, милый, что я так раскисла. Видимо, и я женщина…
— Ну, ну! — добродушно пробасил Владимир. — Это мне даже приятно, уверяю…
4
Приближался заветный день. «Малышка» уже незримо, как равноправный член вошел в семью Телегиных. И Владимир и Людмила много думали о ребенке, о своей дальнейшей жизни. Как бы то ни было, а жизнь придется перестраивать. Предстояло прежде всего решить основной вопрос — удастся ли Людмиле поступить осенью в институт, не лучше ли повременить? В конце концов, Людмила пришла к выводу, что ребенок не помешает ей учиться, она сумеет одолеть любые трудности. Вот только Владимир придерживался иного взгляда: он считал, что год, а то и два Людмила должна будет целиком посвятить ребенку. Незачем изнурять себя. Людмила молода. Ничего не будет плохого, если она поступит в институт несколько позже.
Окончательное решение вопроса отложили до рождения ребенка. Однако Людмила решила настоять на своем — она должна учиться, не теряя времени. Учиться, учиться, учиться! Она будет не только хорошей матерью, но и хорошим работником.
Другие чувства овладели Людмилой, когда на больничной койке она прижала к своей груди сына, названного Владимиром. Владимир-младший! Великолепно! Она сделает всё, чтобы воспитать его замечательным человеком. И, конечно, она будет ухаживать за ним только сама. За такой крохотулькой надо смотреть в оба, иначе беда! Владимир-старший прав. Хорошо она придумала: Владимир-младший, Владимир-старший! Она теперь так и будет называть их, самых дорогих ей людей на всем белом свете. Любопытно: кто из них сейчас дороже ей? Конечно, оба. Но Владимир-младший такой еще маленький, такой беззащитный!..
Людмила поправила головку ребенка и поцеловала его.
— А вы где работаете?
Людмила вздрогнула. У ее изголовья стояла медицинская сестра, такая же молоденькая, как и сама Людмила.
— Я спрашиваю вас, мамаша, вы работаете или как?
— Я пока никак, — ответила Людмила. — Понимаете, пока никак.
— Понимаю… Ну, а муж, скажем, у вас есть?
Сестра как-то странно улыбнулась. В ее вопросе прозвучали жалостливые нотки.
— Есть… Володя… Он у меня добрый…
— Вижу, что Володя есть, — кивнула сестра на ребенка. — А вот муж…
— И мужа, сестрица, зовут Володей. Он у меня Владимир-старший, а этот богатырь — Владимир-младший. Теперь поняли?
— Понять не трудно. Вы с ним в ссоре или как?
— Странные у вас вопросы! — Людмила нахмурилась. — Что вам пришло в голову допрашивать меня?
— Я ведь к чему спрашиваю, мамаша? Сколько лежите, — скоро выписка, а он… Даже по телефону ни разу не справился…
— Ах, вот оно что! — рассмеялась Людмила. — Ничего, сестрица, ничего. Володя-старший в командировке. Его в правительственную комиссию на Волгу вызвали. Он у меня геолог.
— Доведись до меня, не отпустила бы, — засмеялась сестра. — Волга никуда не денется…
— Мы с Вовкой тоже никуда не денемся…. Правда? — обратилась Людмила к сыну. Тот безмятежно спал.
5
Владимир был счастлив. Он стоял рядом с женой над детской кроваткой и рассказывал о своей поездке на Волгу. Удивительная поездка! Какие величественные планы! И всё так реально, близко, зримо!
Увлеченный своим рассказом, Владимир не заметил на лице Людмилы страдальческой тени.
— С твоего позволения, Люда, пойду отдыхать, — сказал, наконец, Владимир.
— Конечно, конечно. Дорога утомляет.
Людмила искренне хотела, чтобы муж отдохнул, и в то же время его уход обидел ее, — мог бы еще побыть с ними!
Людмила пристально смотрела на сына, стараясь разобраться в своих беспокойных чувствах и мыслях. Непривычные и горькие это были мысли. Она, конечно, понимает мужа. Первый, так сказать, полет, первое большое поручение, знакомство с грандиозными планами! Непонятно другое: почему Владимир так сдержанно встретил ее, так холодно отнесся к ребенку? Даже не взял его на руки, не поиграл с ним. Ясно, лучшие мысли и чувства Владимира принадлежат работе, служебному долгу. Что же останется на долю ее и ребенка? Что будет дальше?! Владимира выделяют как способного молодого специалиста. Не перехвалили бы, не закружилась бы голова?! А что если он зазнается и оставит их? Людмила зашла к мужу и прижалась щекой к его щеке.
— Я хочу с тобой поговорить, Володя, и попрошу тебя быть со мною откровенным.
— Что случилось?
— Я хочу задать тебе один… пока один вопрос… Скажи, Володя, ты любишь меня по-прежнему?
— Не понимаю твоей тревоги! Разве я дал повод?
Владимир с удивлением посмотрел на жену:
— Никакого. И ты неправильно понял меня — я не тревожусь. Я попрежнему верю твоему сердцу, как своему.
— К чему же тогда твой вопрос?
— Не знаю. Мне кажется, что я теперь иная… Я мать… Я связана ребенком… Мне почему-то очень тяжело. И страшно. Не за себя, нет. Больше за Вовку. Скажи, ты его очень любишь?
— Дурочка ты моя! У меня к тебе и Вовке такие чувства, что я не нахожу слов их выразить.
Шло время. В жизни Людмилы и Владимира, казалось, всё было хорошо, — самый зоркий глаз не заметил бы никаких трещин. Владимир усиленно готовил кандидатскую диссертацию, директор Геологоразведочного института, где теперь служил Владимир, создал ему для работы самые благоприятные условия.
Однако можно ли было сказать, что домашняя обстановка так же благоприятствовала успехам Владимира? К сожалению, этого нельзя было сказать. Правда, Людмила всеми силами старалась облегчить жизнь мужу, но скоро приметила, что он без восторга относится к домашнему уюту, созданному ее усилиями. Ей порой казалось, что муж готов сказать: «Оставь меня, Людмила, в покое! Мне не нужны твои заботы. Я человек науки, и, кроме науки, у меня нет других интересов. Я иду к своей цели, не замечая на своем пути ни тебя, ни ребенка…»
Она пыталась понять истинную причину черствого, как ей казалось, отношения к себе мужа, и в душе ее пробуждалось чувство, похожее и на зависть и на ревность. Только ли оттого его холодность, что Владимир любит свою работу, или же еще и оттого, что он перестал уважать Людмилу?.. Кто она? Студентка? Нет, фактически не студентка. Домашняя хозяйка? Да? Неужели на всю жизнь?!. Скоро конец третьему полугодию, а она всё еще дома, и всё сильней привязывается к нему… Как погасить боль, обиду на мужа, на себя, на свою судьбу? И снова и снова мысли ее возвращались к Владимиру. Другой муж носил бы ее на руках. Другой отец чувствовал бы себя на седьмом небе, ликовал бы от счастья, — сын здоровый, жизнерадостный. Правда, иногда Владимир благодарил ее за заботы, восторгался сыном, но как он это делал? Благодарил, как ей казалось, вполголоса, сухо, а если восторгался мальчиком, то, наверное, лишь для отвода глаз.
Права ли была Людмила? Нет, Владимир любил ее попрежнему. Но любовь эта жила рядом с горечью. Она всё свое время отдает ребенку, часами, словно под гипнозом, любуется им. Ребенок заслонил от нее жизнь.
Несколько позже у Владимира возникли неприятные вопросы: неужели он ошибся в Людмиле? Неужели она намерена остаться только домашней хозяйкой. Супруги таили друг от друга свои огорчения. Но как-то Людмила купила мужу модный яркокрасный галстук. Владимир, взяв в руки подарок жены, равнодушно спросил:
— Это не мне ли, случайно?
— Тебе… и вовсе не случайно… Не нравится?
— Нет… он мне к лицу: при таком ярком пламени на груди, никто не заметит веснушек. — И, добродушно рассмеявшись, добавил: — Ну к чему это? Зачем ты шута горохового из меня делаешь?
Людмила помрачнела. Владимир, заметив это, поспешил смягчить свои слова:
— Ну, ну! Я пошутил. А за подарок спасибо!
Но Людмила выхватила из рук Владимира галстук и швырнула его на стол.
— Хватит! Нам надо выяснить всё! Скажи, что между нами происходит?
— Хорошо, Люда, поговорим по душам, — сказал он. — Только не обижаться, не сердиться, не враждовать. Мы, видимо, не всегда и не во всем правильно понимаем друг друга. А это вредно и тебе, и мне, и нашему ребенку.
— Я хочу знать, чем ты недоволен в моем поведении? Может быть, я плохая мать, никуда не годная жена, хозяйка? Может быть, мы с Володькой мешаем тебе работать, жить? Говори честно, откровенно!
— До тех пор, пока ты не успокоишься, я не начну разговора.
— Хорошо, я обещаю быть спокойной, — сказала Людмила. — Ты прав: нам надо понять друг друга.
— Так вот, Люда, у меня к тебе особых претензий нет. Меня лишь беспокоит твой затянувшийся отпуск.
— Дальше!
— Мне кажется, что ты забыла о своей хорошей мечте.
— Именно?
— Я имею в виду твое желание учиться, стать инженером-разведчиком, участником наших великих строек. Ведь ты об этом, кажется, мечтала. Учти, тебя могут отчислить из института.
— Дальше!
— Дальше я не вижу никаких оснований к тому, чтобы ты оставалась в своем теперешнем, прямо скажу, незавидном положении.
— Вот даже как?
— Скажи — только не таясь, — разве ты сама не тяготишься своей жизнью?
— Это неинтересно. Интересно другое: почему ты стал тяготиться мной?..
— Не тобой, а твоим теперешним положением. Оно обижает меня, оно разрушает нашу мечту — идти вперед плечом к плечу.
— Вот за откровенность благодарю. Значит, я тебе противна, ненавистна! Значит, грош цена моим заботам о тебе? Значит, судьба ребенка тебя не интересует! Может быть, его лучше сдать в детский дом?
— Какой тон!.. Но, между прочим, не нам с тобой, выросшим в детском доме, иронически говорить о детском доме. Почему ты решила, что мы должны воспитывать ребенка тепличным способом, дни и ночи сидеть у его кровати, не сводить с него глаз?..
— Может быть, укажешь выход из положения?
— Могу. Почему, например, нельзя хотя бы частично поручить присмотр за Вовкой тете?
— Так она и пойдет на это!
— С удовольствием пойдет. Если хочешь знать, я уже говорил с ней об этом.
Людмила задумалась.
— Признаться, я в большом затруднении, — сказала она. — В твоих словах есть доля правды, но… ты должен понять меня, Володя, — я не могу никому перепоручить воспитание нашего сына.
— Не воспитание, а присмотр.
— И этого не могу: боюсь! Когда я вынуждена оставлять Вовку… ты посмотрел бы на меня: я мечусь, как угорелая! Мне кажется, что с Вовкой стряслась беда.
— Нелепый страх.
— Понимаю, но сделать с собой ничего не могу.
— Возьми себя, Люда, в руки. Это будет на пользу и нашему мальчику, и тебе, и мне. Мы с тобой не должны быть врагами своего счастья.
— Да, да. Ты прав. Хватит об этом. — И Людмила уверенно добавила: — Мы будем счастливы по-настоящему, мой милый.
Однако прошло несколько дней, и Людмила снова решила повременить с учебой в институте до тех пор, пока не отправит Вовку в детский сад. Другого выхода нет: студенты-геологи, как никто, связаны с выездами на производственную практику в разные районы страны. С собой ребенка ведь не возьмешь.
Жаль, конечно, что она одинока в своих взглядах. Владимир их не разделяет, с ним бесполезно говорить об этом. Лучше уж молчать. Возможно, со временем Владимир поймет ее, смягчится, уступит.
Между супругами установились сухие, деловые отношения; каждый замкнулся, ушел в себя. Семейная жизнь потускнела. Владимир стал чувствовать себя каким-то бездомным мужем. Единственное спасение видел в работе, особенно в диссертации.
6
С Надеждой Петровной Морозовой Владимир познакомился у приятеля. Она была не молода, овдовела задолго до войны. После смерти мужа, известного ученого, поступила экскурсоводом в Русский музей, — увлеклась живописью. Она была культурной, всесторонне развитой женщиной, приятной собеседницей. Владимир и Надежда Петровна стали часто встречаться.
«Удивительно, почему он ничего не говорит о своей семье? — думала она. — Почему всегда один? Счастлив ли он?..»
Осторожно, как бы невзначай, Надежда Петровна спросила Владимира о жене и сыне. Он уклонился от откровенного разговора, но предложение Надежды Петровны — прийти в следующий раз с Людмилой — принял.
Владимир пошел на это с определенной целью — не сможет ли эта умная, с большим жизненным опытом женщина подействовать на жену. Он чувствовал сейчас, как никогда, неотступную потребность в хорошем, полезном посреднике.
— Послушай, Люда, — обратился Владимир к жене, — ты не хотела бы вступить в Общество любителей русской живописи?
— Что это еще за общество? — насторожилась Людмила.
Владимир рассказал о своей дружбе с интересным человеком, вдовой, научным сотрудником Русского музея.
Лицо Людмилы покрылось пятнами. Она оборвала мужа:
— Не пришлось бы тебе скоро переименовать это свое общество живописи в общество вдов и разведенных.
— Неужели ревнуешь?
— Упаси бог! Нисколько.
— То-то!.. Вспомни, что это низменное чувство никого не приводило к хорошему.
— Благодарю за назидание.
— Люда, мы когда-то поклялись жить на здоровых началах…
— А не ты ли первый нарушил эту клятву!.. Кроме того, я, кажется, никогда не клялась терпеть твоих безобразий!
На глазах у Людмилы показались слёзы. В душе она проклинала себя: не сдержалась, выдала себя с головой. Заметит, еще больше возгордится.
Владимир действительно заметил слёзы, но не возгордился.
— Не надо, Людмила! Перестань!.. Давай помиримся! Ни к чему всё это!
Людмила обрушила на голову мужа самые невероятные обвинения: упрекала в измене, в забвении обязанностей мужа, отца, рекомендовала перестать притворяться и немедленно переехать к той, кого любит…
— Опомнись, Люда! Кроме добрых приятельских отношений, у меня к этой женщине ничего нет и быть не может.
— Тем легче тебе с ней порвать.
— Я не верю, Люда, что ты говоришь об этом всерьез.
— Нет, нет, я самым решительным образом требую: я или она!..
— А я последний раз прошу тебя, опомнись!..
— Не то?! — вызывающе вскинула голову Людмила.
— Не то худо будет!
— Развод?
— Я об этом не говорю.
— Тогда я об этом скажу. Если ты не оставишь ее, уйду от тебя я, уйду с Вовкой куда глаза глядят.
Людмила бросилась на постель и зарыдала.
— Жестокая!.. Жестокая и неблагодарная!
— Вот-вот, наконец-то проговорился… Неблагодарная? Верно! Я всю жизнь обязана молиться на тебя, плясать под твою дудку: можно сказать, на улице подобрал, спас… в люди вывел.
— Это уж безобразие. Я тебе этого не прощу никогда. И вообще после этого жить под одной кровлей тяжко, немыслимо, недопустимо.
Людмила вскочила, вплотную подошла к Владимиру:
— Очень хорошо. Мы разойдемся. Посмотрим, кто первый об этом пожалеет.
7
Они порознь вошли в зал судебного заседания. Дубовые стулья, большой стол, покрытый красным сукном. В зале всего лишь одна женщина. Владимир как-то странно посмотрел на нее, как будто улыбнулся. Сел же поодаль. Людмила внимательно посмотрела на незнакомую женщину. Кто она? Строгого покроя черный костюм, гладкая прическа, волосы седые, почти белые, лоб широкий, прямой, с глубокими складками, губы плотные, взгляд пытливый. Но зачем Людмиле рассматривать эту женщину? Мало ли здесь, в суде, бывает всяких людей!..
Нет, нет, женщина имеет какое-то отношение к Владимиру. У Людмилы сжалось сердце. Возможно, это мать той особы, пришла соглядатаем. Более тяжкого оскорбления придумать нельзя!
Людмила еще пристальней всматривается в женщину. Она, несомненно, была красавицей. И дочь, наверно, у нее красива. Людмила мысленно представляет образ своей соперницы, и ее охватывает мелкая дрожь. Стало быть, всё погибло, она сама пошла опасности навстречу, ускорила гибель своей семьи.
Раздался звонок. Владимир встал. Вышел состав суда. Встали и Людмила и седая женщина в черном костюме. Председательствующий попросил присутствующих сесть. Суд приступил к рассмотрению дела по иску гражданки Телегиной Людмилы Николаевны к ее мужу Телегину Владимиру Павловичу о расторжении брака.
В составе народного суда: председательствующий — народный судья Курский и народные заседатели: старый слесарь завода Савельев и доцент университета Голубева.
Курский, словно ничего серьезного и волнующего не ожидалось, спокойно объявил, кто будет рассматривать дело, назвал себя и заседателей, а затем спросил стороны (странно прозвучало это слово — «стороны»), нет ли у них, у этих самых сторон, отвода кому-либо из состава суда.
Какие могут быть отводы? Людмила вполне доверяет составу суда. Вот если можно было бы удалить постороннюю женщину. Но этого нельзя, разбирательство открытое, могут присутствовать все, кто хочет.
Владимир тоже выразил доверие судьям. Ему безразлично, кто будет судить, лишь бы как можно скорей закончить дело. А тут еще, как назло, медлят, зачем-то у каждого из супругов судья спрашивает фамилию, имя, отчество, год рождения, профессию, месторождение, партийность. Неужели нельзя обойтись без этих анкетных данных?..
Людмила встрепенулась: что такое?! Судья вызывает седую женщину. Женщина решительно подходит к столу. Председательствующий разъясняет ей, что она, как свидетель, должна говорить суду только правду, ничего не скрывать, не утаивать, иначе по закону ей грозит лишение свободы… Женщина расписалась и по предложению судьи вышла из зала; когда нужно, ее вызовут…
— Я никаких свидетелей не приглашала, — с трудом овладевая собой, заявила Людмила. — И я протестую, чтобы какая-то совершенно незнакомая мне гражданка принимала участие…
Судья Курский мягко объяснил, что свидетельница уже допущена и суд ее допросит. Истица, а равно и ответчик, должны иметь в виду, что их семейный конфликт не только их личное дело. Нашему государству, нашему народу далеко не безразлично, каковы у нас семьи. Советскому государству нужна здоровая во всех отношениях, крепкая и дружная семья. Конечно, суд не намерен добиваться этого принуждением, но посоветовать, помочь супругам разобраться в спорных вопросах — это первостепенная обязанность народного суда. Не согласятся стороны помириться, — что ж, они могут пойти выше, в следующую инстанцию: там разрешат спор уже по существу — разведут или откажут. И еще надо иметь в виду: для развода должны быть очень серьезные основания; из-за пустяков, из-за мелких недоразумений развода не дадут.
Сделав небольшую паузу, Курский предложил истице и ответчику откровенно рассказать, что привело их сюда, почему они решили крайней мерой — развалом семьи — завершить свой спор. Сначала должна высказаться истица.
Людмила оцепенела. Она никогда не выступала публично, да и судья своими замечаниями как-то сбил ее с толку. До этого у нее в голове были кое-какие мысли, которые она собиралась высказать, — а теперь их нет, они исчезли.
— Что же вы молчите, гражданка?
— У нас, как нигде в мире, женщина независима, свободна и ее порабощать запрещено, — тихо и неуверенно начала Людмила. — Я тоже женщина и имею полное право… — Она замолчала… — Вы лучше спросите обо всем моего мужа… Он вам всё объяснит.
— Его мы спросить успеем. А вы скажите, не стесняясь, что́ у вас случилось? Ведь вы затеяли суд.
— С горя я это сделала. Меня на это толкнул муж.
— Вот и объясните всё.
Людмила колебалась. Откуда-то из глубины души поднимались мысли о собственной неправоте, о бесполезности и, главное, несправедливости затеянного ею судебного процесса. Пожалуй, она пошла сюда без серьезного намерения, в целях самозащиты, хотела проверить чувства мужа. Но отступать теперь, видимо, поздно. Хорошо, она расскажет суду всё.
Владимир Павлович, ее муж, с некоторых пор замкнулся, стал отходить от семьи, охладел к ней, как к женщине. А почему? Да потому, что она стала матерью, стала не той, что прежде. Ему с ней скучно, она для него неинтересна, глупа. Возвышенная душа ее мужа стала искать выхода из тупика. И нашла его в лице другой… женщины, наверняка, прекрасной во всех отношениях, одухотворенной, ничем не обремененной. Когда она, Людмила, хотела исправить положение, он отказался порвать с той женщиной, уверяя, что лишь дружит с ней. Спросите самого неискушенного в жизни человека, и он вам скажет, что любить одну, дружить с другой — немыслимо, чепуха! И потом, что это за семья, где неделями, месяцами играют в молчанку, где всё пронизывает холод, ни в чем нет согласия?! Это не семья. Это женатые холостяки. Да, да, именно женатые холостяки, которых связывает закон и ничто более. Она не хочет, не может так жить. Перед людьми стыдно, перед совестью стыдно, перед сыном. Лучше уж разойтись.
— Вот видите, — заметил Курский, когда Людмила смолкла, — целую речь произнесли…
— Но почему вы всё же не доверяете мужу? — спросил заседатель Савельев.
— А почему я должна доверять?
— Не доверяют, когда есть факты. Вы же ни одного факта не привели.
Людмила недружелюбно посмотрела на Савельева и с плохо скрытым раздражением ответила:
— Не понимаю, какие еще нужны факты?! Вы можете мне не доверять, это ваше дело, но я утверждаю, что у него есть другая женщина!
— Кто это может подтвердить? — не успокаивался Савельев.
— Это может подтвердить мой муж… Ему-то, вы, надеюсь, поверите…
— Муж не отрицает дружбы с незнакомой вам женщиной… Правильно я вас поняла? — спросила Голубева, второй народный заседатель.
У Людмилы окончательно упало настроение: «И эта за него. Непонятно, чем он подкупил их… Или я наговорила таких глупостей, что восстановила против себя всех?..»
— Да, вы поняли меня правильно, — глухо ответила Людмила.
— Известно ли вам что-нибудь о более интимной связи вашего мужа с этой женщиной? — спросил Курский.
— Достаточно того, что мне известно… Если у него ничего другого с ней нет, пусть оставит ее в покое.
— Почему?
— А хотя бы потому, что мне это не нравится, что меня это обижает. Значит, я ему больше не друг, значит…
— Это еще ничего не значит. Муж вам говорил, что вы ему больше не друг?
— Муж стал искать дружбы на стороне, с другой женщиной…
— Допустим, что вы добьетесь разводи. А вы подумали, как потом у вас сложится жизнь?
— В мои-то годы…
— Именно в ваши годы, — заметила Голубева, — обычно и совершаются непоправимые ошибки. Мне кажется, каждый серьезный человек фундамент своей семейной жизни должен закладывать раз и навсегда.
— Уж как мы осмотрительно закладывали фундамент!.. Треснул же…
— Надо было получше зацементировать.
— Не всякий человек годится в мастера.
— Мы все должны быть хорошими мастерами своей жизни. За вас строить никто не будет.
— Учту, спасибо!
— Можно без иронии. Не забывайте, что разведенные обычно производят впечатление неполноценных людей. Не сумели с одним ужиться, — где гарантия, что с другим уживетесь?
— А если не я, а он?..
— В равной мере и о нем можно это сказать. Перед народом, перед общественным мнением и ему и вам трудно будет оправдаться: развалили семью, — значит, оба виноваты.
— Совершенно верно, — сказал Курский. — Но главное, пожалуй, даже не в этом… Вы, как мать, плохо заботитесь о будущем вашего ребенка.
— Это неправда! — воскликнула Людмила. — Мой мальчик — вся моя жизнь.
— Почему же вы тогда хотите лишить его отца? Когда он вырастет, я думаю, он вас не поблагодарит… Послушаем теперь ответчика. Прошу! — обратился судья к ответчику.
— Разрешите, если можно, объясниться мне после допроса свидетеля! — попросил Владимир. — Мне легче будет говорить, а вам легче понять истинную суть нашего конфликта.
Курский посоветовался с заседателями и пригласил свидетеля — женщину в черном костюме. Она вошла в зал. Людмила боялась поднять на нее глаза, — незнакомка внушала ей страх.
Курский предложил свидетельнице дать показания. Это была Морозова, Надежда Петровна. Ее имя, отчество и фамилия Людмиле ничего не говорили. Она слышала их впервые. Морозова была немногословной, но ее показания ошеломили и отрезвили Людмилу.
— Я попросилась в свидетельницы, граждане судьи, сама, пришла сюда по доброй воле. Владимир Павлович был против, но я его убедила, что со мной в суде будет проще. Я познакомлюсь с его женой, честно и открыто покаюсь в «грехах», и, возможно, мы поймем друг друга. Вы меня, Людмила Николаевна, конечно, знаете со слов вашего мужа. Вы, наверное, не подозревали, что у вас такая соперница. Посмотрите на меня, на мои белые волосы. Посмотрите мне в глаза… Не хотите — не надо; дело ваше. А я не боюсь смотреть вам в глаза. Не боюсь потому, что совесть моя чиста. Вы испугались дружбы вашего мужа со мной. А я не побоялась бы дружбы и с вашим мужем и с вами одновременно. Любовь втроем — плохо. Дружба втроем — замечательно. У меня много товарищей, и я горжусь ими, их дружбой!.. Не подумайте, Людмила Николаевна, что я пришла сюда просвещать вас. Это ни вам, ни мне не нужно. Я пришла сюда как живое доказательство ваших заблуждений. Прогоните свою ревность, и вам станет легче. Вы должны быть, вы будете счастливы! Лично я от души, от всего сердца желаю вам, вашему мужу и вашему сыну полного благополучия!
Морозова смолкла. Ей не было задано ни одного вопроса. Всё было предельно ясно. Она села. Произошло некоторое замешательство: неудобно было после ее выступления продолжать судебное заседание. Курский решил воспользоваться этим и поставил перед супругами вопрос о примирении. Владимир сухо заявил:
— Об этом говорить рано. Я предъявляю жене встречный иск. Кажется, так называются на языке юристов те претензии, которые я хочу предъявить Людмиле Николаевне.
Людмилу душили слёзы. Зачем она пришла сюда? Как всё это получилось? Недаром весь состав суда на его стороне. Может быть, признаться во всем, дать слово? Но муж что-то затевает.
Нелегко было говорить Владимиру. Он обманут женой — хотела она этого или не хотела, — обманут в лучших своих надеждах. Это не громкая фраза. Это тяжелая для него правда. Он полюбил Людмилу и мечтал жить с ней всю жизнь счастливо. Людмила помнит, конечно, как хорошо об этом говорили на их свадьбе; говорила она сама, говорили друзья. Незабываемый день! А сейчас больно и досадно вспоминать о нем… Итак, он мечтал идти с Людмилой в ногу, шагать с ней по полям, по тундрам, в горах, с молотками в руках, с рюкзаками за плечами. Да и она стремилась к тому же… А на деле — всё рухнуло.
Кто же в этом виноват? Он? Она? В чем таится зло? В любом споре, при любом конфликте надо не терять основного — честности, правдивости, объективности.
Он не намерен говорить лишь об одних пороках жены. У нее много хорошего. Она хорошая мать, хорошая хозяйка, — много заботы проявляет о нем, своем муже, но всё это в конечном итоге переросло в плохое: с некоторых пор мелкие бытовые вопросы вытеснили из их жизни первостепенное. Эти мелочи быта опутали Людмилу. Вот почему она поддалась ревности, стала отравлять свою и его жизнь. Это не громкие слова. Из-за домашних скандалов он запаздывает с диссертацией. Возможно, в связи с этим потеряет работу в комплексной экспедиции на Волге.
Владимир просит понять его правильно. Он не против чистоты в квартире, он не против вкусных обедов. Но не надо сводить к этому всю жизнь. Никто, ни один советский человек, не имеет права замыкаться в кругу узких личных интересов, отрешиться от того большого, нового, чем дышит вся наша действительность.
Владимир переступил с ноги на ногу, словно желая еще крепче стать перед судейским столом. Он и ростом как будто стал выше, и голос зазвучал сильнее.
Он настаивает, чтобы Людмила немедленно поступила в Горный институт, осуществила свою забытую мечту. Он сделает так, что за ребенком будет уход. Это во-первых. Во-вторых, Людмила должна обещать, что не будет оскорблять его ревностью. Он же, со своей стороны, не даст ей для этого никакого повода. Надежда Петровна Морозова — это не повод. Кстати сказать, их дружеские отношения, разумеется, будут сохранены. Вот и всё. Других претензий у него к жене нет.
Курский подозвал супругов ближе к столу и спросил, обращаясь к Людмиле:
— Надеюсь, вы поняли, чего хочет от вас муж?
Людмила кивнула головой.
— Согласны ли вы закончить дело примирением?
— Да… прошу простить меня. — На глазах у молодой женщины засверкали слёзы. Владимир поспешно взял ее руку.
— Желаем вам в дальнейшем мирной жизни и успехов, — улыбнулся Курский. — Вам, — судья посмотрел на Владимира, — успехов в работе, а вам, Людмила Николаевна, — в учебе!
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
1
Прокурор гражданско-судебного отдела городской прокуратуры Кузнецов с большим вниманием выслушал Антонину Николаевну Взлетову.
— Не волнуйтесь, Антонина Николаевна. Вашим делом я займусь немедленно. Оно представляет интерес…
Кузнецов хотел добавить: большой, принципиальный интерес, но не добавил. В подобного рода случаях он предпочитал осторожность. Среди посетителей бывают разные люди: иные уцепятся за преждевременно сказанное слово и, если первоначальное мнение прокурора впоследствии разойдется с его окончательным выводом, заявляют претензии.
Однако в данном случае Кузнецову не пришлось менять своего мнения. Дело Взлетовых действительно оказалось принципиальным.
…Три года назад Взлетов впервые обратился в суд с заявлением, в котором писал:
«С Антониной Николаевной Взлетовой (урожденной Абрамовой), 1903 года рождения, я состою в законном (зарегистрированном) браке с 5 мая 1923 года. Брак наш состоялся по взаимной любви и с доброго согласия.
Настоящим заявлением убедительно прошу суд расторгнуть наш брак по соображениям, которые излагаю ниже.
Примерно два последних года ответчица ведет себя недопустимо: всячески придирается ко мне и оскорбляет нелепыми ревнивыми подозрениями. В настоящее время ее отношение ко мне можно назвать враждебным.
Я всячески пытался смягчить семейную нашу обстановку. Однако попытки мои оказались бесплодными. Больше того, жена явно склоняет на свою сторону нашу дочь Светлану, пятнадцати лет.
Долгие, мучительные размышления привели меня к убеждению, что наша семья потеряла моральное право на дальнейшее существование. Может ли существовать семья, в которой утрачена взаимная любовь, в которой парализуется даже отцовское чувство?
Как ученый, которому Родина дала всё (я являюсь доктором географических наук, профессором института), я не в силах дальше терпеть ненормальную, уродливую семейную обстановку, крайне отрицательно сказывающуюся на всей моей научной и общественной работе.
Имущественные интересы и вопросы оказания материальной помощи дочери и ее матери будут, надеюсь, урегулированы на добровольных началах».
Копия этого заявления вместе с повесткой о явке в суд была вручена ответчице. Заявление настолько потрясло Антонину Николаевну, что у нее обострилась давняя сердечная болезнь. Убитая горем, Антонина Николаевна даже не обратилась за помощью к врачу.
После выздоровления, на повторную повестку из суда она откликнулась письмом:
«Состояние моего здоровья, — писала она, — вынуждает меня представить свои объяснения в письменном виде.
Я решительно против развода. Муж утверждает, будто я стала враждебно к нему относиться и заразила своей враждебностью нашу дочь. Это неправда. Нет у нас к нему вражды. Мы любили и любим его до сих пор. Однако мы не можем не видеть, как изменилось его поведение. С ним что-то произошло. Возможно, тут замешана посторонняя женщина, но подтвердить это какими-либо фактами я не могу.
Я согласна отказаться от всех своих претензий к мужу. Я готова на всё ради нашей дочери. Мы не имеем права калечить ее нравственно.
Если мой муж, как он пишет вам о себе, настоящий советский ученый, если он настоящий отец, — он должен одуматься и взять свое заявление назад».
Документы эти — заявление Взлетова и письмо его жены — послужили основанием, на котором выросли два объемистых тома судебного дела. В этом деле принимали участие народные судьи, почти все судьи Городского суда (в случае отмены решения, при новом рассмотрении дела, состав суда полностью обновляется), многие судьи Верховного Суда Республики. Принимали участие общественные организации и отдельные граждане.
Итог первого тома: в иске Взлетову Михаилу Кузьмичу о расторжении брака отказать ввиду отсутствия к тому оснований.
Итог второго тома: иск Взлетова удовлетворить, брак расторгнуть.
И всё же, ознакомившись до последней страницы с материалами второго тома, прокурор Кузнецов сказал себе: «Нет, это дело еще не закончено!».
Он вернулся к показаниям супругов, свидетельским показаниям, всем перипетиям семейного конфликта.
Проследим их вместе с прокурором.
…Михаил Взлетов до семнадцати лет жил в деревне, батрачил у кулаков. Детство, отрочество, отчасти юность отмечены были голодом, холодом и беспросветной нуждой. Совершеннолетие Михаила совпало с революцией. Вскоре он потерял родителей: мать умерла от сыпного тифа, отца — вожака деревенских бедняков — растерзали кулаки. Михаил ушел из деревни, занял место в рядах Красной Армии. Когда закончилась гражданская война, поступил на подготовительное отделение рабфака, затем был принят на рабфак. Через три года — институт, аспирантура. Позднее. Михаила Взлетова зачислили преподавателем; затем кандидатская степень, доктор географических наук, профессор…
Да, он правильно написал в своем заявлении, что всё получил от Родины. Она была для него заботливой матерью, открыла дверь в большую жизнь.
Антонина Абрамова, дочь столяра, обремененного многочисленной семьей, учиться начала с опозданием, но добилась своего — поступила на рабфак. Здесь и познакомилась с Михаилом. Горячо полюбив друг друга, молодые люди вскоре зарегистрировались. С той поры Антонина стала жить всеми интересами мужа, думать больше о нем, чем о себе. Когда же Взлетов перешел на научно-исследовательскую работу, Антонина Николаевна превратилась в неизменную его помощницу. Она перечитывала для работ мужа специальную литературу, делала выписки, целыми днями пропадала в архивах. Вместе с мужем делила все трудности географических экспедиций.
Кое-кто из сослуживцев Взлетова даже непрочь был позлословить: дескать, лучшие мысли в его трудах принадлежат жене. Это было не так. Однако, по совести говоря, Антонина Николаевна могла бы претендовать на признание ее косвенного соавторства. Об этом, кстати сказать, указывали в своих письмах судебным органам близкие друзья и сотрудники Взлетова.
Антонина Николаевна настолько увлеклась своей ролью помощницы мужа, что рождение ребенка мало отразилось на ее жизни. Правда, от экспедиций пришлось отказаться. Зато всё свободное время она продолжала отдавать чтению литературы по заданиям мужа, научилась печатать на машинке и сама переписывала его труды.
До возникновения первых недоразумений это была крепкая, дружная семья.
Прокурору Кузнецову пришлось употребить немало усилий, чтобы установить, с чего же возникли недоразумения и кто первый их начал.
…Зачинщиком был Михаил Кузьмич. Сначала он принялся беспричинно ворчать про себя, вполголоса, невнятно. Затем его претензии стали звучать всё громче, и Антонина Николаевна удивленно обнаружила, что претензии эти адресованы ей. Претензии умножались. Удивление Антонины Николаевны сменилось растерянностью. Что происходит? Неужели вся эта раздраженная воркотня не что иное, как первые признаки старости? Вряд ли: Михаилу Кузьмичу нет еще пятидесяти лет. Или, может быть, она сама изменилась, стала менее внимательной к мужу? Нет, она ему помогала с прежним увлечением. В чем тогда дело?
Объяснилась с мужем. Объяснение как-будто помогло. Михаил Кузьмич казался искренно смущенным. Как, он ворчал?! Это не больше как недоразумение!
— Даю тебе слово, Тоня, у меня к тебе нет абсолютно никаких претензий. Постараюсь впредь следить за собой.
Месяца два Взлетов, повидимому, следил за собой, а затем… Затем снова начал ворчать, всё более несправедливо, безжалостно. Наконец Антонина Николаевна возмутилась по-настоящему:
— Как ты можешь так обижать меня?.. Я не только прошу, я требую — скажи, чем ты недоволен?
На этот раз Михаил Кузьмич не стал оправдываться. Он долго молчал и так пристально смотрел на жену, точно видел ее впервые.
— Хорошо, раз ты этого требуешь, скажу. Да, мне не всё сейчас нравится в нашей жизни. Что-то у нас не так…
Взлетов вздохнул, задумчиво провел ладонью по волосам, тронутым проседью.
— И это всё, что ты можешь, Миша, сказать мне?
— Пожалуй, да…
— Погоди, Михаил. Ты не должен обрывать на этом разговор. Ты говоришь, тебе не всё нравится в нашей жизни… Это жестокие слова! После них надо объясниться до конца. Я хочу, чтобы ты был предельно откровенным и… мужественным!
— Охотно, — согласился, помолчав, Взлетов. — Если хочешь знать, одолевает меня какая-то тоска.
— Причины?
— Не знаю… просто так. Хандра.
Взлетов отвел глаза от взгляда жены и снова глубоко вздохнул:
— Возможно, впрочем, что я устал. Да, да, я устал…
— Зачем же ты тогда говоришь, что тебе не всё в нашей жизни нравится? Я всегда считала, что ты любишь свой дом, а теперь…
Антонина Николаевна грустно развела руками.
— Да что ты, Тоня! Я же ничего особенного не сказал. А усталость я одолею…
Последние слова Взлетов произнес мягко, ласково, но Антонине Николаевне послышалась в них неискренность. Муж не всё сказал ей, у него появилась какая-то тайна.
Бессонными ночами она думала и думала… Что если Михаил Кузьмич решился на что-нибудь нехорошее? Он ведь умеет настоять на своем, добиться своего. Вся его жизнь — лучшее тому доказательство. Но ведь и она научилась от него настойчивости. Она не позволит разрушить семью!..
Она решила ничем не выдавать своей тревоги. Главное, чтобы Светлана не догадалась ни о чем. Однако взвинченные нервы брали свое.
Всё чаще Антонина Николаевна улавливала в голосе мужа неприкрытое раздражение, всё более резко отзывалась на это раздражение сама. Вспышки взаимных упреков принимали характер бурный, оскорбительный. Супруги еще пытались сдерживаться в присутствии дочери, но девочка замечала покрасневшие глаза матери, сердитый взгляд отца…
И всё же Антонина Николаевна не ожидала, что муж обратится с заявлением в суд. Он предпринял этот шаг без всякого предупреждения. Письменное объяснение жены не поколебало его. Взлетов попрежнему утверждал, что суд обязан принять единственное правильное решение — дать ему развод. С такой женой невозможна жизнь. «Мы должны разойтись, — твердил Взлетов. — В дальнейшем каждый из нас волен построить личную жизнь так, как захочет, как сумеет!».
Примирить супругов не могли ни Курский, ни Павлова, самые опытные судьи города. Антонина Николаевна со слезами на глазах продолжала утверждать, что, несмотря ни на что, попрежнему любит мужа, готова забыть всё плохое во имя сохранения семьи… Что касается Михаила Кузьмича, — он настойчиво требовал развода, произносил пространные речи, писал объемистые жалобы, снова и снова подчеркивал, что без настоящей любви невозможно сохранить семью, что жена своими скандалами убила его любовь, что подобная отравленная семейная обстановка губительна для его научной работы.
Одни судьи находили эти доводы необоснованными, другие считали, что они заслуживают внимания. Дело переходило из суда в суд, наконец, последний состав Городского суда, а вслед за ним и Верховный Суд Республики сказали решительно: «Нет!».
2
Семимесячная судебная процедура тяжело сказалась на супругах Взлетовых. Здоровье Антонины Николаевны пошатнулось, Михаил Кузьмич заметно сдал в работе. Директор института говорил с ним по этому поводу.
Супруги обращались теперь друг к другу лишь в самых крайних случаях. Внешне были вежливы, но это была плохая, злая вежливость. По существу это было преддверие полного разрыва.
Разрыв произошел наутро после того как Взлетов имел неприятный разговор с руководителем института. Молча, с подчеркнутой демонстративностью, Михаил Кузьмич положил на стол деньги для Антонины Николаевны и Светланы. К деньгам была приложена записка: «Вам на содержание». Прочтя бездушное, оскорбительное слово «содержание», Антонина Николаевна разрыдалась при дочери. Светлана сделалась свидетельницей семейной сцены. Сбылось то, о чем (тогда еще не имея оснований) писал Взлетов в первом своем заявлении в суд.
С этого дня между супругами установилось полное молчание. Каждый месяц Взлетов оставлял на столе одну и ту же сумму. Он фактически ушел из семьи: питался в ресторане, сам убирал комнату, белье отдавал в прачечную. Жилец — нет, хуже, — посторонний, чужой человек.
Антонина Николаевна, столько лет прожившая с мужем душа в душу, решила обратиться в институт. Неужели товарищи Михаила Кузьмича не образумят его?
Узнав об этом, Взлетов стремительно ворвался в кабинет директора:
— Поведение моей жены я иначе не могу назвать как предательством! До сих пор я не жаловался на свою жизнь, хотя имел к этому все основания, но теперь прошу: помогите мне! Моя работа не должна находиться в зависимости от скандалов этой женщины!
Директор пытался смягчить ожесточение Взлетова, но тот ничего не хотел слушать. Кончилось тем, что директор развел руками:
— Мне очень прискорбно видеть вас, Михаил Кузьмич, в таком состоянии. Верю, верю, что вам тяжело. Однако и состояние Антонины Николаевны показалось мне нелегким. Что же я могу предпринять? Не устраивать же очную ставку? Постарайтесь сами найти выход.
— Я его найду, — сухо ответил Взлетов и вышел из кабинета.
…Прошло шесть месяцев с того дня, когда суд отказал ему в иске. Взлетов снова поднял вопрос о разводе. Доводы нового искового заявления не отличались ни новизной, ни убедительностью. Однако на этот раз Взлетов не скрыл своей ненависти к жене.
И всё же, как убедился прокурор Кузнецов, продолжая изучать материалы дела, за эти шесть месяцев в конфликте супругов произошли изменения. Конфликт разросся, привлек внимание многих людей.
Суд получил ряд писем от женщин того дома, где жили Взлетовы. В письмах сурово осуждалось поведение Михаила Кузьмича.
«Не давайте ему развода, не потакайте его самодурству, призовите к порядку…», — писали женщины.
Высказал свое отношение к конфликту и местком института. Вызванный в суд по просьбе Взлетова, представитель месткома передал суду письмо за подписью заместителя председателя. В письме указывалось, что жена Взлетова не щадит его авторитета, позволяя себе публично унижать достоинство мужа. Выражалась тревога по поводу того, что семейные неурядицы пагубно влияют на деятельность крупного научного работника. И, наконец, в письме подчеркивалось:
«Профессор Взлетов заверил местный комитет в своей готовности материально обеспечить гражданку А. Н. Взлетову и ее дочь Светлану».
Противоречивость этих документов вызвала среди судей разногласия. Когда же через год во время очередного судебного разбирательства (дело тем временем поступило к третьему составу Городского суда) Взлетов заявил, что у него появилась вторая семья и что в этой семье ожидается ребенок, — разногласия между судьями стали особенно острыми.
На суде Антонина Николаевна заговорила сдержанно, почти ничем не обнаруживая волнения.
— Скажи, Миша… (даже здесь, в суде, она продолжала звать мужа по имени) ты серьезно веришь в ее любовь? Молчишь? Совесть не позволяет ответить?.. Нет, она не тебя полюбила, Миша. Полюбила твое положение, твою профессорскую ставку, твои деньги. А я ведь полюбила тебя, когда ты был простым рабфаковцем, ничего не имел, кроме надежд. И никто тогда не знал, сбудутся ли они. Смотри, Миша, не просчитайся! Не ты первый, не ты последний!
— Прошу суд оградить меня от выпадов! — вскочил Взлетов.
Антонина Николаевна посмотрела на мужа и укоризненно покачала головой.
Итак, Взлетов в защиту своего иска выдвинул новый факт — возникновение у него второй семьи. Факт этот оказал значительное влияние на последнее судебное решение.
Судьи этого состава рассуждали так: истец продолжает настойчиво добиваться развода. Несмотря на то, что ранее ему было отказано в иске, семью восстановить не удалось. Больше того, за это время возникла вторая семья. Закон не признаёт фактического брака, следовательно, не признаёт и фактическую семью. Однако вторая женщина и ее ребенок ни в чем не виноваты. Не будет ли разумнее признать создавшееся положение?
И всё же главным мотивом, определившим новое решение, были не эти соображения. Судьи учли, что перед ними большой специалист, крупный научный работник. Надо создать ему нормальные условия для работы. Конечно, в новом его предполагаемом браке бросается в глаза рискованная разница возрастов. Однако законом этот вопрос не регламентируется, а следовательно, не подлежит и обсуждению суда. Что же касается ответчицы, — в известной степени и она повинна в распаде семьи. Повинна подозрениями и ссорами, которые допускала со своей стороны в момент возникновения конфликта.
Суд постановил удовлетворить иск Михаила Кузьмича Взлетова: расторгнуть его брак с Антониной Николаевной.
3
Узнав от некоторых месткомовских доброжелателей о том, что прокуратура занялась его делом, Взлетов решил проявить инициативу и встретиться с прокурором, не дожидаясь его приглашения. Он понимал, что Антонина Николаевна может вызвать к себе нежелательное участие, даже сочувствие. Эти настроения следовало немедленно парализовать.
Кузнецов встретил Взлетова так приветливо, так радушно, словно к нему в кабинет вошел не истец по делу, а добрый старый знакомый.
— Прошу, профессор, прошу! Рад вашему приходу. Садитесь, пожалуйста!
Взлетов опустился в глубокое кресло и подумал: «Может быть, прокурор принимает меня за другого?». Он ожидал более официального, даже недоброжелательного приема.
— Моя фамилия Взлетов…
— Это мне известно, Михаил Кузьмич!
— Позвольте… разве мы знакомы?
— И да, и нет. Скорее да, чем нет, — улыбнулся Кузнецов. — Я знаю вас по материалам дела, по фотографическим карточкам. Как только вы вошли, сразу узнал… Однако мало знать человека по одним бумагам. Потому-то я и рад вашему приходу, профессор.
— Потому-то и я, товарищ прокурор, решил прийти к вам, не дожидаясь вызова.
— Откуда же вы узнали, что я хочу вас пригласить?
— Слухами земля полнится.
Кузнецов слегка вздохнул:
— Вот что, Михаил Кузьмич… Условимся с самого начала о полной откровенности. Иначе наша встреча ни к чему не приведет.
— Согласен, товарищ прокурор.
— И еще одно условие: не обижаться.
— Значит ли это, что мне предстоит услышать что-либо обидное?
— Нам с вами не миновать острого разговора, а такой разговор, естественно, может задеть самолюбие.
— Принимаю и это условие.
Словно желая подчеркнуть, что ему нечего опасаться, Взлетов удобнее расположился в кресле, достал коробку папирос.
— Разрешите?
— Конечно, конечно.
— Могу вам предложить?
— Спасибо, не курю. Вернее, разрешаю себе в день всего две папиросы — утром и вечером.
— Сила воли! — сказал Взлетов, зажигая папиросу.
— Скорее привычка. Итак, если вы не возражаете, приступим к делу… У меня к вам пока что один вопрос.
— Слушаю.
— В материалах дела я не нашел на него ответа. Я имею в виду настоящую причину, по которой вы оставили семью.
Воцарилось долгое молчание.
— Мы условились, товарищ прокурор, быть искренними. Хорошо, я скажу вам всю правду. Я сам мучительно долго думал над этим вопросом. Сначала я не понимал, что случилось… Сначала мне казалось, что это всего лишь хандра… А потом… потом я понял и ужаснулся. Я разлюбил Антонину Николаевну.
— А нельзя ли, профессор, сказать попроще: стара стала Антонина Николаевна!
— Грубо. Однако, видимо, это так. Жизнь убила в ней женщину. Ту женщину, которую я любил долгие годы. Я понимаю, мои слова жестоки, но ведь надо реально смотреть на вещи. Законы природы неумолимы.
— И тогда, не в силах противиться этим законам, вы, профессор, решили связать свою жизнь с другой, молодой женщиной?
Взлетов покраснел.
— Вы хотите сказать, что я затеял скандал в семье из-за посторонней женщины? Что я намеренно обострял отношения в семье, чтобы развалить её и создать новую? Это не так! С нынешней моей женой я познакомился уже тогда, когда мне было отказано в разводе. Связывать эти факты нельзя!
— Понимаю, — кивнул Кузнецов. — Да, законы природы сильны… Но, знаете, несмотря на всё мое уважение к ним, — личные мои симпатии на стороне вашей бывшей жены и дочери Светланы.
Взлетов спросил тихо:
— Но разве нынешняя моя жена и мой маленький сын не достойны такой же симпатии? Они тоже нуждаются в защите нашего закона. Наконец, я сам нуждаюсь в чутком к себе отношении. Меня до сих пор треплют, имя мое склоняют на все лады…
— Это неприятно, однако, вы нисколько не напоминаете обиженного и оскорбленного. А вот ваша бывшая жена… Она вас любит, она защищается, как умеет, и я не вижу в этой защите ничего противозаконного.
— Но поймите — я больше не люблю ее. Я люблю другую, и нет силы, которая могла бы заставить меня повернуть свои чувства вспять!..
Кузнецов задумался.
— Я вам хочу предложить: прервем на несколько дней беседу. И вы недостаточно к ней подготовлены, и посетители ждут меня. Сейчас я задам вам несколько вопросов, вы продумайте их, а через неделю мы встретимся. Согласны?
— Хорошо. Какие же вопросы намерены вы задать?
— Первый: правильно ли утверждает ваша бывшая жена, что она своим трудом, своей помощью во многом способствовала вашему росту как ученого?
— Любопытно! Что еще?
— Второй вопрос: верно ли, что ваша бывшая жена к моменту развода потеряла трудоспособность до пределов второй группы инвалидности? Что, иными словами, она лишена возможности зарабатывать себе на пропитание?
— Еще?
— Последний вопрос: вы обещали ежемесячно выплачивать бывшей семье определенную сумму. Я имею копию этого документа. Верно ли, что в настоящее время вы вчетверо сократили эту сумму да еще предупредили Антонину Николаевну, что согласны уплачивать эту сумму лишь при условии, если она оставит вас в покое?..
— Разрешите, товарищ прокурор, и мне задать вопрос. В качестве кого должен я через неделю явиться к вам? В качестве обвиняемого?
Кузнецов встал, медленно обогнул стол, почти вплотную подошел к Взлетову.
— Зря, Михаил Кузьмич! Вы явитесь в качестве себя самого, без каких-либо дополнительных эпитетов. Больше скажу: при данных обстоятельствах вы вообще можете уклониться от прихода к нам. Тут ваша добрая воля. Другой вопрос, как мы поступим с вашим делом. Всего хорошего, профессор!
Взлетов попрощался, шагнул к двери, но вдруг обернулся:
— Можно задать вам, товарищ прокурор, еще один вопрос? И тоже попросить вас запомнить его и хорошо продумать?
— Разумеется. У нас с вами необычная встреча — так сказать, доверительная. Слушаю, профессор.
— Вот какой вопрос. Правильно ли поступит прокуратура, если при оценке моего дела поставит на одну доску меня, человека в расцвете творческих сил, и бывшую мою жену?
— Вопрос существенный, хотя и с душком… Подумаю, отвечу.
4
По существу Кузнецов уже ответил. Да, неприятный вопрос, с душком!..
После ухода Взлетова прокурор продолжал размышлять о его деле. Как поступить дальше? Опротестовать или оставить в нынешнем состоянии?.. Оставить? Но как же сложится тогда дальнейшая жизнь Антонины Николаевны? Несомненно, в скором времени Взлетов лишит ее всякой материальной помощи. Возможно, сделает это не из жадности, но по настоянию своей молодой жены. Она потребует, чтобы Взлетов оборвал все нити, которые так или иначе связывают его с прежней семьей.
Закон в известной мере на стороне Взлетова. Несмотря на свое сильно пошатнувшееся здоровье, бывшая его жена может претендовать на пособие от него лишь в течение года с момента расторжения брака. Если бы брак не был юридически расторгнут, эта обязанность лежала бы на Взлетове до конца дней Антонины Николаевны. А сейчас…
Кузнецов большими шагами ходил по кабинету, мысленно продолжая разговор с Взлетовым:
— Можешь жить где угодно и с кем угодно… В конце концов, это вопрос твоей совести, чести… Но человеку, который многие годы делил с тобой все радости и горести, многие годы бок о́ бок с тобой трудился, для тебя же трудился, — такому человеку ты помогать обязан!
И тут Кузнецов спросил себя: «А нет ли в законе уязвимого места, бреши? Такой бреши, которая дает возможность людям, подобным Взлетову, уйти от ответственности, ускользнуть от своего долга?». Нет, с законом всё в порядке. Закон требует для развода серьезных оснований, величайшей судебной осторожности. Но если так… Если так, то уязвимо только одно — практика судов. Взлетовы добиваются своего изнуряющей настойчивостью, одолевают судей измором. Раз обратился в суд — не вышло, второй — не вышло, третий — не вышло… Ну, а в четвертый, может быть, и выйдет. Надоест возиться, уступят, разведут. Вот именно так и произошло с делом Михаила Кузьмича Взлетова. Окончилось оно неправильным, негуманным решением. Значит, надо пойти на штурм этого решения.
В этот же вечер Кузнецов получил письмо, которое еще сильнее убедило его в необходимости пересмотреть дело.
«Дорогие товарищи прокуроры! Извините, что я беспокою вас. Прежде мама не позволяла мне написать в суд, потому что я была несовершеннолетней. Но теперь мне исполнилось шестнадцать лет, я хочу обо всем написать. И маму не буду спрашивать.
Очень прошу вас помочь — и маме, и папе, и мне. Больше двадцати пяти лет папа и мама жили вместе. Жили хорошо, дружно. Почему теперь им не жить так же? Зачем им ссориться, враждовать?.. Я не совсем понимаю, кто прав, кто виноват. Всё же мне кажется, что права мама. Очень мне жаль маму. И еще мне жаль себя. Конечно, о самой себе неудобно писать, но это же правда.
Папа говорит, что я теперь взрослая, что у меня впереди своя жизнь и мне не надо обращать внимания на то, что случилось между ним и мамой. Нет, я не согласна. Мне и теперь нужен отец, нужно его ласковое слово, его забота. И еще я думаю об одном. Ведь и у меня, возможно, когда-нибудь будет своя семья. Как же я буду жить в своей семье? Всё время буду опасаться, что со мной поступят так же, как с мамой?.. Нет, пусть уж лучше не будет у меня никакой семьи. Буду лучше жить одна!
Разве можно жить так, как мы живем сейчас? Мама страдает, хотя и старается при мне не плакать. Я тоже страдаю. Мама ненавидит ту женщину, к которой ушел папа. Та женщина, наверное, тоже терпеть не может маму. И я ненавижу эту женщину… И это всё — слёзы, страдания, злость — из-за одного человека, из-за папы.
Очень прошу вас, товарищи прокуроры, помогите ему одуматься, вернуться в тот дом, где его любят. Мы до сих пор помним папу таким, каким он был прежде, — добрым, хорошим. Только бы он вернулся. Тогда всё плохое забудется.
Еще раз извините за беспокойство. С искренним к вам уважением Светлана».
Письмо взволновало Кузнецова. Он назвал его обвинительным актом дочери против отца. И подумал: нужна ли новая встреча с человеком, неприглядность которого и так уже очевидна? Для чего же встречаться еще?
Однако тут же Кузнецов остановил себя: спокойнее! Работнику юстиции не положено горячиться. Больше выдержки, больше самообладания!.. Встреча должна состояться. И не формальная встреча, а такая, чтобы она помогла Взлетову понять грубейшую его ошибку. Понять и самому добровольно исправить!
Покидая здание прокуратуры, Кузнецов подумал, что день прошел недаром.
«Я готов снова встретиться с вами, профессор. Ради вашей жены, вашей дочери… Ради вас самого!».
5
И всё же Кузнецов не смог встретить Взлетова так же, как встретил его в первый раз. Сердце мешало, оно было во власти неприязни к человеку, который пришел лишь за тем, чтобы отстаивать заведомо неправое дело.
— Что скажете, профессор?
Взлетов сразу заметил, что прокурора точно подменили: короткий кивок головы, холодный тон, ни намека на улыбку.
— Разрешите? — спросил Взлетов, как и в прошлый раз вынув коробку папирос (он сразу ощутил встревоженность, но не хотел ее обнаружить).
— Пожалуйста, — отозвался Кузнецов, перебирая на столе бумаги.
— Вам, товарищ прокурор, не предлагаю. Вероятно, вы позднее выкуриваете вечернюю свою папиросу?
Взлетов умышленно задал этот шутливый вопрос: ему хотелось восстановить интимный тон прошлой беседы.
— Слушаю вас, — сдержанно сказал Кузнецов.
— Право, не знаю, с чего начать. Вы задали такие вопросы…
— Можете не отвечать.
— Но почему? Что случилось?
Прокурор молча передал Взлетову письмо Светланы. Этим письмом, этим страстным обращением дочери он рассчитывал нанести Михаилу Кузьмичу первый удар, нанести в самое уязвимое место — в сердце.
Взлетов медленно прочитал письмо. Он пытался сдержать себя, но не мог: руки дрожали, каждый мускул лица был напряжен.
— Теперь я понимаю, чем вызвана ваша неприязнь, товарищ прокурор.
— А я не понимаю вас, профессор: почему вы вернули письмо? Почему не оставили его себе?
— Оно адресовано вам, в прокуратуру.
— Формально — да, неформально — вам! Оставьте его себе.
— Зачем?
— На память. Храните его, как укор. Ваша дочь никогда не оправдает вашего поступка. И не только дочь… Ни один честный человек!
— Голословное утверждение, товарищ прокурор! Многие люди глубоко сочувствуют мне…
— Многие? Так ли это, профессор? Кто на вашей стороне? Несколько сердобольных обывателей из месткома. Предположим, вы можете разжалобить еще двух-трех человек, даже судей иногда можно взять измором. Но народ…
— Не думаю, товарищ прокурор, чтобы вы имели сейчас основание говорить от имени народа.
— Бывают случаи, товарищ профессор, когда мы, прокуроры, имеем право представлять государство, а стало быть — говорить от имени народа… Жаль, чертовски жаль, что по нашему недосмотру мы раньше не использовали в суде это право.
— Что вы хотите сказать?
— Лишь то, что некоторых товарищей, независимо от звания, общественного положения, надо чаще проветривать, проветривать на сильном, свежем ветру!.. Я сейчас говорю не только о вас, но и о жизни вообще… Разве не бывает, что мы иногда ошибаемся в людях… Иной человек занимает хорошее место, среди окружающих слывет добрым, честным, чутким… Надо полагать, что и вы не на последнем счету. Вероятно, и вас нередко принимают за отзывчивого…
— Конечно, ошибаются? — усмехнулся Взлетов.
— Насчет отзывчивости, возможно. Посудите сами, можно ли назвать отзывчивым человека, который по своей воле или в угоду возлюбленной отнимает кусок хлеба у другого, близкого, родного человека… Больше четверти века вы прожили с женой, а потом… потом бросили. Изумительная отзывчивость, похвальная щедрость, удивительная чуткость!
— Она сама виновата во многом.
— Дочка тоже виновата? Дочка тоже заслужила, чтобы ее бросили?
— Это другой вопрос. Имея новую семью, я не могу раздваиваться. Жена не хочет. Зачем ей, кормящей матери, причинять страдания?
— Опять похвальная чуткость… Стыдитесь!
Взлетов переменился в лице и резко поднялся:
— Может быть, товарищ прокурор, прекратить ненужную полемику?
— Я не полемизирую, профессор. Я подвожу вас к основному… Я хочу сделать вам дружеское предложение.
— Дружеское?.. Такому исчадию зла, как я?..
— В интересах вашей прежней семьи и в личных ваших интересах.
Кузнецов вышел из-за стола.
— Мое предложение сводится к одному: вы должны вернуться к прежней семье.
— Что это — прокурорский приказ?
— Нет, добрый прокурорский совет. Рекомендую от всей души прислушаться к моему совету. Погодите, выслушайте до конца. Вас обязывают к этому следующие, я бы сказал, неумолимые обстоятельства. Любовь Антонины Николаевны и ее страдания — раз. Письмо дочери — два. Ваше научное, общественное положение — три. Ваш возраст — четыре. Возраст той женщины, которую, не обижайтесь, я не могу назвать вашей женой, потому что считаю решение суда о вашем разводе неправильным…
— Это уж слишком! Решение вошло в законную силу, оно подтверждено Верховным Судом Республики!
— Правильно. Формально всё у вас в порядке. Я лишь высказываю личное отношение к вашему делу. Но я еще не всё сказал…
— Какую еще несправедливость предстоит мне услышать?
— Напрасно, профессор. Я желаю вам только добра… Рекомендую вам подать в прокуратуру заявление о том, что вы осознали свою ошибку и просите нас вмешаться в ваше дело — опротестовать решение о разводе.
— А если я не подам такого заявления?
Взгляды Взлетова и Кузнецова скрестились. Это был долгий, пытливый взгляд. Взлетов первым отвел глаза.
— Так мне и надо!.. Зачем я пришел к вам? Чего искал, что мог найти у вас?
— У нас всегда так: одни находят, другие теряют. Как правило, права бывает только одна сторона. Что касается нашей беседы, — готов извиниться за некоторые грубоватые выражения. Однако дело не в форме… Скажите — прав я по существу или не прав.
Взгляды опять скрестились. И снова Взлетов отвел глаза.
— Я знаю одно: никто не позволит позорить меня как ученого. В нашей стране берегут ученых, и я… Я нужен стране. Из-за мелких бытовых неурядиц, не имеющих никакого отношения к государству, — из-за этого не позволят выводить меня из строя…
— Профессор! В нашей стране заслуги никому не дают неприкосновенности.
Взлетов демонстративно отвернулся.
— Ну что ж, — негромко сказал Кузнецов, — будем считать, что моя добрая миссия не увенчалась успехом… Всего хорошего, профессор.
6
Когда жена уложила детей, а потом и сама уснула, — Кузнецов принялся за работу. Он составил представление на имя Генерального прокурора, прося его обратиться с протестом в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Союза ССР. Затем написал и личное письмо Генеральному прокурору.
Приступая к этому письму, Кузнецов на мгновение остановился. Удобно ли прибегать к такой не совсем обычной форме обращения по деловому вопросу? Не следует ли сначала, соблюдая субординацию, обратиться к прокурору республики?..
Однако подумав, Кузнецов решил, что сложность вопроса позволяет нарушить обычный порядок. С такой же страстью, с какой писал представление, он принялся за письмо:
«…Вас должно заинтересовать дело Взлетовых. К нему нельзя отнестись равнодушно. Лично я работал над ним с волнением, а письмо Светланы, на которое прошу обратить особое внимание, потрясло меня своей непосредственностью, правдивостью, остротой.
Профессор Взлетов утверждает, что любит вторую свою жену, что нет такой силы, которая могла бы вернуть его к прежней семье. Возможно, он действительно любит вторую жену. Всё равно закреплять его любовь законом нельзя: она несправедливая, эгоистичная, односторонняя (прошу обратить внимание на запись в протоколе судебного заседания метких замечаний по этому вопросу бывшей жены Взлетова).
Однако не только на это хочу я обратить Ваше внимание. Цель моего письма сугубо практическая.
Не только дело Взлетовых, но и ряд других дел о разводе убеждают меня: наши судьи, по крайней мере, некоторые наши местные судьи, не всегда на высоте по этой категории дел. Они неосновательно уступают домогательствам истцов, которые прибегают ко всякого рода ультиматумам: «Всё равно не буду жить!», «Решайте как хотите, а я своего добьюсь!..» Никаких «ультиматумов»! Потакать им — значит идти на поводу у недобросовестных людей, подрывать доверие к советскому закону, разрушать замечательную его идею, направленную на укрепление семьи.
Ведь не секрет, что все эти «ультиматумы» чаще всего обусловливаются или легкомыслием или эгоизмом: потускнели от времени чувства к одной, почему бы не перекочевать к другой, почему бы не обновить своей любви?.. По закону, нуждающийся нетрудоспособный супруг имеет право получать от другого, трудоспособного супруга материальную помощь не более одного года со дня прекращения брака. А вот если брак не расторгнут, эта обязанность сохраняется пожизненно. Тогда Взлетовым не уйти от своего долга: хочешь не хочешь, а выполняй святой свой долг, выполняй в строгом соответствии с гуманным требованием советского закона…
Этот мотив лишний раз подтверждает, почему надо проявлять величайшую осторожность при рассмотрении дел о разводе, почему надо более решительно отказывать в исках всем «обновленцам» в любви, всем себялюбцам…
Очень прошу дать указание по прокуратурам неотступно следить за тем, чтобы никому не удалось измором взять закон, обойти его.
И еще один вопрос. Неплохо было бы дать указание, чтобы такие дела, как дело Взлетовых, обязательно слушались с участием прокурора и обязательно при открытых дверях. Я обращаю Ваше внимание на этот вопрос потому, что кое-кто до сих пор оглядывается на формулу: «Сора из избы не выносить». Неумные взгляды, мелочные опасения! Они не совместимы с величественным, гигантским размахом нашей жизни, с боевыми установками партии и правительства — беспощадно выкорчевывать всё, что мешает народу успешно двигаться вперед, к коммунизму!..»
Перечитав письмо, Кузнецов внес в него небольшие поправки. Затем написал на конверте:
«Москва. Генеральному прокурору Союза Советских Социалистических Республик».
Запечатав конверт, прислушался. Из соседней комнаты доносилось сонное дыхание жены и детей. Осторожно, стараясь ничем не нарушить тишину, поднялся из-за стола, вышел на улицу подышать морозным воздухом…
Ночь была на исходе. Над громадами домов, над заснеженными крышами тихо пробиралась бледная предутренняя луна. А внизу ярко горели фонари, дворники сметали снег, спешили первые пешеходы. Город готовился начать новый день…
В ЗАЩИТУ ЛЮБВИ
1
Речь адвоката Добровольского
Граждане судьи!
Я хочу говорить в защиту любви. Мой уважаемый противник, адвокат Иванов, снисходительно улыбается. Вижу скрытую ироническую улыбку и на лице прокурора Кузнецова. Вероятно, они находят мое заявление несолидным; может быть, даже смешным. Вероятно считают, что настоящая любовь в защите не нуждается: она сама себе надежная защитница, сама сумеет постоять за себя…
Так ли это? Думаю, не так: настоящая любовь тоже нуждается в защите.
Могут спросить: от кого или от чего намерен я защищать это прекрасное чувство?
Отвечаю: я буду защищать любовь от неправильных взглядов, от досадных заблуждений, от необоснованных и несправедливых притязаний ответчика по данному делу — гражданина Соколова Андрея Прохоровича, мужа моей доверительницы Анны Петровны Соколовой.
Вы, граждане судьи, а вместе с вами и мы, представители сторон, и прокурор, немало употребили усилий, чтобы всесторонне разобраться в обстоятельствах настоящего дела, чтобы найти истину.
Добились ли мы цели? Думаю, что да, добились: истина найдена, она в наших руках!..
Я великолепно понимаю, что у меня и моего противника — адвоката Иванова — совершенно разные взгляды на эту истину. Мы резко расходимся с ним и в оценке самого конфликта и в конечных выводах по делу. Такова наша профессия. И всё же ясно одно: любовь не знает стандартов, в ней недопустимо насилие, малейшее принуждение. Здесь, как ни в какой другой сфере чувств, должна господствовать и торжествовать полная свобода.
Перехожу к существу дела. Шесть лет назад моя доверительница, тогда еще рядовая работница швейной фабрики, встретила на своем пути токаря механического завода гражданина Соколова. Они полюбили друг друга, полюбили, казалось бы, искренне и прочно. Они скрепили свою любовь клятвой: не жить дня друг без друга.
Прошло пять лет. И надо отдать должное: молодые люди ничем не осквернили своей любви за все эти пять лет. Они возмужали, продвинулись по службе: она — опытная закройщица фабрики, он — студент заочного электротехнического техникума и начальник цеха завода. Лишь в последние несколько месяцев их постигло несчастье, у них возникла, как говорим мы, юристы, острая коллизия: она разлюбила мужа и полюбила другого; муж же сохранил к ней любовь попрежнему.
Если бы нарисовать их духовную жизнь, их любовь за эти счастливые годы, многим могло бы показаться весьма невероятным то, что они стоят сейчас перед судом как чужие.
Что же случилось? Какая сила разрушила их жизнь? Я долго искал ответа на этот вопрос. Нашел ли? Думаю, что нашел. Их любовь была мнимой, их брак поспешным. Увлечение молодые люди приняли в свое время за любовь. Любовь же пришла позже и сурово наказала их за легкомыслие. Я имею в виду настоящую, взаимную любовь моей доверительницы и Константина Строгова, будущего ее мужа, если, конечно, настоящий брак будет судом расторгнут. Гражданка Соколова полюбила на этот раз серьезно, продуманно, с учетом прежней своей ошибки. Она полюбила человека родственной профессии, мастера той же швейной фабрики.
Возникает извечный вопрос: как быть?
В разное время на подобного рода вопросы отвечали по-разному.
В прошлом, когда семья была скована всякого рода условностями и предрассудками, когда в обществе господствовал дух стяжательства, наживы, когда чистая любовь сдана была на откуп поэтам и романистам, ответ мог быть лишь один: обвенчались, друзья мои, живите. Тошно, тяжко — всё равно живите. Святая церковь, царский закон, вековые традиции — всё было против развода, всё было бы против любви Анны и Константина, всё было бы на стороне Андрея Соколова, как хозяина, как мужа-властелина.
В наше время, когда советская семья строится на честных началах, когда любовь восстановлена в своих естественных и социальных правах, когда она очищена от всякой капиталистической скверны, — наша советская жизнь дает прямо противоположный ответ: ошибка, коль скоро она обнаружена, должна быть немедленно исправлена; к этому обязывает нас коммунистическая мораль, исключающая любовь втроем, ложь в семье, брак без любви.
В самом деле, давайте переведем эти, возможно, несколько пышные мои выражения на простой язык, на язык нашей обыденной жизни; что лучше: сохранить семью Соколовых или решением суда узаконить фактический распад этой семьи?
В первом случае мы сохраним семью уродливую, фальшивую. Моя доверительница вынуждена будет страдать, возможно, станет скрывать от мужа свою любовь к Константину Строгову, возможно, соединится с ним тайными узами, как это делали раньше тысячи влюбленных, любовь которых попиралась.
К сожалению, кое-кто и в наше время не сумел еще избавиться от тех или других уродств вчерашнего дня, кое-кто всё еще предпочитает именно так выходить из бытовых затруднений. Однако это не значит, что мы должны поощрять старые традиции, поощрять отживающее, умирающее. Наши суды, представляя государство, никогда этого не поощряли и поощрять не будут. Вы, граждане судьи, призваны укреплять и развивать всё здоровое, разрушать и устранять всё больное, всё, что мешает нашему человеку нормально работать, творить во имя Родины, на благо своего народа.
Позволительно будет спросить: что представляет собой в данное время семья Соколовых — здоровую или больную ячейку нашего общества?
Отвечаю с полной ответственностью: это больная, очень больная семья, это негодный брачный союз. Это, если хотите знать, вредная ячейка в здоровом организме, а потому надо немедленно ее удалить, расправиться с нею хирургически.
Уверяю вас, граждане судьи, что от этой операции наше общество станет только здоровее. Больше того, от этой безболезненной операции выиграют все. Истица Соколова и Константин Строгов соединят тогда свою судьбу, скрепят ее законом, не будут озираться по сторонам, краснеть за свою любовь. Ничто не помешает им добиться гармонии личного и общего.
Андрей Соколов, уверяю вас, тоже будет счастлив. Он молод, хорош собой, умен. Всё это поможет ему забыть неудачную любовь, найти новую подругу, которая ответит искренней взаимностью на его чувства.
В результате такого решения вопроса мы получим две здоровых, надежных семьи. Так, и только так, надо решить данный судебный спор. Так, и только так, надо создавать наши советские семьи, укреплять их на основе новых принципов, новой морали!..
Могут спросить: откуда я позаимствовал эти мысли, эти доводы?
Отвечаю: из жизни. Да, наша жизнь является для меня в этом отношении лучшим другом, лучшим свидетелем. Но я не стану утруждать вас конкретными примерами. Взамен этого позволю себе сослаться на один литературный источник. Я хочу указать на роман, в котором можно найти духовную перекличку между моей доверительницей и героиней этого произведения.
Адвокат Иванов. Здесь не литературный диспут…
Добровольский. На реплики я никогда не отвечаю, — вы это отлично знаете, товарищ Иванов.
Иванов. Это реплика по существу… Суд будет решать судьбу не героев романа, а живых людей.
Добровольский. Вы имеете возможность возразить мне в установленном порядке.
Иванов. Но вы пытаетесь увести суд в сторону от дела…
Председательствующий Павлова. Соблюдайте порядок, товарищ Иванов, не мешайте!
Добровольский. Совершенно верно… Позвольте продолжать… Для любого из нас, кто так или иначе призван заниматься брачными делами, всё важно. Мы не должны игнорировать ни политические учения, ни практику, ни художественную литературу. Всё это теснейшим образом связано между собой. Иногда в каком-нибудь образе, в высказывании того или другого общественного деятеля можно найти ключ к решению самых спорных вопросов жизни. И, наоборот, без четкого теоретического осмысления того или другого вопроса его можно скомкать, запутаться, сбиться с правильного пути.
Известно, что наш закон допускает разводы, однако не по первому требованию и не по любому желанию. Известно далее, что разводы у нас — лучшее свидетельство нашей трезвой судебной политики, нашей силы в вопросах любви и брака. Мы очищаем свое общество от ошибочных, ненужных и вредных браков, освобождаем любовь от грязи и пошлости, от всего, что оскверняет ее, что лишает человека радости и счастья.
Я с удовлетворением должен отметить, что именно так решаются эти вопросы в нашей советской художественной литературе. Вспомните «Ивана Ивановича» — замечательную книгу Антонины Коптяевой, талантливый роман, справедливо удостоенный высокой награды — Сталинской премии.
Вы, конечно, помните, граждане судьи, как поступила Ольга Павловна, жена Ивана Ивановича, разлюбив мужа и полюбив инженера Таврова. Она не стала лгать, двурушничать, метаться между двух огней. Она поступила честно, четко определила свое дальнейшее поведение — бросила мужа и ушла к любимому. Вы помните, как первоначально был воспринят этот шаг окружающими — плохо, очень плохо. Думали, что Ольга Павловна поступила легкомысленно, поддалась мимолетной страсти, недостаточно проверенному увлечению мало известным ей человеком. А когда убедились, что Ольга Павловна во власти серьезных чувств, во власти пламенной, всепокоряющей любви, — отношение к ней изменилось. Соединясь с любимым человеком, Ольга становится полноценным человеком: она — сотрудник газеты, автор книги, общественница!..
Я считаю, что писательница правильно решила семейный конфликт — правильно, гуманно, целеустремленно. Писательница показала, как поступить женщине, которая однажды ошиблась в выборе спутника, — ошиблась, но ищет здорового выхода.
Я уверен, граждане судьи, что вы точно так же поступите с «героиней» сегодняшнего дела, с моей доверительницей: вы удовлетворите ее иск, избавите ее от нелюбимого человека и тем самым дадите ей возможность навеки связать свою судьбу с другим, любимым человеком. Это надо сделать еще и потому, что истица и нынешний ее муж буквально ничем не связаны: взаимной любви нет, детей нет, оба работают, а потому материально не зависят друг от друга. Правда, жаль перечеркивать пять лет совместной жизни. Но ничего не поделаешь! Такова жизнь, неотвратимые ее законы… Будет лучше, если прошлое останется в памяти как нечто хорошее и дорогое. Хуже будет, если прошлое померкнет, будет осквернено теми или иными недоразумениями, ссорами, враждой. Пока этого нет, и очень хорошо. Больше того, здесь, в суде, истица предложила Соколову свою дружбу, — она всё еще продолжает уважать его как хорошего человека.
Я спрашиваю: почему бы ответчику не принять этого предложения? Оно разумно, оно способно в какой-то мере смягчить, особенно на первых порах, остроту переживаний. Не надо забывать великолепной народной мудрости: «Насильно мил не будешь». Перестал быть милым, сделай так, чтобы не стать постылым человеку, который всё еще дорог тебе, которого ты всё еще любишь. Постарайся сохранить хорошие отношения с любимым тобою человеком; сохрани их даже в том случае, если ты больше не пользуешься взаимностью.
Никакого насилия над святым чувством любви!
Полная свобода любви в нашей Советской стране!
Вот, пожалуй, всё, что я хотел сказать в защиту интересов моей доверительницы, в защиту любви.
Позвольте же выразить уверенность в том, что наш советский суд, самый справедливый в мире суд, поступит по-советски мудро, в полном соответствии с требованием нашего закона. Прошу вас, граждане судьи, расторгнуть брак супругов Соколовых.
2
Речь адвоката Иванова
Вдумайтесь только, товарищи судьи, что предлагает вам, что проповедует здесь мой противник по процессу. Обратите внимание на его доводы, на их теоретическое обоснование.
Если очистить речь адвоката Добровольского от всякого рода словесных украшений, мы получим довольно-таки опасный рецепт: все браки, где одним из супругов утрачена любовь, при отсутствии у них детей (а может быть и с детьми, я не понял этого), — такие браки не могут рассчитывать на охрану нашего закона, их надо расторгать по первому требованию заинтересованной стороны.
Этот рецепт находит свое подкрепление — что верно, то верно — в романе Коптяевой «Иван Иванович»: тут полное совпадение взглядов юриста и писателя, взглядов одинаково неверных и, я бы сказал, одинаково вредных.
Позвольте в таком случае и мне сказать свое слово в защиту любви, не вообще любви, а любви моего доверителя — Андрея Прохоровича Соколова.
Пять лет назад супруги Соколовы связали свою судьбу по любви и сумели ее сохранить в течение пяти лет. Это признала сама истица и ее поверенный, который и в этом вопросе не удержался от противоречия: признал любовь и тут же переименовал ее в увлечение. Нет, товарищ Добровольский, это была настоящая продолжительная любовь. Это были не два-три месяца, а пять лет жизни под одной кровлей… И всё это время супруги жили хорошо. Лишь в последние месяцы их жизнь почему-то пошатнулась, дала трещину. Действительно, почему? Не потому ли, что некий Константин Строгов оказался человеком шатких моральных правил: бесцеремонно вторгся в чужую семью? Кстати, тут-то как раз и может быть увлечение, а не любовь. Истица на мой вопрос ответила, что полюбила Строгова совсем недавно. Я, откровенно говоря, не представляю, как можно всерьез говорить о любви при столь ничтожном сроке знакомства, как не стыдно ради такой скороспелой любви идти в суд и требовать разрыва с человеком, которого любила пять лет! Что это такое? Откуда взялась эта «любовь с первого взгляда»?
Характерно, что истица не привела нам, товарищи судьи, ни одного серьезного довода в обоснование своего требования о разводе. Разные с мужем профессии… Она ничего не понимает в его работе, он — в ее. Ну и что из этого? Разве это такой порок, из-за которого надо расходиться? И еще: муж, видите ли, слишком, увлечен своей работой и мало интересуется ее делами; даже как-то насмешливо сказал: «Текстиль — это мура… То ли дело электротехника»… Какое преступление! Вы лучше скажите откровенно, истица, что случилось? Что понудило вас на этот опасный шаг? Вы же сами отлично понимаете, что приведенные доводы никуда не годятся. Недаром ваш поверенный не воспользовался ими в своей блестящей речи. Недаром он предпочел этим вашим доводам ссылку на вашего якобы двойника из романа Коптяевой — на Ольгу Павловну.
Позвольте, товарищи судьи, дать краткую оценку этой ссылки моего противника.
Я категорически не согласен, что Анна Соколова, доверительница моего противника, духовно близка Ольге Павловне. Нет, Соколова представляется мне чище, нравственнее, принципиальней. Она в одном близка Ольге Павловне… в желании уйти от мужа. Однако и тут есть существенная разница: знакомство ее с Константином не случайное — оно возникло и развивалось на основе общих производственных интересов. Это несравненно лучше, чем случайное знакомство в пути, чем тайные встречи у нравственного уродца Павы Романовны, жены бухгалтера из того же романа.
Кроме желания той и другой «сменить вехи», между Соколовой и Ольгой Павловной такая пропасть во всем, во всех поступках, во всех желаниях и вкусах, что поражаешься, как мог товарищ Добровольский допустить подобный экскурс в художественную литературу, допустить обидное для своей доверительницы сравнение с женщиной без стыда и совести, с потенциальной преступницей. Никаких идеи о врожденных преступниках я не рекламирую, товарищ Добровольский, успокойтесь! Я опираюсь на факты. Я согласен отбросить слово «потенциальной». Ваша Ольга пыталась совершить уголовное преступление — это не выдумка, а факт.
Ольге Павловне понравилось что-то в технике. Не задумываясь, поступает в машиностроительный институт. Вскоре надоело сие занятие — ушла из института. Беспокойная душа потянулась к счетному делу, на бухгалтерские курсы. И здесь наскучило — полетела в медицинский институт, решила стать медичкой. Не понравились занятия в анатомичке — предпочла быть только женой медика. А всё же скучновата роль домашней хозяйки; нельзя ли испробовать курсы иностранных языков? Попробовала, обожглась и — ушла… Дальше мы видим ищущую и жаждущую Ольгу Павловну в газете, корреспонденткой.
Надолго ли? Видимо, надолго: тщеславия у Ольги Павловны хоть отбавляй, ей весьма импонирует популярность, слава.
Точно так же, с той же легкостью, с тем же легкомыслием, Ольга Павловна поступила и при смене одного супруга другим. В свое время вышла замуж — конечно, по любви! — за Ивана Ивановича. И вдруг разлюбила: увлеченный своей работой, доктор оказался мало внимательным, недостаточно чутким мужем. Случайное знакомство в пути с инженером Тавровым. (Раньше знакомство с Тавровым, а потом «открытие» новых неприятных качеств у мужа.) Полюбила Таврова. За что? Просто полюбила — и всё. Видимо, за чуткость, за внимательное отношение к новым ее начинаниям, за помощь в литературной работе. Что же, можно, пожалуй, перелететь к Таврову… Кто следующий? У нас ведь много замечательных людей, они встречаются на каждом шагу. Это тем опаснее для Ольги Павловны, что ее работа в газете связана с постоянными разъездами. Берегитесь, гражданин Тавров, вас может постигнуть расплата за грубое вмешательство в чужую семейную жизнь!
Однако, товарищ Добровольский, я вижу вас особенно задели мои слова о несостоявшемся преступлении Ольги Павловны. Хорошо, сейчас скажу и об этом. Она дружила с Павой Романовной, тайно встречалась у этой разложившейся женщины с Тавровым. И вот — видимо в знак благодарности к этой самой Паве, — когда та стала беременной, Ольга берет на себя роль посредницы между Павой и Иваном Ивановичем, как доктором, толкая его на аборт, на тяжкое уголовное преступление. Если бы он согласился на это, автору пришлось бы описать в своем романе судебный процесс над Иваном Ивановичем по статье 140 Уголовного кодекса и над его услужливой супругой по статьям 17—140 того же кодекса.
Вот ведь куда заехали вы, товарищ Добровольский, в поисках доказательств для укрепления своей шаткой правовой позиции! Нет, не завидую я ни вам, ни вашей доверительнице!
Добровольский. Вы меня не убедили. Роман превосходен…
Иванов. Не отвечаю на реплику. Подведем итог нашему судебно-литературному спору: одобряя Ольгу Павловну, примиряя ее с нашей действительностью, поручая ей почетнейшую профессию работника советской печати, автор, по-моему, грешит против истины. Хотела или не хотела товарищ Коптяева, — Ольга Павловна не типична для наших дней. Хотела или не хотела товарищ Коптяева, — думаю, что не хотела, — но она объективно проповедует анархию в быту…
В своей речи товарищ Добровольский заявил, что иск его доверительницы надо удовлетворить, — кажется, он даже сказал: в полном соответствии с требованием закона.
Жаль только, что Добровольский сказал об этом в самом конце своей темпераментной речи, сказал как бы между прочим, без всякого обоснования, без ссылок на конкретные законы. Интересно узнать, где опубликованы законы, которые при отсутствии оснований для развода разрешают развод? Мой противник не назвал этих источников. Хуже всего, что я, его товарищ по профессии, бессилен в этом ему помочь. Думаю, что и прокурор и вы, товарищи судьи, тоже бессильны прийти ему на помощь. Таких источников у нас нет, таких законов у нас не издано. Мы имеем другие законы — великолепный указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года; четкое и ясное постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 сентября 1949 года — они-то как раз и предлагают нам по пустякам не разводить, проявлять в этом вопросе величайшую осторожность и во всех случаях при решении, этих вопросов подходить к ним по-государственному, по-партийному. Наша семья — это не только частный союз двух сердец. Это первичная ячейка советского общества.
Я убежден, товарищи судьи, что вы отвергнете неправильные доводы моего процессуального противника. Убежден, что вы чутко отнесетесь к моим доводам и примете их.
Наше советское общество — самое дисциплинированное в мире. Мы сами строим свою жизнь, сами творцы своего счастья. Сбросить со счета пять лет безупречной супружеской жизни, радостную любовь — это значит не уважать самих себя, своего сердца, своих чувств. Это значит стать растратчиком собственной жизни!
Прошу Соколовой в иске отказать за отсутствием каких бы то ни было оснований.
3
Заключение прокурора Кузнецова
Товарищи судьи!
Совсем неплохо, что мы выехали слушать это дело по месту работы истицы. Пусть здесь знают настоящую причину конфликта Соколовых, пусть, помимо нас, сама общественность оценит этот конфликт.
Совсем неплохо, что товарищи адвокаты не спорят сугубо практически, а завязали вокруг дела серьезный, принципиальный спор.
Ничего, что этот спор несколько несовершенен, местами сбивчив, местами резок, местами даже несправедлив, — ничего в этом страшного, по-моему, нет.
Несколько общих замечаний.
Адвокат Иванов зря представил свою позицию такой уж безукоризненной, а соображения своего процессуального противника отмел, как заведомо ошибочные. Думаю, что так просто эти вопросы решать нельзя.
А что если истица действительно утратила к мужу любовь? Или, скажем, честно ошибалась в своей к нему любви — что тогда? Как в этом случае рассматривать их брак, — с любовью он или без любви? Сохранить его или расторгнуть? Вот вам и задача, которую не так-то легко решить, товарищ Иванов.
И всё же я ближе стою к вашей позиции, чем к позиции товарища Добровольского. И свободу и насилие у нас понимают и применяют иначе, чем это делает буржуазия.
И в труде и в быту мы допускаем не всякую свободу, а свободу, основанную на высокой сознательности. Иначе в социалистическом обществе поступать нельзя. Иначе мы никогда не вытравим из своей жизни беспорядка.
О романе Коптяевой. В книге немало хорошего. И прежде всего, ценна постановка вопроса о браке, семье, любви, ценна попытка решить эти вопросы. Это большая заслуга Коптяевой, независимо от того, что кое в чем она ошиблась.
Совсем не случайно «Иван Иванович» так популярен среди читателей. Наши люди хотят знать, какой должна быть советская семья, как влюбляются, женятся, воспитывают детей, как сберегать свою любовь. В нашей жизни много передовых людей, они хорошо показаны художественной литературой в процессе труда, в битвах с врагами за Родину. Семье же, браку, любви не повезло. Создалось такое положение, что хоть проси суд вынести частное определение в адрес Союза советских писателей: смелее, товарищи, беритесь за эту тему! Помогите молодежи правильно организовать личную жизнь, предупредите ее от возможных ошибок в вопросах любви и брака.
Еще несколько слов о романе Коптяевой В одном я должен полностью согласиться с товарищем Ивановым: действительно, у автора не было достаточных оснований так возвеличивать свою героиню. Нельзя считать ее передовой советской женщиной.
У Ольги не было серьезных оснований для ухода от Ивана Ивановича. Общественность обязана была резко осудить ее поступок, дать почувствовать, что так жить у нас нельзя. Ничего страшного не случилось бы, если бы ее призвали к порядку, обвинив в бытовой распущенности. Поводы к этому были. Нет, Ольга Павловна — не героиня нашего замечательного времени. Наши женщины не захотят идти по ее следам.
О браке Соколовых, которому посвящено наше судебное заседание. Они добровольно и по любви вступили в брак. Оба обязаны были беречь, углублять свою любовь. Истица забыла об этом. Ее вина. Она решила, как выразился адвокат Иванов, «сменить вехи». Эти два слова можно с успехом заменить одним. Можно по-прокурорски, более сурово, но и более правильно определить это как распущенность.
Мне кажется, что необоснованный иск гражданки Соколовой надо отклонить. Адвокат Иванов прав: доводы истицы несерьезны, в них нет здравого смысла, логики, жизненной правды. Я тоже не понимаю, как можно перечеркнуть пятилетнюю любовь трехмесячным увлечением! Пусть извинит меня истица за резкость, но я повторяю: это бытовая распущенность, — и эту распущенность закреплять, оправдывать законом мы не можем, не имеем права. Гражданин Соколов очень любил и любит свою жену, невзирая ни на что. Он мужественно, открыто защищает свою любовь. Непонятно, как можно оставить такого человека. Ни одна здравомыслящая женщина не пошла бы на это. Я не хочу опорочить гражданку Соколову, не считаю ее безнадежно испорченным человеком. О ней хорошо отзываются на фабрике, ее считают лучшей закройщицей, серьезным, честным и принципиальным товарищем. Мне непонятно лишь одно: как можно быть лучшим человеком на производстве и отставать в быту. Правда, Соколова действует открыто, но это не оправдывает ее ошибочного намерения разойтись с мужем.
Еще одно замечание — о Строгове. Как хотите, а мне не нравится его поведение. Подозрительное поведение: не то трусливое, не то предусмотрительное, точнее определить не берусь. Я пытался встретиться с ним до суда — он уклонился, ссылаясь на болезнь. Действительно ли он болен? По нашим сведениям, здоров. Он не явился и на суд. Мне кажется, что по-настоящему любящий человек, настоящий друг, присутствовал бы сейчас в суде, его место здесь, рядом с любимой. Он обязан был прийти сюда, хотя бы для моральной поддержки. Он не пришел. Видимо, ему неловко смотреть в глаза людям. Возможно, он понял, что, бесцеремонно забравшись в чужую личную жизнь, он осквернил ее, сбил с толку молодую, малоопытную женщину.
Как представитель прокуратуры, прошу суд в иске Соколовой отказать.
4
Замечания судьи Павловой (после оглашения решения)
Надеюсь, граждане, решение суда вам понятно. Вот и отлично… Но мне хотелось бы, чтобы вы оба не только поняли его, но и приняли всей душой. Вам, Анна Петровна, это сделать трудно, я вас понимаю, но необходимо. Не будьте врагом своего счастья. Возьмите себя в руки, еще и еще раз продумайте свое отношение к жизни.
Советский суд искренне желает вам восстановить утраченную супружескую молодость, восстановить и никогда больше с ней не расставаться!

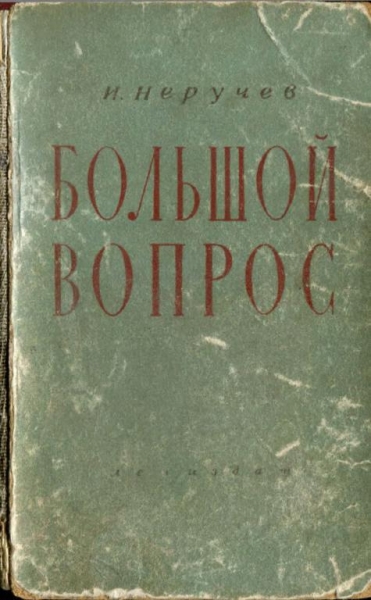




Комментарии к книге «Большой вопрос», Иван Абрамович Неручев
Всего 0 комментариев