Илья Бояшов Кокон. История одной болезни (сборник)
Кокон
I
Неважно, когда он родился, в какой стране, в каком городе. Есть вещи совершенно несущественные. Что касается семьи господина (гражданина, мистера) N – ее достаток позволил получить отпрыску образование. Детство? Юность? Обыкновеннейшие! Пять процентов класса, где N томился энное количество лет, состояло из умниц-тихонь, пять – из откровенного хулиганья, между ними слонялось «болото». Был ли N тихоней, сорванцом, частью аморфного «большинства» – в сущности, какая разница? Пропускаем также первую понравившуюся девочку, сопли и слезы после того, как хозяина костюмчика, галстука, рубашки, майки, трусов, носков, ботинок, ранца, двух-трех тетрадей, двух-трех учебников, сломанного карандаша, стиральной резинки и прочего школьного хлама в первый раз хорошенько отлупили на безымянном дворе. Подчеркнем – ничего интересного. Далее студенчество: аудитории, столовые, комнаты общежития, девочки поопытнее и поненасытнее, участие в местной команде (волейбол, бейсбол, регби), марихуана, пиво – впрочем, все несущественно, решительно все!
II
Теперь о главном: где-то на третьем курсе, с азартом гончей нарезая круги по университетскому стадиону, N впервые почувствовал нечто чужеродное в левой стороне груди, словно затаившееся под ребрами. Он потрогал то место, думая – показалось, однако был толчок (едва ощутимый) и некоторое неудобство – впрочем, вскоре оно прошло. Дней через пять во время обеда, когда студент поднес ложку ко рту, толчок повторился; он пытался убедить себя: «Ерунда», – но, увы, той же ночью нечто окончательно проснулось, зашевелилось в нем и уперлось в ребра. Перепугавшись до пота, он подумал на опухоль и остаток ночи ощупывал бок (воображение показало весь ужас, который может с ним быть: он слышал о случаях, когда молодые и здоровые сгорали за две-три недели). Под утро N готов был бежать сразу ко всем врачам на свете, однако, выбившись из сил, заснул, а когда пробудился, то ничего не ощутил – более того, с утренним солнцем к нему вернулась уверенность.
Правда, к полудню она исчезла («Молодой человек, что вы нервничаете? – кипятились преподаватели. – Вы желаете выйти»?» – «Да, желаю». N выскакивал, трогал то самое место и, едва скрывая испуг, возвращался в аудиторию). К вечеру он уже точно знал, что не на шутку болен. Но первым делом потеющий N побежал все-таки не в поликлинику (нет ничего удивительнее человеческой психики), а в университетскую библиотеку – с замиранием и без того перепуганного сердца раскрыл он «Внутренние болезни» и с трепетом погрузился в них; не прошло десяти минут, как N уверился в самом страшном (carcinoma ventriculi). Впрочем, прихватив пару книг (он потребовал у библиотекарш самые современные справочники) и той же ночью при ночнике, под недовольное бормотание соседа по комнате, окончательно углубившись в проблему, пришел к другому однозначному выводу – не carcinoma ventriculi, а, вне всякого сомнения, cancer pancreatic с явным признаком Курвуазье (все это время, лишь временами затихая, чужеродное нечто давало знать о себе, и, хотя оно не болело, N не сомневался – мучения не за горами). В три часа ночи, ознакомившись с энтеритами и колитами, острым энтероколитом, хроническим энтеритом, бактериальной дизентерией и подписав себе сразу несколько приговоров (каждый из них смертный), он вплотную прилип к зеркалу, пытаясь увидеть все признаки механической желтухи (сосед не спал и шипел из-под одеяла). В четыре утра сосед все-таки захрапел, а N по-прежнему листал страницы. После лихорадочного ознакомления еще с одним учебником забрезжила надежда – возможно, проблема в надвигающемся хроническом панкреатите, в этом случае еще можно было спастись. Однако нечто вновь ощутимо и грозно перевернулось под ребрами. Иллюзии растворились – дело шло к несомненному раку. N заплакал, потом лег лицом к стене и, то и дело дотрагиваясь до заболевшего места (от нещадного пальпирования оно не могло не ныть), забылся.
III
Все последующие дни он ловил вибрации своего организма так же тщательно, как ухватывает мельчайшие изменения звукового фона за бортом субмарины во время скольжения тела подлодки по «минным полям» самый чуткий ее акустик. На считанные минуты выныривая из кошмара, в котором он теперь барахтался, призывая на помощь почти уже затоптанную трезвость рассудка, N уверял себя – толчки под выбивающим барабанную дробь сердцем не так уж и опасны: возможно, его беспокоит вполне безобидная невралгия. Но, какое-то время побыв в состоянии некоторой успокоенности, опять поддавался панике, уже точно зная: признаки краха не успевшей опериться жизни налицо, – и вновь тонул в липком ужасе.
IV
За неделю попыток самостоятельно выяснить истину N пожелтел, затем позеленел, осунулся – вполне естественное состояние при подобном волнении, – однако страх постоянно нашептывал: «Вот видишь, каким ты становишься, это конец!» N запретил себе приближаться к зеркалу, но то и дело табу нарушалось. Что касается ночного (а затем и дневного, на лекциях) чтения, пошли в ход самые современные, самые обстоятельные источники. Не удовлетворившийся университетской библиотекой, N прослыл за старательного студента-медика у продавцов книг сразу нескольких магазинов в округе. Проштудировав новейшие справочники по онкологии, кое в чем он уже начал действительно разбираться и мог бы даже вступить в спор со специалистом. К началу недели поставивший себе уже десять диагнозов (один вернее другого), а затем вернувшийся к первому бедолага окончательно пал духом. Сама мысль о том, что нужно будет направиться к докторам и, словно на Страшном суде, выслушать приговор, доводила его до совершенно жалкого состояния. Поэтому, все еще отчаянно убеждая себя, что «пройдет, рассосется, помощь врачей не потребуется», и больше всего на свете боясь вердикта непременно равнодушных онкологов (в том, что вердикт вынесут самый ужасный, самый безнадежный, больной и не сомневался), N в окончательном уже помрачении рассудка бросился по друзьям – и открылся им. Никому из его развеселых дружков не пришло и в голову отконвоировать мученика к ближайшему терапевту – напротив, все они ударились в целительство: кто советовал сауну, кто чагу со старой березы. N записал даже самые дурацкие рецепты и с угасающей надеждой еще какое-то время заваривал и принимал рекомендованные грибы и разнообразные травы. Голова у него совсем пошла кругом, желудок и печень запротестовали, в конце концов его вырвало от особенно тошнотворного снадобья.
V
В черный день своей жизни, после очередного бессонного ворочания на общежитской койке, N наконец-то решился. С потерянным лицом, с подрагивающими руками, чувствуя еще более разросшуюся опухоль (она упиралась в ребра), попрощавшийся с будущим, он добрался до ближайшей онкологической клиники, затем с замиранием малодушного сердца сидел в приемной, потом был впущен в чистый до ослепительности кабинет, где, не выдержав напряжения, уже с порога доложил, как и предполагал, совершенно равнодушному эскулапу о своем очевиднейшем cancer pancreatic. Профессор – «лучший из лучших по поджелудочной» – так, по крайней мере, рекомендовали его (денежная пачка в кармане N только после одного этого визита похудела наполовину), – равнодушно выслушав, равнодушно предложил раздеться и лечь, перевернул, постукал, потрогал и заметил (опять-таки равнодушно):
– Эка, как вы бок-то себе намяли!
– У меня рак поджелудочной, – сказал N злобно и отвернулся к стене.
– Прекратите валять дурака. У вас ничего нет. Будете упорствовать?
– Да!
VI
N действительно заупорствовал, и ему прописали обследование. Съедаемый пыткой отчаяния, он послушно сдавал анализы, посещая один за другим кабинеты по сторонам уходящих вдаль коридоров и налево и направо тратя отцовские деньги. Он ходил (УЗИ, томограф, флюорография) и страдал и каждому из тех типов в лягушачьего цвета колпаках и халатах, кто встречал его на очередном кабинетном пороге, предлагал свою железную версию. С каждым он готов был обсуждать ее. Он умирал, но типы ему не сочувствовали. Равнодушно и споро они делали дело: укладывали несчастного N, переворачивали, просвечивали, опутывали проводками, присоединяли и снимали присоски – и отправляли далее по истинно Дантовому кругу. Разумеется (как он и ранее предполагал), им было на все плевать, они строчили в бланках почерками, которые роднила одинаковая отвратительность, и папка с бумагами пухла у него на глазах. С целым ворохом разнообразных отчетов он вновь осчастливил своим появлением главного скептика.
– Прекратите валять дурака, – вновь посоветовал тот после внимательного ознакомления с результатами.
N уже не на шутку озлобился.
– У меня тяжело под ребрами. Там есть нечто, неужели вы не почувствовали?
Профессор хмыкнул, и оставшиеся деньги исчезли окончательно, ибо обследование повторилось: на N испытали совсем уж сверхсовременное оборудование – по уверению эскулапов, «оно не должно было оставить никакого сомнения».
VII
В третий раз возник N в ослепительном кабинете. Прошелестев таблицами, специалист отрезал:
– Вы однозначно здоровы.
Проклиная клинику и выпросив у родных новую денежную подачку, N продолжил знакомство с адом еще в одном уважаемом центре. Папку он забрал с собой – новыми сведениями о болезни (N и не сомневался: сделанные в том центре анализы будут совершенно противоположны первым) больной собирался затем осрамить профессора-шарлатана. Чуда не случилось: в конце концов ему и там указали на дверь. Папка еще более распухла. Он бросился в другую больницу.
– Вы определенно больны, – в один голос сказали ее хирурги, – но это болезнь иного рода. Молодой человек, вам явно нужен психиатр.
N решил подать за оскорбление в суд – и проиграл. Между тем в папке сосредоточились уже все анализы, которые только могла позволить себе медицина, они жизнерадостно уверяли: N абсолютно здоров. Однако он продолжал болтаться по клиникам, несмотря на то, что везде и машины, и люди упорно сходились в едином мнении. Так N пропустил целый семестр. За его психику всерьез забеспокоились родные. Из потрепанной папки уже свисали целые ленты, врачи смеялись над манией; дошло до того, что он набросился на своих очередных терапевтов с кулаками. В подобных мытарствах проскочило полгода. Оказавшись за порогом еще одного заведения (там целый консилиум после знакомства с анализами попытался убедить клиента, куда ему следует немедленно обратиться), вконец измотанный N задумался. «Неужели я действительно вообразил это нечто, а теперь представляю его в себе? А если его попросту нет? Если они правы? В таком случае мне нужна психиатрическая лечебница, и я немедленно, сейчас же в нее лягу. Пусть пропишут самые действенные препараты, пусть выводят меня из этого страшного состояния, иначе я просто упаду и умру».
VIII
N оказался в ужасном положении: все вокруг весьма дружно, басами, сопрано и тенорами, со всеми возможными доказательствами на руках уверяли – он болен именно психически, но под ребрами с левой стороны по-прежнему подавал признаки жизни какой-то ужасный ком. Окончательно сломленный N готов был признать шевелящееся нечто плодом своего воображения. Правда, остался в его записной книжке еще один адрес. Прежде чем сдаться антидепрессантам, скорее из-за присущего ему природного педантизма, для «галочки», чтобы «до конца пройти весь проклятый круг», он позвонил, договорился и вот уже переминался с ноги на ногу на пороге частного дома с папкой многочисленных снимков и целым томом исписанной и испещренной графиками бумаги. Заученно N разделся, заученно поведал о симптомах болезни. Он не мог удержаться, чтобы не пожаловаться на бездушных коллег того, кто сейчас его так гостеприимно принял, – многочисленные неверующие Фомы в лучшем случае рассуждали о каких-то сигналах в воспаленном мозгу, создающих иллюзию присутствия чужеродного тела, хотя, по их уверениям, на самом деле этому телу совершенно неоткуда взяться.
Врач не торопился, не желал, получив гонорар, как можно быстрее спровадить явного сумасшедшего (N насмотрелся на подобных мерзавцев, уже на второй минуте осмотра начинающих скучать). Более того, присев рядом, в течение получаса (N видел, как идет время в образе больших настенных часов у врача за спиной) выслушал все, включая откровение явившегося как снег на голову пациента о желании последнего улечься теперь уже на совершенно другие обследования, затем помял, потрогал, пощупал его бок.
Пока он вникал в смысл диаграмм и графиков, N напряженно ожидал если не усмешки, то хотя бы плохо скрываемого скепсиса. Действительно, пару раз врач хмыкнул, но, уже укладывая в папку рентгеновские снимки вместе с прочими свидетельствами полного физического здоровья N и завязывая ее тесемки, вдруг о чем-то задумался.
– Погодите-ка сдаваться, – потер он переносицу, – лечь вы всегда успеете. Дело вот в чем, молодой человек: есть у меня друг-психолог с собственной, весьма странной теорией. Честно признаюсь, идея, которую он с таким жаром проповедует, всегда казалась в нашем общем медицинском кругу… как бы помягче сказать… необычной, он до сих пор на нас обижается. Однако для вас, возможно, в ней будет некая польза. Не желаете ли познакомиться? Сразу скажу – на нем вы не разоритесь. Каждый такой посетитель для него настоящий подарок. Да и вам хотя бы морально станет полегче. Мой совет: непременно попробуйте…
IX
N тотчас известил отца о грядущем приеме (в ответ тот немедленно сообщил, что высылает последний транш и теперь сыну решать, на что тратить деньги – на уважаемую психиатрическую клинику, в которой уже определились с местом, или на облаченного в халат заведомого мошенника), затем, дождавшись родительской подачки и подхватив папку, с которой уже сроднился, отправился на условленную встречу.
X
Поднявшись на этаж, оказавшись в холле, осведомившись у секретарши, он увидел обычное убранство еще одного кабинета и, как и полагается, вновь протянул целый ворох анализов, которые хозяин стандартных дивана и кресел в полном молчании прочитал и повертел в руках. Затем рекомендованный внимательным врачом психолог подошел к окну, посмотрел вниз на авеню-стрит-улицу, постучал пальцами по стеклу и, наконец, подал голос:
– Мне о вас уже доложили. А теперь расскажите сами. Только в самых мельчайших подробностях.
N рассказал.
– Что мне делать? – спрашивал N.
– Ну конечно же, радоваться.
– Чему?
– Вам попался именно я.
– Простите?
– Душа.
– Я не понял.
– То, что вас так измочалило, – на самом деле душа. Псюхэ, как говаривали древние греки. У Сократа она – демоний. Впрочем, неважно, как ее там называли… Еще раз повторю, хорошо, что вы здесь оказались. Хотите ложиться с этим в психушку? Глупее идею сложно придумать. И вообще, молодой человек, никогда не связывайтесь ни с традиционными психоаналитиками, ни с современной психиатрией. Среди нас много дураков добросовестных, я уже не говорю о недобросовестных дураках. Благодаря стараниям нашего брата подобные вам пациенты, стоит им только поведать хотя бы ничтожную часть того, о чем вы сейчас рассказали, заканчивают жизнь в комнате с мягкими стенами, а ведь все просто.
– Что просто? – заволновался N.
– У вас никакой не рак. Выбросите из головы опасения насчет сумасшествия.
– Смеетесь?
– Отнюдь. Вот еще один совет: прекратите шататься по лабораториям, не подставляйте с этого дня никому свои вены – анализы ничего не покажут. Не мучайте себя глотанием трубок. Вообще ничем себя не терзайте. Зарубите на носу – вы один из тех немногих, кто чувствует душу. Только и всего. Определенная аномалия. Девяносто девять и девять десятых процента всех живущих о псюхэ и не подозревают, но она существует, как видите. Единственное, что от вас требуется, пока не изобретут препараты, способные если не избавить от этого неприятного сожительства, то хотя бы сделать его более-менее приемлемым, – привыкнуть к ней. Главное – не трусить. Представьте себе ее неким подобием доброкачественной опухоли: будете постоянно ощущать, испытывать некоторые неудобства, но в конце концов… Послушайте, да она в каждом из нас, взгляните на толпы внизу. Но лишь ничтожной части рода людского душа доставляет хлопоты: вы относитесь к этой части. Так что смиритесь с фактом: в вас находится существо. Оно просто живет – тем более, как я понял, в настоящее время с его стороны не исходит никакой угрозы!
– Просто живет?! А моя тошнота? А бледность?
– Обыкновенное самовнушение.
– Все-таки я не понимаю, – бормотал озадаченный N. – Как тогда это, как вы говорите, существо могло во мне оказаться?
– Обратитесь к попам, – усмехнулся психолог. – У них на этот счет есть своя теория.
– А ваша?
– Моя? Извольте. Не знаю, как они там к нам попадают, но приходится констатировать факт – мы для них ходячие тюрьмы. Псюхэ томятся в клетках из ребер: лишь смерть человеческая их и освобождает. Куда они улетают потом, совершенно не в курсе, но вот парадокс – они маются в наших с вами телах и должны с нетерпением ожидать, когда мы наконец откинем копыта. Христианство, правда, две тысячи лет убеждает весь мир в том, что пташки возвратятся именно в те руины, из которых когда-то выпорхнули, – но я даже теоретически не могу представить себе подобное возвращение. В чем нисколько не сомневаюсь, так только в том, что псюхэ нам совершенно чужды. Доказательства? Вы же сами утверждаете, что существо, которое поселилось внутри, инородно. Вы чувствуете эту инородность. Иначе и быть не может: у души своя жизнь, которую ни мне, ни вам не понять. Да, она живет, дышит, двигается… но чем живет, каковы ее планы после того, как плоть homo sapiens отправится на встречу с червями?.. Продолжить? Впрочем, сейчас вам не до философии… Псюхэ, псюхэ, бессмертная псюхэ, – бормотал врач задумчиво. – Еще раз напомню – с ней пока придется мириться. Шевелится? Не обращайте внимания. Спорт и девушки… да-да, помогут физические упражнения и здоровый, радостный секс. Ничто так не отвлекает от дум (а вам сейчас совершенно противопоказано думать), как соблазнительные самочки из всяческих групп поддержки. И вот еще – у порога моей приемной большая удобная урна. Выкиньте туда макулатуру, которую сюда притащили: все это в вашем случае собачья ненужная чушь!
XI
В приемной N задержался, не в силах еще ничего осознать. Психолог, несомненно, обладал силой внушения, в голове N, как и водится после встречи с подобными гипнотизерами, засело несколько ключевых слов, самое главное из которых – «душа» – искрилось в сознании, словно разряд электричества. Впрочем, возможно, дело было и не в чародействе, а в просто и ясно указанной причине страхов, которые в последний год методично сводили его с ума. N подошел к окну, взглянув вниз, на толпу. Машинально он прижимал к себе пухлую папку, с существованием которой свыкся за последнее время и содержимое которой трепетно изучил. Сейчас он не мог не признаться себе: она стала родной ему, в ней было сосредоточено и распределено по листам все его отравленное сомнениями существование.
XII
– Да выбросьте, выбросьте! – раздался за спиной тот же насмешливый голос. Спаситель стоял в проеме двери. – Смелее, смелее, – продолжил док. – Диагноз поставлен. Будете в нем сомневаться – плохо закончите! А так я к вашим услугам. Мои толстокожие коллеги требуют доказательств – еще лет пять, и я их представлю. Правда, вряд ли эти ослы им поверят! Они спят со своим Фрейдом, а тот, будь его воля, нашел бы эдипов комплекс и у Господа Бога! Но, как бы там ни было, вы для меня находка. Не подведите… Жду вас завтра. Приступим к лечению.
Врач захохотал. N кивнул, храбро выбросил папку в урну (гипноз еще действовал), спустился и вышел. Храм попался ему на пути, он захотел было заглянуть в собор, готовый на откровение с любым священником, который согласится обсудить с ним самую странную тему на свете, однако раздумал. После наркоза уже наступило некоторое отрезвление, скепсис засучивал рукава, готовясь отыграть так неожиданно и позорно сданные им позиции. Опрокинувший все с ног на голову разговор уже восстановился в памяти – и в контратаку бросились сомнения. N даже решил немедленно бежать назад и забрать из урны драгоценный материал – он и не понял, что тогда остановило его от подобного шага.
XIII
Состоялось еще несколько визитов к врачу «со странной теорией». Доброжелательный товарищ неординарного врачевателя был прав – плата действительно оказалась смешной, а сеансы – серьезны. Вскоре N окончательно осознал – что касается псюхэ, благодетель не шутит. Со всей добросовестностью исследователя психолог отстаивал собственный взгляд не только перед «толстокожими коллегами», но и перед самим пациентом и наконец убедил его. («Но ни в коем случае на ней не зацикливайтесь! Не идите у нее на поводу! Занимайтесь футболом и теннисом, – не уставал твердить врач. – Отвлекайтесь на что угодно!») Послушно набросившийся на спорт N заметно окреп и даже прибавил в весе. Нельзя сказать, что он перестал пугаться присутствия в себе чужой непонятной жизни: нет, ощущение нисколько не притупилось со дня первых симптомов – все та же тревога и ожидание новых толчков. По-прежнему, подобно беременной женщине, он готов был часами прислушиваться к редкому пульсированию, привычно трогал ребра, пытался прощупать под ними и впадал в беспокойство – но новый день брал свое, N надевал кроссовки, до одурения бегал на полях и на кортах, учился, в конце концов.
XIV
Ничего не было удивительного и в том, что он набросился теперь уже на совершенно иную литературу, вновь удивляя сонных хранительниц книжного капища своей поистине маниакальной любознательностью. Кончилось дело тем, что дамы сгребли и вручили беспокойному юноше содержимое трех весьма длинных библиотечных полок. Привычка к внимательному и запойному чтению уже прочно в нем угнездилась, поначалу он предпочел основу основ, погрузившись в платоновские «Пир» и «Законы», которые утверждали: наивно сводить Луну, Землю и звезды к материальным телам. Источник движения их вовне и, конечно же, нематериален – так на горизонте забрезжило то, что Платон называл душой. В «Тимее» философа появился Бог-демиург, слепивший мир из идей, а из смеси идей сотворивший бессмертную псюхэ и заключивший ее в тленное тело (читая, N ощупывал бок, чувствуя шевеление). Все тот же беспокойный грек уверял его: после человеческой смерти душа вырывается в небо. Тело же распадается, оно априори сгнивает – и этого было более чем достаточно, чтобы N приуныл.
XV
Немного придя в себя от платоновского «Федра», он узнал о душе Сократа и, беспрестанно щупая бок, задумался о демо́нии. Затем попалась под руку «Брихадараньяха Упанишада», с которой N знакомился несколько ночей, строя на своей студенческой койке из одеяла подобие шалаша и до утра забирая с собой под одеяло лампу (в противном случае сосед его просто зверел). «Тибетская книга мертвых» не только перепугала, но и утомила невольного книголюба: какое-то время N мучился резью в глазах от почти беспрерывного чтения. Тем не менее, разобравшись с буддизмом, он схватился за христианство, оно было западным, оно было восточным: N углубился в восточное – и безнадежно в нем утонул. Убежденность Феофана Затворника, Брянчанинова, Стефана Кашменского и сотен других богословов в том, что душа проживает в теле всего лишь одну жизнь, повергла в транс дотошливого студента (Платон и «Упанишады» утверждали обратное), однако он не оставил попыток во всем разобраться: за православием последовали католики, лютеране, кальвинисты, мормоны, адвентисты седьмого дня – их отрицающий перерождения хор также пел о бессмертии псюхэ, хотя каждый солист в нем тянул свою партию.
XVI
После подобного разнобоя N попытался вникнуть в аскетичный, словно пустыня, ислам, помещавший души, в случае их несомненной святости, в свой рай-оазис и наказывающий грешные псюхэ шайтанами-демонами. Удивительно, но исключением из всяческих правил там оказались багдадские суфии, жизнерадостно свидетельствующие: бросая свою оболочку, душа порхает по бесконечным галактикам. У этих поэтов ее бессмертие становилось прежде всего чудесным солнечным танцем:
«Есть миры из прозрачной радости. Именуемое душой существо устремляется ввысь с невиданной скоростью и пересекает вселенные, прославляя Аллаха. Душа танцует в пространствах, пока не поселится на предназначенной лишь для нее звезде, ибо для чего еще звезды и существуют, как не для успокоения душ?! Вот почему с такой радостью они забывают нас, улетая каждая к своему лучистому дому…»
Впрочем, далеко не все были с этим согласны:
«Душа, покидая кров (наше с вами бренное тело) до того, как Аллах, Великий и Всемогущий, совершит над ней праведный суд, начинает скорбеть и мучиться. Подобно младенцу, исторгнутому из материнского лона, она пребывает в ужасе. Космос – материя мертвая, и миры там пусты и угрюмы. Навсегда прощаясь с Землей, уплывая печально и медленно, она неприкаянна и одинока и блуждает между планетами».
«Да, есть души, находящие кров на звездах, но есть и грехами отягощенные – эти обречены на бродяжничество, – просвещал его третий источник, – как голодные псы, они бесконечно скитаются, им нигде не найти приюта. Даже ад их не забирает…»
XVII
Еще какое-то время N, потрясенный, продолжал свое погружение: он читал с благоговейным волнением об Уака загадочных инков, он узнал о Ка египтян. Персы, готы, чибча-муиски – все свидетельствовали о душе: в предложенных его вниманию книгах лишь о псюхэ слагались легенды, трубили трактаты, из-за нее, неуничтожимой, ломались философские копья, а ведь N прежде всего до дрожи волновало именно тело. Увы, во всех проштудированных им учениях этой напичканной сосудами и неприглядными внутренностями (ознакомившийся с анатомией N знал, как они неприглядны) оболочке, удивительно беззащитной, ранимой, отзывающейся немедленной болью на любые порезы, изменения давления или температуры, которая ко всему прочему еще и неизбежно старела, сжималась и съеживалась, суждено было гнить, гнить и гнить. Она, несчастная, после того как покидала ее душа, превращалась в песок и глину, в лучшем случае биллионы лет ожидая собирания в единое целое, в худшем уходя в жуткий вакуум, из которого нет возврата (подобное обстоятельство более всего его угнетало).
XIII
Что же касается самой псюхэ – чем больше он разбирался в теориях, тем более ужасная, из знаний, домыслов, всяческих легенд, споров и противоречащих друг другу догм, в несчастной голове его заваривалась каша: разобраться в ней уже не представлялось возможным.
Главное, что вынес он, потрясенный: а) то, что существует у него под левыми ребрами, – несомненно, душа; б) каким-то образом помещаясь и ворочаясь в нем, она живет сама по себе и по своим законам; в) это трепещущее существо рано или поздно вылетит из него и неизбежно отправится либо на небо, либо в геенну огненную («А что я? А как я? Мне остается тлеть?» – ошарашенно думал он).
XIX
Когда вконец перепуганный N прибежал за поддержкой, благодетель не на шутку встревожился:
– Ни в коем случае не вникайте во всю эту путаницу! И вообще: оставьте в покое религию, она ничего вам не даст, более того, самым верным образом доведет до Бедлама. Хотите не сбрендить? Так вот: я запрещаю библиотеки.
XX
Следуя настоятельному совету целителя, N набросился на девиц, которые с нескрываемым удовольствием трясли ягодицами на всевозможных соревнованиях и в черепных коробках которых, несомненно, хранилась вата. Готовые, точно спаниели, описаться от восторга при одном только виде потных мужских мускулистых тел (а N, подобно своим товарищам по университетской футбольной команде, умудрился нарастить стероидные бугры), эти грациозные, умственно незатейливые лани охотно следовали за «горами мышц» в раздевалки и в комнаты. N вошел в настоящий раж. С тех пор то одна, то другая трясунья из группы поддержки освобождалась от полупрозрачных тряпочек в его освободившейся от книжных монбланов норе (на последнем курсе N обитал один). Несмотря на страстное желание после соития как можно скорее выпроводить за дверь очередную носительницу ваты, N не мог не признаться себе – присутствие по ночам теплого девичьего тела под боком хотя бы ненадолго, но успокаивало.
XXI
Однажды в полночь он внезапно проснулся – душа шевелилась в нем; он нервно зарыскал по комнате. И вот о чем думал, вспоминая врача.
«Неужели тюрьма? Ну да – я тюрьма. Я твержу – псюхэ моя, но точно так же может быть моей кошка или вот эта спящая группи… Я называю душу своей, но ведь я отделен от нее и на все сто процентов уверен: она лишь ненадолго выбрала жилищем мое несчастное тело – рано или поздно она вырвется из реберной клетки и улетит туда, куда указывают суфии, – в пространства… Хорошо, если она существует сама по себе, кто тогда я? – с вновь вспыхнувшей безнадежностью в который раз думал N. – Я – это все остальное? Я – это плоть: кровь, кости, переплетение мышц, жил, сосудов? Я – это желания? Да-да, я состою из желаний: желаний любить, отправлять свои надобности, я кричу и плачу, когда мне больно, смеюсь, когда весело, чувствую холод, тепло, я ощущаю отчаяние, во мне существуют зависть, ненависть, страх. Все это мое. А она – не я. Псюхэ – другое. Пусть кто-нибудь убедит меня в обратном. Никому не дано убедить, – с горечью думал он, – я ношу ее в себе, да вот же, вот она, сейчас толкается, словно наружу просится. Придет время (оно обязательно, обязательно настанет) – она вырвется из меня. А что же я? А я попросту умру, все, что составляет меня сейчас, распадется, – в отчаянии N щупал свои мускулы, от которых околофутбольные самки были в таком животном восторге, – этим костям и жилам никуда не податься. Рано или поздно они одряхлеют, рассыпятся. Она улетит, а я – нет. Ибо она мне чужая. Она томится во мне и ожидает полета, и ее полет – моя смерть».
Он прислушался к шевелению: вот стукнуло едва заметно, вот, словно младенческой ножкой, изнутри толкнулось еще.
Девица спала, а N уже не ходил, а бегал. Ему вновь, как тогда, когда он, трясясь от страха, взахлеб читал медицинские справочники, стало по-настоящему плохо.
«Так я сойду с ума, – думал он, – еще немного, и… Нужно слушаться доктора… Не обращать внимания. Жить самому по себе. Пусть ворочается. Пусть постукивает… Ведь это же не смертельно. Я мучаюсь с этим достаточно долгое время – и ничего. Да, неудобство. Но по большому счету оно не мешает бегать, совокупляться, принимать пищу. Многие люди живут со своими проблемами. У одних – ужасное зрение. Другие хромы, безруки, безноги, мучаются мигренями и страдают гораздо более. Каждому свое. Не о том ли твердил Цицерон?»
XXII
– В другом случае я бы поостерегся рекомендовать вам подобное, – вновь склонился к уху N его добродушный спаситель. – Мои недоверчивые коллеги-приятели сразу бы отвернули мне за такое предложение голову. Однако ваша болезнь исключительна. Короче – почему бы вам не пропустить иногда рюмочку? Не сомневаюсь, вы юноша умный, нацеленный на карьеру: пристрастие к Бахусу вам не грозит… Порция виски в хорошей компании… И самое главное – внимайте моим советам. Конечно, я не Господь Бог, вам от псюхэ до конца не избавиться, но рано или поздно мы ее, несомненно, заглушим.
XXIII
N с благодарностью внял. Врач приказал не скупиться – с ходу отметалось пойло, самым гостеприимным пристанищем для которого еще во времена оны служили дешевые бары («Средство должно быть весьма дорогим, голубчик»). Новый союзник в борьбе действительно стоил денег, но к тому времени подачки со стороны родителей ушли в безвозвратное прошлое, университет был закончен, а не самая худшая работа давала возможность снимать квартиры далеко не в самых худших районах города и водить знакомство уже не с убогими, как группи, студенческими забегаловками, а с действительно стоящими ресторанами.
XXIV
Обеды проходили теперь в компании с такими же, как и он, застегнутыми своим положением на все пуговицы, подающими надежды клерками. Поощряемый доктором, N взял за правило ежедневно перед первым блюдом «пропускать коньячку». Нельзя сказать, что после каждого такого пропуска душа прекращала деятельность, – нет, она осязаемо пульсировала и двигалась, иногда настолько явно заявляя о своем присутствии, что N вынужден был невольно хвататься за бок. Псюхэ, конечно же, никуда не девалась, но вот прежний липкий, приставучий, словно попрошайка, страх на какое-то время удалялся – и тогда N отдыхал, ненадолго освобождаясь от почти постоянной внутренней дрожи.
Водка вечером (пятидесятиграммовая доза) немного способствовала пусть и пугливому, но все-таки сну – впрочем, как правило, в полночь псюхэ от отдыха безжалостно освобождала. Однако N не мог не признаться себе – начавшаяся дружба с рюмкой сделалась ему заметным подспорьем.
XXV
Прежние требования доктора неукоснительно им выполнялись: правда, вместе с достойной зарплатой на смену демократической беготне за мячом явился вальяжный гольф. Новому увлечению сопутствовали совершенно другие поля, атрибутика и ритуалы. Советы опытных сослуживцев вскоре себя исчерпали – способный игрок преуспел в работе с разнообразными клюшками. Псюхэ чуть унималась, когда он, вызывая невольное уважение к своей персоне со стороны снобов, прожигающих все свое время на выстриженных, словно боксерские головы, лужайках, принимался практиковаться в ударе, выжимая из себя не только седьмой, но и девятый, и двенадцатый пот.
XXVI
Что касается женщин, подвизание N в перспективной, щедрой на выплаты фирме сделало дело – уже в самом начале самостоятельной жизни его взору явились фанатки совершенно иного сорта. В залах с ласковым светом ламп, едва подающими свои голоса роялями и аристократическим позвякиванием столовых приборов под скатертями сервированных столиков к его ноге пристраивали теперь свои ножки новые приятельницы, соперничающие между собой в открытости эксклюзивных платьев. Одна особо распахнутая дамочка, с которой перспективный сотрудник столкнулся на устроенном фирмой пати и которую он затем полгода знакомил с дорогущей французской кухней, наконец-то зацепила его.
– Женитесь, – посоветовал врач.
N послушался. На какое-то время удалось забыться (ребенок, памперсы, семейная жизнь, с удивительной скоростью покатившаяся по рельсам от вокзала «Медовый месяц» к станциям «Недовольство – Легкая неприязнь – Неприязнь тяжелая – Глубокая ненависть»). За женскими истериками последовали психоаналитики, за психоаналитиками – таблетки беллатаминала вместе с неизбежным с ее стороны открыванием окон («Я бросаюсь вниз головой, и пусть тебе будет больно!»). Окна несколько раз открывались и закрывались, пока наконец в доме N (у него теперь был свой трехэтажный дом) не появился, вместо очередного сексолога, добродушнейший адвокат.
XXVII
Врач был прав – первый брак здорово отвлек от основной проблемы (развод вообще потребовал сил недюжинных), но следовавшие одна за другой вплоть до самого расставания истерики монстра, которого N с такой опрометчивостью год назад назвал своей суженой, все-таки до конца не смогли заглушить болезни. Бедного N, несмотря на всю карусель с женой, ребенком и посыпавшимися со всех сторон документами, в которые перед их подписанием приходилось вникать самым внимательным образом, по-прежнему не оставляла в покое мысль о том, что он смертен, смертен, смертен, а то, что живет в нем, – нет, и в связи с этой единственной утвердившейся, устоявшейся, герметически закупорившейся в нем мыслью остальное теряло всякий смысл. Душа – будущий обитатель смутно рисуемых воображением миров, неизвестно откуда взявшаяся в нем – в конце концов должна была податься в дали и выси, а он ни по каким законам физики не мог за ней следовать – его уделом однозначно было кладбище. Вся планета тогда представлялась ему могилой, ибо никакие дороги никуда с нее не уводили. После каждого приступа меланхолии следовал единственный вывод: в отличие от своей беспокойной узницы сам он, состоящий из мяса, костей, нервов и интеллекта, навсегда прикован к Земле. Он обречен на яму, значит, все здесь – социальные лифты, карьерные лестницы, власть, судорожное собирание богатств – ровным счетом ничего не стоит. Оглядываясь по сторонам, N искренне недоумевал: неужели знакомые и сослуживцы – эти инкубаторы чужой и бессмертной жизни – не понимают самой главной ужасной истины – неведомые личинки нагло используют их ухоженные тела, каким-то образом поселяясь внутри и вызревая в относительной безопасности? Но вот следуют день, час – и кора разъедена, скорлупа разбита: птенцы вырываются к вечной радостной жизни, а ни о чем не подозревающие носители инобытных существ отправляются тлеть на свалку, словно самый ненужный хлам. «Неужели никто не в курсе? – думал N, поражаясь бросающейся ему в глаза слепоте. – Неужели не догадываются, не боятся?» Увы, многочисленные родственники, приятели, любовницы, начальники и компаньоны, у которых ничего не толкалось в боку, конечно же, «были не в курсе» и, что самое обидное для посвященного в тайну, прекрасно жили в подобном неведении.
XXVIII
В то время когда вокруг N суетился первый семейный суд и адвокаты азартно кусали друг друга, страх внутри зашел настолько далеко, что на одном таком лающем заседании, отрешенный от страстей и слушаний, он, целиком занятый единственной мыслью, вдруг совсем как сумасшедший рассмеялся и тут же сказал, что отдаст жене дом и даст ей денег, лишь бы его тотчас, сейчас же оставили в покое. «Нет никакого смысла в сутяжничестве», – твердил N, содрогаясь от осознания все того же непреложного факта: он, такой умный, неповторимый, удачливый, со всех сторон обложенный женщинами, со всеми своими клюшками для гольфа, симпатичным банковским счетцем, надеждами, страданиями, страстями, не что иное, как оболочка для псюхэ. «Нет ни малейшего смысла», – повторял в исступлении N. «Да что за чушь вы несете?» – взорвался его ни о чем не подозревающий защитник, но N упрямо нес чушь: согласился с претензиями жены и в пользу ее отказался от дома.
XXIX
Какое-то время он мыкался по квартирам. Все та же работа вскоре дала новый дом и новую женщину. Одной томительной ночью у N возникло желание рассказать ей всю правду (несмотря на то, что терапевт-психолог – этот несменяемый ангел-хранитель – категорически запрещал подобное), он разбудил свою даму, сбивчиво начал исповедь и, увидев, как она на него смотрит, быстро схватил и прижал ее ладонь к своему раскаленному боку:
– Чувствуешь шевеление?
– Нет, – сказала она.
– Как же нет? Пощупай еще.
Она неохотно пощупала.
– А сейчас? Неужели не бьется?
– Ну конечно же нет. Успокойся.
И жена отвернулась к стене.
XXX
Были новый ребенок, истерики, неизбежный дележ – удивительно, но еще оставались средства, – психолог настаивал на переменах («Поверьте, кругосветное плавание – самый лучший для вас рецепт. И, если можно, при обострениях немедленно сообщайте»). Таким образом, не прошло и недели со времени очередного развода, как N с чемоданом и своим намертво вцепившимся в него недугом оказался на респектабельном лайнере в более-менее сносной каюте посреди океана.
XXXI
Воздух, диеты, упражнения с гантелями (с одной лишь целью: чтобы отвлечься от единственной думы-фикс) внешне шли N на пользу – путешествующая публика благосклонно разглядывала несколько замкнутого, с некоторой, конечно, нервинкой, но вполне дружелюбного человека, а корабль, как водится, плыл. Повинуясь врачебным рекомендациям, с девяти его палуб, а также из экскурсионных автобусов N старательно пялился на мелькающий белый свет лишь затем, чтобы в один отвратительный миг убедиться: из всех этих Австралий, Европ и Америк бежать действительно некуда, сам будучи «ходячей тюрьмой», он путешествует по огромной камере, пусть необъятной, служащей ковчегом для всякой твари, но… Все дело и было как раз в этом ужаснейшем «но».
XXXII
Итак, несмотря на явленные плаванием прямо под нос ему сногсшибательные закаты, Южный Крест и Большую Медведицу, для N ничего не менялось. Ночами, оставаясь наедине с существом, он готов был бегать по каютному потолку (лишь неизвестно откуда берущаяся, весьма слабенькая, вопреки несокрушимому оптимизму доктора, вера в то, что когда-нибудь этот кошмар утихнет, продолжала не совсем устойчиво, но все же его подпирать). Что касается мира внешнего, N честно отбыл свой номер: пару раз, когда становилось особенно невмоготу, связывался с врачом, исправно ходил на завтраки, обеды и ужины, затыкая салфетки за ворот очередной свежей, как морское утро, рубашки, вел беседы с соседями по столику и, еще более приветливо, с соседками различного вида и возраста и, когда затем встречал наверху, посреди шезлонгов и шлюпок, представителей этого своеобразного стада, всякий раз вежливо приподнимал свое кепи. Была интрижка с какой-то чахоточной миллионершей, вся меланхолия которой, дурацкие платья, неприличные декольте, невыносимые духи, чудовищных размеров перья на шляпах, конечно же, оказались наивной приманкой стареющей щуки. Изо всех сил он пытался отвлечься – и поэтому уступил, но, увы, не отвлекся. Таким образом, все путешествие маячили перед его тоскливым взором вялые прелести богатейки, а кроме них – птицы-фрегаты, дельфины, береговые кромки, порты, ржавеющие суда, рыбные рынки, исторические развалины, экскурсоводы, кипарисы и пальмы. После сделанного открытия, эмпирически подтвержденного (бежать с Земли некуда: душа упорхнет, а его неизбежно зароют), несносные города, которые N со скукой проехал, и вознесенные к недосягаемому небу их купола и башни казались ему одинаковыми. Человеческие толпы, машины, мотороллеры и велосипеды, при всем их внешнем многообразии, – тоже.
XXXIII
Психолог не отступал:
– Сражайтесь с унынием, батенька.
N сражался. Желая хоть как – то воспрять и хоть чем-то заняться, он затеял свой бизнес, который по всем экономическим правилам даже не через месяц – через неделю неизбежно должен был прогореть. Чтобы у новоиспеченных коллег не создалось впечатления, что их начальник весьма нервозен, N прикладывал все усилия для создания образа босса: удивительно, но ему удалось приклеить к себе маску непроницаемости – и с тех пор, напрягая оказавшуюся весьма недюжинной волю, N делал все возможное, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем (за исключением доктора) ее не сдирать. Опять-таки с благословения дока он пристрастился к куреву. Ни на минуту не отключая сигаретный конвейер, прихлебывая из бутылки, новоявленный деловой человек работал ночами, доводя себя до исступления, в котором (как он надеялся) толчки не могли бы его испугать. Дело, вопреки всем канонам, не прогорело – и вообще, чем более N ощущал бесполезность работы, чем легкомысленнее относился к результату («все равно помру», «я лишь тюрьма для нее» и т. д.), тем более фирме везло: деньги множились, словно на дрожжах поднималась доходность. Тогда он продал дело и затеял новое, вложившись в вовсе немыслимое предприятие, – к собственному изумлению N и зависти многих, его победное шествие как дельца продолжалось.
XXXIV
Врач не удивлялся визитам (то редким – проскочило даже несколько лет, в которые очередные жена и бизнес почти полностью N захватили, то слишком частым). Психолог был готов постоянно подбадривать пациента. Материально утешителя не обижали, хотя тот твердил вполне искренне, что заинтересован прежде всего феноменом. Однако знаток этой в высшей степени неординарной болезни не отказывался теперь уже и от пухлых конвертов, а лихорадочный N признавался себе: кое-какие советы все же действительно помогают.
XXXV
– Лыжи, батенька, горные лыжи, – был новый клич неунывающего специалиста.
N внял лечебному голосу – четвертая по счету спутница жизни потащилась с ним в горы, там и случилось ужасное: на спуске, на глазах у подруги, он внезапно съехал с маршрута (хотя еще секунду назад вертелся на трассе), яблочный румянец, утвердившийся было на щеках, уступил место белилам, N держался за бок; он настолько перепугался, что последствия себя ждать не замедлили, скрыть растерянность не удалось. Женщина, посчитав справедливо, что поставщик ее драгоценностей накануне инфаркта, ни о чем не хотела и слышать, так что владелец нескольких магазинов и фирм вынужден был дождаться спасателей, аварийного спуска, переезда (с мигалкой) в клинику, бесполезного рентгена и консилиума, кстати, уже давно позабывшегося, который ничего у него не обнаружил.
XXXVI
Через несколько дней, вдалеке от гор и курортов, подавленный N вновь ощущал всем своим седалищем жесткость знакомого кресла, а спаситель барабанил все по тому же стеклу. Врач смотрел на толпу внизу.
– И что же вас встревожило?
– В последнее время она начала как бы петь… – плакал N.
– Петь?
– Да… Но как-то странно, на одной пронзительной ноте… Днем звук тонкий, почти ультразвуковой, но ночью… Мне сложно выразить… нет, подобное не передать.
– Когда началось?
– Я уже вам отвечал. На склоне той самой горы. Внутри что-то вскрикнуло, а потом взяло и запело. Я привык ко всему, но тут… я попросту впал в ступор, док.
– Пение слышите постоянно?
– Нет.
– Оно не дает вам спать?
– Дело в общей усталости. Мне до чертиков надоело.
– Не обращайте внимания, – совершенно не слыша мольбы, гнул свое психолог. – Выполняйте рекомендации. Отвлекайтесь на что угодно.
– Я хочу просто жить, – признался N. – Как все они там, внизу. Как вы. Как ваша коза-секретарша. Хочу смотреть детективы, кататься с проклятых гор. У меня есть бизнес и женщины. Но она мне мешает, – страдальчески прошептал он. – Просто чертовски мешает. Вы даже не можете представить, как она мне мешает. Я хочу жить, жить, обыкновенно жить… – уже изо всех сил саданул кулаками N по подлокотникам кресла.
– Пока ничем не могу помочь, – признался врач. – Оптимистично намекаю – «пока». Вам придется смириться. Впрочем, согласитесь – с этой прилипчивой штукой вполне можно ладить. Вы же, голубчик, не умерли? Не драматизируйте, не впадайте в истерику. По большому счету, есть лишь некоторые неудобства.
– Некоторые? – N выронил сигарету. – Постоянное ее присутствие, шевеление там, за ребрами, а теперь еще голос! Да вы надо мной смеетесь!
XL
Взбешенный, внизу он не стал садиться за руль. Бросив авто, он оказался на улицах-стрит-авеню (а эта, как назвал ее док, прилипчивая штука в нем едва слышно пела). Он поначалу бежал, разбивая толпу, потом шел, потом брел бессмысленно, пока не наткнулся на одного из тех говорунов, которых с постоянным успехом ловят в свои объятия религиозные секты, заставляя их затем твердить на всех перекрестках старые незамысловатые истины.
– Спаси свою душу! – прокаркал ему неофит-проповедник, звеня протянутой в кружке мелочью. – И жертвуй на наш Дом спасения.
«Допустим, я спасу ее, – горестно думал N, пожертвовав. – И она улетит, спасенная. Но как же я? Я останусь, распотрошенный».
XLI
Теперь, имея свою внутреннюю певичку, N с тоской привыкал к ее пока еще едва проклюнувшемуся голоску («А-а-а-а-у-у-у!» – временами жалобно ныло в нем). Болезнь, без сомнения, прогрессировала: несносная псюхэ набирала силу, вызревала, как плод, увеличивалась в размерах. И хотя ни один рентген по-прежнему ничего не мог подтвердить, N не сомневался: внутри его обитает чудовище, для которого извращенным удовольствием является желание постоянно теребить и тревожить. Он начал подозревать – толчками и пением дело не ограничится.
XLII
Что касается существования, N женился и разводился, смиренно делил имущество, обеспечивал своих отпрысков, были кризисы, были подъемы, вот уже появилась на его затылке тридцатилетняя лысинка, а затем, не успел бизнесмен опомниться, как, отвоевав порядочное пространство, эта посланница зрелости принялась во время его редких отдыхов на океанских пляжах отражать собой солнце. Ни друзьям, ни подругам даже не заикаясь о тайне, N работал с удвоенным рвением (беспристрастность его по-прежнему вызывала у всех восхищение и желание подражать). Лет через пять позвонив врачу, сверхуспешный владелец не только магазинов и фабрик, но и целой сети ресторанов извинился за былую несдержанность.
– А я уже хотел вас разыскивать! – прокричал тот в ответ. – Медицина на месте не топчется. Прогресс – вещь поистине удивительная. Потерпите еще немного, занимайтесь своими делами: выпивайте, таскайтесь за юбками. Кстати, поет по-прежнему?
XLIII
Да, псюхэ пела, и, после того как ее заунывные причитания стали уже постоянны, визиты к доктору возобновились. Во время одного из них, случайно прибыв пораньше, N столкнулся в приемной с желтым, сморщенным человечком. Это воплощение скорби (глаза кричали о всемирной тоске), пролаяв свои извинения, стиснуло зубы и тотчас растворилось за дверью.
XLIV
Подскочившая секретарша потянулась к селекторной связи. Поздно! N уже был в кабинете.
– Очень тяжелый случай, – замешкавшись, но стараясь не отводить взгляда, отвечал смущенный его неожиданным появлением психолог.
– И чем же он так тяжел? – настаивал N, подозрения которого при виде растерянности эскулапа не удвоились, а утроились.
– Послушайте, есть врачебная тайна.
– Не уходите в сторону. Я прошу вас. Я умоляю… Хотя бы в общих чертах…
Психолог взял себя в руки, вновь расплывшись в прежней улыбке.
– Напрасно вы расстроились, батенька! Спешу успокоить – дело то совершенно частное… вам подобное не грозит…
– Прекратите водить меня за нос… Я же чувствую.
– Сожалею – медицинская этика.
– Док. Три слова… Хотя бы намек…
– Хорошо. Чтобы вас успокоить… Вы поймите меня, голубчик: есть, конечно, и аномалии в протекании нашей болезни. Ничего удивительного – несмотря на общие, характерные для недуга симптомы, псюхэ каждого индивидуальна. Признаюсь, у некоторых моих пациентов существуют определенные трудности. Что касается вас, еще раз подчеркну: вам не стоит и беспокоиться.
– Вы опять не сказали главного.
– Хорошо, хорошо, хорошо… Напугавший вас господин – пример того самого, скажем, не совсем обычного протекания.
– Ближе к делу! – воскликнул N.
Он настаивал, он умолял – и психолог махнул рукой, не стирая со своей физиономии обволакивающей улыбки. Однако превратившегося в саму чуткость N подобный оскал – это явное воплощение фальши – окончательно насторожил.
– Что касается этого господина, душа с ним попросту разговаривает, – неохотно признался врач. – Более того, приказывает ему. Навязывает, так сказать, свои взгляды… Синдром чрезвычайно редкий! – тут же торопливо добавил он. Однако N не обратил на окончание фразы никакого внимания.
– Душа говорит?
– В исключительной ситуации! В самой что ни на есть исключительной!
– То есть псюхэ ко всему прочему подает человеческий голос? – пресек встревоженный N попытку психолога замять неудобную тему.
– Я ответил: не в вашем случае!
– А в чьем случае, милый док?
– Вы же видели сами в чьем! – Врач, как мог, сохранял добродушие, тем не менее выбивая пальцами по краю стола мелкую дробь.
N уже нависал над ним:
– Значит, она еще и общается?!
– Напомню: вам не стоит бояться.
– Что же она приказывает?
– Я сказал: вы можете не беспокоиться!
– Что псюхэ навязывает этому жалкому господину?
– Весьма дурацкие вещи! – наконец рассердился доктор. – Раздать имущество, ходить в каком-то там рубище. Да стоит ли вас отвлекать?! Я сказал: та проблема, конечно, серьезна, но касается только его…
– Странно, но вы меня никогда не знакомили с товарищами по несчастью, – бормотал потрясенный N.
– А зачем? Что вы можете поведать друг другу? К тому же не сомневаюсь – контакты подействуют на вас угнетающе. Зачем лишний раз напрягаться? Не устаю утверждать: вы один из самых легких моих пациентов; об одном только умоляю – терпите. Изыскания в нашей области внушают мне оптимизм. Прорыв неизбежен – два-три года, и я вас обязательно вытащу. А пока, мой расстроенный друг, остается работа и спорт… Отвлекайтесь на что угодно: на спиртное, на скачки, на боулинг, на воскресные барбекю. Ждите, ждите, ждите, голубчик…
XLV
N послушался – выхода не было. Он уныло торчал на скачках, он устраивал барбекю. Часто бросая машину, он бродил, потерянный, в каких-то беспросветных трущобах. Между тем пение псюхэ становилось наглее и громче. И чем более док излучал уверенность, напирая на «технологии» и на «прорывы в науке», тем более N убеждался – разглагольствования об «изысканиях» есть всего лишь хорошая мина: именно с подобными разговорами вкупе с благостным выражением лица любой уважающий себя терапевт наклоняется к пациенту, на будущее которого не поставит фишку даже самый сумасбродный игрок.
XLVI
Оставим за скобками усилия, которые N потратил на то, чтобы втайне от благодетеля разыскать человека, устроившего ему своим незабываемым видом такой полноценный нокаут. И впрямь, зачем описывать лихорадку долгих, упорных поисков: суть опять-таки в том, что «тяжелый случай» наконец-то был найден, встреча оговорена, и вот N сидел уже в темной комнате совершенно пустого дома (стул под ним, табурет под хозяином). Жертву псюхэ скрывал сострадательный мрак.
XLVII
– Задавайте свои вопросы, а затем проваливайте, – проскрипело из темноты.
– Поначалу она неактивна? – произнес настороженно N. – Незначительные толчки?
– Да, – раздался все тот же скрип.
– Проходит несколько лет. Года два-три. Возможно, пять. Шевеление учащается?
Желтый сморщенный человек согласился.
– А затем несносная псюхэ начинает тихонько петь?
– Да, – кивнула в ответ темнота.
– Что потом? Я хочу это слышать?
– Вы хотите узнать, что потом? – Смех рассыпался, как горох; нехорошее «хе-хе-хе» поскакало по всем углам; N вспотел в ужасном предчувствии. – Удивительно! Невероятно! Неужели еще не поняли? Да вы же сидите напротив собственного будущего. Что ж, признайтесь – оно неприглядно, у него отвратительный голос, вид его вызывает, по крайней мере, сочувствие. Впрочем, как еще может выглядеть правда? Как всегда, безобразно.
– Я хочу знать все о болезни, – подтвердил побелевший N. – Моя псюхэ заговорит?
– «Заговорит»?! – передразнил вопросителя мрак. – Черт возьми, вы прелестно наивны! Она не просто заговорит, она… Ладно, не стану лукавить, лучше сразу бабахнуть – по-мужски, беспощадно, мгновенно. И самое главное – честно. Рассчитываете на откровенность? Примите ее в лицо, как револьверную пулю!
Человечек закашлялся, N застыл на скрипучем стуле. Темнота вскоре вновь продолжила:
– Вы – в начале кошмара, а я уже приближаюсь к ожидаемому концу. Доктор не виноват – простите ему его оптимистическую, совершенно бесполезную ложь. Он человек, который не в силах помочь ни мне, ни вам. Итак, вы абсолютно правы в своей тревоге – та, что проснулась и, судя по всему, уже продрала глаза, неизменно себя проявит! Пение – это цветочки, прелюдия. Не сомневайтесь, скоро она возьмется за вас уже основательно: поначалу закричит, застонет, а затем начнет терзать и физически. Ваши действия? Ну конечно же, перепугаетесь – будут томление, судорожные попытки найти хоть какой-нибудь выход. Допускаю – от приема лекарств, к примеру особо целительной хрени, которую посчастливится разыскать (если еще посчастливится!), она ненадолго отстанет. Отпустит, как говорится. Возможно, на время вам даже станет полегче, но не обольщайтесь – настоящие мучения не за горами. Какое-то время еще побарахтаетесь, посопротивляетесь, постараетесь себя контролировать, скрывать от всех свое истинное состояние, но, какой бы сильной ни была ваша воля, проде́ржитесь недолго: ваша жизнь рухнет, словно разбиваемый экскаваторной гирей старый и дряхлый барак! И тогда вы запаникуете! Вы ухватитесь за алкоголь – за единственного союзника, впрочем, тоже весьма бесполезного. Да, немного скажу о снах – они сделаются ужасны! Даже в собственных сновидениях вы не избавитесь от ее дурного присутствия, она будет довлеть над вами. А затем – бессонница… тик, неврозы, тупая тоска… И наконец, момент, которого вы уже сейчас подсознательно боитесь, – здесь иллюзий быть не должно. Все случится внезапно – с какой-нибудь абракадабры, простого набора букв – так ребенок бубнит и мямлит, пока не вырвется из него самое первое слово. Учтите – псюхэ учится быстро: вымолвив «а», она неизменно ляпнет и «б», и не успеете глазом моргнуть, как она не только заговорит, она начнет от вас требовать самые немыслимые, невыполнимые вещи – и вот здесь-то сами вы запоете! Вы, как заяц, заскачете! От ее тошнотворной морали с тех пор не скроетесь, не сбежите и ничем не забаррикадируетесь. Она оседлает вас: шагу не ступите без благословения – даже в малом, даже в микроскопическом. О, она великий морализатор – так поднесет свои истины, что ни пикнуть, ни шевельнуться! И чем больше она укрепится, тем более будет разрушаться ваша плоть… Впрочем, что говорить – вы меня уже видели. Оглянитесь вокруг – в этом доме уже нет вещей. Я раздал «все свое» всякому нищему сброду…
Помолчав, человечек продолжил: он действительно был беспощаден, он рубил теперь фразу за фразой, нисколько не заботясь о впечатлении, которое они произведут на съежившегося правдолюбца, резал вещи немыслимые, невозможные, не укладывающиеся в голове – о болезни мучительной, неизлечимой и свирепой не менее (а может быть, и более!), чем рассеянный склероз или разящая, словно стилет, саркома. Откровения эти приклеили гостя к его неудобному стулу.
– Что в конце?
Вновь посыпался смех-горох:
– Спросите у тех, кто до нас с вами посещал нашего славного доктора, подставляя уши для его дурацкой лапши, а затем сам пытался от псюхэ всеми способами отделаться, сломать ее, вырвать из ее цепких лап самое главное – право на собственное существование – ведь она ничего, ничего не позволит… Вы, как я понял, имеете свободное время, если не поленились разыскать меня в этой дыре. Отыщите теперь ради собственного интереса и кладбища, на которых упокоились наши с вами друзья по несчастью. Их борьба плачевно закончилась: кто купил себе браунинг, кто выбрал подтяжки…
– А если ей не противиться? – перебил лихорадочно N. – Смириться, в конце концов попытаться сосуществовать?
– Хотите безмолвного рабства? Серой, скучной, унылой жизни, в которой все, что было вам дорого, не имеет на возрождение ни малейшей надежды? Желаете прозябания, в котором вы связаны по рукам и ногам идиотскими правилами? – Человек в углу задохнулся.
Тишина накрыла комнату настоящей надгробной плитой.
– Убирайтесь! – закончил аудиенцию сморщенный желтый сверчок. – Я и так сказал слишком много… Поверьте, мне жалко вас – мог бы и промолчать, но, с другой стороны, вы жаждали правды! Что же – как видите, я не доктор, способный лишь на полагающуюся ему по штату откровенно казенную белиберду. Поэтому, думаю, дальнейшее общение не имеет ни малейшего смысла: ваше будущее вам известно.
XLVIII
– Борьба, борьба, беспощадная с ней борьба, – бичевал сам себя вконец перепуганный N. – Нужно использовать самый малый, самый ничтожнейший шанс: не расклеиваться, не сгибаться! К черту дока-говоруна… Если психиатрия бессильна, есть гомеопатия, священники, колдуны… Да, да, почему бы не магия? Почему не всесильные вуду?
XLIX
Первым делом он проклял психолога. Затем началась беготня, лихорадочная, бестолковая (доценты, профессора, академики). N, уже не стесняясь, раскрывал свои карты неврологам, нейрофизиологам, нейрохирургам, гомеопатам; кто пугался, кто выслушивал с тем сердобольным вниманием, с которым обычно обхаживают душевнобольных, но везде, во всех этих уважаемых кабинетах и частных домах, результат был один – фиаско. Впрочем, можно понять почтеннейших профессионалов (молодых, пожилых, престарелых, гривастых, лысых, бритых, небритых, с бородкой клинышком, с экстравагантными бакенбардами и эспаньолками): в их уставшие от вида разнообразных недугов (грыжи, аппендициты и опухоли) глаза вперивался отчаянный взгляд субъекта, который в свои тридцать с небольшим лет, на всеобщее докторское удивление, был физически абсолютно, безапелляционно здоров. Более того, и с точки зрения психиатрии (если оставить в стороне его лихорадочные и совершенно неприемлемые свидетельства о столь в высшей степени темном предмете) N казался им адекватным (не последняя роль их клиента в мире, который менее всего терпит сумасшедших, являлась тому подтверждением).
Так что реакция на откровенность оказалась вполне предсказуемой: вновь самыми всевозможными способами, при помощи испытанных и только-только разработанных новейших технологий, были просвечены его внутренности – печень, легкие, селезенка (и ничего, ничего не найдено!), тщательно – для окончательного успокоения – исследованы кровь, моча, экскременты (и прочее, прочее, прочее) – с тем же обнадеживающим результатом. Тем не менее полный слез и отчаяния N описывал им болезнь, в природе попросту не существующую, страстно свидетельствуя об обитающем в нем фантоме, о незримом, словно нейтрино, нечто.
L
Врачи сделали все, что могли. Среди них встречались неисправимые скептики; находились и те, кто все же пытался разрубить этот узел и хоть как-то облегчить положение. К сожалению, чистосердечные помощники рано или поздно скатывались к единственному диагнозу: их, вызывающие у N горькую оскомину, одинаковые рассуждения о неврозах, болезненном воображении, навязчивых состояниях, имеющих обыкновение опутывать с головы до ног особо впечатлительных людей, не оставляли ему ни малейшей надежды на помощь с их стороны. Однако еще какое-то время N отчаянно бился обо все эти двери, с жаром отнимая драгоценное время у «эспаньолок» и «клинышков», прежде чем иллюзии наконец-то не сжалились над ним и его не оставили.
LI
Пришла пора медицины нетрадиционной. Стиснувший зубы N посещал места, о которых профессора отзывались если не презрительно, то с изрядной долей снобистского скепсиса. Настоящим рассадником фитоаптек и прочих подобных нор со сбивающим с ног у самого входа запахом благовоний являлись, конечно же, чайна-тауны: там, в бесчисленных полуподвальчиках, страждущим всучались растолченные в ступе минералы и миксы из птичьих пометов. N послушно скупал мешочки с изображениями пагод, будд, бамбуковых рощ, вислоусых, гривастых драконов, а затем глотал все эти таблетки, капсулы, шарики, скрупулезно следуя набросанным иногда даже на газетных обрывках правилам их приема. Конечно же, ничего не помогало, но N продолжал залезать в фитощели.
LII
Упрямство страдальца самым удивительным образом было вознаграждено: вид посетителя, заглянувшего в очередную аптечку, заинтересовал хозяина лавки; черепаха поспешила навстречу и, неожиданно крепко схватив виски гостя ломкими, словно стебли старого камыша, пальцами, приблизив к своим совершенно довольным жизнью столетним прищуренным глазкам его затравленные глаза, настояла на снадобье. Развязав мешочек, чтобы увидеть средство, N едва не свалился от запаха. Тем не менее, как и прежде, он выслушал рекомендации (утром, в полдень и вечером щепоть на сто граммов спиртного) и спрятал покупку в карман.
LIII
Результат был ошеломляющим!
LIV
Взорвавшийся от радости N то и дело с тех пор добавлял лекарство в текилу, своим круглосуточным пьянством вызвав ненависть новой подруги, – впрочем, N плевал на нее: порошок оказался спасением. Моментально отдалившись от дел, он закрылся с тех пор в своей спальне, самым категорическим образом никого туда не впуская, и впервые за тысячу лет более-менее выспался. Внезапное счастье стоило расставания с пятой по счету женой. Двери чуть было не треснули за уходящей, однако N не заметил демарша. Еще бы! Душа перестала петь. Более того – она не стучалась. Какое-то время N не мог поверить метаморфозе, затем, упав на колени, целовал бутылку текилы.
LV
Доза следовала за дозой, и (какое блаженство!) эликсир побеждал: еще вчера ликующая, подминающая его под себя псюхэ явно теперь загибалась. Движения ее замедлились, толчки становились все тише – она впала в оцепенение, в летаргию, в глубокую кому. Не прошло и недели, как теперь лишь при самом дотошном «зондировании» и «прослушивании» подреберья N улавливал слабый пульс. Когда душа вовсе обмякла и почти перестала дышать, N принял двойную порцию, затем, не утруждаясь звонком, на первом подвернувшемся бумажном клочке нацарапал послание партнерам по бизнесу, отослав его с заспанной, поднятой ранним утром прислугой, и после еще одного глотка освященной зельем текилы совершенно исчез из поля зрения и друзей, и встревоженных родственников. Напрасно искали его компаньоны. Никто из окружения N не мог и подумать о злачных кварталах, однако, то и дело подсыпая в стаканы и рюмки чудодейственного порошка, он жил с тех пор именно там, и в глазах его рябили барные стойки, мелькали салоны, дрожали фривольные вывески. Пройдохи таксисты приветствовали N, словно брата; швейцары при появлении благодетеля все, как один, отдавали честь, вспоминая военное прошлое, а затем восторженно срывали фуражки со своих обритых голов; шлюхи, облепившие N, словно мухи липкую ленту, в унисон с сутенерами готовы были визжать от его невиданной щедрости, и после каждой встречи с этим явно сорвавшимся с цепи денежным сеятелем стриптизерши по полгода могли не работать.
LVI
Перемещаясь из борделя в бордель, N и сам не ожидал от себя такой прыти. Проживая теперь каждый день, как год, временами, к удивлению очередной разнаряженной девочки, он плакал от радости, не в силах до конца осознать свое столь внезапное освобождение. Однако факт оставался фактом – то, что сделало его несчастным, развеивалось и исчезало («Я добью ее, я знаю теперь, чем добить», – твердил он себе).
LVII
Однажды за столом казино хмельной от удачи любитель покера привычно сунулся за щепоткой (полный стакан был рядом), но ни единой крупицы уже не смогли нащупать сразу сделавшиеся непослушными пальцы. И здесь-то забившаяся в угол своей тюремной камеры, казалось бы, окончательно приговоренная к немоте душа неожиданно закричала. Это был страшный крик. N схватился за уши. Псюхэ не переводила дыхание. Мгновенно забыв о выигрыше, с первым попавшимся навстречу таксомотором лишенный волшебного зелья Урфин Джюс бросился было за помощью, пытаясь срочно добраться до открывшегося ему месяц назад Сезама, и тут же с ужасом осознал – он не помнит туда дороги.
LVIII
Целый год затем N прочесывал четырежды проклятый район с остервенелостью полицейской овчарки, навещая уже мясные, фруктовые и рыбные лавчонки (их добродушные хозяева, с одинаковой приветливостью выползая из-за прилавков, неизменно его огорчали – никто из них о подобной аптеке и слыхом не слыхивал). Забираясь в самые дебри, безуспешно опрашивая всех, кто попадался в той глуши, N вгонял в оторопь молодых и старых прохожих сбивчивой речью оказавшегося на мели наркомана. Поиски упирались в самые безнадежные тупики, душа вопила как резаная, а когда она ненадолго смолкала и вконец загнанный N засыпал, настоящей горькой насмешкой открывалась ему в коротком пугливом забытьи та вожделенная дверь: азиат каждый раз улыбался, но руки дающего оказывались постоянно пусты, а рот – неизменно нем.
LIX
N раздобыл подробные карты: все свои оставшиеся силы он бросил на обнаружение желанной фитоноры. Любой подвизающийся на поисковых работах специалист восхитился бы такой подготовкой: предполагаемая территория была поделена на квадраты, затем на квадратики, затем на точки, которые окончательно забросивший и работу, и близких N исследовал чуть ли не с лупой. Тщетно: явившись из иного пространства лишь для того, чтобы на мгновение показать беспечальную жизнь, аптека с лукавым спасителем безвозвратно исчезли. Но и этого непродолжительного ощущения запредельно-крылатой свободы оказалось достаточно. «Я точно знаю теперь одно: если не продолжать борьбу, не взбивать, как лягушка в бадье с молоком, лапками масло – псюхэ погубит меня, – думал N, морщась от почти неумолчного крика своей расходившейся узницы (зажимать уши было бесполезно). – Нужно во что бы то ни стало, любой ценой заглушить и заткнуть ее».
LX
Перед тем как связаться с магией, он все-таки дрогнул, на какое-то время повернувшись к церквям, но деловитый пастор первой попавшейся кирхи, которого своей просьбой N отвлек от подсчета пожертвований, невозмутимо сунул пришельцу брошюрку «Как самостоятельно разрешить проблемы с духовными неприятностями». Православный же старец (в его келью с большим трудом доставили удрученного N) закричал на просящего и затопал, грозя кулачком:
– Ты кого из себя изгоняешь? Вон отсюда! Немедленно вон!
LXI
Деньги делали чудеса; деньги все ему позволяли – Лхасу, Пури, Иерусалим и полет до мечетей Коканда: там владетель воздушного лайнера (реактивной изящной ласточки) исповедался – вновь весьма опрометчиво! – смахивающему на тысячелетний чинар седому провидцу-мулле, одним отчаянным махом выложив правоверному мусульманину историю о невыносимом крике гнездящегося внутри демона и не менее страстно пожаловавшись на равнодушие Неба, Бога – кого угодно! – равнодушие, из-за которого он незаслуженно, несправедливо страдает…
LXII
Престарелый даос был более снисходителен к посетителю, из последних сил докарабкавшемуся до затворнической хижины (склон почти неприступной горы), но ответил крайне запутанно:
– Всякий, даже самый истошный, вопль лучше замкнутых уст, ибо (не будешь ведь отрицать!) молчание есть первый знак наступившего небытия… Кроме того, позволь мне заметить, напрасно ты проклинаешь Небо за ниспосланное испытание. Конечно, можно сетовать на какую-то там несправедливость, но запомни: если подобным образом гневаются небеса, значит – не все потеряно. Определенно, им ты еще нужен, и они обращают внимание на тебя, как на глупенькое дитя. А дитя, как известно, вразумляют даже с помощью палки и розог. Сын мой, бойся не гнева Неба – бойся часа, когда исчерпается его родительский пыл и оно навсегда замолчит. Тишина необъятных небес – вот где истинное проклятие!
– Значит, если облака надо мною изрыгают громы и молнии, готовы меня затопить, растерзать своим градом или зашвырнуть ураганом за горизонт, то они непременно любят? – издевательски спрашивал N у несомненного сумасшедшего.
– Получается, именно так! Слушай небо, сынок! Слушай небо!
LXIII
N бежал от подобных умствований. Впрочем, с таким же успехом он искал спасения у неспешных тибетских лам. Синтоизм был бесполезен. Каббала не помогла. И вот, словно серые духи, принялись, возникая неизвестно откуда, один за другим топтать порог его оказавшегося в запустении дома экстравагантные колдуны. Цепляясь за эту соломинку, N послушно пил спирт с измельченными в нем позвонками бенгальского тигра, виски с растворенными семенниками изюбря, а также особый настой новозеландской валерианы, одна капля которой делала неисправимым алкоголиком любого кота. Несмотря на конфуз с валерианой, изюбрем, а также с невероятными трудностями доставленной из Ботсваны мочой слона-альбиноса, целители не унимались, передавая пациента друг другу, словно эстафетную палочку. Благословляемый ими N неустанно с тех пор мотался в Непал и Конго, целиком погрузившись уже в океан колдовства: там, как и в медицине, то и дело попадались шарлатаны и дураки, разница была только в том, что все эти вуду и брухо прекрасно знали, о каком постояльце в его организме идет речь и с кем им, представителям тьмы, приходится не на жизнь, а на смерть бороться. Так что и белые знахари в цивильных костюмах, и перемазанные обрядовой краской конголезские негры, помогая себе заклинаниями, пытались вывести душу, словно поселившегося в N солитера. Они применяли всевозможные средства, включая рвотное, которое их клиент послушно, без всякой пользы, лишь вконец истощая себя, глотал. Душа в нем, слабея на время от очередного заговора и кожесдирающей мази, вновь затем поднимала крик, и вновь за прорицательницами становились в очередь ведьмы, за ведьмами – ведьмаки, за ведьмаками – прокуренные с головы до пяток индейцы.
Мадагаскарский кудесник чуть было ее не выманил при помощи дудки и сплетенных из конского волоса хитроумных силков. Привязав обмякшего N к узловатому огненному дереву в самом тигле тропической чащи, вставив в безвольный рот его тростниковую трубку, длиной напоминающую трембиту, и приладив с другой стороны ловушку, в тусклом отсвете дымного костерка Пан настолько тошнотворно засвиристел на нехитром своем инструменте, выдувая поистине адову музыку, что действительно псюхэ в N заметалась. Дело было теперь за малым – не сжать инстинктивно зубы и дать ей, затрепетавшей, возможность из тела выскользнуть. Однако в самый последний момент, когда, одурманенная визгом дудки, вполне ощутимым комком душа подкатилась к горлу, радуя паникой воинственного кудесника, приготовившегося на том конце тростниковой западни опутать ее волосяной паутиной, N не выдержал: он задохнулся, закрыл единственный путь невольно стиснутыми челюстями – операция провалилась.
Вернувшийся из Антананариву, едва отдышавшийся N всерьез взялся за рекомендованный пейотль, затем подоспел кокаин (душа на какой-то момент заткнулась, но сумела переварить и его) – обряды следовали за обрядами, на подходе были средства совсем уже радикальные. Все это откровенное безумство по выведению псюхэ завершилось лишь тогда, когда неожиданно опомнившийся N обнаружил себя, всего истыканного мелкими острыми рыбьими костями и выкупанного в прогорклом тюленьем жире, под кровом шаманской юрты, раскинутой в снегу где-то на совершенном краю света.
LXIV
Проиграв сражение, он бежал с того края и, кое-как подлатав расшатавшиеся от лечения внутренности, вернулся к земным делам. Удивительно, но внешне вновь все сложилось блестяще: загубленный было бизнес мгновенно воспрял и выстроился; обиды компаньонов забылись; убийственная для конкурентов способность создавать из всего, к чему этот новый Мидас прикладывал руку, настоящее Эльдорадо, вызвала такую обширную зависть, что она почти осязаемой тучей принялась клубиться над ним. После нескольких особо удачных сделок возвращенцу приклеили кличку Счастливчик, однако и своим, и чужим бросалось в глаза – и без того не особо разговорчивый «лаки-мен» окончательно замкнулся в себе.
LXV
Конечно, никто из тех, кто был вновь связан с N по рукам и ногам сверхудачной игрой на биржах, не догадывался об истинном положении дел, а они сделались отвратительны. После попыток N (бесплодных, отчаянных!) освободиться от ноши псюхэ, едва отдышавшись, принялась откровенно мстить, подвергая с тех пор его испытаниям, пожелать которые даже представителям вражеских фирм, всякий раз приветливо улыбающихся Счастливчику на благотворительных вечерах, было верхом жестокости.
LXVI
Да, мучения начались! Затихая после очередного шторма, подаваясь назад, словно пробежавшая, смявшая все, что только возможно, разрушительная волна, даря одну, две, а то и все полноценных десять минут передышки, беспощадная к N, душа поначалу едва слышно, едва ощутимо начинала возиться и хныкать, потом хныканье нарастало, переходило в плач, в почти волчий надрывный вой – затем истязательница замирала перед новым неизбежным цунами. Эта несносная дрянь принялась терзать и физически: едва ощутимое покалывание, словно она выпускала кошачьи коготки, сменилось свирепым царапаньем (N невольно стонал от боли). Все более вызывающими становились толчки. Временами ему казалось: псюхэ вообще трясет его ребра, словно прутья железной клетки, – так она разминалась, так она упорно готовилась. N не сомневался – она уже предвкушает разрушение «Карфагена», неизбежный раскол «скорлупы», а затем, после того как «тюрьма» ее распадется на прах, – полет к той бездонной жизни, о которой он лишь догадывался и которая над самыми высокими секвойями, небоскребами, Тадж-Махалом, пирамидой Хеопса, Эльбрусом, Монбланом и Эверестом в окружении звезд, планет и бесконечных галактик торжествовала над тленом.
LXVII
В шкафу-баре пыльной залы пустого, гулкого, как барабан, холостяцкого дома, куда он не впускал теперь даже столь обязательных для обслуживания коридоров и спален горничных, не переводилась текила. Коньяк и водка также чуть заглушали тоску. N взял привычку довольно часто инкогнито выскальзывать из офисов и неубранных комнат на стрит-авеню-улицы, но и там, разрезая собой, словно форштевнем, бесконечное людское скопище, продолжал оставаться жертвой невыносимо тяжелой, похожей на целую тонну свинца, зависти к бегущим вокруг настоящим счастливчикам.
LXVIII
Минуло несколько лет подобных прогулок; бизнес шел столь замечательно, что N стал видеть в подобном течении дел изощренное над ним издевательство.
Все дело в том, что внешняя жизнь Мидаса поражала благополучием: особняк, пара яхт, роскошная машина, из которой по утрам появлялся, чтобы взойти мимо сонма сотрудников к стеклянно-бетонному логову (сорок пятый этаж небоскреба; или пятый; или десятый), ослепительный небожитель (никто из попадавшихся ему в коридорах, фойе или в лифтах многочисленных подчиненных даже не мог и представить себе, что скрывается за дежурной доброжелательностью их весьма молчаливого босса). В той нормальной и внешней жизни безупречного джентльмена, как и до его поспешного бегства, окружали удобные кресла, сигареты, отчеты, сводки, чай, мате, дорогущий кофе, обходительные секретари, обаятельные метрдотели, ленчи, ужины, совещания, серфинг, боулинг, закрытые клубы (крепость рукопожатий их обитателей свидетельствовала об уважении к полноправному клубному члену). В той нормальной и внешней жизни упакованный в пиджаки самых лучших и модных кутюрье, утонченный, изысканный N не вызывал относительно своего внутреннего (почти что уже критического) состояния подозрений не только у ближнего круга, но и у самых прожженных брокеров, ибо все, что требовалось от человека, достигшего благополучия, было вновь им предъявлено обществу, и предъявлено настолько убедительно, что окружение не сомневалось – этот истинный аристократ воплощает собой успех. Наконец, в той нормальной жизни тех же вышколенных секретарш, прибирающихся по долгу службы на хозяйском рабочем столе – величественном, монументальном, покрытом старинным сукном, – не привлекала и не настораживала такая ничтожная мелочь, как выхваченная откуда-то ножницами заметка с названием «Элементы, на которые разлагается тело после своей неизбежной смерти» – а ведь ее, пожелтевшую, уже долгие годы их состоявшийся шеф держал под настольным стеклом.
LXIX
Что касается жизни внутренней – то она разрывала на части.
LXX
Усугубив болезнь попытками избавления, N чувствовал, что он пропадает: еще неделя, еще один месяц – и существо доведет до безумия. Даже в рваных, недолгих снах он не мог избавиться от предчувствия надвигающейся катастрофы и боялся уже не толчков, а того, что душа в любой момент с ним возьмет и заговорит. Теперь всякий раз, когда организм шептал почти постоянному бодрствованию свое робкое «нет», Счастливчику снилась ее проклятая речь (псюхэ требовала невозможного). Кроме того, очень часто в кошмарах N являлся себе то раздавшим имущество нищим, то катакомбным монахом – он взлетал, подобно пружине, с кроватей, диванов и кресел, на которых совсем ненадолго заставало его забытье, и бросался к заветному бару. Сердце, подобно самому загнанному двигателю, не справлялось тогда с оборотами («Если только она начнет разговор, я умру, – испуганно думал N, – я не вынесу, я сломаюсь»).
LXXI
Замотанный, удрученный, отвлекался ли он на мелочи, вызывающие даже у самого конченого человека пусть единственный, но счастливый глубокий вздох (рассвет над горными пиками, неброские васильки, сверкнувший, подобно сабле, в брызгах солнца изгиб реки, обласканное радугой небо, преломление света в хрустале на каком-нибудь скучном банкете, заискрившийся вдруг в нежно-розовом ушке дамы великолепный бриллиант)? Повернул ли хоть раз свою голову в сторону бесшабашных влюбленных, проносящихся с визгом мимо (хрупкий скутер, мопед, мотоцикл)? Замирал ли перед витриной, на которой с непередаваемой грациозностью готовятся сойти с пьедесталов вечно юные манекены? Пробивал ли его, в конце концов, восторженный трепет во время начинающегося дождя при виде всех этих капель, всех этих кругов на воде? Вопросы далеко не праздные: не могло ведь не быть вмешательства в безнадежную беспросветность той разлитой вокруг красоты, которая, попадаясь в глаза даже самым тяжелым больным, убивает их грустные мысли.
LXXII
Действительно, в один такой вечер, тяжелый, мрачный, с ослепительной веткой, протянувшейся по горизонту, и наотмашь хлестнувшим ливнем, N вспомнил даоса: разразившаяся гроза поразила его своим гневом, своей языческой поступью; потрясенный бешенством неба, он онемел и, завороженный, какое-то время следил за яростью обхватывающих, казалось, всю вселенную молний. Но свидетельствуем: это был единственный, выходящий из ряда вон случай! В остальном же, если подобное и проявлялось (свет в бокале, сверкнувший бриллиант), – лишь на ничтожную долю секунды гостила в нем та самая «полнота бытия», которой неизмеримо более долгое время наслаждались ни о чем не подозревающие «остальные». Гнездящиеся в них существа иезуитски вели себя – их коконы ни о чем не догадывались. Его же плод был настолько тяжел, настолько его зашоривал, что (за исключением уже упомянутой грозы) ни об одном полном вдохе при виде всех этих радуг, всех этих кругов на воде, скутеров, васильков и рассветов не могло быть, конечно, и речи.
LXXIII
Так угрюмый, сосредоточенный на готовящемся апокалипсисе руководитель проектов, держатель заводов и акций влачил жалкое существование, без иллюзий, без надежды хоть на какое-то ослабление боли, содрогаясь от мысли, что вот-вот прогремит катастрофический голос.
Прозвучал телефонный привет от лукавого, лживого доктора: тот, не замечая отстраненности пациента, как и прежде, твердил о науке, о «ее семимильных шагах» и просил подождать немного («еще три года, голубчик, и прошу вас, не делайте глупостей»). N едва сдержался тогда – и не взвыл, и не бросил трубку.
Вскоре он перестал трепыхаться (идея «взбивать масло лапками» навсегда отодвинулась в прошлое). Даже осознание того, что, сотворив из горе-тюремщика окончательного раба, подчинив «носителя» своим неведомым прихотям, душа затем расстанется с ним, как расстается с опостылевшим дряхлым бараком перебирающийся в возведенное на века жилище жизнерадостный новосел, в последнее время наполняло не гневом, а какой-то слепой безнадежностью. Хам-сверчок был, конечно, прав: бедный N понимал: еще немного – и псюхэ окончательно стреножит, подчинит, поведет его за собой, чтобы бросить потом и забыть.
LXXIV
Беззаботное окружение погибающего дельца, поднимая в нем всю ту же мутную зависть, жило обычными буднями: молилось, интриговало, слушало рок и джаз, преспокойно себе засыпало. И вообще, что касается будней – мир вокруг рака-отшельника, заползающего по вечерам, словно в панцирь, в безлюдный дом и записавшего в окончательные друзья весьма молчаливых сообщников – стаканы, рюмки и бокалы для коньяка, – совершал свои обороты; там бурлили какие-то войны и пузырились революции, и, когда, перебивая общение N с доброй порцией старого виски, начинал бормотать телевизор, глашатаи этого мира, мелькая в светящемся ящике, призывали вернуться к реальности («Голосуйте! Берите! Пробуйте! Защищайте леса Амазонки! Почему бы вам, милейший, не записаться на флот? Почему бы не сделать карьеру и не стать наконец президентом?! Панком?! Дайвером?! Революционером?!»). Однако напрасно убеждали они приговоренного заинтересоваться если не мини-футболом, то на худой конец автомобильными гонками или голодом в Сомали. «Мне плевать на вас, господа, – злобно думал затравленный N. – Мне плевать на пожары, бунты, на свержения, драки, митинги, на марксизм и на хламидиоз, ибо вот оно – самое важное и мучительное – дышит, бьется, давит на грудь… не сегодня-завтра оно начнет мне приказывать… и оно погубит меня».
LXXV
Да, теперь и давило, и мучило, и почти постоянно билось. Ему становилось все хуже; и чем чаще он вспоминал о беседе с желчным провидцем, тем чаще бегали в голове мысли-мыши о прочных подтяжках и надежных карманных браунингах, никогда не дающих осечки.
LXXVI
Временами N, правда, встряхивался, выкарабкивался из ямы, призывал на помощь рассудок; он даже пытался представить себе бессмертно-несносную гадину, мучительно размышляя, на кого похожа она. На летучую мышь (птеродактилиевые перепонки)? Капризного ангела (Израиловы глаза)? Утонченного эльфа (острые уши-хрящи)? Чертова лепрекона, когти которого временами так садистски царапают плоть? Она многорука, как Шива? Многонога (сороконожка)? Имеет серафимовы крыла? У нее лицо? Или лик? Или наглая лисья морда?
Воображение проникало в тесную клетку, где, сжатая со всех сторон переплетением сосудов и нервов, душа столько лет ворочалась. N мог мысленно нарисовать эту камеру, все детали ее, все подробности, но вот облик существа неизменно от него ускользал.
LXXVII
Пребывая в подобном бреду, он тащил бесполезный бизнес, он подписывал, распоряжался, проводил совещания фирм – однако внешняя жизнь, подобно сносимому зданию, уже необратимо сыпалась по всему своему периметру: N не мог скрыть от офисной черни постоянного нервного тика. В последнее время даже на людях, при малейшем движении псюхэ джентльмен начинал потеть; он сбивался, путался в речи; очевидцы участившихся приступов заметно смущались, однако страху, окончательно подмявшего N под себя, было плевать на свидетелей.
LXXVIII
Особо мучительным днем, не продержавшись и часа в телефонно-гудящем офисе, переложив все, что можно, на вспотевших помощниц, более того, совершенно позорно, неприемлемым лепетом открестившись от заседаний, он выскользнул на улицу-стрит-авеню – и был, конечно, таков!
Уносясь со стомильной скоростью в единственное убежище, в ту самую раковину, на хромированном символе тотального благополучия перелетая мост (через Гудзон, Волгу, бухту Золотой Рог, впрочем, какая разница!), заглядевшись в близкую воду, N сказал вдруг себе самому: «Почему бы разом не кончить со всем этим чертовым джазом? Моментально, мгновенно… Почему не влепиться в столбы, не пробить ограждение?.. Давай же, давай поверни, сделай, если кишка не тонка, уважаемый мистер Мидас!»
Он дрожал, он вцепился в руль.
LXXIX
«Хорошо, – думал N чуть позднее, испугавшись собственной трусости (готовый не только грызть ногти – откусить себе пальцы от скрутившей его тоски), – если у меня не хватает на это пороху, может, кто-нибудь, сам того не желая, мне поможет убраться? Как? Да вот как: представим себе, кто-то рядом, будучи за рулем (компаньон или, допустим, шофер?), проморгает встречный транспорт! не впишется в поворот!»
«Стоп! – подумал он, содрогнувшись. – Если даже найду я водителя безалаберного, безответственного, где гарантия, что разобьемся? Но, допустим, мы все же врезались… Автоавария (пусть даже самая страшная) не панацея… Вдруг я превращусь в паралитика, в обездвиженный вялый “овощ”?!. Нет, здесь нужно средство покрепче: чтобы сразу, наверняка…»
LXXX
Продолжением столь неожиданных и весьма навязчивых дум явилось то, что в скрипучий от кожи салон ласточки-авиалайнера во время очередного полета N на какое-то важное сборище (совещание в Акапулько? гольф в Чикаго? ленч в Катманду?) приглашен был второй пилот.
– От силы две-три секунды, – ухмыльнувшись, ответил парень, не сомневаясь – суть беседы во внезапной мегабоязни странного и в последнее время откровенно нервного босса. – На такой высоте и скорости разгерметизация – верный способ отправиться в рай без особых душевных травм. Вы только представьте себе, – добродушно пригласил второй к увлекательным вычислениям, – десять тысяч метров над уровнем моря, скорость в час до тысячи километров. Удушье, молниеносное обледенение и мгновенный разлет на куски, на тысячи мелких осколков… Впрочем, не беспокойтесь, – поспешил тут же добавить он, – наша чудо-машинка не рухнет. Если даже подведет один двигатель, преспокойно махнем на другом. Мы же не какая-нибудь авиакомпания в этом гребаном Тринидаде: там летают одни гробы!
– Где еще они летают? – хлопнул N по соседнему креслу.
Пилот с удовольствием плюхнулся в дорогую телячью кожу и в течение получаса с нескрываемым удовольствием порассуждал о «машущем в небе крылышками» невероятном старье, с вполне ожидаемым риском ежедневно и ежечасно перевозящем по всей планете миллионы ни о чем не догадывающихся олухов, о разгильдяйстве авиалиний, о бесчисленных взятках при сокрытии промахов, жульничестве и откровенном втирании очков. Что касается происшествий – они были коньком информатора! Что же: откровенный болтун мог дать полную волю своим собственным размышлениям – угрюмого, словно средневековая крепость, N заинтересовало и пьянство, и внезапный инфаркт за штурвалом, и дефекты различных систем. Любопытство хозяина лайнера было более чем удовлетворено: взрывы топливных баков, падения на взлетах и посадках со стопроцентно смертельным исходом, внезапный отказ электроники – рассказчик не замечал, что особенно внимательно его именитый слушатель ловит ключевые слова «мгновенно» и «молниеносно».
LXXXI
Не прошло и недели, как срочно слепившийся совет озадаченных директоров империи «лаки-мена» решал, в какую сторону направить усилия фирм после того, как генератор всех их гигантских замыслов неожиданно растворился. Его искали в борделях, но человек, имя которого с такой горечью произносилось все теми же компаньонами, намертво спаянный с фляжкой первоклассного коньяка, «соткался из воздуха» именно в Порт-оф-Спейне. Реальность превзошла ожидания – первый же попавшийся «боинг», судя по виду, с размахом отпраздновал тысячелетие (на откровенную ржавчину уже не тратили красок). Блин вышел комом, однако скорость и высота действительно были внушительны, а летчики великолепны – чего только стоили расслабленная болтанка, а затем (ребята словно проснулись) стремительное, росчерком стрижа, пикирование в полном тумане на взлетную полосу океанского островка. После того как, подобным образом плюхнувшись, крылатый ветеран едва не отбросил шасси, в N еще более укрепилась надежда – с тех пор и начались его новая одиссея! небесное сумасшествие! беспрерывная кочевка по бесчисленным аэропортам.
LXXXII
Психическое отклонение путешественника, не вылезающего из самолетов, постоянно обжигающего свой пищевод сорокоградусным пойлом и заметно оживляющегося лишь при неожиданных пике, толчках и дрожании корпуса, явно было уже налицо! Гостиницы при аэровокзалах на два-три часа любезно предоставляли ему душ и кровать; география попыток свести счеты с жизнью заняла пространство от Рейкьявика до Владивостока. Хотя в расчет (в первую очередь) принимались компании самых занюханных стран, за дряхлыми «илами» и «бомбардье» которых тянулся шлейф происшествий, N не забыл о Европе! После случая с аэробусом, этим сплавом легчайших металлов и самодовольства создателей, на весь мир трубивших о сверхнадежности чуда (чудо одновременным отказом двигателей посередине Атлантики разом вычеркнуло из бытия полтысячи человек), он зарезервировал кресло на рейс следующего «лайнера-дрим» и, скрестив пальцы, в полупустом салоне совершил рывок из Парижа. Увы, но «машинка» повела себя в воздухе понадежнее швейцарских часов – нет ничего удивительного в том, что одновременно с касанием колес в буржуазно-спокойном Бостоне на фоне аплодисментов прозвучало одно проклятие.
LXXXIII
Что же! Самый странный на земле авиапассажир продолжал рассекать над нею кучевые (и прочие) облака с одной-единственной целью. И ведь два раза счастливчику чуть было не повезло (отказ электроники над напрягшимся «Кеннеди», а чуть позже лондонское кружение с целью выжигания топлива). N упрямо ждал третьего случая. Успевая отслеживать новости, касающиеся промахов авиации, в часы ожидания на разнообразных скамьях он составлял таблицы, пытаясь уловить тенденцию и точно вычислить будущую катастрофу. Вычисления эти, набросанные микроскопическим почерком в пухлой, словно подушка, тетради, на этот раз, несомненно, заинтересовали бы медиков, ранее не сомневающихся (несмотря на отклонения) в его все-таки здравом уме. Но, увы, ум был давно не здрав, ибо только помешанный мог стараться найти в хаосе сотен тысяч авиарейсов закономерность, которая позволила бы оказаться в нужное время на «приговоренном борту».
LXXXIV
Время шло. Всерьез повернувшийся N выстраивал сложные графики. Игры разума продолжались. Однажды, за час до рейса Сидней – Патайя – Бангкок, он столкнулся в баре аэропорта с еще одним мучеником (возраст данного человека здесь, конечно, совсем неважен, важна опять-таки суть). Два голодных удава уставились друг на друга. Словно битый опытный зверь, сразу же признав своего (и конечно же, не ошибившись!), N выложил как на духу историю собственной жизни; измученный собеседник отвечал не менее честно, что его состояние сходно с муками инвалида (так безногий, разглядывая обрубки, помнит: на месте протезов по всем природным законам должны быть конечности – и, не ощущая их, корчится от безнадежности); короче, тот встретившийся с N страдалец, в отличие от Мидаса, совершенно не чувствовал псюхэ! Судя по всему, у него ее попросту не было, она не свила гнездо, не облюбовала в нем камеру, и подобное обстоятельство его попросту убивало («Я на грани отчаяния, балансирую на краю и уже столько лет пытаюсь ухватить хоть малейшее шевеление, хоть намек, хоть младенческий писк, но, увы, я бесплоден, мертв по сути, внутренне каменный – и ничего не поделать, не подсадить ее, не взрастить, как жемчужину; ах, если бы мистер N мог помочь, передав свою, но такое ведь невозможно!»). N пытался ему возразить:
– Просто праздник не знаться с нею!
– Вы главного не понимаете! – вскинулся собеседник с полыхнувшим, словно уголья, жаром. – Сам по себе homo sapiens гнусен, мелок, жаден, подл! Что там говорить, он просто чудовищен! Посмотрите же, милый, вокруг! Да нас с вами нужно постоянно треножить! Следует надзирать за нами днем и ночью, утром, вечером, ежечасно, ежеминутно! Более того, необходимо самым жестоким образом отвращать нас от желаний (впрочем, какое там «отвращать» – словно мечом обрубать разбегающееся щупальцами во все стороны наше подлое эго), вновь и вновь запихивать нас в клетку, из которой мы стараемся выкарабкаться с достойным лучшего применения пылом, иначе – неминуемое превращение в монстров, в диких вепрей, в отвратительных кровососов! Кто, как не она, скажите на милость, владеет этим кнутом?
N на миг растерялся, он застыл от исповеди своей полной противоположности. Ужаленный, встрепенувшийся, он готов был выдавить из себя проклятую стерву душу, распрощаться с ехидной, осчастливить ею страждущего и самому в тот же миг осчастливиться, но увы, но увы, но увы…
– Я имею несчастье не отдать ее вам.
– Я имею несчастье не взять.
LXXXV
И они навсегда разлетелись, и еще с полгода верил не просыхающий N своим сложнейшим расчетам, однако заупрямившаяся смерть упорно его игнорировала. Долго так не могло продолжаться. Посетившее проспиртованного безумца в одном из каирских отелей внезапное просветление с явным оттенком материнского участия нашептало – решив покончить со всем этим джазом, он здорово погорячился. Оставалось признать: что касается авиации, шансов завершить ее руками свое невозможное существование у N практически нет.
LXXXVI
Он отправил в урну таблицы. Над Андами, когда крохотный, в пять посадочных мест, самолетик нешуточно залихорадило и всерьез придвинулись горы – то есть из-за проблем со штурвалом наконец свершалось то, ради чего затевалось последнее (как хотелось верить несостоявшемуся самоубийце) путешествие по странам и континентам, – с удивительной твердостью N поклялся: если этот дрожащий хлам сейчас не треснется о скалу, не создаст из себя керосиново-огненный шар, не просеет на мерзлую землю мельчайшую пыль останков – он смирится, скорчится, съежится и вернется в оставленный мир. «Давай же, падай, крушись!» – шептал бедный N молитвенно.
LXXXVII
Но, увы, этот хлам приземлился.
LXXXVIII
В то время когда остальные целовали грязный бетон, отчаявшийся, загнанный N задрал голову на стеклянное до стратосферы, до чернеющей там, на самом верху, сини, все то же даосское небо: «Ну что же, если хочешь облагодетельствовать меня, садани молнией, полей благодатью… Чего же медлишь? Дай немедленно знать о своей великой любви!»
Разумеется, небо молчало. N обреченно рассмеялся, но, однако, вот что случилось: не успел он доковылять до кромки взлетного поля – на него, на других спасенных, неизвестно откуда взявшийся, начал сеяться серый дождь.
LXXXIX
Впрочем, он не думал о даосе. Сдержав данное самому себе обещание, он вернулся, вернее, вполз в свое царство. Нет ничего удивительного в том, что, без всякого интереса со стороны монарха к собственному, во все стороны разветвленному бизнесу, от одного только его появления каким-то непостижимым образом дела вновь двинулись в гору (очередной подъем в экономике совпал с возвращением или проявилось ставшее притчей во языцех везение? как бы там ни было, о насмешке уже говорилось!). Мелочи не важны, констатируем главное: вновь с тоской оказавшись на троне, собрав последние силы на то, чтобы не дрожало лицо при каждой ее все более наглой выходке, чтобы при каждом издаваемом ею звуке конвульсии не были столь откровенно заметны настороженному окружению, возвратившийся царь не жил – он тлел, словно сигаретный окурок.
XC
В день сорокалетия он набрался все-таки мужества взглянуть на итоги барахтанья (годы существования с нею пролистались перед ним, ссутулившимся с неизменным скотчем в одном из пустынных залов мрачного айсберга-особняка). И вот в чем себе признался:
1. Выпущенные тем сморчком револьверные пули-слова превращались в дурную реальность (N отставил липкий стакан и зигзагообразным почерком труса перечислил на мятом листке запомнившиеся угрозы; внимательно пересчитав их, он зачеркивал уже сбывшиеся – так, сбылись предсказания о пытках, сбылись бессонница, раздвоение, ужас, желание скрыться от всех в пыльных залах дворца; незачеркнутыми оставались сакральные пункты: ее коронная речь и то, что должно было за этим неизбежно последовать).
2. Врач, перед которым (единственным!) скрытный N мог терять лицо, перед которым (единственным!) он был словно с содранной кожей, к которому прибегал за последней и важной поддержкой, этот самый его «избавитель», «целитель» и «старший друг» оказался бессильным лгуном. Заранее знающий, чем обернется одиссея приговоренного, док отчаянно, нагло врал; он водил пациента за нос, обещая избавление – золотой, спасительный мост. Неважно, желал ли наживы лукавый психолог-бес или из сострадания не решался резануть наистрашнейшую правду, – восторжествовало предательство, очевидный и грубый обман!
3. Личина лаки-менства разваливалась и расползалась, неспособная уже обезопасить от недоуменно-испуганных взоров и партнеров, и подчиненных. Осталось немного времени – и он окончательно предстанет перед обществом клубов, фраков, смокингов, дорогих сигар, сигарилл и набитых битком бумажников таким, каким и запечатлевали его вечерами домашние зеркала, – жалким, сморщенным идиотом, классическим лузером, полупьяным, полуодетым, то и дело хватающимся за бок при каждом ее шевелении и при каждом ее уколе.
«Что же вынес я из всех своих мучений, из своего несомненного краха? – думал N, одинокий, нахохлившийся, боязливо прислушивающийся к будущей госпоже. – А вынес вот что: я знаю теперь самую главную тайну – счастье есть пустота внутри, полная, всепроникающая, безоговорочная пустота… Чтобы быть полновесно счастливым, любому из нас необходимо взращивать, холить, лелеять ее в себе! Именно ей всю жизнь свою мы обязаны молиться как матери, как милосердному Богу! Да, да, она для всех и Бог, и мать, и все остальное… Когда homo sapiens пуст (пуст настолько, что звенит, торжествует, правит в нем постоянный бал лишь эта внутренняя Сахара), когда не ощущает не то чтобы толчков, но даже пульса (пусть самого тихого, едва заметного, едва колеблющего его сердце) страшной пришлой личинки – именно тогда и обладает он поистине бесконечной свободой, которая испаряется лишь при бунте космической твари! Пустота, пустота… целительная пустота, – думал N, наполняя стакан. – Обладая такой драгоценностью, мы как дар получаем все: крепкий сон (панацею от страхов, от тоски, от дурацких мыслей), избавление от рефлексий и от невообразимых страданий, которым наполняет нас присутствие существа, совершенно нам чуждого, использующего нас в своих целях, заставляющего действовать по своей неведомой прихоти, принуждающего делать то, что делать мы категорически не желаем. Может, вдруг и случится чудо?! – думал он, содрогаясь от мысли, что вновь несколько темных часов придется провести в полудреме. – Может, когда-нибудь, неожиданно, псюхэ вырвется из меня (пусть выходит с муками, с кровью!), но оставит меня в живых и оставит меня в покое. Ах, если было бы можно такое! – думал N, ворочаясь в кресле. – Если бы только было возможно!»
XCI
И в ту ночь неожиданно грянуло, и свершилось, и произошло: псюхэ выскочила, псюхэ взлетела! Странно, он не почувствовал боли: он вообще ничего не чувствовал, хотя нащупал в груди дыру. Диаметр впечатлял, но оказывается, он был полым внутри, поэтому и не умер: вместо того чтобы рухнуть, он застыл истуканом, идолом, половецкой каменной бабой, а выскочившая душа трепетала, порхала, пульсировала перед ним и продолжала орать. Что она из себя представляет, N увидеть не смог: мешал студенистый туман. В конце концов ему надоело прищуриваться – освобожденный, отмучавшийся, он злорадно внимал ее зову. «Ори, ори, сколько хочешь теперь ори. Я свободен! Тотально свободен!» – думал он, дотрагиваясь до краев своей удивительной раны и какое-то время наслаждаясь образовавшейся пустотой, пока вдруг с ясностью, леденящей, как взгляд василиска, не обнаружил: страшный ор исторгает из себя не эта, всего его искромсавшая, психопатка, а он сам, так удачно освободившийся. Это он истошно вопит. Все дрожит в нем, вибрирует, стонет, глотку сводит от напряжения. N увидел себя сгустком крика – и очнулся, и зарыдал.
XCII
С тех пор началась агония. Несмотря на то, что она растянулась во времени, финал был уже очевиден. Если раньше усталость пусть через сутки бодрствования, но все же брала свое, то после привидевшегося сна успокоиться N не мог. Джин, водка, все та же текила дрожали в его стакане, звякали в нем, точно зубы, стеклянные кубики льда, а охваченный ужасом N бродил по залам и комнатам, пытаясь забыться то в одной, то в другой своей спальне. Однако, подгоняемый толчками, царапаньем, воем, вскакивал с очередного дивана и, привычно держась за бок, продолжал стариковское шарканье.
Он боялся остаться без света: почему-то (подобное бывает при нервных расстройствах) N был убежден: стоит только выключить лампы – разразится ее монолог. В итоге днем и ночью дом озарялся не знающими передышки фонарями, свечами и люстрами.
Когда псюхэ особенно рьяно принималась стонать и буйствовать, он спешил на улицы, где, не замечая толпы, вновь отмеривал километры, словно эта шагистика, это наивное бегство могли отвлечь от напасти. Во время подобных хождений и взялась неизвестно откуда (только ее не хватало!) еще одна гнусная фобия: в последнее время ходоку всерьез начало казаться – за ним кто-то постоянно следит.
XCIII
Преследуемый не мог зафиксировать своей воспаленной памятью ни одно из тех подозрительных лиц, ибо, заметив, что их присутствие обнаружено, субъекты с удивительной скоростью растворялись в толпе. И вообще, они походили на призраков, исчезая при всякой попытке N сфокусировать взгляд. «Скорее всего, – думал он, – состояние настолько ужасно, что дошло до галлюцинаций». N убедил себя в этом и пребывал в подобной уверенности до тех пор, пока в один из злосчастных дней на улице-стрит-авеню, оглянувшись, не встретил (как ему показалось) совсем уже явное доказательство слежки.
XCIV
Не вылезая с тех пор из машины, вертясь на сиденье, словно летчик Второй мировой, постоянно вспоминал он о зеркале заднего вида и был равнодушен к полиции, снимающей за превышение скорости свою справедливую дань. Не прошло и недели – N пришлось констатировать: подозрительные авто каждый день висят «на хвосте».
XCV
И где бы он теперь ни находился, в спину явно дышали играющие с ним в «кошки-мышки» неведомые преследователи. Затравленно оборачиваясь, N лишь на мгновение улавливал присутствие очередного фантома (подобные шпионы, несомненно, стали бы находкой для всех мировых разведок: не лица – какие-то белые пятна, высовывающиеся из пиджачных воротников). В том, что «призраков» много, не приходилось и сомневаться – его «вели» от раковины-особняка по забитому пробками городу, передавая друг другу, разные автомобили (стекла затемнены); и уже откровенной наглостью являлось то обстоятельство, что даже у собственного офиса за спиной выбегающего и услужливо отворяющего дверцу консьержа всякий раз обрисовывалось (и тут же исчезало!) очередное лицо-пятно.
XCVI
Однажды, пребывая, как казалось, в совершеннейшей безопасности (пятый, десятый, тридцатый этаж собственной штаб-квартиры), потускневший, согбенный источник перешептывания и постоянных сплетен, вяло раскланявшись с клерками, шагнул в коридор из лифт а…
Стоит ли отмечать, что собственный вопль стал для N неожиданностью, что лицо в коридоре растаяло, что поиски постороннего с обследованием черных ходов и даже пожарных лестниц (привлечены были не только помощницы, со страхом уставившиеся на нездорового босса) результатов не принесли?
Подчиненные весьма робко старались обратить внимание шефа на показания видеокамер, беспристрастность которых не вызывала сомнения (конечно же, никого они не разглядели), но личина лопнула окончательно (именно в эти минуты душа ко всему прочему резанула особенно больно). Пока Мидас наливался бешенством, все собравшиеся на похоронах его прежней невозмутимости не скрывали испуга. Из последних сил взяв себя в руки, он пробормотал извинения и постыдно бежал (впрочем, к бегству было не привыкать!) – до самого дома по городу тянулась за ним уже целая кавалькада.
«Что им нужно? – мучительно думал N. – Мое имущество? Бизнес? Они хотят ограбить меня? Похитить? Просто убить?»
XCVII
Ранее, даже после той самой, закончившейся полным провалом, глупейшей авиаэпопеи, он еще какое-то время продолжал мечтать «о вмешательстве рока» – внезапный выстрел-подарок (подосланный кем-то убийца), рухнувшая стена, на худой конец неожиданная авария на извилистом скользком шоссе, – но теперь, оказавшись один на один с непонятным и жутким явлением, N не мог не признаться себе: неизвестно откуда взявшиеся полулюди-полуфантомы, в дополнение к выходкам псюхэ, до краев наполняют его ледяным безотчетным страхом.
XCVIII
Нанятый сыщик, «проработав дорогу», засмеялся клиенту в лицо. N сменил весельчака, но и следующий детектив, а следом и целая их команда рапортовали о мании. Он позволил себе усомниться. Ответом была снисходительная лекция профессионалов, советующих феназепам и недельку-другую отдыха, но чем больше его успокаивали в солидных сыскных конторах добросовестные пинкертоны (готовые, как сами они признавались, «с высунутыми языками расследовать действительную угрозу, но никак не горе-фантазию»), а затем и два срочно нанятых бодигарда, десантное прошлое которых моментально бросалось в глаза, тем более N не сомневался – его надежно держат под колпаком. В то время как неразлучная парочка телохранителей, словно лишившись зрения, недоуменно пожимала плечами, когда порядком уже надоевший ей своей мнительностью хозяин показывал на очередного прицепившегося сзади филера, с отчаянием он начинал подозревать охранников в тайном заговоре. В конце концов N прогнал секьюрити и завел себе пистолет. Сигнализация в его логове стала особенно чуткой, камеры свешивались со всех углов и балконов, в случае сигнала лазерных датчиков тотчас должен был возникнуть под подъездным козырьком ближайший к дому патруль. С тех пор как экран в одной из спален подробно взялся рассказывать о перемещении всего живого возле особняка (внушительный радиус захватывал ближние улицы), N совсем забросил работу и, не вылезая из кресла (водка, бренди, текила, джин), отслеживал обстановку – преследователи, которых замечал только он, в плащах и шпионских шляпах с пугающей периодичностью выглядывали то из-за одного, то из-за другого угла.
XCIX
Грустное зрелище являл из себя завернутый в одеяло (в этот тонкий «верблюжий» лоскут) наблюдатель, наглухо законопатившийся в освещаемом лампами склепе, пожирающий взглядом маньяка «окно» в отвратительный мир. Он давно отправил в отставку бритву, гели, одеколоны; недоумевающие менеджеры всех его гигантских проектов вновь теряли и время, и нервы; впрочем, может, было и к лучшему, что в последнее время до истинного джентльмена никто из них, многочисленных и встревоженных, так и не смог достучаться. Что бы сказали обитатели тех же славных снобистских клубов, лицезрея вместо Счастливчика безнадежного психопата с кабаньей щетиной на щеках и вывернутыми наружу воспаленно-кричащими нервами?
C
– У вас явная шизофрения, – без обиняков заявил прибывший в полночь на телефонный звонок пожилой лейтенант-полицейский.
Юный напарник копа, проверивший залы и комнаты, согласился с подобным диагнозом.
– Никому вы сейчас не нужны, – продолжал седой ветеран, еще раз взглянув на больного. – Выпейте лучше снотворного. И давайте сюда «игрушку» – не ровен час, выбьете ею собственные мозги. Когда оклемаетесь – заберете в участке.
N послушался. Держась за бок и обильно потея, он пожаловался полицейскому на шныряющих «пастухов».
– Мне знакомы подобные случаи, – откровенно откликнулся коп. – Поверьте: не совсем уравновешенным особям – а вы, несомненно, к ним принадлежите – мерещится всякая дрянь. В городе суета, транспорт, давка на тротуарах – при таком движении вполне может показаться: кто-то пялится в спину.
N поведал о том, что встречал их не только на улицах.
Ветеран покачал головой:
– Вполне возможно, вас пугают обыкновенные и ни в чем не повинные люди. Человеческий муравейник на работе или возле дома не способствует здоровой психике.
– Но за мной гонялись машины…
Лейтенант переглянулся с сержантом.
– Вы твердо в этом уверены?
– Я не знаю… Возможно… Мне кажется, они всегда за спиной, – забормотал Счастливчик, внезапно устыдившись своего жалкого состояния и вспоминая о скепсисе лиц, до последнего времени его охранявших.
– На наших проспектах настоящие стада из машин. Любую развалюху, которая рванула следом, можно принять за преследователя, – успокаивал N бывалый. – Советую: не прячьтесь за стенами, как барсук в норе, а встряхнитесь. Загруженный мегаполис – одно, там что угодно может пугать такого нервного субъекта; другое дело – открытое до горизонта пространство.
– Что вы имеете в виду?
– Возьмите себя наконец в руки и проведите эксперимент. Утром сядьте за руль и отправьтесь по шоссе (коп назвал автостраду) – вас встретит самая прямая дорога, которую я только знаю, – в это время она пустынна. Можете ехать медленно, можете дать по газам: суть неважно. Уверяю – сразу заметите, пасут вас «друзья» или нет.
Уже выходя, коп добавил:
– Что-то мне подсказывает – никто вами не интересуется. Повторюсь: я уже навидался подобного – во всех случаях дело было в обыкновенном страхе. Чтобы от него раз и навсегда отвязаться – рискните, выбирайтесь из дома! Ну а если окажетесь правы, если все-таки следят, если обнаружат себя, свяжитесь с нашим дежурным. И давайте договоримся – вас не должны сбивать с толку неизбежные попутчики: они-то не виноваты. Тем более, как вы понимаете, нам не очень нравятся ложные вызовы.
N опять послушно кивнул. Недремлющее экранное око словно омут влекло к себе, однако по дружескому совету наряда N решительно от него оторвался и с робкой помощью логики до утра пытался разобраться с фобией, доказывая: ни привязывающихся автомобилей, ни пытающихся проникнуть в его покои потусторонних ниндзя, разумеется, не существует, а вот в чем настоящая опасность, так это в псюхэ, вот-вот готовой заговорить.
CI
Не успело забрезжить, N пристегнулся ремнем – эксперимент начался. Удивительно, шпики исчезли, они словно ветром развеялись, более того, никто за ним не рванул. «Неужели простой боваризм, – думал N, – мираж, дурацкое воображение?» Скорее всего, так и было: чем дальше он удалялся по рекомендованной трассе, тем более убеждался в правоте пожилого копа: все, появляющееся за спиной (автобусы, кабриолеты, не менее торопливые фуры), с ветерком его обгоняло. Исключение какое-то время составлял хлипкий старенький грузовик.
Кривясь от, как назло, обострившейся боли (псюхэ чем-то колола внутри: возможно, когтями и крыльями), он вновь обратился к логике. «Конечно, это попутчик, – убедил он себя, – если бы за мной следили, они точно бы не пустили по следу такую смешную кастрюлю».
Действительно, развалина вскоре прощально сверкнула доисторическим радиатором, никто с тех пор беглеца не тревожил, тем не менее целый день N продолжал гнать вперед и только вечером, окончательно убедившись в бредовости подозрений, свернул к жалкой вывеске придорожного мини-мотеля.
CII
Едва он оперся о стойку, надавив на звонок ресепшена, заявился еще один гость. Судя по его всмятку разбитому виду – неблизкий путь отпечатался на физиономии и на весьма помятой одежде – и скользнувшим по N сонным глазкам, вошедший не представлял ни малейшей угрозы. Более того, лицо господина почему-то мгновенно запомнилось. Однако N, как ни хотелось ему вытянуть ноги и хотя бы чуть-чуть отлежаться, подобно перестраховавшемуся разведчику (для полной чистоты эксперимента) заставил себя покинуть это место.
CIII
Гостиница в образовавшемся на пути городке стала наградой за мытарства. Ночью N глядел на мир из окна первоклассного номера: никто не топтался напротив, никто за ним не следил, он был никому не нужен. «Вопи и бейся, душа, – думал он, – с манией я разобрался, как же мне от тебя избавиться?»
И насторожился – ибо псюхэ замолкла.
«Что же – толкайся, мучай», – думал N, ожидая привычной бессонницы (вот-вот закричит сейчас). И решительно не поверил удивительной тишине.
Помрачнев, он ощупывал ребра: «Давай, начинай терзать!» Его псюхэ упорно безмолвствовала. «Ты жива там, несносная тварь?»
CIV
Катастрофа, увы, свершилась – псюхэ четко ответила: «Да!»
CV
Посеревший, словно осыпанный пеплом, с совершенно убитым взглядом, N спустился в утренний холл.
CVI
Кто-то тронул его за плечо.
CVII
– Да на вас лица нет, любезный! – прошептал ему на ухо тот запомнившийся господин (придорожный вчерашний мотель). – Я прошу лишь минутку внимания. Так сказать, быка за рога… Разговор предстоит недолгий, но, признаюсь, весьма существенный. Умоляю, любезный, – не бойтесь. Если бы мы хотели ограбить вас или, скажем, убрать, стоило тогда за вами сюда тащиться? Ваши имущество и бизнес нас никоим образом не интересуют…
Еще вчера подобное прикосновение и подобная фамильярность вызвали бы коллапс, паралич, окончательную остановку и без того изможденного сердца, но сейчас!.. N угрюмо ждал продолжения. Господинчик отвел его в угол, усадил и в упор сказал:
– Вы желаете освободиться!
– ???
– Не делайте непонимающих глаз. Прекрасно знаете, о чем идет речь. По сути своей она для вас – вещь чужеродная, да еще и воспалена, как аппендикс. Знаете, что делают с воспаленным аппендиксом?
– Кто вы? – спросил N.
– На ваш законный вопрос отвечу своим: а как вы думаете, разве чистого альтруизма не может быть в этом милом подлунном мире? Ах, опять ваше лицо! Оно цвета бетонной стенки – вы сегодня явно не выспались. Но вернемся к нашим баранам: представьте, на земле ко всему прочему существует и милосердие. Дома престарелых. Хосписы. Иные нужные вещи. Мы помогаем нуждающимся. Вам, любезный, чертовски свезло. Многие нас безнадежно разыскивают: поверьте, всё готовы отдать, лишь бы встретиться.
Перебив этот вкрадчивый спич, бедный пепельный N застонал (псюхэ с жаром взялась за дело) и уныло затряс головой.
Господинчик над ним сиял.
Диалог их возобновился.
– Как вы меня обнаружили?
– Мистики здесь никакой. Вы же сами от нее пытались избавиться, да еще разъезжали по миру.
– Значит, все-таки слежка?
– Не могу отрицать! Сразу замечу: контакт состоялся бы раньше, однако все испортила ваша глупая подозрительность. Черт-те что вам стало казаться: завели каких-то горилл, навтыкали повсюду камеры! Каюсь, мы упустили момент – не надо было пугать вначале столь пристальным к вам вниманием, но поймите, вычислить тех, кто нуждается, – вещь весьма непростая. Главное – не ошибиться. Я скажу в свое оправдание – вы ужасно тогда разнервничались, было просто не подойти. А потом рванули из города… Ну, скажите на милость – зачем устраивать гонки?
– И вы не могли позвонить?
– Разговор исключительно конфиденциальный.
– Хорошо, о чем речь?
– О простом извлечении. Эффективном, надежном, быстром.
– Хотите меня на тот свет спровадить?
– А с чего вы должны умереть? Полноте! Те, кому посчастливилось отбрыкаться от нее, еще как, любезный, живут!
– Стоимость?
– Извлечения?
– Нет. Моей извращенной стервы.
Господин с удовольствием засмеялся:
– Сразу видно, вы бизнесмен.
Он склонился над согбенным N:
– Не пытайтесь острить. Да в вашем положении вы нам ее просто подарите, еще и возблагодарите, что взяли! Со своей стороны, мы бы могли содрать с вас огромные деньги, как, кстати, ваши многочисленные горе-лекари, но в том-то и фокус – изъятие совершенно бесплатно. Никто никому не должен. Нас финансируют весьма богатые фонды. И никакого мошенничества – все пройдет исключительно честно. Мы предлагаем – вы соглашаетесь или шлете куда подальше нашу славную старую организацию. Свобода выбора – ее, кажется, завещал всем Господь? Ваш отказ – мы тотчас растворимся. Правда, по опыту, не сомневаюсь – сглупив, волосы затем на себе будете рвать. Ну, решайтесь! Рискуйте! Пробуйте!
– Вы обходитесь без бумаг?
– Разумеется.
– Значит, это не сделка?
– Я же сказал – альтруизм.
– Моя подпись вам не понадобится?
– Что вы, милый, как попка заладили: сделка, подпись! Расслабьтесь. Все гораздо банальнее и проще. Мы всего лишь окажем услугу. И, честно говоря, я на вашем месте не поддавался бы скепсису. И тем более не иронизировал.
– А если что-то пойдет…
– Не так? – перебил господин. – Обижаете! Опыт здесь колоссальный.
N отчаянно тер виски.
– Подумайте, – совершенно непринужденно завершил господинчик общение. – Впервые вам предлагают самый значимый в жизни бонус! Счастливый билет! В конце концов, вы ужасно страдаете… А вот что касается нервов, их все-таки нужно лечить: наши люди из сил с вами выбились.
– Грузовик? Та кастрюля там, на дороге?
– И не только, любезный, не только… Кстати, когда я застал вас в мотеле тем приятнейшим вечерком – сам, признаюсь, без ног остался. Надеялся, за коньячком наконец-то разговоримся. Но куда там! Вы дернули к выходу – только пятки ваши сверкнули!
– Что мне делать?
– Вначале решиться. А затем разыскать нас, любезный!
CVIII
Перед N оказалась визитка; господин моментально исчез. «Ты мой раб, – издевалась псюхэ, – я приказываю, ты подчиняешься». N взорвался, он озверел, он приблизил к глазам картонку – однако не успел пробежать глазами и первых визиточных букв.
Здесь, на самом пике отчаяния, на «острие меча», когда он, задерганный пытками, готов был немедленно действовать (и решиться, и разыскать), в почти загубленной жизни «лаки-мена-Мидаса-Счастливчика» произошел поворот – сногсшибательный, невероятный!
– Где вас носит? – именно в это судьбоносное время материализовался в его тонкой пластинке с кнопками, казалось бы, навсегда уже исчезнувший «лукавый и лживый» док.
Чуть не плача от злости и боли, N ответил доктору где.
– Я ведь просил не устраивать отсебятины! – укорил беглеца психолог. – Эй, бросайте-ка шарлатанов и немедленно возвращайтесь. У меня отличная новость.
CIX
N впоследствии так и не понял, почему послушался доктора (хотя, казалось, уже давно поставил на вруне самый решительный крест!), почему, забыв о визитке, он помчался к знакомым креслам? Возможно, сработал рефлекс, возможно, все тот же гипноз, которым док подавил его еще в юности, а возможно, на этот раз N почувствовал нечто спасительное в взволнованно-кратком звонке. Как бы там ни было, искрящийся радостью голос разом оторвал его от мысли (почти воплотившейся) о союзе с тем альтруистом и его таинственной ратью. N воспринял зов, как приказ. N не помнил обратной дороги, N вообще казалось потом – он мгновенно телепортировался, переместился в пространстве (время сжалось, время словно исчезло). Кабинет был таким, как и прежде, ничего там не изменилось; доктор, правда, весьма постарел.
CX
Врач сказал:
– К черту всяческих Мефистофелей! Есть, голубчик, некая фирма – уважаемая, фармацевтическая. В последние годы занималась совершенно другими исследованиями, но, представьте, побочный эффект – изобрела весьма сильные средства. Раскошелиться здесь придется, лекарства недешевы, карманы ваши опустошатся, кроме того, будет больно и тяжело, однако муки стоят того. Еще раз повторюсь – выкорчевать псюхэ, увы, нам не под силу, но вот усыпить – усыпим…
Три месяца интенсивного курса в выбранной мною больнице, затем небольшой перерыв – и продолжим до полной виктории.
CXI
Хотя выворачивающая наизнанку химия действовала неторопливо, ни на йоту не отступающий от рекомендаций и готовый штурмовать само небо N сделался самым послушным клиентом. Таблетки, после приема которых впору было лезть на стены, утром и вечером добросовестно им проглатывались, капельницы, через день заполняющие вены весьма подозрительной жидкостью, переносились с мужеством, которое больной не ожидал в себе встретить. По совету психолога N старался подмигивать своему отражению в зеркале – но бодрячества не получалось, всякий раз он с ужасом видел цену грядущей победы. Прилагающиеся к основным терзаниям диеты и клизмы валили несчастного с ног. После месяца терапии, совершенно к нему беспощадной, N с трудом забирался на напольные весы, легкий ветерок гарантированно мог его сдуть. Специально приставленная сестра сделалась его верной тенью; стыд уже не заливал то, что осталось у N вместо щек, при очередном втыкании иглы шприца в ягодицы, к середине лечения состоящие из двух сплошных гематом. Когда карман господина-гражданина-мистера N облегчился если не на половину, то, пожалуй, на добрую треть (счет за избавление выставили просто чудовищный), рядом с ним обозначился док.
– Ну-с! А теперь проверим.
Стоически вынесший пытки N покорно к себе прислушался – псюхэ что-то там бормотала.
– Ей еще хочется! – не удивился психолог. – Дадим ей, подруге, еще!..
CXII
Док сдержал обещание – дряни здорово наподдали, но чего это стоило! От первой же дозы закачанной внутривенно новой лечебной субстанции остатки волос (после беспощадных уколов они и так-то прорастали лишь кое-где, словно кусочки мха на брутальном северном камне) даже не выпали – в течение нескольких часов на глазах у N растворились. Что касается самих глаз, докторам продвинутой клиники, в стенах которой нещадно терзалась его раскаленная плоть, пришлось потрудиться, объясняя: дело не в базедовой болезни, речь идет о совершенно нормальной реакции перенапряженного организма.
Постоянные судороги, доходящие до эпилепсии, опять-таки по их уверениям, свидетельствовали о правильном выборе средств. И чем более N выворачивало наизнанку, тем более воодушевлялись дипломированные палачи. Все мелькало с тех пор перед ним: санитары, больничные койки, циклопические аппараты, опутывающие лаборатории и его изможденное тело бесконечными проводами. Днем и ночью их платиновые мозги переваривали информацию, а затем выдавали решения, на основании которых N терзали еще больше.
CXIII
– Ну-с! – опять появился спаситель.
Бедный N обратился в слух: псюхэ силилась что-то шепнуть.
– Что ж, отлично! – воскликнул психолог. – Напрягитесь теперь, голубчик! Нанесем последний удар. Соберите в кулак свою волю, все свое отменное мужество!
CXIV
N напрягся, и N собрал. Отвезенный в специальный ангар, помещенный в стерильную капсулу – подачей еды, питья и выделениями занимались там особые трубки, – он готовился к окончанию своих беспрерывных мучений. Тот последний аккорд был взят: облучение и массированная бомбардировка из каких-то «особых устройств» какими-то неведомыми больному «заряженными частицами» (ею под конец, без всякого сожаления, с чисто научным азартом, словно лабораторную крысу, подвергли пациента, находящегося уже за гранью и физического, и умственного истощения) стали апофеозом страданий.
CXV
Но с другой стороны, выкарабкавшись из комы, N не мог теперь не признать – стратегия дока (надежды на научный прогресс, на «шаги во всех областях») себя полностью оправдала. Пока N отчаивался и пропадал в заскорузлой отшельничьей раковине, прорывы в этих самых «областях» кардинально все изменили: вовсю уже конструировались искусственные позвоночники; взращивались эмбрионы; прозревали слепые, в мозгах которых поселялись всесильные чипы; безнадежные еще вчера инвалиды снабжались удивительными по своим механическим свойствам протезами. И правда, что стоило медицине, проникающей в тайну тайн своим любознательным скальпелем, подобраться и к наглой псюхэ? И ведь она добралась! Дотянулась до недосягаемого! Вскрыла этот нарыв, эту гнойную рану! И заглушила ее, обколола ее обезболивающим, наконец-то заткнула ей рот, скрутила, обездвижила и, торжествующая, всемогущая, повелевающая препаратами, которые вполне уже могли поднимать с того света безнадежнейших мертвецов, опираясь на барокамеры, лазеры, прочие чудеса, поставила в истории болезни настрадавшегося Мидаса победную жирную точку.
CXVI
Можно долго описывать последствия этой победы: его новые ощущения, поистине лунную легкость, сладостный транс. Но зачем? Все и так очевидно. Ограничимся констатацией: выздоравливающий спал и ел, открывая рот по просьбе добродушно-сердитой сестры, позволяя подставлять себя под судно, отдаваясь тем же капельницам и ежедневным осмотрам. Еще оставалась внутри его некая недоговоренность, еще отдавался в ушах некий неясный шум (отголосок пусть и тихого, но все же ее присутствия), еще что-то там в глубине вздыхало и шевелилось – но N готов был мириться с явно «фантомными болями». Отрешенный и убаюканный (возвращение из Аида; палата в отдельном боксе; крепкий кофе и крепкий сон; мясной отвар, подносимый к жадному рту полноценной столовой ложкой), подобно роженице, выдавившей из себя переношенный плод, каждой клеточкой чувствуя ни с чем не сравнимое освобождение, пребывал он в полной нирване. Миновала неделя необычного существования (а может быть, месяц или, допустим, год) – и в третий раз над счастливчиком проявилось знакомое до тончайшей морщинки лицо.
Доктор молвил:
– Вставайте, голубчик! Вам пора возвращаться в жизнь!
CXVII
Воскресшего отсоединили от проводов и от поднадоевшей сиделки, подстригли, побрили, вымыли, оросили одеколоном, облачили в прекрасный костюм, затем в один из брызжущих солнцем деньков доставили до лимузина.
CXVIII
Несомненно, он был спасен.
CXVIX
Что же дальше?
CXX
А дальше вот что: поначалу естественный страх, неизбежно вскоре вернувшийся (словно запуганный хозяин, в дом которого вот-вот ворвется самый злобный, свирепый разбойник, еще долгое время пребывал N «в великом поту», дрожа от совершенно безобидного урчания желудка и от еканья селезенки); колючий озноб при одном лишь упоминании прошлого; весьма длинная реабилитация (без тренингов, санаториев, ванн, конечно же, не обошлось). Подробности здесь решительно не нужны – остается счастливый конец. Отоспавшийся и набравший вес коммерсант, на которого молились сотрудники всех его предприятий, а в придачу к ним жокеи и брокеры, ежедневно готов был ставить своему благодетелю свечки. В свою очередь, доктор признался:
– Удивительно, но в вашем случае все закончилось благополучно. Сейчас я могу открыться, что действительно имею дело с настоящим счастливчиком.
– А как же сморщенный человек? Застрелился? Повесился?
– Нет, с ним вышло гораздо хуже – следы его теряются в кармелитском монастыре.
– И все-таки, доктор, – спросил N однажды, – куда она улетит?
– Ах, вам уже интересно! Ну что же, тогда дела наши совсем хороши! Честно отвечу: мое дело – лечить, а не попусту фантазировать. Да куда бы ни убралась, вам, голубчик, какая разница? Вам-то что до нее? Не забивайте голову глупостями. Вы скажите – есть рецидивы?
CXXI
Рецидивов не наблюдалось. Правда, плавал еще в ушах прежний фоновый тихий шум, и по-прежнему что-то дышало в глубине восстановленной плоти, можно сказать, в самом дальнем ее, периферийном углу, но психолог сказал добродушно:
– С этим можно спокойно жить… Впрочем, если желаете окончательно освободиться – нет проблем, годика через два вновь уляжетесь на процедуры. Так сказать, подчистим следы…
CXXII
«Лаки-мен» согласился с доком.
CXXIII
Что еще поведать про N?
CXXIV
Его фирмы-заводы работали, его банки достойно «крутились»; бывшие жены были обласканы и недвижимостью, и деньгами; что касается детей, в щедро устраиваемые для них праздники N несколько утомлялся от вполне понятной, неуемной энергии счастливо избежавших участи своего страдальца отца наследников, но терпел их юные шалости. Случались, конечно, волнения, случались и неудачи – подобные кризисы казались милыми хлопотами по сравнению с тем, что ему пришлось пережить. Главное было в том, что N обрел нормальную жизнь. Весьма скоро она принялась вовсю затуманивать прошлое, покрывая тиной и ряской чуть было не состоявшуюся Голгофу. Как и предсказывал док, заработал закон бытия: весь прежний ужас вытеснялся всевозможными мелочами – театрами, мюзик-холлами, казино, домами терпимости…
CXXV
Однажды, оставшись один, герой этой короткой новеллы на каких-то несколько минут забыл о рабочем столе, по привычке к себе прислушался, затем вышел в сад своего огромного дома – там блистала звездами ночь. N, пощупав бок, успокоился.
– Так-то лучше, – промолвил он.
Однако, перед тем как отправиться ко сну, ненадолго притянутый бездной, вот о чем в том саду размышлял: «Все-таки, что ее ждет потом, куда вернется, когда перестану дышать, когда отправлюсь гнить в неизбежный гроб? В какие миры направится, всего меня измучившая, а теперь уставшая, успокоившаяся мучительница моя?»
CXXVI
Впрочем, кто мог откликнуться на подобное любопытство?
P.S
Годика через два следы успешно подчистили. Вновь доставленный в тот же бокс для неторопливой реабилитации, распластанный на кровати, N поплыл посреди пустоты: окончательной, бесповоротной. Удивительно, но она угнездилась не только внутри: пустота проявилась снаружи и со всех сторон окружала, она имела цвет невысоких больничных стен, имела запах растворов, она, несомненно, здесь царствовала, подобно старой кормилице, знающей, как успокоить и усыпить младенца, она укачивала его в своих невесомых лапах час за часом, сутки за сутками, все пространство вокруг Счастливчика пустота наполнила ватой и ревниво стояла на страже, желая лишь одного – чтобы ничто более не отвлекало обретенное ею дитя от совершенного счастья. N, полый, словно целлулоидный пупс, отсыпался в спасительном вакууме под заботливо созданным ею куполом, который с тех пор не задевал ни один, самый малый, шорох, ни один, самый слабый, скрип. Действительно: звуки, решив не беспокоить спасенного, улетучились, и к услугам завернувшегося в сотканный кокон Мидаса осталось безмолвие, бесконечное, словно простирающийся во все стороны в Арктике хирургически чистый лед. Лишь однажды извне случайно (медсестра не закрыла окно) до Счастливчика докатилось бормотание затихающего где-то вдали, за миллион километров от «продвинутой» клиники, от ее аппаратов и кафеля, глухого ворчливого грома. Рокот, едва добравшись до N, заставил его приподняться, но напрасно обитатель медубежища напрягал обострившийся слух: небо более не подавало потустороннего голоса, и ни единой капли не звякнуло о подоконник.
Душа
Краткое предисловие автора
Признаем очевидное – девяносто девять процентов живущих на земном шаре людей имеют о душе самые смутные представления. Многие вообще не верят в ее существование, хотя факт присутствия в homo sapiens некоего мистического существа запротоколирован еще за несколько тысячелетий до Рождества Христова пытливыми египтянами, богобоязненными евреями и дотошливыми греками; все мировые религии однозначно подтверждают его. Увы, жизнь души не только для большинства обывателей, но и для современной науки – прежде всего психиатрии и психологии – по-прежнему является «терра инкогнито».
Безоговорочно относя себя к девяноста девяти процентам несведущих, я осмелюсь всего лишь суммировать то, что в разное время и при разных обстоятельствах сам читал и слышал о псюхэ (выискивая информацию в книгах и в Интернете, я брал данные из любого заинтересовавшего меня источника). Приведенные здесь в качестве дополнения крохотные главки, конечно, не удовлетворят пытливого читателя, но, возможно, разбудят его интерес.
Главка первая: Душа и древние египтяне
Вот о чем свидетельствовал Геродот: «Египтяне также первыми стали учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через (тела) всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело… ребенка…»
Как представляли себе египтяне псюхэ? Археологи, теософы, философы, египтологи единодушны только в одном: единого мнения на этот счет нет и, по всей видимости, никогда не будет, ибо у египтян душа – организм исключительно сложный, до конца никем из современных исследователей не разгаданный: о нем остались лишь неясные, а поэтому противоречивые сведения. По древнеегипетским верованиям, душа состояла из самостоятельных частей, и одна из них называлась Ба. Эта часть начинала жить лишь после смерти тела и изображалась птицей с человеческой головой. Крылатой Ба был открыт непосредственный путь на небо, чем она иногда и пользовалась, улетая из гробницы в иные миры, но при этом всегда возвращалась обратно, ибо Ба и тело нерасторжимы, – без этого компонента нельзя вдохнуть жизнь в умершего человека (а египтяне верили в воскресение).
Еще одну часть души – Ка – невозможно трактовать однозначно. Одни ученые люди по сей день называют ее жизненной силой, другие же – неким «двойником» псюхэ. Факт в том, что она упоминается в египетских текстах бесчисленное количество раз. Подобно Ба, после смерти хозяина Ка обитала в его могиле (или возле), имела возможность иногда покидать гробницу и беспрепятственно путешествовать, но возвращение к телу было при том обязательным.
Третья часть души, обозначаемая словом «Ах» (его переводят как «дух»), изображалась в виде хохлатого ибиса: увы, это все, что мы знаем о ней сегодня.
Четвертая часть – Шу, или «тень», – одно из проявлений человеческой сущности, темная сторона (возможно, Шу вмещала в себя все грехи умершего).
Наконец, душа имела такую чрезвычайно важную часть, как Сердце – вместилище сознания, свидетеля плохих и добрых поступков. Сердце на Загробном суде могло свидетельствовать против хозяина. Вот почему существовали специальные заклинания для его «усыпления», с тем чтобы оно не наговорило лишнего. В целом ряде текстов Сердце представлялось руководителем человека.
Впрочем, не исключено – египтяне верили в то, что каждый из нас несет в себе сразу несколько душ. В таком случае и Ка, и Ба, и Ах, и Шу, и Сердце – не части единого целого, а совершенно разные бессмертные существа в одном человеке.
Заинтересовавшиеся могут ознакомиться с работами российского египтолога А. О. Большакова, который давно пытается выяснить, что из себя на самом деле представляют такие части человеческой души, как Ах и Ка.
Главка вторая: Душа и древние вавилоняне
Немногочисленные источники утверждают: жители Вавилонии верили в бессмертие душ. По их представлениям, псюхэ усопших (экимы) уходят в подземный мир (арал), «где ничего не видно», и изнывают за «семью стенами» в вечной слепой темноте. Сохранилась поэма, в которой есть упоминание об аде. Некоторыми мотивами – надпись на вратах, из-за которых «никогда никто не возвращается»; привратники – она перекликается с поэмой Данте. Современные исследователи ничего толком не могут сказать об идее посмертной награды или наказания у вавилонян, но, вне всякого сомнения, души благочестивых, как и души грешников, получали «за гробом» свое. Так, среди расшифрованных учеными текстов оказался гимн, посвященный павшему за отечество воину. Псюхэ его, окруженная трофеями, вполне поземному пирует на облаках и пьет там из небесных источников живую воду.
Главка третья: Душа и древние персы
К счастью для исследователей древнеперсидской религии, душа по зороастрийскому учению представляла из себя единое целое. Вообще, что касается ее посмертной судьбы: прибытия на Божий суд, неизбежных мучений (в том случае, если она принадлежала злодею), блаженства (в случае, если псюхэ была душой праведника), воссоединения со своим телом (и полного восстановления этого тела), – зороастризм самым удивительным образом перекликается с пришедшим позднее учением Христа.
По представлениям предков современных иранцев (в чем они, конечно же, были не оригинальны), от деяний человека зависит дальнейшая судьба его бессмертной псюхэ. Если носитель ее ведет трезвую жизнь, не лжет, не крадет, помогает ближним, за его душу можно не беспокоится. Другое дело – душа негодяя.
Персы верили: псюхэ любого почившего, отделяясь от бренных останков, уплывает в легкий эфир, где возвышается «мост ветров», сияющий и прекрасный. Однако, прежде чем псюхэ на него вступит, ее встречает добрый бог Митра со свитой других богов. Присутствуют там и весы, на которых самым точнейшим образом взвешиваются дела дурные и добрые. Затем душа по мосту ветров переходит бездну. Если ее хозяин был откровенным мерзавцем, то под тяжестью «дел дурных», потеряв равновесие, она, разумеется, падает в пропасть-ад. Душу доброго человека ожидает благоухание сада. На другом конце моста ее принимает прекрасная девушка. Красавица сопровождает душу в рай: там псюхэ праведного останется до окончательного суда над нею (по почти христианским верованиям персов, в мире постоянно шла борьба между Творцом всего сущего, богом Ахурамаздой, и персидским дьяволом, которого звали Ангро-Майнью; неизбежно должен был настать конец света и пришествие мессии – Саошюнта – победителя сил зла; затем следовал Страшный суд и окончательное воздаяние – полное уничтожение грешников и воскресение праведников).
Несмотря на веру в воссоединение тел и душ после Второго пришествия, отношение древних персов к покойникам было весьма своеобразным: умершие считались настолько «нечистыми», что прикасаться к ним позволялось только специально подготовленным людям (в частности, носильщикам). Все, что было связано со смертью, относилось к силе зла, ибо чистое в человеке (душа) после кончины покидало его, и тело полностью доставалось дьяволу (Ангро-Майнью). Живые немедленно удаляли мертвого от «чистых» стихий – огня, воды и земли (хотя огнем и очищали жилище, в котором находился мертвец, эту стихию нельзя было подносить к телу ближе чем на три шага). Вынос осуществлялся ночью, обязательно в сухую погоду (чтобы не осквернить воду). Дакмы – высокие цилиндрические башни – представляли собой места последнего упокоения. На вершине каждой находилось три желоба – для мужчин, женщин и детей. Внутри была лестница, по которой носильщики поднимали покойных. Затем с них снимали одежду и оставляли ветрам и солнцу. Над башнями постоянно кружили птицы. Считалось, что по ночам там пируют демоны. Естественно, что от тел вскоре ничего не оставалось. В то же время в честь душ усопших шли постоянные богослужения, которые должны были помочь им попасть в рай.
Удивительно, но при подобном отношении к останкам персы не сомневались – после Страшного суда псюхэ обязательно разыщут кости своих хозяев («возьмут волосы, кровь и прочее из самой природы») и соберут все в единое целое – таким образом, воскресшие воссоединятся со своими душами теперь уже навсегда.
Главка четвертая: Душа и Платон
Если бы грек Платон, убежденный сторонник не только бессмертия души, но и ее обязательной реинкарнации, не был философом, он был бы великим художником, ибо воображение его безгранично: так, он уверяет – существо, которое с нашего рождения поселяется у нас внутри, есть своеобразный гибрид человека, льва и химеры. Все эти три сущности псюхэ намертво срослись. Человек, как своеобразный хозяин души, волен поощрять либо льва и химеру, либо своего «внутреннего человека». Неразумный хозяин кормит зверей и плюет на «человеческую часть» псюхэ, разумный стремится к тому, что китайцы называют «срединным путем»: а именно, желает наладить в душе справедливость. Поэтому мудрец работает сразу в трех направлениях: «укрощает льва», «облагораживает химеру», препятствуя развитию ее «диких качеств», и возвышает «внутреннего человека», который, кстати, тоже, если его не облагораживать, может докатиться до элементарного свинства. Таким образом, разумный всю жизнь кропотливо воспитывает своего Змея Горыныча. Надо заметить, что каждой из частей души присуща и добродетель. «Внутренний человек» (при постоянном контроле «человека внешнего») несет в себе не только слюнтяйство и леность, но и мудрость; химера, в которой много вожделения, вследствие соответствующего ухода превращается в умеренность, а ярость «внутреннего льва» укротитель своей псюхэ вполне может преобразовать в храбрость. Вдохновенный Платон художественно сравнивает душу с морским божеством Главком. Этот Главк долгое время провел в воде, тело его, как днище у корабля, покрыто ракушками, водорослями и различными паразитами, оно обезображено наростами – поэтому бедняга более напоминает монстра, чем бога. Все дело лишь в том, чтобы отскрести всю эту чепуху, избавить несчастного от налипшей дряни. Таким образом, трехглавую душу Платона нужно регулярно чистить и держать под постоянным присмотром, ибо при ненадлежащем контроле ее легко портят несправедливость, трусость, невежество, невоздержанность и прочие излишества.
Всю жизнь свою мудрец кладет на то, чтобы изо дня в день воспитывать собственную псюхэ, глупец все пускает на самотек, но тот и другой умирают – здесь начинается самое главное: коконы прячут в землю, а вот их души выходят на первый план.
Рай и ад (как и существование душ) несомненны – свидетельство тому огромное количество источников, накопившихся за все тысячелетия истории человечества. Эти разнообразные свидетельства мира иного вызовут оскомину разве что у самых убежденных материалистов. У остальных нет никакого основания к ним не прислушиваться. При всей разнице деталей, и религии, и философы (кроме атеистов) твердят об одном и том же. Последуем за Платоном – признавая Творца-Демиурга, создавшего всё и вся, включая вселенную, великий грек явно склоняется к монотеизму, хотя, как и любой другой его соотечественник дохристианского времени, все-таки не может обойтись без пантеона. Душа у него прибывает в Аид, который отнюдь не является адом – это все тот же незримый мир, на его пороге весьма утомленную долгой и запутанной дорогой псюхэ встречают сыновья старика Зевса: Минос, Радамант и Эак. Разумеется, тут же следует суд, и, разумеется, судьи досконально осведомлены обо всех делах и делишках новоприбывшей. Поэтому вердикт весьма скор: псюхэ «разумных хозяев» прямиком отправляется в область чистой, духовной жизни. Остается только догадываться, что за кущи встречают ее там, впрочем, каждый из нас здесь волен напрячь свое воображение: возможно, в том пространстве полно озер и садов, в которых беспечально какое-то время пребывают (не забываем о реинкарнации) псюхэ Сократа, Гомера, Перикла и других не самых последних людей древности, питающиеся амброзией и ведущие философские беседы. Души глупцов оказываются в местах гораздо более отдаленных и менее приспособленных для неторопливых прогулок. Следует заметить, что у Платона и награда, и наказание десятикратно превышают вызвавшие их причины. Крайне симпатично в платоновском Аиде то, что тамошние боги весьма милосердны – времяпровождение душ и среди садов, и среди каких-нибудь чудовищных ландшафтов ограничено всего лишь одной тысячей лет. При всем при том Платон ясно указывает на чрезвычайную сложность потустороннего мира, более того, он довольно подробно описывает и его низ (Тартар), и верх (Олимп). Кроме того, философ поражает наиболее впечатлительных потусторонней географией, в которой есть место всем климатическим зонам: в его Аиде имеются уже упомянутые сады, громоздятся горы, простираются пустыни и, судя по всему, действуют вулканы – так как целые области там пребывают в огне. Четыре особо крупные реки с совершенно конкретными названиями текут по тамошним равнинам: Ахеронт, Перифлегетонт, Кокит и, представьте себе, Океан. Там же находятся озеро Мнемозины и играющая чрезвычайно важную роль для вновь стремящихся в грешный мир псюхэ речка с названием Лета.
Вернемся к душам мудрецов и глупцов: первые наслаждаются сладкими плодами предыдущей жизни без пороков и излишеств, ибо были укрощены своими трудолюбивыми хозяевами, вторые вынуждены основательно над собой поработать и за отведенную им философом тысячу лет очиститься от всего телесного и чувственного (времени более чем достаточно).
Итак, псюхэ либо заслуженно отдыхают и набираются сил, либо (если не повезло с предыдущими хозяевами) усиленно работают над собой. Но и в том и в другом случае их потустороннее существование, по Платону, есть процесс очищения от прошлого опыта и возобновления сил, ибо цель у каждой псюхэ все же одна – бесконечное совершенствование и познание своей подлинной природы.
Что это за природа?
Суть подлинной природы псюхэ в том, что космическая, божественная истина изначально существует в душе, в ней изначально заложена божественная добродетель, и, несмотря на все свои мытарства, любая псюхэ стремится к свету, набираясь мудрости в ходе своих многочисленных перерождений.
Вернемся к Аиду – наконец-то завершается тысячелетнее пребывание в нем псюхэ.
Затем – реинкарнация.
Перед ответственным прыжком на Землю платоновские души сами выбирают себе следующих хозяев. Как утверждает грек, большинство душ исходит из опыта и привычек предыдущей жизни. Богини судьбы – Мойры – идут им навстречу и утверждают план переселения.
Перед уходом в «видимый мир» происходит длительное и изнурительное путешествие, в конце которого душа оказывается на совершенно бесплодной равнине – там-то и совершается последний акт. Псюхэ обязана отпить немного воды из вышеупомянутой реки Леты, глоток из которой мгновенно отшибает всякую память о ее пребывании на «планете Аид».
Впрочем, особо избранные псюхэ пьют из озера «матери муз» Мнемозины – подобный ритуал, напротив, укрепляет их воспоминания о проведенных здесь замечательных днях.
После подобной церемонии, сопровождаемая неким ангелом-хранителем (Платон называет его гением судьбы) до места своего нового пребывания, каждая псюхэ вновь «поселяется» в человеке.
Так, по крайней мере, я понял учение Платона в той его части, которая касается души, ее мытарств и переселений. Хорошо известны сочинения философа «Феон», «Федр», «Горгий» и «Тимей», где рассыпаны свидетельства о псюхэ и «ином мире». Напомню: если моя поверхностная интерпретация воззрений Платона не удовлетворяет читателя, милости прошу к первоисточнику.
Главка пятая: Душа и Сократ
Сократ утверждал – внутри него существует нечто. Это нечто он называл своим демонием (даймонионом, даймоном, демоном). Вот свидетельство философа, записанное Платоном: «Началось у меня это с детства: возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет».
О демонии Сократа спорили уже его ученики, которые не совсем понимали, кого (или что) их учитель все-таки имел в виду. Сократовский демоний ставил в тупик не только Цицерона, Плутарха и Апулея, но и заставлял говорить о себе отцов христианской церкви.
Ксенофонт предполагал – демоний (даймонион, даймон, демон) являлся «божественным голосом», дающим Сократу указания, как следует поступать. Основываясь на его предложениях, Сократ убеждал друзей совершать те или иные поступки – советы всегда оказывались правильными.
Платон («Апология») видел в подобном феномене некое внутреннее предчувствие, «шестое чувство» которое всякий раз подсказывало философу, что ему не следует делать.
Надо заметить, сам Сократ (если верить Платону) не только чувствовал в себе присутствие демония, но и живо его себе представлял и почитал его за некую высшую реальность – «божественное знамение».
Подавала ли таким образом свой голос в Сократе псюхэ? Или все-таки это была чистая аллегория «человеческих совести и разума», завуалированная самим философом в представленном им образе демония, на чем настаивал отъ явленный безбожник Карл Маркс? Споры идут до сих пор.
Главка шестая: Душа и индуизм
Мусульманин Халал уль-дин Руми создал строки, которые в полной мере относятся к этой главке: «Я умер камнем и воскрес растением. Я умер растением и воскрес животным. Я умер животным и стал человеком. Чего мне страшиться? Разве смерть обокрала меня?»
Отдавая себе отчет о невероятной философской сложности традиционного индуизма и его бесчисленных ответвлений (в отличие от ортодоксальных христиан, иудеев и магометан во главу угла индуисты ставят обязательную реинкарнацию душ и их эволюцию), ваш покорный слуга постарался хотя бы коротко вычислить для себя основное. Не сомневаюсь, специалист в лучшем случае улыбнется на подобные объяснения, но еще раз повторю: речь идет именно о моем восприятии, а оно, как и у большинства из нас, что греха таить, приблизительно, если не примитивно.
Вот что я схематически уяснил для себя: в начале всего был, есть и будет Бог (Великий Брахман), Творец всего сущего: звезд, планет, растений, животных и, разумеется, человека. Находясь в центре всего и вся, Великий Брахман постоянно испускает некие монады, наподобие нейтрино, которые и назовем душами. Божественные нейтрино-души (а их мириады) летят на невероятные расстояния, пронзают миры и пространства и поселяются во всем сущем. Душа, прежде чем вернуться обратно к Отцу, проходит чрезвычайно длинный цикл перерождений (хотя для Бога-Брахмана круг, который совершает каждая его микроскопическая частица, всего лишь мгновение). Поначалу посланная Великим Брахманом псюхэ поселяется в минералах – так начинается первый этап ее восхождения. Он может длиться миллионы лет (камням спешить некуда), но эволюция перерождений неизбежна: следующая ступень – растения. Проходит колоссальное, с человеческой точки зрения, количество тысячелетий, прежде чем, терпеливо отбыв свой срок в «теле» мха и лишайника, душа помещается в цветок, затем в дерево и, наконец, в микроскопический живой организм. За инфузорией-туфелькой следуют жучки, паучки, муравьи, муравьеды, мыши-полевки, птицы, кошки, собаки, коровы, лошади, тигры, слоны…
Следующий скачок – человек.
Примечательно (как я опять-таки понял), что homo sapiens отнюдь не истина в последней инстанции (у Бога есть сущности и покруче, о чем речь еще впереди), однако в божественной табели о рангах он занимает почетное место. Это двуногое существо в корне отличается от растений и животных тем, что щедро награждено разумом, а значит, несет ответственность за себя и свои поступки. Именно из-за этой его особенности и возникает чрезвычайно животрепещущий вопрос человеческой кармы, без которой индуизм не был бы индуизмом. Прежде всего, отмечу: Бог ни на секунду не выпускает человека из виду: в каждом человеческом теле непременно находятся две души – индивидуальная (Атма) и сверхдуша (Паратма). Сверхдуша – как раз частица самого Великого Брахмана, который, таким образом, помещается в каждом из нас и является главным собственником всех наших тел, постоянно присутствуя в них и наблюдая за ними. Он истинный повелитель человеческих чувств, но, как и положено Богу, при всем своем немыслимом могуществе не вмешивается в жизнь индивидуальной души (все той же Атмы), давая человеку высшую из свобод – свободу выбора между добром и злом. Что касается развития душ (напомним: каждая псюхэ, по великому замыслу Великого Брахмана, рано или поздно достигнет божественного состояния, а значит, вернется к Отцу), процесс продолжается, но многие двуногие его тормозят – являясь хозяевами собственных псюхэ, они их попросту портят. Есть люди, которые категорически не желают укрощать собственные пороки (и душа-Атма у таких порочна). Эти глупцы, не чувствующие в себе присутствия Бога, вынуждены отвечать за свое упрямство в последующих перерождениях. Суть «плохой кармы» всем известна – не делай гадости в этой жизни, иначе в последующей ждет обязательное наказание (и так будет продолжаться до бесконечности, пока даже самые неисправимые не зарубят у себя на носу – нынешние невзгоды есть прямые следствия прошлой неправедности). Не задумавшиеся над своим поведением упрямцы, разумеется, крепко-накрепко привязаны к материальному миру. Однако наряду с негодяями существуют счастливчики, у которых «карма хорошая». Еще не догадываясь о присутствии в себе великой Паратмы, но укрощая чувства, облагораживая свои индивидуальные души и рассыпая милосердие и доброту, эти, перерождаясь, получают в качестве вознаграждения богатство и почести. Увы – подобная добродетель так же жестко приковывает их к материальному миру, в котором добрые, правда, заслуженно получают свое, но пройдет еще долгое время, прежде чем и души счастливцев вырвутся из его крепких лап. Эволюция не отменяется: рано или поздно находящиеся в, казалось бы, бесконечном круге перерождений люди задумываются, задумавшись, начинают распутывать клубки своих карм, и, наконец, самые продвинутые осознают в себе присутствие удивительной и всемогущей Паратмы. Индуизм в высшей степени оптимистичен – рано или поздно бывшие негодяи становятся людьми добродетельными, а добродетельные – мудрецами, души которых наконец-то окончательно отрываются от материи и возвышаются над «плохим» и «хорошим».
Таким образом, восхождение душ продолжается. Вырвавшись в конце концов и из человеческих тел (как ранее вырывались они из минералов и растений), набравшиеся мудрости псюхэ устремляются в высокие, духовные миры и поселяются теперь уже в неких высших существах, еще ближе приближаясь к Великому Брахману. Следуют бесконечные реинкарнации на все более высоких уровнях, до тех пор пока каждая напитавшаяся во время своего невероятного странствия бесценным опытом псюхэ не становится подобна породившему ее Богу, а значит, в конце концов возвращается в него и сливается с ним. Великий цикл завершен: Брахман принимает в себя вернувшиеся души, ставшие им самим, не переставая при этом беспрерывно выпускать в пространство «души младенческие», – так беспрестанно и бесконечно вертится колесо.
Индуизм неоднороден (что естественно для великой религии): есть сторонники распространенной теории (по которой и судят о нем), утверждающей – человеческая псюхэ (если субъект вел себя исключительно плохо: много ел и спал, прелюбодействовал, жадничал и т. д.) в сакральный момент перерождения неизбежно переходит в тело свиньи, петуха, тигра и прочих животных, олицетворяющих собой леность, жадность и необузданность страстей. Есть противники подобного взгляда, категорически протестующие против возможности подобного перехода (по их мнению, человеческая душа реинкарнируется только в человеческое тело и ни во что другое). Не сомневаюсь, находятся и те, кто обходит вопрос существования псюхэ в минералах и низших формах жизни, сосредоточиваясь на душе homo sapiens и ее отношениях с Великим Брахманом. Различных теорий чрезвычайно много, суждения об Атме и Паратме поистине бесконечны. Описанию индуистского взгляда на жизнь и путешествие псюхэ любой, занимающийся данной темой, философ готов посвятить бесчисленное количество страниц. Конечно же, по сравнению с трудами людей, сведущих в этой проблеме (а их, еще раз напомню, в мире весьма немного), моя задача здесь микроскопически мала: всего лишь пропеть гимн существу, называемому душой.
О душе, ее путешествиях и перерождениях у индусов самым подробным образом свидетельствуют «Аватара Веда», «Манусамхита», «Упа-нишады», «Вишну-пурана», «Бхагавата-пурана», «Махабхарата», «Рамаяна» и еще множество древних текстов.
Главка седьмая: Душа и христианство
Если у Платона отрешившаяся от всего земного псюхэ находит свое блаженство в идеальном мире, если индуизм твердит о человеческом теле, как о всего лишь оболочке, неизбежно превращающейся в невосстановимый прах, то ставшие христианами свидетели одного, произошедшего две тысячи лет назад, распятия (эта история до сих пор потрясает чуть ли не половину человечества) провозгласили следующее: тело, в которое помещается самим Богом, в котором живет и которое после смерти человека покидает душа, есть единственный и драгоценный для нее сосуд – и именно в него уже навсегда вернется псюхэ после всех своих странствий, мытарств, тотального «воскресения мертвых» и начала жизни «будущего века».
Пример полного восстановления единственного прибежища души – Христос, показавший раскаявшемуся Петру, упрямцу Фоме, а заодно и всем остальным потрясенным апостолам, что телесное воскресение не только возможно, но в конечном счете и неизбежно.
Созданная Богом душа неуничтожима, она бессмертна, она начинает свою жизнь в определенном и именно человеческом теле, с которым теперь до скончания века, несмотря на временную разлуку, связанную с его временным тлением, будет неразрывно связана и в которое неизбежно вернется впоследствии, чтобы вместе с ним, воскресшим, после Страшного суда либо уйти на небо, либо сойти в ужасающий огонь ада. Что же касается жизни души в теле до его (тела) смерти, то тут возникает исключительно сложный, зачастую по-разному трактуемый, вызывающий в самом христианстве споры и опять-таки чрезвычайно запутанный вопрос отношений человека с собственной душой. С одной стороны, то, что мы называем homo sapiens, состоит из двух сросшихся, как сиамские близнецы, частей – своего смертного тела и своей бессмертной псюхэ. С другой – не случайно говорят (и подразумевают): «человек и его душа», тем самым разделяя их. В таком случае, кто тогда верховодит? Подчиняет ли себе душа того, в ком она поселяется, или человек (а что тогда такое сам человек? его тело?) является хозяином и волен приказывать ей? За кем, наконец, та самая свобода выбора – за смертным потомком Адама или опять-таки за его душой? Способна ли псюхэ поднять бунт против неправильного решения тела или покорна ему, как рабыня? Несет ли она ответственность за человека или человек несет ответственность за нее? Теософские рассуждения об этом составляют многочисленные тома. Если следовать логике Платона (а этот философ оказал на христианское учение большое влияние), homo sapiens в отношениях с псюхэ доминирует (свобода выбора именно за ним), он волен делать со своей душой все, что ему угодно, – может ее даже продать. Возможно, душа (конечно же, по воле Творца) действительно пассивна. Обладая божественной сущностью, а значит, изначальными понятиями добра и зла, псюхэ только советует человеку, что до́лжно делать, она есть для него своеобразный камертон, но она не в силах воспрепятствовать человеческой (телесной) воле и вынуждена подчиняться ей, а значит, разделять с homo sapiens всю ответственность за его поступки. Так, у хозяина доброго она добрая, у злого – злая. По утверждению богословов, при всей своей неуничтожимости псюхэ может даже духовно умереть, отвернувшись (опять-таки по человеческой воле) от своего Отца-Бога (вот почему плохой человек в самом прямом смысле свою душу губит).
Вообще, что касается выбора между добром и злом, христианство жестко ставит временные рамки: в отличие от того же индуизма времени человеку на раздумья отводится исключительно мало – в пределах единственной жизни (никаких реинкарнаций, «переписываний» и работ над ошибками). Если он не насилует собственную псюхэ, не уродует ее и тем более не продает, а прислушивается к ее советам, следует им, работает над собой и в конце концов выбирает Бога, то после смерти такого праведника душа радостно выпархивает из его тела: никакие особые приключения ей не грозят. Рядом со своим Отцом она спокойно дождется Апокалипсиса, а после возвращения в оставленное на время тело, которое волей Господа полностью возродится, уже знает, где вместе с ним придется ей вкушать бесконечное, безвременное блаженство. Однако горе душе негодяя: эта несчастная псюхэ несет в себе все его грехи, сразу же после оставления тела демоны ада бросятся на нее, измучают мытарствами и в конце концов увлекут с собой в огненную геенну: там она будет корчиться под беспрерывными пытками до Страшного суда, а затем, возвратившись в тело и уже вместе с ним выслушав беспощадный приговор, волей Божьей вновь отправится (теперь навечно) к своим торжествующим мучителям.
Скитания души после человеческой смерти христианство описывает весьма подробно – нет основания не доверять ему в том, что времена для псюхэ грядут действительно трудные. Христианские философы утверждают: по выходе из тела бессмертное существо имеет зрение, память и мышление – конечно, они несколько другие, чем мы себе представляем, но они есть в нем «по естеству» – следовательно, псюхэ видит, слышит и чувствует («Души после разлучения с телом бывают не праздны, не остаются без всякого чувства». Подвижник V века Иоаан Кассиан).
Вот о чем еще христианство свидетельствует: оставив тело, душа оказывается среди духов – добрых и злых. Если псюхэ несет в себе отпечаток праведной жизни хозяина, который склонялся к ангелам и святым, то ее первое общение предстоит с духами добрыми. Напротив, душу неисправимого грешника окружат сущности отвратительные (обычно псюхэ сама тянется к тем, которые ближе ей по духу) – но об этих сущностях чуть позднее.
В течение двух первых дней душа ощущает свободу полета и посещает места, которые были дороги человеку, частью которого она была, следовательно, места эти дороги ей самой. Впрочем, как утверждают отцы Церкви, часто псюхэ бывает растеряна и какое-то время находится рядом с телом, она подобна погорельцу, из-за пожара лишившемуся крова, ибо тело, несмотря ни на что, являлось домом ее, но вот теперь дом разрушен, и страх терзает душу, она не решается улететь и страдает, не зная, что делать дальше.
Души святых, расставшись с телами, не влекутся даже к тем местам, где они творили добрые дела, а сразу начинают свое восхождение. Но внетелесное состояние обыкновенной души есть лишь начало ее странствий. Когда наступает третий день, каждую такую псюхэ ждут совершенно иные сферы. Все религии единодушны в реальном существовании потусторонних демонических сил – опять-таки нет основания не доверять духовному опыту, накопленному тысячелетиями, а также многочисленным свидетельствам о проявлении этих сил в нашей земной жизни (помощь бесноватым – весьма известная и распространенная практика в христианстве, которая не теряет актуальности со времен Иисуса Христа). В потустороннем мире для большинства душ с неизбежным появлением «легионов злых духов» начинается настоящая духовная пытка. И ранее демоны являются нам в разных обличьях: они охотятся за нашими душами и становятся искушениями для нас. Но лишь после смерти человека духи зла показываются его душе во всей своей ужасающей «красе». Когда каждая трепещущая псюхэ на третий день наконец-то всерьез сталкивается с ними, бесы принимают на себя роль строгих судей. Они мстительны и удивительно мелочны – поэтому припоминают несчастной все, даже самые малые грехи, в которые сами же ее и вовлекали. Святоотеческие откровения говорят о точном числе мытарств – их двадцать. На каждом душа самым ужасным образом истязается этими, не знающими жалости, палачами. Пройдя одно испытание, псюхэ сразу же отправляется на следующее – горе ей, если грехи слишком велики: тогда путь заканчивается падением в невероятную пропасть геенны. Христианство постоянно напоминает: бесы настолько ужасны, а мытарства настолько мучительны, что даже Богородица при приближении своей телесной смерти просила Сына избавить Ее от них, что и было Христом сделано – он Сам явился принять Ее душу и защитить тем самым Свою Мать от мучительнейших испытаний.
Итак, третий день наиболее страшный в путешествии псюхэ. Несмотря на то что общая картина испытаний примерно такова, какой она здесь описана, отцы Церкви утверждают – у каждой души свой индивидуальный опыт прохождения пыток.
Покончив с мытарствами, та псюхэ, которую бесы все-таки отпускают, на протяжении остальных, отведенных ей Богом, тридцати семи дней странствий знакомится со всеми частями потустороннего мира. Поначалу ей, измученной, ангелы показывают красоты рая, которые действительно ни с чем не сравнятся (достаточно прочитать Откровение Св. Иоанна Богослова о горнем Иерусалиме), но затем (не случайно существует особое церковное поминание усопших на девятый день после их смерти) обыкновенную душу с ее не очень большими грехами и маленькими достоинствами, и без того перепуганную, в течение всего оставшегося периода подробно знакомят с адом, прежде чем ей назначат место, где, после Суда частного, который только что прошел, она и будет ожидать воскресения собственного тела.
Душа добродетельного человека предвкушает в том назначенном месте вечную радость, а обремененная грехами пребывает в страхе вечных мучений, которые начнутся сразу же после обретения псюхэ ее ставшим бессмертным кокона и Страшного суда.
Я не буду касаться здесь споров между православием и католичеством. Замечу только, что различные течения в христианстве могут расходиться в деталях описания посмертной жизни псюхэ, но при всех своих расхождениях они придерживаются основных принципов. Интересно и то, что в христианстве есть убежденные сторонники реинкарнации душ, которые, ссылаясь на места из Евангелия, где речь идет об Иоанне Крестителе, утверждают: Святая книга дает недвусмысленное указание на то, что Иоанн явился реинкарнацией пророка Илии, ибо, по иудейским ожиданиям, Илия должен был вернуться на землю перед самым пришествием Мессии, чтобы всему Израилю указать на Него. По этому поводу до сих пор не смолкает дискуссия, хотя апостол Павел еще в первом веке недвусмысленно сформулировал мысль, что человек умирает ровно один раз. От имени всего традиционного христианства в одном из своих посланий (к евреям) он совершенно определенно сопоставил смерть человека с единственной, а не многократной смертью Христа, причем единственность жертвы Иисуса подчеркнул особо.
Как утверждают многие специалисты, из ряда многочисленных книг и статей христианских философов, посвященных душе, особо выделяется самое полное до сего времени исследование псюхэ с точки зрения христианства – многотомный труд Стефана Кашменского «Систематический свод учения св. отцов Церкви о душе человеческой».
Главка восьмая: Душа и иудаизм
Представления иудеев о таком существе, как душа, схожи с христианскими, что неудивительно – христианство выросло из иудаизма и питалось его философией. Исключение составляла лишь небольшая группа умников из партии саддукеев, которые отрицали бессмертие псюхэ, все остальные веровали (и веруют) в то, что волей Божьей душа поселяется в человеке (в теле), что уничтожить ее нельзя, что после смерти тела она начинает странствия – и те души, которые Бог посчитает безгрешными, вечно будут сиять возле Его престола, а душами нечестивых займется адский огонь. Если судить по 3-й книге Ездры, написанной вскоре после падения Иерусалима в 70 году нашей эры (в своем третьем видении Ездра внимает откровениям Бога о посмертном будущем псюхэ), Господь предупреждает:
«Души тех, кто презирал и не сохранял путей Всевышнего, пренебрегал Его законом и ненавидел боящихся Бога… не войдут в обители, но немедленно начнут в мучениях, в постоянной скорби и печали блуждать по семи путям. <…> Что же касается тех, кто сохранял пути Всевышнего, то удел их по разлучению с тленным сосудом будет следующий: во времена пребывания в нем они с трудностями служили Всевышнему и каждый час подвергались опасностям, лишь бы всецело сохранить закон Законодателя. Поэтому приговор о них будет такой: прежде всего они увидят с великою радостью славу Того, Кто принимает их к Себе; покой же они буду вкушать семи видов <…> таков удел душ праведников, возвещаемый им тотчас же».
Согласно откровениям Ездры, души до момента суда над ними содержатся в преисподней, в специальных «хранилищах»: когда же настанет тот знаменательный час, им откроются и невидимые до того времени место мучений (геенна), и место покоя (рай). Интересно представление о псюхэ известного иудейского философа Филона Александрийского (ок. 25 г. до н. э. – ок. 50 г. н. э.), которое в какой-то степени воплотило в себе понятия иудеев о том, что есть душа, откуда она приходит и какую играет роль в жизни человека (Филон относился к тем, кто не поддерживал идею воскресения тел, настаивая на бестелесности душ, и вообще подчеркивал различие души и тела). По Филону, псюхэ не только имеет божественное происхождение, но если она не теряет связи с Богом, то служит еще и Его домом в человеческом теле (вспомним Паратму). В свою очередь, домом, даже храмом для души является тело. Сама душа бессмертна, потому что бестелесна, после смерти человека, в которого она вселилась, безупречная душа переселяется к Богу, а нечестивую ожидает отпадение от Бога, а значит, «вечная смерть» (напомню: христианские философы называют подобное состояние «духовной смертью»). Хочется особо подчеркнуть – Филон один из тех, кто признает за душой полную самостоятельность действий, пока та находится в человеческом теле. Так, по Филону, скорее всего, именно душа повелевает человеком, и именно у псюхэ есть право выбора – она может быть подвержена страстям и в таком случае способна отречься от Бога и от своей божественной сущности, а значит, при всем своем бессмертии, «погибнуть». Не могу не привести рассуждение Филона, показывающее безнадежность всех философий разгадать тайну псюхэ: «Вот я, например, состою из души и тела и, как кажется, обладаю умом, рассуждением и ощущением, но ничто из них не рассматриваю как мое личное. Ибо где было мое тело прежде рождения? И куда оно денется, когда я отсюда уйду? А где особенности возрастов, которые сменяли друг друга в то время, как мне казалось, что я все тот же? Где грудной младенец, где подросшее дитя, где большой ребенок, где тот, кто только-только начинает взрослеть, где отрок, тот, у кого пробивается первый пух, юноша, зрелый муж? А откуда пришла душа, и куда она уйдет, и сколько времени будет нам сожительствовать? А что она есть по своей сущности, разве можем мы сказать? И когда, собственно, мы ее обрели? Прежде рождения? Но ведь мы тогда не существовали. Может быть, она будет у нас после смерти? Но ведь мы не будем тогда телесными, смешанными и качественными, но устремимся к новому рождению, будучи бестелесными, несмешанными и бескачественными. Но и теперь, когда мы живем, мы скорее находимся у нее во власти, чем управляем ею, и скорее она знает нас, чем мы ее. Ибо она знает нас, оставаясь непознанной нами, и отдает приказания, которым мы по необходимости подчиняемся, как рабы своей госпоже. Когда же она захочет получить развод, то обратится к Архонту и покинет нас, оставив наш дом пустым и безжизненным. И даже если мы будем принуждать ее остаться, все равно ускользнет, ибо ее природа так тонка, что любая попытка тела схватить ее обречена на неудачу».
Главка девятая: Душа и ислам
Несмотря на скудость сведений в самом Коране (нужно признать – в этой священной книге нет последовательных упоминаний о жизни души после смерти тела, Коран лишь вскользь касается вопросов, связанных с ее посмертным существованием), ислам тем не менее имеет в своем арсенале многочисленные комментарии теологов, которые, расшифровывая скрытые значения рассказов о пророке (хадисов) и откровения Корана, однозначно свидетельствуют о посмертной жизни псюхэ и о воздаянии, которое она получает. Описание ее странствий если и разнится с христианской и иудаистской версиями, то весьма незначительно. Основные свидетельства, как в христианстве и иудаизме, прямо указывают о выходе псюхэ из тела после смерти последнего, о полетах ее, о встречах с потусторонними существами (добрыми, злыми), о мытарствах, а также о существовании рая, ада, Страшного суда и о последующем воссоединении псюхэ с телом, прежде чем они отправятся в уготованное им Богом место. Впрочем, и здесь некоторые течения (например, суфии) упорно придерживаются теории реинкарнации душ: тем более стихи Корана, подобно отдельным местам Евангелия, дают повод к такому толкованию. В сурах достаточно часто встречаются упоминания о воскресении, которые вполне могут относиться и к реинкарнации (так, в одной суре Бог говорит Моисею: «Мы сотворили тебя из земли, и Мы вновь обратим тебя в землю, и затем вновь сотворим тебя»).
Традиционный ислам свидетельствует: в мирской жизни псюхэ заключена в «темницу» тела, причем личность человека способна самым прямым образом влиять на душу. Худой человек склоняет ее к плохому, добрый – к доброму. Нужно заметить, что в трактовке ислама душа далеко не пассивна. Как частица Бога в человеке она сопротивляется злу и может взять верх (хотя может и уступить). Таким образом, идет постоянная борьба. В случае победы плотских желаний участь самой псюхэ незавидна. Но часто душа способна контролировать личность посредством веры, поклонения Богу и правильного поведения. Тогда она спасает себя и тело.
Ангел Азраил, созданный из света, самый прямой предвестник смерти, может появляться и присутствовать сразу во многих местах одновременно, забирая в один и тот же час тысячи душ, но не создавая при этом путаницы. После явления к умирающему Ангела Смерти псюхэ устремляется в свой полет непосредственно к Богу. Если человек был настоящим праведником, ей встречаются только добрые духи, они приветствуют душу везде, где она пролетает, восклицая примерно следующее: «Чья это душа?! Как прекрасна эта душа!» Те же ангелы, которые по повелению Азраила сопровождают такую псюхэ, называют ее самыми прекрасными словами и примерно так отвечают: «Это душа того, кто молился, соблюдал пост, подавал милостыню и переносил все трудности жизни во имя Господа». Сам Господь встречает такую псюхэ, приветствует, а затем приказывает сопровождающим: «А теперь отнесите ее обратно в могилу, где тело ее». Душа праведного бережно относится к месту упокоения тела, а вот с душой грешника обходятся весьма жестко – и в полете к Богу встречает она лишь демонов, которые не особо с ней церемонятся и после представления Господу ее со всем презрением буквально сбрасывают обратно в могилу. Именно там над любой псюхэ (и грешной, и доброй) совершается первый суд, ибо являются два ангела – Мункар и Накир – с черными лицами, грозными голосами, ослепительными голубыми глазами и волосами до самой земли. Вопросы следуют за вопросами: «Кто твой Бог? Кто твой пророк? Какую религию ты исповедовала?» Увы, что касается всех «неверных» (то есть не мусульман), даже если они были самыми благодетельными людьми, неверие в Аллаха и Его пророка гарантированно навлекает на них проклятие и обрекает на ад (Джаханнам). Но и душам мусульман приходится несладко: лишь псюхэ того, кто истинно верил в Бога, ответит на все вопросы двух неподкупных и устрашающих ангелов.
После встречи с голубоглазыми судьями души вместе с неразложимыми частями тела остаются в могильном загробном мире – имя ему Барзах. Там, в ожидании окончательного вердикта (который к грешным душам, разумеется, будет самым суровым), псюхэ ощущает либо благоуханное «дыхание» рая, либо смрадное – Джаханнама. Если умерший жил доброй жизнью, все его праведные деяния появятся перед славной его душой в этом промежуточном мире в виде дружелюбных товарищей. Для нее откроются виды райских садов, и, как утверждает хадис, сама могила, в которой покоится тело праведника, станет подобна райскому саду (правда, если есть еще неотпущенные грехи, какую бы хорошую жизнь ни вел человек на земле, душе его предстоит пройти мытарства в том самом Барзахе, чтобы окончательно очиститься перед Воскрешением). Стоит ли говорить о том, какой ужас царит в могиле закоренелого грешника – все дурные поступки являются его псюхэ в виде скорпионов и змей, она постоянно мучается, видит страшный огонь, и место ее пребывания превращается в преисподнюю.
Описание Судного дня в исламе не сильно отличается от христианского описания. В конце времен Бог воссоединяет души и их воскресшие тела, с тем чтобы воздать каждому свое – псюхэ вместе со своими телами теперь уже навсегда по воле Его отправляются либо в рай, либо в ад.
В исламе упоминается и о душах братьев наших меньших. Хотя Коран признает – псюхэ коровы или лошади более низкого порядка, чем человеческая, но тем не менее он утверждает: сознание животных есть нечто большее, чем простой инстинкт или интуиция. Таким образом, животные могут познать своего Создателя и поклоняться Ему, ибо Всевышний общается со всеми сотворенными Им живыми существами.
Главка десятая: Душа и инки
Инки знали – в человеке живет бессмертное существо. Некоторые источники утверждают: по представлениям этого таинственного и до конца так и не разгаданного сословия, создавшего в свое время мощную империю и правившего народами Латинской Америки, после смерти хозяина псюхэ, если носитель ее добродетелен, отправляется прямо в «обитель Солнца». В противном же случае душа свергается в ад (око-пака), где ждут ее холод и голод.
Главка одиннадцатая: Душа и буддизм
Следует признать: в буддизме, несмотря на его почтенный возраст, до сих пор нет единого взгляда на то, что из себя представляет псюхэ. Так как основная задача этой религии – тотальное избавление индивидуума от страданий, выход homo sapiens из цепи перерождений и полное растворение человека в нирване, душа в ней зачастую не «реальное существо», не «божья данность», не «явление Духа», а, скорее, предмет для философских упражнений. Некоторые последователи Гаутамы полностью отрицают ее существование. Теравада – южноиндийская школа – учит следующему: псюхэ человека (или его «я») состоит из пяти элементов: материи, телесных ощущений, восприятий, побуждений-эмоций и сознания. Во время человеческой смерти эти пять элементов попросту распадаются и «я» перестает быть. Правда, признается следующее – подобное растворение «я» не является абсолютным концом, оно – предвестник новой фазы существования (согласно кармическому закону, «пять элементов» никуда не деваются, более того, они каким-то неведомым образом переходят в новое тело, складываются в иное сочетание – и все начинается заново).
Адепты двух других направлений – Махаяны и Ваджраяны – уверены: душа существует вечно, и после смерти своего носителя псюхэ никоим образом не распадается, а переселяется в очередную плоть, будучи нерастворимой сущностью.
Сам основоположник учения не заявлял категорически, что души нет, напротив, иногда он упоминал пудгалу («я»). Все школы буддизма согласны с аксиомой – через пятьсот реинкарнаций Будды прошло одно и то же «я» великого Учителя, то есть его душа. Имеются свидетельства, что в эпоху Хань (II–III вв. до н. э.) основными постулатами религии были как раз наличие души в человеке, ее неуничтожимость, «круговорот перерождений» и карма.
Таким образом, наличие сразу нескольких точек зрения позволяет одним современным исследователям твердить о том, что если буддизм отрицает существование тела, то и душа, как самостоятельный объект, им тоже отрицается, другим – яростно протестовать против подобного вывода и приводить не менее значимые аргументы в пользу существования псюхэ.
Чтобы разобраться во всех этих тонкостях, нужно посвятить буддизму не один десяток лет.
Однако, несмотря на кардинальные отличия этого учения от иудаизма, христианства и ислама, тем не менее и в нем проскальзывают мотивы, знакомые и иудею, и христианину, и мусульманину. Так, упомяну об одном из самых удивительных и подробных свидетельств в буддизме о существовании потустороннего мира. Я имею в виду знаменитую «Тибетскую книгу мертвых». Область, в которой путешествует то, что мы называем душой умершего человека, была названа тибетскими ламами Бардо. Реинкарнация, по представлению лам, неизбежна, поэтому, обращаясь к умершему, они дают наставления, как следует поступать его псюхэ во время ее промежуточного блуждания между смертью и новым рождением (ламаизм утверждает: подобное состояние длится сорок девять дней). Наставления эти настолько психологически выверены и убедительны, что у читавшего их не остается никакого сомнения – «Книга мертвых» досконально знает, что происходит с псюхэ во время всех сорока девяти дней пути, и предупреждает о том, какие страшные испытания (видения, мытарства) ждут ее, прежде чем она воплотится в очередном человеке.
Примечание здесь одно: тот, кто не читал «Тибетскую книгу мертвых», должен обязательно с ней познакомиться.
Главка двенадцатая: Душа и те
Есть те, кто твердит: душа – спотыкающийся путник. Единственным надежным убежищем для бессмертной души, в котором она чувствует себя, как в материнском лоне, является тело. Блуждая во враждебном космосе, неприкаянная псюхэ стремится лишь к одному – попасть в тот дом, угнездиться в нем и, свернувшись клубком, уснуть там, будучи защищенной от реальности мира. Именно в теле нашем ждет ее истинный рай. Но стоит его потерять – вновь мучения, вновь неприкаянность, вновь ужасающий хаос ада, где поджидают беззащитную демоны, готовые бесконечно терзать и мучить ее.
Главка тринадцатая: Душа и другие
Другие свидетельствуют – зарождаясь, вырастая и распрямляясь в коконе-человеке, душа оставляет затем без всякого сожаления скукожившуюся оболочку – там, впереди, для освободившейся бабочки нет ни мытарств, ни смерти, есть лишь беспредельный и вечный полет ее к удивительным хрустальным и светящимся мирам.
Эпилог
Даже бегло ознакомившись с приводимыми здесь поверхностными сведениями (сам я нисколько не стесняюсь своей «поверхности», ибо задача моя в другом), можно видеть, как разнятся взгляды на псюхэ.
Тем не менее тысячелетний человеческий опыт безоговорочно свидетельствует о ее существовании.
Все религии (а также философы-идеалисты) признают за душой безоговорочное бессмертие.
Общее и то, что настоящий разговор о душе начинается там, где заканчивается жизнь каждого из нас.

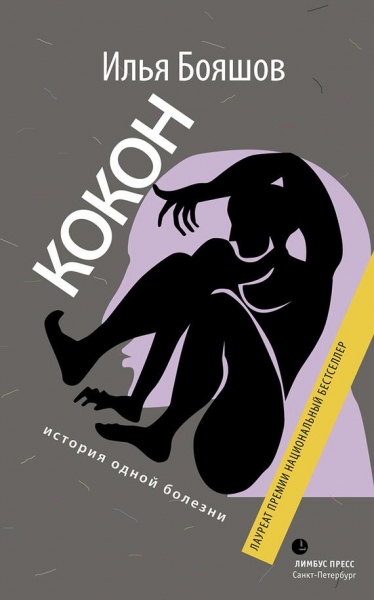


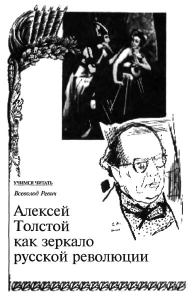


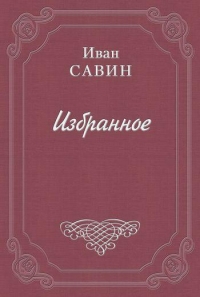
Комментарии к книге «Кокон. История одной болезни (сборник)», Илья Владимирович Бояшов
Всего 0 комментариев