Невесомость любви Рассказы
Гагаринский орешник
Как-то по созревшей весне ехал на велосипеде я из Минеральных вод до Буденновска. Радуясь каникулам, мчался по пустынному асфальту к родимой тете – погостить. В багажнике, на заднем колесе, торчали саженцы грецкого ореха: тетка просила привезти, уж больно она орехи уважала. Батя присобачил саженцы к багажнику – я и поехал, мне что. Я пацан-разрядник, смотаться на велике к родичам в Ставрополь или Буденновск для меня раз плюнуть.
Часа через три затормозил: надоело крутить педали, захотелось поваляться на весеннем лужку возле лесополосы, пожевать галет с сахаром, попить чаю. Я разлегся на пушистом ковре из травы, синих васильков и желтых лютиков, разложил провизию и включил крохотный транзисторный приемник без названия. Радио пиликало то на скрипке, то на виолончели, а потом затренькало на балалайке.
Вдруг музыка смолкла, и после многозначительной паузы раздались знакомые позывные из песни «Широка страна моя родная». Обычно эти позывные играли перед важными сообщениями. Я прислушался. Заговорил Левитан, и я раззявил рот – диктор сообщал о каком-то Гагарине, полетевшем в космос.
Я огляделся в растерянности: такая новость – и мне одному! Лихорадочно собрал пожитки и бросился в седло, бормоча: «Космонавт… Восток… Гагарин… елки-палки!»
Показался какой-то хутор с названием Веселая роща. Гремел на столбе «колокол», люди обнимались, мужики бросили пить вермут, и бутылки стояли сиротливые. Маршрутный автобус застрял надолго – шофер раскрыл варежку, а пассажиры разбрелись кто куда. Гармошка играла. Сельповская продавщица бросила прилавок магазина и толкалась в толпе. Шофер молоковоза сидел на ступеньке кабины и широко улыбался, пока молоко прокисало…
Я сполз с велосипеда, сел на лавочку и приобщился к празднику…
…Через три года, после школы, судьба забросила меня служить в ракетно-космическую часть. Это был научно-измерительный комплекс, предназначенный для обнаружения космических объектов и слежения за ними. За годы армейской службы я много узнал о космической мощи державы. И был страшно горд, что служил не абы где!
И все же… Самые яркие, «космические», воспоминания связаны у меня с тем теплым апрельским днем, с дорогой, с Веселой рощей, с гармошкой, наяривавшей «Коробочку», и с обнимающимися людьми, которые повторяли: «Юрий Гагарин! Юрий Гагарин!»
…А теткины саженцы с той незабываемой поры вымахали высоко вверх и давно превратились в могучие деревья. Гагаринский орешник.
В тундре, близ Ямбурга
I
Синими стылыми сумерками спустилась Варвара с небес, несмело ступив на хрупкий наст тундры. Вертолет взвыл турбинами, замигал сигнальными огнями и воспарил под звезды.
Когда метель, поднятая винтом, улеглась, Варвара увидела гусеничный вездеход, похожий на танк, только без пушки. Из люка машины вывалился человек и поспешил навстречу. Его опередила крупная, похожая на медведя, лохматая собака. Не успела Варя айкнуть, как зверюга уже нагло ее обнюхивала.
– Не бойтесь! – крикнул «танкист». – Это Фома! Он не укусит!
И действительно, Фома ласково потыкался могучей мохнатой мордой в Варины варежки, дружески завилял хвостом и переключил свое внимание на саквояж, задышав глубоко и шумно. В сумке находились предметы профессиональной деятельности Варвары – модный цифровой диктофон, авторучка с незамерзающими чернилами, блокнот с изысканными обложками из толстых шпалер, натурально подделанных под крокодиловую кожу. Здесь же покоилась косметичка – одних флакончиков с благовониями пять штук. Из дамской утвари Варя прихватила в тундру суперфен, электробигуди на воздушных подушках, массажные щетки. Не забыла кинуть в сумку и ажурное бельишко. Но не ароматы заморских духов и не химический запах фальшивой шкуры аллигатора взволновали Фому. Пьянящий дурман продовольственных продуктов раздразнил обоняние тундрового пса, плохо знакомого с гастрономическими достижениями цивилизации. Фома засопел прерывисто и страстно. Упакованные в газетные обертки, источали ароматы курица-гриль, душистые кольца чешских колбасок, килограммовый шмат розово-белого сала с дольками чеснока и росчерками мясных прожилок. Это были «харчи на черный день»: опытные коллеги внушили девушке, что жрать в тундре, кроме сусликов, нечего.
Варвара пребывала в том юном послеуниверситетском возрасте, когда все холестериновые лакомства не то что не вредны цветущему, здоровому и красивому организму, а наоборот – полезны. Избыточный вес ничуть не портил Вариной фигурки. Даже упакованная в свитера, телогрейки и тулупчик и оттого похожая на заблудившегося в тундре озябшего колобка, она была необыкновенно хороша собой – в синих сумерках, под звездным сиянием. Если бы на девушку сейчас взглянул немец, он непременно бы пробормотал восторженно: «Майне кляйне!» Француз бы страстно простонал с проносом: «О-о, комильфо!» Русский бы удивленно присвистнул: «Ни фига себе!» Ненец Викентий, водитель «танка», с жаром заговорил вдруг на иностранном языке, закончив короткий свой монолог словами: «…дывысь, Фома, яка…»
– Вы украинец? – удивилась журналистка.
– Нет, – смутился Викентий. – Я зоотехник, на «газушке» вот умею ездить…
Тут он вконец смешался, махнул рукой, подхватил саквояж и поволок груз к броневику. Фома ринулся следом.
– В салон заходят через задний проход. Других дверей нету, – простодушно объяснил Викентий. – Лезьте через бортик, тут ступенька.
Ступенька была приварена к кузову как раз на уровне талии девушки. Варвара подняла правую ногу и попыталась дотянуться валенком до ступеньки, но безуспешно. Подняла левую – опять неудача.
– Плохо училась в балетной школе, – объяснила гостья Викентию.
– Ничего, сейчас залезете, – горячо сказал хозяин «газушки». – Становитесь коленками на ступеньку, подтягивайтесь на руках и переваливайтесь через борт. А я буду снизу толкать!
Викентий толкнул от всей души. Варя ахнула, перелетела через борт и рухнула на пол, застеленный оленьими шкурами. Лежа на шкурах, девушка огляделась. С потолка «салона» струила сиреневый свет тусклая лампочка. По бокам стояли деревянные скамейки, похожие на нары, застеленные каким-то тряпьем. Пахло бензином и свежими огурцами. «Откуда тут огурцы? – машинально подумала Варвара, усаживаясь на нары и потирая ушибленную коленку. – Может, они теплицы разводят?»
Викентий очутился рядом, сказал озабоченно:
– Перекусим маненько и тронемся. Ехать, однако, до Тибичей долго.
Следом за хозяином в кузов с шумом ввалился Фома. Он начал отряхиваться, орошая сидящих брызгами растаявшего снега.
– Кыш-ш, ядреный пух-х! – воскликнул Викентий.
– Гав! – отозвался Фома и обиженно отвернулся. Запищала радиостанция, привинченная болтами к столешнице.
Викентий схватил переговорную трубку и закричал:
– Слушаю!
Из динамика сквозь эфирный шторм прорвался искаженный радиобурями мятежный голос директора совхоза Касьяненко:
– Викентий! Гутарь громче! Это ты?
– Я! – завопил Викентий. Варвара закрыла уши ладонями. Фома исчез.
Между директором и зоотехником-танкистом состоялся следующий вопящий диалог:
– Дрова! Отвез?! – проголосил Касьяненко.
– А як же! – рискуя вывихнуть себе голосовые связки, проверещал Викентий. – Лябам! Три вязанки! Хоролям! Четыре! А Тибичам не надо! У них три столба! Ну те! Что у связистов сшиздили!
– Добре! А керосином? Океросинил?
– Океросинил! Всех!
– Понял! А корреспондентку?! Встретил? – не унимался Касьяненко.
– А як же!
– Ну як! Она!
– Озвереть! И не жить!
– Озвереть! В каком! Смысле!
– В прямом!
Касьяненко заголосил громче:
– Ты не дюже! А то враз! Дефолт! Сробшпь! Понял?
– Понял!
– То-то! Ну, корми! Ее! И вези на стойбище! Да чтоб… Тут голос директора захлебнулся и утонул совершенно в эфирных помехах.
Установилась гробовая тишина. Варвара открыла уши. Фома вопросительно просунул морду в дверь.
Викентий крякнул, пожаловался на связь, махнул рукой, разложил на столе возле рации цветной номер районной газеты «Демократическое Заполярье», порылся в ящике под нарами и вскоре выудил рыбину – мерзлую и звонкую, как серебряный слиток.
– Нельма, – пояснил он.
Тонким, как шило, и острым, как бритва, ножом он ловко снял с рыбины шкуру вместе с чешуей и принялся строгать бело-розовую тушку.
Сквозь пальцы Викентия обильно потек рыбий сок.
– Жир! – сказал Викентий и облизал пальцы. Скоро на газете высилась гора прозрачных белых стружек. Запахло свежими огурцами.
– Вот строганина!
Викентий разрезал хлеб на крупные куски и насыпал на заметку под заголовком «И помылся, и постригся» горку приправы из соли и черного молотого перца.
Варваре захотелось угостить Викентия чем-нибудь своим. Она порылась в саквояже и вытащила колбасу.
Викентий замахал руками:
– Уберите отраву!
Варвара хотела обидеться, но тут возбужденно заскулил Фома: он был согласен, он не считал колбасу ядом. Варвара отломила ему кусок.
Викентий выбрал большую стружку, обмакнул в приправу и отправил в рот.
– Знаете, – сказал он, блаженно чавкая, – вам надо забыть о котлетах и прочих пундиках. Будете есть рыбу, сырое мясо и пить кровь. Иначе, однако, с голоду помрете.
– Кровь? – в ужасе произнесла гостья.
– Оленью, – успокоил ее Викентий.
Варвара, поколебавшись, осторожно подцепила двумя коготками, как пинцетиком, небольшой ломтик строганины. Глядя на Викентия, уплетавшего за обе щеки, она боязливо откусила небольшую дольку, ожидая, что будет. Она почувствовала холодок нежнейшей плоти, растаявшей во рту. Вкус был необъясним и загадочен. Будто торопясь разгадать эту загадку, Варвара откусила новый кусок и проглотила – почти не жуя.
Викентий придвинул девушке кусок хлеба.
– Без хлеба нельзя. А то живот… Энто…
Съев несколько ломтей, Варя, к своему изумлению, почувствовала необыкновенный прилив сытости. Она прикинула, сколько бы умяла сейчас сала: с полкило, не меньше, голодала ведь целый день.
Викентий тоже, видать, наелся. Губы у него лоснились. Он вытер пальцы о ватные штаны и достал носовой платок – для чистой обтирки. В руках у него появился большой термос.
– Чай не пил – лишился сил! – веско сказал он.
Лицо у Викентия было широкое, скуластое. Над темными глазами свисала черная челка. А нос был каким-то плоским, словно по нему проехался асфальтовый каток. Заметив Варин взгляд, Викентй потрогал нос:
– На соревнованиях разбили… в армии еще. Когда-то боксом увлекался…
Они попили чаю, собрали мусор в пакет. Викентий засобирался. Свистнул собаке, выпрыгнул из кузова, взялся за дверку:
– Держитесь крепче. Ехать неблизко.
Помолчал, подумал и добавил озабоченно:
– Припозднились мы, да и ветер мне не нравится…
Захлопнул дверь, замуровав Варвару в железной коробке.
Коробка взревела, дернулась и, громыхая гусянками, поплыла по снежным волнам.
II
Сорвался ветер и поднял непроглядную снежную муть. Невидимые в густой молочной пелене волки прошли с подветренной стороны, поднялись на холм и залегли в зарослях карликового березняка.
Ветер бил над землей, метель бушевала внизу. На вершине холма тусклой золотой медалью размером с блюдце блестело солнце и синели небеса. Радужно переливался снег, застрявший в голубоватом мехе хищников. Истекал март, и холода уже не были столь остервенелыми и злыми, как в январе.
Там, внизу, в плотном метельном тумане, стояло стадо. Волки нервно шевелили ноздрями, зримо чуя, в каких местах собаки и люди, в каких важенки, молодняк, быки.
В чумах топили печки. Братья Тибичи, Василий и Петр, втихаря слямзили у райсвязи телеграфные столбы, поваленные бурей на сороковом пикете. Связисты кинулись – нету трех опор, видать, стихия унесла. Столбы, пропитанные креозотом, горели жарко. Смрадный дым залетал на звериную лежку и шибал в нос, забивая сладкие оленьи запахи. Звери недовольно фыркали, мрачно рычали, как бы говоря: «Ну, блин, в натуре!»
Волки, как старые соседи, знали много о хозяйстве братьев Тибичи: об упитанности оленей, о приплоде, повадках собак, характере хозяев.
Главой семейства и бригадиром был Василий – низкорослый широкоплечий мужчина лет сорока с потемневшим от заполярных ветров лицом, на котором выделялись светлые озерца глаз. Всю зиму он носил замызганную малицу цвета мутной морской волны.
Василий был сущим наказанием для волчьей стаи. После каждого кровожадного ее набега на стадо бригадир хватал карабин и пускался по следу. Его трясло от гнева. Не спрятаться было серым от убойных пуль пастуха. Стая таяла.
Когда погиб Вожак, на его место после яростной выборной схватки внедрился Клыкастый. Он первым догадался, что дальше так жить нельзя и додумался до новой стратегии выживания – довольствоваться малым. Переедать приятнее, чем недоедать, но шкура дороже.
Идея Клыкастого не всем соплеменникам пришлась по нутру. Заартачился соперник Клыкастого – Одноухий. В пылу полемики лидер стаи откусил оппоненту второе ухо. С тех пор Безухий присмирел. А на публике льстиво скулил, как бы говоря: «Учение нашего вожака вечно, потому что оно верно!»
Уже как год стая брала у стада незаметную малую дань и жила хоть и не сытно, но без потерь. Василий решил, что волки «ушли, однако», запрятал карабин подальше, на дно кочевого сундука. Там лежало все самое ценное: деньги, ваучер, документы, почетные грамоты, тельняшка, вырезка из газеты «Демократическое Заполярье» с портретами хозяина стойбища.
Брат Василия, Петр, одевался в серую малицу с приколотой к левой стороне груди большой, с блюдце, золотой медалью. В летнюю пору Петр цеплял медаль к брезентовой куртке защитной расцветки. Когда-то Петр стал лауреатом певческого конкурса, привез медаль оттуда.
Подвыпив, Петр выходил на вольный простор, и громовым голосом, пугая животный мир окрестностей, ревел:
«Ах, Настасья, Эх, Настасья,
Отворяй-ка ворота!
Отворяй-ка ворота,
Принимай-ка молодца!»
Волки отлично знали: если Петр, сверкая медалью, запел, то пастух он сегодня хреновый. А собаки, слушая пение лауреата, впадали в такую меланхолическую эйфорию, что начинали истошно выть и теряли в процессе мелодического вытья не только слух и зрение, но и даже нюх.
Вся женская половина семейства с детворой угрозы для стаи не представляла. А вот кобель по имени Сашкин Подарок От Чистого Сердца приковывал к себе пристальное волчье внимание. Подарок был выдающимся сторожем стада и следопытом. Не только Безухий, но и сам Клыкастый лелеял лютую мечту изорвать вражину на мелкие части и сожрать с потрохами. Заслужил Сашкин Подарок такой казни: это он выводил Василия на след убегавших хищников, он был страшным предвестником убойных выстрелов. А силы и храбрости пес был такой, что ни один волк в одиночку не рисковал на него нападать.
Прошлой ночью стойбище утонуло в свете огней, в реве мотора. Волки видели, как прибыло одно из тех чудищ, что ползают, словно медведи, по тундре. Лаяли собаки, галдели люди. Из общего хора голосов выделялся бас Петра. Певец громко прокашлялся и затянул: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты!..»
Завыли собаки.
…Клыкастый и Безухий, лежавшие теперь на макушке холма в березняке, поняли: пора. Плюсы: буран, на стойбище гости. Собаки и люди отвлекаются. Минусы: их не было.
Тусклое солнце, похожее на медаль, играло и переливалось красками, словно обещая успех…
III
Проснулась Варвара от детского плача и от воя пурги. Она лежала под оленьими шкурами и вспоминала. Рядом с ней ночевала собака по кличке Лохматая как Пушица. У Пушицы были щенки. Вчера хозяйка чума Лида, жена Василия, подняла над головой керосиновую лампу «летучая мышь» и показала на ворох тряпья: «Туда ложитесь и на кутят не наступите». Не было сил удивляться. Хоть собака, хоть крокодил – лишь бы добраться до подушки. Но подушки не было – под головой у Варвары оказался зеленый вещевой мешок, набитый чем-то мягким. Она, не раздеваясь, рухнула на постель из шкур и отключилась, проспав до полудня. Перед пробуждением ей приснилось, будто щенки, спавшие у нее под боком, вдруг заплакали детскими голосками – тонко, жалобно. Пушица их баюкала: «А-а-ы-а, а-ы-а!» «Надо же!» – умилилась Варвара и проснулась. Плакал сынишка Лиды.
Вверху чума виднелась дырка с пронзившей ее дымовой трубой, шедшей от печки. Потрескивали дрова, в большой кастрюле с откинутой крышкой варилось мясо. Лида сидела на низком табурете и ворошила в печке дрова. В левой руке она держала плачущий сверток. Бросив кочергу, Лида дала ребенку грудь.
Варвара вспомнила, что лежит в шубе, валенках и озорно улыбнулась: «Вот досада! Не придется щеголять в чуме в ажурных трусах!» Она поприветствовала хозяйку и спросила, где в чуме туалет. Лида сказала, что туалета нет.
– Как?
– Если по-маленькому – вон ведерко, пока мужики в стаде. А если… Тогда надо надевать малицу и ходить в тундру.
– Так пурга! – поежилась Варя.
Лида объясняла, что в малице очень удобно, не поддувает, и пообещала научить девушку основам эксплуатации этого замечательного тулупа на оленьем меху.
По случаю приезда гостьи Василий завел бензиновый движок с генератором и пустил в чум ток. Загорелись две лампочки. Первыми пришли дети Петра, три девочки и мальчик. Они сели возле печки, украдкой поглядывая на Варвару. Дети были похожи друг на друга – румяные, черноглазые, белозубые. Варя раскрыла саквояж и протянула им гостинцы – полиэтиленовые мешки с конфетами «Ласточка» и печеньем «Юбилейное».
– Спасибо, – сказали дети хором и засмущались. Пришел Петр с беременной женой Полиной. Они сели напротив, скрестив ноги калачиком. Петр был навеселе, он подмигнул Варе и пророкотал вполголоса:
«Ямщик, не гони лошадей!
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить…»
Полина толкнула его кулаком в бок и сказала Варе добродушно:
– Не обращайте на него внимания.
– Как же, очень хорошо, – ответила Варвара.
Петр приложил ладонь к сердцу и поклонился.
– Отчего вы бросили петь? – спросила Варя.
– Суета сует, – философски сказал Петр и махнул рукой.
– Он поет теперь для души, – сказал, подсаживаясь, Василий.
– Спивался на сцене, – встряла в разговор Полина, выразительно взглянув на Варю. – Много завистников. Но об этом не пишите в газете.
Рядом с Лидой сидела ее дочь Рита – хорошенькая девчушка лет семнадцати. Рита училась на последнем курсе Салехардского училища культуры и к родителям на каникулы приехала. Рита помогала матери расставлять посуду на низеньком широком столе. Варвара с готовностью выложила на стол свои харчи.
Василий взял ложку, зачерпнул густоты, отхлебнул чуток, крякнул, сказал:
– Однако!
Все взяли ложки. Минут пять протекли в полном молчании.
– Поживу у вас, – обратилась журналистка к Василию.
Василий наклонил миску, вылил остатки юшки в ложку, отправил в рот, сказал кротко:
– Живи.
– А для каких целей, если не секрет? – поинтересовался Петр. Он обгладывал мосол, и жир капал на медаль.
– По заданию газеты пишу о жизни оленеводов.
– Благородная задача, – важно сказал Петр и покачал головой.
– Буду работать наравне со всеми, – пояснила Варя.
Василий кивнул в сторону Лиды:
– Помогай по хозяйству.
– А карточки будешь фоткать? – спросил Петр.
– Разумеется.
– Десятка с щелчка, – сказал Петр.
– С какого щелчка?
– Я ж буду позировать. Положен артисту гонорар.
– Да-да-да! – смущенно пробормотала Варвара. – Само собой, конечно…
Петр начал загибать пальцы:
– Голландцы были – платили, немцы – платили, англичане… Фунтами!
Петр закончил счет, явно сожалея, что пальцев всего десять.
– У меня нет валюты, – расстроенно сказала гостья.
– Ничего, – успокоил ее Петр. – Можно и рублями.
– А мне гонорар не нужен, – проговорил Василий. – Отработаешь так – без оплаты!
Раздался трескучий шум мотора – подлетел к двери снегоход. Откинулся полог, и сквозь метель в чум ввалился большой человек в толстом комбинезоне и унтах. Это был голубоглазый парень со следами золотой небритости на щеках. Рыжий весело поприветствовал компанию и подсел к Ритке. Ритка засмущалась, зарделась, захихикала, а рыжий ей что-то горячее зашептал на ушко.
Это был Кирька Белугин из Ямбурга, ухажер Риткин. Он за ней мотался между вахтами аж в Салехард, угрожал женитьбой. Черт его знает, может и женится когда-нибудь.
Василий обратился к Кирьке:
– Мясо хочу выбросить на Ямбурге. Пойдет?
Кирюха оторвался от невестиного уха:
– Оленина пойдет.
– А сырок не пойдет?
– Сырок не пойдет.
Василий задумался о чем-то своем, помолчал и вновь повернулся к Кириллу:
– Шибко не гоняют?
– Совсем не гоняют.
– Это хорошо.
Василий вновь погрузился в раздумья и помолчал минут пять под стук ложек. Встрепенулся, спросил:
– А мука подорожала?
– Не подорожала.
– А сахар?
– Подешевел.
– А с бензином как?
– С бензином хреново.
– Директор чего?
– Говорит – дадим заправку.
– Это хорошо.
Василий помолчал еще и вновь обратился к Кириллу, прилипшему к Ритке:
– А ненецкая гостиница?
– Работает. И Валентина на месте – директорша.
– Надо, однако, ехать! – решительно промолвил Василий.
Закончился обед, разбрелись все кто куда. Ушел Петр со своей женой и детьми, исчезла парочка куда-то, Василий направился к стаду, Лида вышла за дровами. В чуме стало тихо, лишь выла метель да стучал вдалеке движок электростанции.
IV
…Стая неслась россыпью, наперерез ветру, пробивая плотные потоки метели. Мощный ход хищников ускорялся по мере приближения к стаду. Волки мчались тенями, чувствуя, как наливаются радостью их голодные, мускулистые тела. Безухий летел серым вихрем, ликующе взглядывая то на Клыкастого, бежавшего справа, то на Разноглазую, молодую самку, игравшую первую весну.
Клыкастый едва касался широкими лапами твердого наста и чувствовал, как им овладевают азарт, ярость, гнев.
Яростный азарт, граничащий с гневом, передался другим участникам набега. Волки не видели оленей, но чувствовали их рядом.
Оборвалась мгла, и ударили по стаду волки, завалив несколько важенок и телят. Опьяненные запахами свежей крови и бури, волки впились в громадное туловище стада, терзая его.
Стадо пронзила глубокая боль, оно тяжело шевельнулось и в панике понеслось, набирая разбег, в серую мглу…
V
Варя прилегла обдумать свое житье-бытье, наметить сюжет фоторепортажа, но незаметно уснула. Она не слышала, как топот тысяч копыт перекрыл вой метели, крики людей и визг собак. Этот гулкий топот ворвался в стойбище, затопил все другие звуки. Сметая все на своем пути, живой поток ударился о поленницу, под которой возилась Лидия. Поленья обрушились на женщину, и она свалилась в сугроб. А гул затих.
Когда Варвара проснулась, ребенок пищал, а лампочки все по-прежнему ярко освещали нутро безлюдного чума. Мальчик лежал в берестяной люльке. Варя огляделась в поисках Лиды, но ее нигде не было, лишь Пушица копошилась со своими щенками. Тогда девушка откинула полог, и метель тут же влепила ей зарядом снега пощечину. Варя юркнула назад, утирая мокрое лицо рукавом. Она подошла к люльке и осторожно потрогала ребенка, малыш почувствовал прикосновение и зарыдал еще громче. «Поди есть хочет», – подумала Варя и отыскала в люльке соску. Малявка бросился, как волчонок, на пустышку, энергично и шумно зачмокал, а потом вновь разрыдался. Варя решила покачать люльку. На какое-то время младенец угомонился, но потом заревел.
– Куда все подевались? – расстроилась Варя. – Даже собак не слыхать.
Она догадалась – надо пеленки поменять. Варя никогда не пеленала детей, только в кино видела, как меняют памперсы. Вытащив орущее создание из люльки, с содроганием развернула сверток. Она заранее приготовила несколько своих салфеток, укутала ими тельце и завернула в одеяло. Мальчишка на короткое время затих, а затем разревелся пуще прежнего.
Положение было отчаянным – Варя совершенно не знала, что делать. Чуть не плача от безысходности, она заткнула уши, ринулась вон из чума и во всю силу легких позвала Лиду. Но ее голос пропал в метельном вое. Наоравшись, она вернулась в чум, взяла сверток в руки и принялась баюкать, прохаживаясь туда-сюда. Но сколько она ни ходила, мальчонка не умолкал. В отчаянье, решительно расстегнула Варя кофту и лифчик, обнажила грудь и сунула в орущий роток. И сама едва не заорала благим матом от боли – так яростно впился в нее малыш! Как будто понимал: теперь – настоящее, теперь – без обмана…
Лида очнулась, и первая ее мысль была о ребенке. Гудела и раскалывалась от боли голова, ныла спина.
Женщина выбралась из-под поленьев и побрела к жилищу. Она вошла в чум, ее взору предстала Варвара, сиротливо притулившаяся с ребенком у потухшей печки.
– Спит? – прошептала Лидия.
– Ага. Орал два часа. Дала сиську – он и заснул. А молока ведь нету. Вот чудо!
Лида сказала, что, наверное, напали волки – вот стадо и сорвалось.
Послышались возбужденные голоса, в чум вошли мужчины, а с ними Белугин с Ритой.
– Дай мне винтарь! Я их! – орал Петр. Потом он прочистил горло, распрямил грудь и запел:
«Тореадор, смелее в бой,
Тореадор, тореадор!..»
Василий молча возился в сундуке, доставая карабин. Сказал:
– Стадо ушло к озеру. А собаки – в Лосиную балку. Там волки. Однако.
Мужчины на двух «Буранах» пропали в метели.
– Надолго, – махнула рукой Лидия, – может, несколько дней. Пока волков догонят да олешков соберут – так и вьюга кончится…
Женщины колготились: делали приборку, носили дрова, кочегарили печку. Потом пришла Полина, и Варвара устроила выставку своей парфюмерии.
– Дарю, – расщедрилась она.
Полина и Лида выбрали помаду, Рита к помаде прихватила духи.
– Хорошие, – со знанием сказала она, поливаясь духами. – В Салехарде стоят три тысячи.
– Дерут, – ответила Варя. – В Москве, конечно, дешевле.
– Ты в Москве где живешь? – спросила Рита.
– В Мытищах. Такой район.
– А я кроме Салехарда, нигде не была. Даже в Москве.
– Ничего, успеешь еще!
– Страшно. Кирька зовет ехать куда-то на Кипр, а мне боязно. – Рита поежилась, как от холода.
– Чего бояться?
– Он рассказывал, поехали туристы из Ямбурга в Индокитай, а там в тюрягу угодили. Ни за что! Дикие законы. Одна девушка по имени Наташа сутки просидела в камере с ихними уголовниками. Это ж надо! Как можно так с женщинами? Дикари.
– Давайте спать, поздно, – сказала Лида.
– Пожалуй, – откликнулась Варя. – Целый день зеваю, в сон клонит. Наверное, от перемены климата. В Москве уж тепло…
Она залезла под шкуру и скоро задремала. Подумалось: «Хоть бы душик какой. Как без бани месяц?»
Ей привиделся директор Касьяненко в обличье Петра. Он заботливо вопрошал: «Вас океросинили?» А в руках держал, балда, банную шайку и мочалку. Варвара кинулась, как ведьма, по чуму, и ей сделалось весело. «Ни хрена, – крикнула, – нет керосина, нет бензина, и мазута то ж!» Директор пропал, а Варя уже баюкала младенца. Она баюкала и успокаивалась, и потом ей стало понятно, что все идет очень хорошо, просто замечательно. Пробежит месяц, она проживет здесь небольшую, но полную впечатлений жизнь, что-то узнает и напишет отпадные, на зависть друзьям и назло врагам, репортажи.
Она улыбнулась и крепко заснула.
Ложкин и Тучин
Давным-давно, в прошлом веке, когда еще летал Валерий Чкалов, молодые авиаторы Иван Ложкин и Павел Тучин нежданно-негаданно угодили в группу специального назначения. Эта группа именовалась особой эскадрильей воздушных авианосцев. Когда летчики узнали, чем им придется заниматься, они оробели. Мыслимое ли дело – кататься в небе верхом на бомбардировщике! Конечно, не буквально верхом, а на крыле, но ведь и крыло бомбовоза – это тебе не посадочная полоса для истребителя. А как взлетать?
Не за свои шкуры боялись Ложкин и Тучин. Мучил страшный вопрос: вдруг не оправдают высокого доверия партии и комсомола?
Курсантам объяснили, что они будут выполнять важные стратегические задачи. Какой запас топлива у истребителя? Максимум – на 50 минут. Только взлетел – думай о посадке. А на воздушном авианосце дуй хоть за тысячу верст, выполняй задание и подобным же макаром возвращайся на базу. Такая «верховая езда».
Полетели Ложкин и Тучин «верхом» в первый раз. Непривычно было и жутко! Бомбардировщик с «ястребками» на крыльях – как куриный нашест с хохлатками. Разбежался «нашест» длинно и вскарабкался, изо всех сил цепляясь за тучки, в небесную высь. Сидят пилоты в своих самолетах, млеют от новизны ощущений, на кабину «извозчиков» посматривают, не дают ли знака. Ага, машут, чтоб запускали движки: в начале тридцатых годов радиосвязь в советскую авиацию еще не дошла. И вновь знак: стартуйте! Тучин вспорхнул, а Ложкин не может: замки-держатели заклинили, не отпускают ястребок. Газует Ложкин, а из кабины бомбардировщика отчаянные угрозы кулаками: дескать, глуши мотор, балда, крыло оторвешь! И Тучину семафорят: садись на крыло, чтоб не было крена! А Тучин боится: вдруг врежется и собьет бомбовоз?!
Натерпелись…
Через год тренировок пилоты авианосцев умели играючи, как циркачи, выполнять взлеты-посадки, даже ночью экипажи были готовы к ответственным боевым операциям. Вдруг нежданно свалился приказ – эскадрилью разогнать. Каким-то высоким чинам затея с авианосцами показалась дурью, пустой тратой государственных средств. Военная служба – судьбина разбросала Ложкина и Тучина по белу свету: одного на юг, другого на восток. За три года до войны они потеряли друг друга из виду…
…Тяжелый бомбардировщик с грохотом ползет в кромешной тьме возле самых звезд – на максимальной высоте, какая доступна бомбовозу с двумя истребителями, прижавшимися к крыльям. Капитан Иван Ложкин уже три часа дремлет в открытой кабине биплана, периодически грея нос в кулаке. На пилоте меховой комбинезон, унты-сапоги, ушанка. По другую сторону фюзеляжа бомбардировщика прижух в кабине истребителя напарник Ложкина, капитан Павел Тучин. Офицеры встретились две недели назад. Ложкина сняли с боевого вылета и под секретом доставили в штаб воздушной армии. Смотрит Ложкин и глазам не верит: сидит в красном уголке живой и невредимый Тучин и листает от скуки замусоленные газеты! Вот была радость! Офицерам заявили в штабе, что надо вспомнить былое, и что они вновь становятся участниками «верховой езды». Но чтоб ни-ни! Никаких разговоров.
Возле «ишачка» Ложкин растрогался. На И-15 он начинал служить, воевал в Испании. Отличная боевая машина для тех лет. Время было победное, со звоном рекордов, блеском славы. Летали – сколько желали. Курсанты быстро становились мастерами. Но после гибели Тухачевского в ВВС хлынули люди, равнодушные к воздухоплаванию, истинные враги Отечества. Они, они сгубили боевую авиацию. Мало сказать, что чиновники свели до нуля летную подготовку, так они еще поставили под негласный запрет выполнение фигур высшего пилотажа: боялись, что будут ЧП. А без ЧП – все тихо, спокойно! Самыми лучшими летные показатели считались у тех авиачастей, где не наблюдалось и намеков на происшествия. Но, как правило, там и не летали.
Тучин смотрел на своего «ишака» с неприязнью, даже отвращением. На этом истребителе он был сбит в начале войны. Никакой самолет. Телега. А был массовым в сорок первом. Налет часов у немцев и у нас был разителен: наши почти не летали. Лишь немногие «старики», такие как он и Ложкин, выходили из боев невредимыми – сказывался опыт, мастерство.
Наконец начались тренировки. Высший пилотаж, воздушные посадки на крылья бомбардировщика, старты с крыла, учебные воздушные бои, бомбометание. Через две недели изнурительной подготовки начальство приказало «кончать игру».
…Летчиков доставили к командующему – живой бритоголовой легенде воздушного флота. Командарм изложил суть дела и поставил задачу. На большой высоте их доставят в Румынию, там они бесшумно спланируют к нефтяному району Плоешти, приблизятся к нефтепроводам через Дунай и уничтожат их к чертовой бабушке. Под конец монолога генерал сказал так:
– Тощий «ишак», конечно, не газель, но… Никакой другой истребитель тут не годится, требуется ведь длительное планирование с максимальной бомбовой загрузкой. С вашими навыками можно сотворить чудо. Слышите? Операция на контроле у Ставки.
Командующий поскреб лысину, вздохнул и неожиданно тепло добавил:
– Вот что, ребятки, я вам скажу. Одно из двух – или прорветесь, или сгорите. Надо, парни, прорваться…
«Уж над Румынией, – взглянув на светящийся циферблат, подумал Ложкин. – Скоро Плоешти. Подкрасться бы ловчее, а там… Порушим систему. За месяц не очухается фриц. Без нефти он, как без кислорода».
«Скорее бы, – посмотрев на часы, подумал Тучин и усмехнулся. – Отбабахать километровый мост с пятью трубопроводами – это тебе не пять пива выхлебать. Стратегически все верно: в канун масштабного фронтового наступления лишить врага нефти. Главное – подкрасться, не обнаружить себя раньше времени».
Звучит команда запускать движки. Тучин облегченно вздыхает, трогает тумблеры, кнопки, сектор газа. Неслышно в рокоте бомбардировщика чихает и просыпается мотор – задрожал фюзеляж, замерцали сигнальные лампочки. Отвалив от бомбардировщика, «ястребки» делают несколько поворотов и глиссад и, найдя невидимую, нужную им траекторию, начинают пологий спуск с огромной воздушной горы.
…В тяжелом и мутном осеннем рассвете еле проглядывалась цель. Ложкин вышел на нее, к своей радости, просто снайперски. Его самолет стремительной тенью скользнул над зенитными батареями, пошел над мостом и вывалил бомбы. Следом за ним – Тучин. На середине реки оба истребителя расшвыряла страшная взрывная волна: казалось, вспучился, вздыбился в огне и в дыму весь Дунай!
…Бомбардировщик барражировал еще около часа, поджидая самолеты. Потом прощально качнул крылом и ушел в тыл – за Кубань…
…Тучин сгорел, а Ложкин чудом спасся. Его схватили румынские крестьяне и продали местной полиции, а полиция – немцам. До конца войны Ложкин пребывал в фашистском лагере смертников. После Великой Победы американцы передали Ивана советской стороне. Десять лет он отбывал заключение в приполярных лагерях, раскинутых вдоль рождавшейся в конвульсиях и муках железной дороги Салехард – Игарка. Это было чуть южнее уренгойских и ямбургских ягельных мест. Потом «железка» и лагерные бараки заросли травой и деревьями. Лишь опрокинутые на бок паровозы, словно мертвые кровожадные ящеры, еще долго служили напоминаньем о мрачных временах.
…В 1965 году Ложкина наградили. Медалью!Браточки
Братья Семка и Мишка отвоевались. Семка в Берлине, Мишка под Прагой. А до войны они были отродьем кулацких элементов, как выжили – не знали.
Война сделала их матерыми. Хотя ранения получили смешные: у Мишки оторвало два пальца на левой ноге, у Семки – два пальца на правой.
Служили братки шоферами, возили что придется: снаряды и продовольствие, раненых и мертвых. Не раз горели синим пламенем на своих полуторках, рвались на минах, расстреливались с небес. Но как-то избегали смерти.
Когда братков в очередной раз накрывала бомбежка, они яростно молили: «Господи Иисусе, убей быстрей!» И гнали грузовики сквозь взрывной кроваво-черный ад. В общем-то, жить, конечно, хотелось. Хотя все одно ведь убьют.
Сильнее всех мук терзало желание заснуть мертвым сном.
Были смешные эпизоды. Ехал как-то Мишка и вздремнул за рулем. А навстречу – штабной «виллис». Вильнул Мишка и долбанул своей полуторкой «виллиса» в бок. Хотели Мишку под трибунал как вражину. Комполка заступился: солдат, мол, не смыкал глаз четверо суток, а вовсе не покушался на жизнь начальства. Смеялись после.
А с Семкой была история покруче: в плен угодил. И полуторка вместе с американской тушенкой в плену очутилась. Семка валялся, избитый, в каком-то подвале, размышляя напоследок: «Прощевай, брательник! Уж скоро пулю схлопочу».
А утром наши отбили хутор и освободили Семку. Полуторка была целехонькой, только враг изгадил кузов, превратив его в сортир. Семка, матерясь на весь фронт, выдраил кузов и уж было принялся грузить остатки тушенки, заботливо складированные немцами в сарае, как налетел коршуном какой-то майор-интендант и конфисковал консервы.
– Не могу, бляха-муха, не положено! – отбивался Семка.
– Я те дам – не могу! – рычал майор. – Враз под трибунал загремишь!
И потрясал пистолетом.
– Хоть расписочку дайте!
– Это можно. – И расписался на клочке «Правды».
После смеялись. Вышли, однако, братки из войны! Много лет потом не верилось, что живые.
Послевоенная их жизнь была колхозной. Чтобы как-то прокормиться – надо было воровать. А на трудодни – палочки одни. На селе без живности – смерть. Но ежели у тебя корова – плати государству налог натурой: молоком, маслом, сметаной. Ежели курица – плати яйцом. Одно – тебе, другое – государству. Но зерна и кормов не продавали. А денег все равно у тебя в кармане пшик: на добровольные государственные займы стребована копейка. Доставай где хошь корма, но милиции не попадайся!
Так, крутясь ежечасно, дожили братки до своих полувековых юбилеев. Тут послабления всякие пошли, а колхоз от щедрот своих стал выдавать крестьянам и хлебушек, и корма. И легковые машины забегали по сельским проселкам. Пошла вроде жизнь. А все одно нету жизни!
Глянули Мишка и Семка друг на друга – заплакали. Старики стариками: черные, обугленные, морщинистые, седые, как ковыль. Была у них по молодой лихости радость – по девкам и бабам шастать. Прошла. Водочкой увлеклись. Бывало, под вечер, Нина, Семкина жена, глядит в окошко, а там Мишка на своем «зисе» тащит Семкин драндулет.
В хате братки садятся за стол:
– Ну, мать, угощай… По чарке… Спасибо Мишке – доволок.
Нина, раз такое дело, угощает. Выпив и закусив, меняются местами: Семка теперь тащит Мишку на буксире к братушкиной избе. Такие хитрецы!
А на седьмом десятке лет болячки всякие повылазили. И юбилейные медали пошли. Косяком. Пиджаки облепили.
Где ж вы раньше были, медали?
Перестройка подкосила братков. Новейших времен они просто не выдержали и скончались безропотно, один за другим, в канун нового века. Похоронили их незаметно и без речей. Видать, не забыл про братков Господь Бог, вот и позвал к себе. С медалями…
Невесомость любви
В тот памятный вечер пропал техник-старшина срочной службы Егор Новичков. Случилось это так. После вечерней поверки нагрянул в казарму командир нашей роты майор Хохлачев. Хотел он побеседовать с младшим начальствующим составом станций: ночью начиналась очень важная боевая работа. И легкий, на грани прочухана, инструктаж сержантов и старшин, по мнению майора, был не лишним. Тут и выяснилось, что пропал Новичков, скорее всего – удрал в самоволку.
…А старшина в это время валялся утомленный в лопухах за забором воинской части в обнимку со своей подружкой Маргаритой, студенткой местного педтехникума. Смотрел на близкие южные звезды и вслух мечтал о будущей жизни. Ритка тоже смотрела сквозь заросли бурьяна на звезды и влюбленно слушала бред Егора. Наконец, Егор замолк и озабоченно взглянул на светящийся циферблат:
– Ну, мне пора, боевая работа, понимаешь…В те уж стародавние времена, лет тридцать с гаком назад, когда еще существовала в природе Советская Армия, служил я в космических войсках. Это был отдельный научно-измерительный комплекс по обнаружению космических объектов и слежению за ними. Располагались мы далековато от Байконура и Плесецка, но имели к ним самое прямое отношение: как только там запускали какую-нибудь космическую «болванку», наш комплекс тут же садился ей на хвост, снимал с нее все данные и отправлял куда надо для последующей обработки. Таких комплексов в Союзе было с дюжину, в том числе и на «кораблях науки», бороздивших просторы мирового океана. Иногда боевая работа нашей части длилась месяцами, и тогда военный комплекс напоминал гигантского ежа, ощетинившегося крупными и мелкими иглами антенн, а громады куполов «Орбит» сверкали на солнце, как антоновские яблоки.
Впрочем, выпадали и каникулы между пусками ракет. И тогда далеко не придурковатый солдатский и сержантский контингент попадал в цепкие лапы «пехотинцев», с глубоким удовлетворением мучивших его строевой подготовкой, нормативами противоатомной и противохимической защиты. А потом – в жаркие объятия политдокладчиков, с наслаждением истязавших солдат основами марксизма-ленинизма. Но вот труба вновь звала боевые расчеты к ЭВМ, к телемониторам и осциллографам – и строевики с пропагандистами надолго выпадали из поля зрения личного состава. Между прочим, офицеры у нас поголовно являлись «академиками», солдаты как на подбор имели высшее, неоконченное высшее или средне-техническое образование. Родина знала, кого допускать к выполнению космических программ, заботливо и вволю кормила служивых сливочным маслицем, белым хлебушком, красной рыбкой, жирной фронтовой котлеткой, жареной окопной картошечкой, мясцом. Впрочем, каши «кирзы» тоже хватало, но ее скармливали в основном клиентуре гауптвахты.
После успешных боевых работ многие солдаты поощрялись отпуском домой, офицеры награждались медалями и орденами. Служил в нашей части майор Потапов, носивший Звезду Героя. Майор не любил казенщины и с подчиненными обходился по-братски. Рядовые платили взаимностью и стреляли у него сигареты. Потапов был начальником нашей станции ППСЕВ – приемного пункта сигналов единого времени. Когда он впервые появился на нашей станции, мы поинтересовались, какой подвиг он совершил. Майор вынул сигареты «Джебел», угостил нас и рассказал:
– На Байконуре как-то случилась нештатная ситуация. Представляете? Уже подали команду «ключ на старт», а какие-то головотяпы забыли отцепить от ракеты канат устойчивости, которым она обычно привязывается на ночь. Ну, думаю, амба, катастрофа! Мчусь к стартовой площадке. А там уже все в дыму, в пламени. Едва отцепил – и она пошла, родимая! Вот и дали…
Мы от души посмеялись шутке нового начальника, а после узнали, что звезду свою он на войне заработал: собственноручно подбил несколько «пантер» в Курской битве.
В промежутках между боевыми работами и «каникулами» проводился торжественный ритуал – «профилактика оборудования». Ответственный за все запасные части и приборы станции ефрейтор Подкорытов получал из рук майора трехлитровую канистру и удалялся на склад. А на станции в это время обнажались все мыслимые и немыслимые контакты многочисленных приборов и устройств. Тут появлялся озабоченно-сияющий посыльный и вручал бадью начальнику. Потапов доставал пять граненых стаканов, наполнял до краев спиртом, командовал:
– Вперед!
У каждого оператора была своя кружка. Полстакана спирта уходило в кружку – поближе к закуске в образе румяного пирожка с картошкой. Остатки выливались на контакты. Спустя несколько минут на всех станциях комплекса кипела веселая работа по мытью контактов. Офицеры дружно шлендали друг к другу в гости, образовывая возле сейфов со спиртом живописные скоротечные застолья.
…Итак, в тот драматический вечер тридцать с гаком лет назад пропал техник-старшина Егор Новичков. Обнаружил исчезновение майор Хохлачев. Майор заперся в каптерке со старшиной роты Макаром Чемодановым. Гневаясь со страшной силой, Хохлачев начал прижимать к стенке Макара:
– Ты че?! Ты понимаешь, че?! Обледенел?
Майор напирал, грозя старшине гауптвахтой, разжалованием и трибуналом. Но Чемоданов держался стойко. Он сдался, когда Хохлачев тихо и проникновенно, со слезой, произнес:
– Макар, ты че? Посадка с орбиты ведь! Эх, ты мой жеж!
И старшина понял, что имел ввиду под этим «эх» командир. Он имел ввиду начальника политотдела подполковника Лизогубова, запретившего проводить по субботам «голубые огоньки» на территории воинской части с приглашением девчат из города. В штабе, возле бюста вождя мирового пролетариата, громко ругались в тот день Лизогубов и заместитель командира части Суворов. Лизогубов был против «голубых огоньков», Суворов – за.
– После ваших огоньков, – вопил главный политрук, – мы находим кучи использованных презервативов!
«Батя», командир части, заботясь о моральном облике личного состава, поддержал тогда замполита. Если бы не поддержал, с горечью думал старшина Чемоданов, техник Новичков не удрал бы теперь в самоволку к своей Маргаритке, а спокойно дождался субботы, и майор Хохлачев не скулил бы теперь.
– Ладно, – сказал, вздыхая, Чемоданов. – Идемте…
Сначала они навестили начальника караула, а после, в сопровождении разводящего, проникли тайной тропой через часовые посты к забору, заросшему лопухами.
Возле секретной дырки группа остановилась и прислушалась.
– Ну, мне пора, – донесся из-за забора воркующий голос Новичкова. – А ты беги, не то опоздаешь на последний автобус.
Майор радостно встал на карачки, просунулся в дырку, зашипел торжествующе:
– Ш-ш-ш-уточки ш-ш-утишь, щ-щенок? Кастрирую!
…Только старшина Чемоданов, разводящий, часовые да звездная ночь были свидетелями кастрации: впереди бежал, подпрыгивая, Новичков, за ним гнался майор, периодически попадая в цель своим правым, до блеска начищенным ботинком. Мчались они в сторону технической территории, где вот-вот должна была начаться боевая работа.
Если об этой самоволке, не дай бог, узнают «батя» и политотдел – тогда пиши пропало: наша третья рота моментально очутится по всем показателям на самом последнем месте. Это отлично понимали все: и смущенный Новичков, и радостно-взволнованный Хохлачев, и раздосадованный старшина Чемоданов, и разводящий, бежавший трусцой последним…
Боевую работу мы провели на отлично! Но космонавт Владимир Комаров, пилотировавший «Союз-1», при посадке погиб.
…Осенью Новичков получил «дембель» и женился на Ритке…
Папашка
После шумного гулянья, после лихого катанья к Полярному Кругу зажили молодые счастливо. Серега Маринку на руках носит, Маринка Серегу лаской одаривает, родители по магазинам бегают. Тут парню в армию идти. Увезли Серегу за дремучие леса, за синие реки – на пограничную заставу. Надели на парня солдатскую форму, дали в руки ружье и велели Родину охранять.
Ходит Серега в дозоры, ловит шпионов, а по ночам снится ему молодая жена. Ну, нельзя сказать, чтоб всю ночь только жена. Родная установка подготовки газа порой снилась и коллеги-операторы. Но Маринка все же снилась чаще: раз десять за ночь. Само собой письма. Он – ей, она – ему. Однажды известила: беременная уже!
Нельзя сказать, чтоб новость эта застала Серегу врасплох. Внутренне давно подготовился. Но все же! Охватила пограничника эйфория, а командование посулило произвести для солидности в ефрейторы. Хотя старшина роты после третьей обмывочной рюмки пообещал сержантские погоны.
В один прекрасный день вызвали Серегу в штаб и предложили сплясать гопака. Начальство широко и загадочно улыбалось и бумажку в руках теребило. А то не простая бумажка – то телеграмма с известием – тройня родилась!
– Ну, ты и плодовитый папашка, трех пацанов родил! – с восхищением отмечая бравый вид солдата, восхитился «батя», начальник заставы. – Отслужил свое, домой собирайся!
…Вернулся сияющий ефрейтор в родимый дом!
Инспекторша загса расчувствовалась:
– Надо же, три дитенка! В городе многодетных детей почти не осталось. Просто необыкновенная история!
…У Сереги все в норме. Добывает газ, недавно квартиру получил. Живут душа в душу. Спит он теперь без сновидений – с пацанами не заскучаешь!
Но недавно привиделось: он с автоматом в дозоре. А рядом Маринка с коляской, где спят сыновья…
Воскресный день
Дядькин проснулся.
Тикал будильник. Мурлыкал динамик.
Дядькин широко зевнул, потянулся и повернул голову.
Жена спала. «Дура», – с удовольствием подумал Дядькин. Он сполз со скрипучей кровати, подошел к окну и посмотрел на Петербургский проспект.
По проспекту ездили машины и ходили люди. Дядькин еще раз широко зевнул – делать было нечего. Подумав, Дядькин пошел на кухню. На кухне урчал холодильник. Справа стоял стол, слева – газовая плита. На столе красовалась тарелка с холодцом. Возле тарелки сидел кот и ел холодец.
Дядькин взял вилку, сказал: «Брысь!» – и поел холодца.
Холодильник выключил мотор и зашипел по-змеиному.
Дядькин подумал и полез в холодильник. На верхней полке лежало сало с чесноком, внизу виднелись апельсины. Дядькин почесал затылок и выбрал сало.
Кот снова сидел на столе и ел холодец. Дядькин прогнал кота, отрезал кусок сала, сделал бутерброд и, жуя на ходу, направился в сортир. В унитазе журчал ручеек. Дядькин сидел, ел бутерброд и рассматривал большую картину, приклеенную к туалетной двери. На картине были показаны голые ляжки с надписью «Маша Распутина».
В спальне завозилась жена.
– Сема, ты где? – громко спросила она.
– Тут я, – буркнул Дядькин и сплюнул.
– Поставь чайник!
Холодильник опять урчал. На столе сидел кот и ел сало. Дядькин прогнал кота, включил газ, полез в холодильник и взял апельсин.
– Сема! – громко позвала жена.
– Чего? – отозвался Дядькин.
– Иди что-то скажу!
Дядькин пришел:
– Чего?
– Почеши спинку – скажу.
Дядькин почесал.
– Спину мыть надо! – съязвил Дядькин.
– Кто б помыл, – обиделась жена. – Спишь, как боров.
– Сама корова, – ответил Дядькин и поглядел в окно. По проспекту ездили машины и сновали люди. Дома стояли строго в ряд, вверху висело солнце. Жена, кряхтя, встала и пошла умываться. Дядькин нацепил пижаму и подался в гостиную. Справа стоял шкаф с посудой, слева – телевизор. Вверху висела люстра.
– Сема! – донеслось из ванной.
В ванной стояла голая жена с мочалкой.
– Потри спинку!
Отчаянно засвистел чайник. Дядькин бросился на его зов. На столе сидел кот и ел холодец. Дядькин заварил чай и поел холодца.
Пришла жена. Она расставила тарелки, вынула из холодильника холодец, сало.
– Порежь хлеб и пойди умойся, – сказала она.
Дядькин почистил зубы и глянул в зеркало.
Из зеркала на него смотрела небритая физиономия. Дядькин побрился, умылся одеколоном, снял пижаму, надел бостоновый костюм и вышел из квартиры.
– А жрать?! – крикнула вдогонку жена.
Дядькин вытащил из почтового ящика газету и вышел на крыльцо. Возле дома росли деревья, бегали дети и собаки. Дул ветер.
Дядькин прошелся несколько раз мимо крыльца и вернулся в дом. Он снял бостоновый костюм, лег на диван и развернул газету.
– Сем, ну иди жрать! – крикнула жена.
Дядькин отложил газету. Жена сидела за столом и ела холодец. Кот жадно смотрел на сало. Дядькин поел холодца и попил чаю.
– Вроде получился холодец, – сказала жена. – А в тот раз – не получился.
– В тот раз, – возразил Дядькин, – ты забыла положить соль, а не чеснок. Холодец был несоленый.
– В тот раз, – парировала жена, – я забыла из-за тебя положить чеснок. Я расстроилась из-за тебя, обормота, и забыла!
– Корова, – сказал Дядькин и лег на диван. Он взял газету и прочитал заметку о страшном случае, происшедшем в дельте Амазонки: у вождя местного племени крокодилы сожрали вождицу.
Дядькин задремал, и ему приснился сон: крокодил жрет вождицу, а из пасти чудовища звучит: «Сема! Ты куда двести рублей задевал?»
– Куда-куда! – сказал Дядькин, проснувшись. – Апельсины купил!
– А-а-а, – ответила жена. – Иди смотреть «К барьеру!», как Жириновский катит бочку на Немцова!
– Ну их к лешему! – сказал Дядькин. Он снял пижаму, надел бостоновый костюм и вышел из квартиры. По двору бегали дети и собаки. Дул ветер. Дядькин прошелся несколько раз мимо крыльца и возвратился в квартиру. Он снял костюм, влез в пижаму и пошел на кухню.
На столе сидел кот и ел сало. Дядькин взял вилку и поел холодца. Затем он подошел к окну посмотреть на Петербургский проспект. Там сновали люди и ездили машины. Дома стояли чинно в ряд. Висело солнце.
– Перекусить бы чего! – громко сказал Дядькин.
– Можно и перекусить! – отозвалась жена.
Они пошли на кухню, прогнали кота, поели холодца с салом, попили чаю.
Потом Дядькин сходил в сортир.
– Покемарю малость! – крикнул он жене, выходя из туалета.
– Покемарь! – отозвалась жена.
Дядькин завалился на диван, укрылся газетой и захрапел.
Ему снился…
Впрочем, когда храпится – ничего не снится!
Воскресный день разгорался…
Гриня – большевик
I
Бухнулся гроб. Народ вздрогнул.
Очередной вождь почил в бозе.
О смерти Брежнева пламенный партийный журналист Гриня Чечорин узнал на высоте десяти километров. Он летел в Тюмень на партактив. Вдруг забормотало бортовое радио, и передали правительственное сообщение.
Самолет замер… Посещавшие Новый Уренгой столичные публицисты благоговейно закатывали глаза: «Генеральный сказал…», «Генеральный подчеркнул…»
«Генеральный» звучало как «Верховный».
За 18 лет своего правления Брежнев прочно укоренился в нашем сознании как символ несокрушимости. Люди рассуждали здраво: раз он Генсек, значит, – не последний дурак, значит, кое-какая «мебель» в его котелке имеется.
Года за два до смерти генсека побывал Чечорин с группой журналистов на приеме у болгарского посла. Болгары показали посольство, накрыли стол. Было двенадцать тостов. Первый тост, «за дружбу», (он продолжался полчаса), произнес посол Жулев. Почти ежеминутно он поминал добрым словом Леонида Ильича. Вторым поднял бокал представитель отдела пропаганды ЦК партии, он долго прославлял Брежнева и Живкова. Третьим взял слово чиновник из Правления Союза журналистов, он рассуждал о великой роли Брежнева и Живкова в развитии второй древнейшей профессии.
Конфуз случился уже под занавес застолья. Один из гостей вдруг высоко поднял чарку и громко сказал заплетающимся языком:
– Товарищ Жулев, прикажите подать «Пли-ску»! Наливали «Плиску», а теперь льют водку. Льют и льют! Пусть наливают «Плиску», прикажите, товарищ Жулев! Ей-Богу, «Плиска» лучше водки!
Мертвую тишину разрядил сам посол. Он заразительно засмеялся и захлопал в ладоши. И все, даже цековские, сумрачно, натянуто заулыбались.
Жулеву было за что хвалить Брежнева: здание посольства наша держава подарила братской Болгарии…
Если бы Брежнев протянул еще пару лет – он непременно стал бы генералиссимусом!
У него не было выхода. Народ посмеивался и ехидничал, а великой страной гордился.
Но журналисты всех районных, городских газет Союза не любили Леонида Ильича: слишком мало Генсек платил.
II
Последняя телепередача с участием Черненко. Вождь стоит, опираясь о спинку стула – не может сидеть. Рядом улыбающийся розовощекий Гришин как бы бодро рассказывает о хорошей жизни в Москве и в стране. Черненко, как бы бодро слушая, через каждые пять секунд повторяет:
– Ага… Ага… Ага…
Система неумолима. Выставив напоказ обреченного Константина Устиновича, она внушала народу: вот он, вождь, совсем живой (даже шевелит конечностями), значит – все в норме. Гриня зрел мумию. Ему было больно за Черненко и любимую партию.
У сына Константина Устиновича – ректора Новосибирской Высшей партийной – большевик Чечорин сдавал кандидатские экзамены. Ректор Черненко был в ту пору лишь кандидатом наук, в его подчинении числилось два десятка докторов и профессоров. Обстоятельство принадлежности к венценосному папаше не мешало ему, однако, быть обходительным, учтивым, простым в общении.
У него обнаружился талант к наукам.
Вскоре он стал доктором и академиком.
III
На огороде, возле куста бузины, в сентябре 1953 года отец Грини, суетясь и оглядываясь, закапывал в яму полное (красно-коричневое, с золотом) собрание сочинений «отца народов».
– Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, – сквозь зубы бормотал батя.
Сюда бы чекистов! Только Гриня и кобель Шарик были свидетелями «аутодафе».
Сказали, что Берия – шпион и подлец. Отец чувствовал: про Сталина еще не то скажут.
Кинул было в книгомогильник «Краткий курс», но потом, повздыхав, вытащил назад, от греха подальше, сдул пыль. Да, скажет, ежели придут, «Курс» есть, вот он, у кого его нет, а сочинений не было. Не держал!
Закопал сочинения! Потомок запорожский, отпрыск казацкий, сын кулацкий, несостоявшийся владелец сметенного коллективизацией зерноводческого хутора, фронтовик, инвалид Отечественной – батя Грини заметал следы.
Несколько месяцев назад, в марте, он прискакал на бедарке домой, кинул поводья на калитку и, вбежав в дом, подпер дверной косяк:
– Сталина паралич разбил! Насмерть!
Отец подпирал дверь, будто рушился дом. Он был член сталинско-ленинской партии, четко уплачивал взносы, подписывался на все займы и завещал Грине делать так.
Иосиф Виссарионович был, видно, за то к нему благосклонен: не стал репрессировать. И судьба была к отцу милостива: оставила живым на войне.
Как известно, Сталин умирал после баньки в полном одиночестве: никто к нему не входил. Он не звал – никто и войти не смел. Окажись под рукой помощь – он бы еще пожил, он бы еще показал! Но никто не вошел.
Какие чувства испытывал Сталин перед смертью? Раскаяние? Угрызения совести? Слепую ярость?
Лежа в сознании на полу, на пушистом ковре, в большой, богатой и уютной комнате, лишенный возможности от страшных болей двигаться и говорить, Иосиф Виссарионович глубоко страдал от огромного животного страха… Так считал Чечорин.
IV
В году 57-м ожидался большой визит Хрущева на Ставрополье. Перед приездом вождя в крае наводили марафет: украшали улицы, ставили новые зеленые заборы, приколачивали флаги и транспаранты.
От Ставрополя к Благодарному, куда первый секретарь ЦК должен был ехать любоваться кукурузными плантациями и тамошними племенными быками и телками, в пожарном порядке, днями и ночами, тянули асфальтовую дорогу.
Но Хрущев мог самочинно вмешаться в партитуру дирижеров края, изменить маршрут и поехать другой дорогой.
Тогда, следуя по этому пути, он непременно должен был заявиться в Гринькино село. Руководство края приказало начальству села быть наготове. Райком партии раскрутил маховик подготовки к достойной встрече. Колхозную гостиницу «Эльбрус» срочно переименовали в «Золотой початок». Подмели и вымыли хозяйственным мылом тротуары. Вдоль дорог посадили персиковые деревья, срочно доставленные из Грузии. На центральной площади села соорудили фонтан (за углом замаскировали водовозку; когда надо – она качала воду).
Испекли каравай.
Выискали красивых доярок для вручения Никите Сергеевичу «хлеба-соли». Экстренно организовали смотр художественной самодеятельности школьников района. Самых голосистых ребят отобрали для «приветственного хора». Попал в этот хор и Гриня.
В торжественный день вероятного проезда Хрущева через село все стояли у околицы. Прибыла местная знать, все райкомовское и колхозное начальство.
К хору ребят подошел первый секретарь райкома и нервно приказал баянисту:
– Ну-ка, спойте. Но чтоб без хреновины!
Баянист растянул меха, хор грянул:
«На родимом Ставрополье
Вот уже который год
Вырастает кукуруза.
Ой, не видать Кавказских гор!»
Секретарь хмыкнул: «Хорошо!»
Часа через два из краевого центра сообщили: Хрущев не приедет. Все разошлись.
Детям отдали караваи. Пацаны жевали пшеничный хлеб и рассуждали о том, как приятно все-таки быть Хрущевым: в каждом селе тебе суют такую вкуснятину. В те поры кукурузный хлеб уже вытеснял пшеничный даже у колхозников.
Хрущев восторженно побродил по кукурузным полям, пообщался с быками, погулял на казацкой свадьбе и подарил молодоженам «Победу».
За время своего правления он сделал больше полезного, чем вредного. Но его политика оглуплялась: заставляли даже в Приполярье выращивать кукурузу!
Его не любили. Народ сочинял о нем злые анекдоты.
Царедворцы наготове держали за пазухами камни…
Пожалуй, он единственный из комбогов, кому не ставили памятников и не называли его именем улиц.
А у Грини с детства не выветрилась приязнь к Хрущеву за тот каравай…
V
Без малого двадцать лет назад в Новом Уренгое побывал Горбачев. К приезду вождя город нашвабрили. Оцепление, начинавшееся в аэропорту, «пронизывало» город и продолжалось еще пятнадцать километров – до самой УКПГ-1АС.
Самолет приземлился. Здесь, на уренгойской земле, генсека встречали члены ЦК, министры. В последних рядах пребывали хозяева. Михаил Сергеевич сел в неприметный «пазик». Из новоуренгойских руководителей к нему подпустили лишь первого секретаря горкома партии и директора градообразующего предприятия.
– Ну, рассказывайте, – с улыбкой обратился Горбачев к хозяевам. – Кто вы? Откуда? Как работается?
Уренгойцы коротко рассказали о себе, перешли на городские проблемы. Горбачев внимательно слушал, задавал вопросы.
На том месте, где был «блошиный» рынок, кортеж внезапно остановился: вождь решил пообщаться с народом. Люди пялились на черные «членовозы» и «Волги» и не сразу обратили внимание на невысокого человека, приближавшегося откуда-то сбоку. В толпе громко ахнули:
– Батюшки! Горбачев!
У Чечорина была фотография, очень хорошо передавшая настроение того момента. Фотограф снимал с крыши дома и взял крупный план. Вместилось более двухсот лиц. И все улыбались! Даже в слабую лупу это видно отлично. Вот был настрой и порыв у людей! Горбачев стоял в центре. Все тянулись к нему.
Приятель Чечорина нашел себя на той фотографии.
– Вспомнил, – сказал он, вздыхая. – Горбачев в тот момент обещал завалить город меховыми изделиями…
С бригадой программы «Время» Чечорин сидел на установке комплексной подготовки газа (УКПГ), куда должен был в соответствии со сценарием проследовать Генсек. Время текло, Горбачев не появлялся.
– Не можем понять, что случилось, – забеспокоились хозяева УКПГ.
Они не знали, что Михаил Сергеевич сделал почти часовую внеплановую «паузу» в центре Уренгоя.
Наконец, кортеж, растянувшийся на добрый километр, въехал на территорию установки комплексной подготовки газа. Высокого гостя повели в цехи слушать, как гудит оборудование. Вскоре процессия появилась на центральном пульте управления.
Первым через порог шагнул Михаил Сергеевич. Он был в демисезонном пальто. За ним – Раиса Максимовна в сопровождении секретаря ЦК Долгих. Вошли около сотни чиновников разных рангов. Горбачева встречали руководители газодобывающей компании. Генсек пожал им руку. Звенящим голосом передовой рабочий-оператор произнес приветственную речь.
Михаил Сергеевич выступил с ответным словом. Тихим проникновенным голосом он говорил ни о чем полчаса. Но как это было весомо!
У Чечорина выступили слезы восторга и умиления. Генсек находился от него в двух шагах.
После УКПГ блестящая кавалькада автовсадников направилась на конденсатный завод, где спектакль повторился.
В группе чиновников Гриня заметил Ельцина. Он скромно топтался в последних рядах – неприметный, безликий. В тот период для Чечорина это был просто «разрушитель Ипатьевского дома», где расстреляли царскую семью. Как-то на курсах при Уральской высшей партшколе (ВПШ) Чечорин слушал лекцию о социалистическом строительстве в исполнении Бориса Николаевича – первого секретаря Свердловского обкома. Ельцин производил впечатление рьяного коммуниста, готового ради коммунистической идеи падать на пулеметы.
На завод Чечорин не поехал, а поспешил в горком. Здесь уже приготовились к встрече Михаила Сергеевича: постелили ковровые дорожки, заварили душистый чай, поставили вазы с конфетами и пирожными… Среди встречавших были члены бюро, секретари парткомов, работники горкома.
Велико было их разочарование, когда генсек проскочил мимо! В те часы Чечорин впервые ощутил интуитивную неприязнь к Горбачеву и почувствовал какую-то смутную тревогу.
Надо же! Быть первым коммунистом страны – и не заглянуть хотя бы на минуту к своим младшим партийным товарищам, не сказать им: «Привет, ребята! Ну, как вы тут, черти, работаете? Вы держитесь, стране нужен газ!»
Промчался мимо, сиганул в самолет, будто его в шею гнали – и привет!
С годами эта обида не прошла, к ней прибавились другие.
После Фороса Чечорин наблюдал за землячком с мстительной мелкой и гнусной радостью.
И ничего не мог поделать с собой!
VI
Алексея Николаевича Косыгина Чечорин видел воочию на Тюменском партхозактиве в 1973 году. Лучшим мученикам областных парткурсов выдали пропуска и посадили в драмтеатре на пятый ряд. К рампе вышел премьер и после долгих аплодисментов повел разговор о проблемах социально-экономической политики партии.
Косыгин обладал внушительным тембром голоса, говорил умно и свободно.
Выступление длилось больше двух часов. Чечорин бросил вникать в смысл речи Алексея Николаевича: намного приятнее было наблюдать за выражением его лица. Иногда его небольшие колючие глазки впивались в Чечорина. Он приподнимал бровь и что-то доказывал ему. Возможно, он принимал Чечорина за молодого перспективного хозяйственника, хотя в экономике Гриня ни бельмеса не смыслил. Он кончил разговор, кивнул Чечорину и скрылся за занавесом.
Чечорин захлопал в ладоши.
Говорят, все благие экономические начинания Косыгина благополучно похерил Брежнев. Ходил слух, что они ругались.
Как-то Косыгин работал в Надыме (Нового Уренгоя тогда еще не было на свете). Поздним вечером в гостиничной кафешке он совершал трапезу. Алексей Николаевич никак не мог подцепить на вилку кусочек строганины.
Не растерялась официантка. Она взяла тремя пальчиками мороженую нельму, обмакнула ее в приправу и сказала:
– Строганину, Алексей Николаевич, надо есть руками вот так!
И, изящно запихнув рыбу себе в рот, смачно зачавкала.
– Надо же! – искренне удивился премьер. – А я и не знал…
VII
Самым обаятельным для Чечорина премьером СССР был Николай Иванович Рыжков.
Николай Иванович прибыл в Новый Уренгой поздней холодной весной. На перроне были выстроены в ряд члены бюро горкома партии, хозяйственники.
Открылся люк лайнера, и премьер ступил на уренгойскую землю. Был он с супругой и со свитой в два десятка «чинарей».
Первый секретарь горкома по очереди представлял всех Рыжкову.
Следом шла жена Николая Ивановича.
Чечорин поцеловал ей ручку.
Николай Иванович был без шляпы, в тонком пальтишке и моментально закоченел.
– Холодно, однако, у вас, – сказал после взаимных приветствий премьер и поднял воротник пальто.
Председатель горисполкома возразил:
– Что вы, Николай Иванович! Сегодня прекрасная теплая погода. Обычно у нас в эту пору далеко ниже нуля.
Премьер недоверчиво взглянул на предрика: шутит?
Но предрик держался молодцом.
Может быть, именно в тот момент могла родиться у Рыжкова идея резкого повышения северных льгот!
Не успела родиться…
VIII
Когда упраздняли любимую партию и разгоняли членов бюро, Чечорину стало плохо.
Низвергли пророков!
Гриня решил застрелиться.
Пришел за советом в горком.
А в горкоме как раз демократы шастают, переписывают табуретки и авторучки.
Один бывший партработник обозвал Гриню придурком и сказал, пряча во внутренний карман книжку, похожую на чековую:
– Я ж не вешаюсь. Мы ж коммунисты! Стиснем зубы. Шагнем в подполье. Будем жить.
Гриня заплакал: кумиров нет.
…И шагнули они в коммерцию.
Большая охота
I
Белой туманной ночью я покинул Ямбург и три часа брел с охотничьим рюкзаком за плечами по краю обрывистого берега Обской губы, еще покрытой июньским льдом. Заполярная зима отступала медленно под ударами весны и цеплялась за каждую болотную кочку.
Я спотыкался от усталости и ворчал от злости. Черт его знает, где мне искать этого Василия Михалыча!
Вдруг рядом, справа, за овражком, наполненным до краев туманом, хлестанул выстрел. Звук отлетел рикошетом от ледяной глади Обской губы – бабах-бах-ах!
– О-го-го! – крикнул я.
– Го-го-го! – белой лебедью отозвалась губа.
Мимо, едва не задев меня крылом, стремительно прошелестел чирок. До меня дошло наконец, что могу невзначай схлопотать порцию дроби.
– Миха-лы-ыч! – заорал я.
За овражком кто-то громко кашлянул и сказал игривым баском:
– Господин микрополковник! Какого хрена орете как резаный и пужаете мою дичь? Вот промазал из-за вас!
Наконец-то! Нашелся Михалыч. Когда он в подпитии или в добром настроении, то кличет меня, старшего лейтенанта запаса, микрополковником. А я его, боевого майора в отставке, – микромаршалом.
Я сбросил рюкзак с плеч на землю и отрапортовал о своем прибытии. Михалыч, голубоглазый и усатый, поднялся в своем скрадке – хлипком сооружении, похожем издали на заросли кустарника. На охотнике была теплая меховая зеленая куртка и толстая вязаная шапка. В левой руке полководец держал ощипанную утку.
– Это селезень, – сказал он. – Иди обедать. Шуруй прямо через овраг, там не глыбко…
Приняв приглашение, я полез в сугроб и провалился по пояс. Когда дополз до скрадка, то рухнул без сил на брезентовую подстилку.
– Уф, чуть живой, еле дошел!
Оглядевшись, я понял, что охотник – не заядлый любитель игры в прятки. Да, с берега не видно, зато с небесной выси… Там и сям валялись на болотных кочках небрежно разбросанные походные вещи, красовался даже небольшой мангал, тускло блестела газовая печка с красным баллоном. Пернатые обходили ставку Михалыча стороной. Лишь отдельные глупые особи, такие, наверное, как этот селезень, не сворачивая, дули прямо на утиную плаху.
…Пучина кастрюли поглотила птицу. Вслед отправились говяжья тушенка, копченая грудинка, картошка, фасоль, петрушка, укроп. Зажарка готовилась на сале. Для разнообразия отправил хозяин в варево косяк килек в томатном соусе.
– Пока не слопаем – спать не ляжем, – пыхтя и помешивая похлебку, пригрозил повар.
Слопали. Объевшись утиной ухой, разбавленной спиртом, мы заснули мертвецким сном.
…Стоял белый день, похожий на белую ночь, когда я проснулся. Голова была ясная и свежая, тело – бодрое, мысли – чистые. Хотелось совершить подвиг или насмерть влюбить в себя Ирину Африкановну из пятого модуля.
Дул ветер, туман растаял. Летали утки. Близко зачавкали. Я повернул голову. Облезлый песец, подняв морду к небу и закрыв глаза от наслаждения, обжирался утиными потрохами.
– Это Василий, – сказал Михалыч.
Он вылез из спального мешка и сидел за ноутбуком, что-то печатая. Наверное, какую-нибудь байку… Тургенев… Не смотрите, что слесарь.
– Твой тезка, значит. А по батюшке? Не Михалыч ли?
– Михалыч.
– Понятно, теперь два Михалыча. Небось, звание имеет?
– А как же – микромайор!
– Слава Богу! И у меня теперь есть подчиненный.
Песец между тем громко захрустел обглоданными костями.
– Смирн-а-а! – завопил я.
Зверек исчез.
– Был у нас случай в феврале. – Михалыч оторвался от компьютера. – Да, точно, как раз на День Советской Армии. На гэ-пэ нашем рабочий был, Андрюха. Так этот Андрюха попал в дичайший переплет. Повадился к нам вот такой лисенок, не облезлый, конечно, а справный, в хорошей шкурке. Зверье тут доверчивое. На железке вон, на станции, заяц появляется. Встанет столбом в сторонке и ждет гостинцев. Ну, так вот, бегает к нам лис, подкармливается, и однажды, двадцать третьего числа, попадает в капкан, поставленный Андреем. День был жуткий – мороз, ветер. Андрей и пошел на капкан. А там песец. Андрей – дурень, от жадности, как говорится, в зобу дыхание сперло. Прыгнул, навалился на добычу, разжал капкан, а песец не будь дурак – цап за палец и деру! Бежит на трех лапах, охотник – за ним, вот-вот вцепится в хвост. А песец не дается! Разгорячился, раззадорился Андрюха, полушубок с плеч сбросил, потом валенки скинул. Вроде совсем изнемогает зверь, еле шкандыбает, но не дается, хоть умри! Туда-сюда виляет, резкие повороты делает… И вдруг пропал, словно под сугроб нырнул. Опомнился Андрюха – мама родная! Промысел черт-те где, еле на горизонте виднеется, а он босой и голый и до одежки еще бежать и бежать. Кинулся назад на ледяных ногах, а ноги не идут. Как полз до проходной, как ехал на «скорой» – не помнил. Отсобачили Андрюхе обе ступни, и загремел он по инвалидности на полную катушку в свои цветущие года…
– Да, история, – посочувствовал я песцу.
– Но что характерно? – поднял указательный палец Михалыч. – Характерно то, что покалеченный песец вернулся на промысел! Бедолагу изловили, обработали лапу, наложили шину, выходили, одним словом. И начальник промысла пригрозил: ежели какая сука покусится на живность, бегающую по территории промысла, – раздеру, мол, на мелкие куски. Вплоть до увольнения с работы…
– Ну а дальше? Что с песцом?
– Ну что… Вылечился, написал в газету «Пульс Ямбурга» благодарность газовикам за проявленную заботу и теперь живет в свое удовольствие на промысле на законном основании.
Михалыч засмеялся, довольный своей шуткой насчет газеты. Я выполз из мешка и ринулся к болотной луже – умываться. Вернулся я к накрытой скатерти. На ней лежали розовые ломти сала вперемешку с кусками краковской колбасы, черный хлеб, вареное мясо, копченый муксун. Снедь была густо припорошена зеленью и удобрена головками чеснока и лука. В граненые стаканы писатель плеснул водки.
– За сбычу мечт! – провозгласил Михалыч, поднимая стакан.
– За! – ответил я.
Целый день мы пили водку и стреляли по консервным банкам, много говорили о любви к женщинам и природе. К концу дня, поняв, что окончательно сливаемся с природой, завалились спать.
Проснулся я светлым солнечным днем. Настроение было отличное, тело – бодрое, голова – ясная. Хотелось подвига и любви одновременно. И побольше. И чтоб в пятом модуле, и чтоб с Ириной Африкановной – на глазах изумленной публики.
Мои фантазии прервало чавканье. Слева сидел песец и жевал остатки колбасы. Справа – Михалыч, печатал повесть на компьютере.
– Кажись, все, – радостно объявил Михалыч. – Кончил!
– О чем роман? – спросил я.
– Да так, об одном случае из охотничьей жизни тридцатых годов прошлого столетия.
Я сбегал умыться, принял из рук бытописателя стакан водки, кусок сала с хлебом и сел за монитор – читать повествование под заголовком «На кабанов в 1937 году».
«Утром 3 ноября 1937 года шофер районного Особого отдела НКВД СССР Петр Маньшин сидел в своем «воронке» с надписью: «Товары и услуги» и поджидал начальника на улице Энтузиастов. Мимо проходил опер Егоров.
– Подбросишь? – спросил Егоров.
– Залезай, только взад садись, я ведь за начальством прибыл.
Егоров долго гнездился, пристраиваясь на узкой лавке. Угомонясь, сказал тихо:
– У меня ажур.
– Да ну? – оживился Маньшин. – Где взял?
– Тебе какое дело?
– Да нет, я так. Что с меня?
– Полкабанчика и мешок рыбешки.
– Ого!
– Не хочешь – другому отдам.
– Лады! – согласился Маньшин. – Когда?
– Смоемся после развода.
Разговор прервался появлением начальника Парамонова. Это был высокий приятный мужчина, он курил папиросу и морщился от дыма.
– В отдел! – приказал начальник, жуя папиросу.
Машина запетляла по городу и въехала на служебную территорию, огражденную со всех сторон высоким забором с колючей проволокой. Маньшин покопался в моторе, подкачал баллоны, сходил и выписал путевку в МТС – починить маслонасос.
– Надолго? – спросил дежурный.
– Минут на сорок…
Выскочил Егоров, и приятели уехали. Вернувшись, Маньшин навестил начальника хозчасти и выклянчил навесной замок.
– На кой он тебе? – покосился завхоз.
– Воруют, – неопределенно ответил Маньшин.
С левой стороны, возле водительского сиденья, стоял металлический ящик, похожий на сейф. В недрах его, рядом с банками, склянками и бутылками с кислотами и другими полезными едучими смесями, хранились мелкие запчасти, патроны, граната-лимонка. Жадные руки Маньшина напихали в ящик много всякого добра. Здесь были фляжки с водкой, зажигалки, патефонные иголки, примусные головки, медные гвозди, колоды игральных карт с похабными картинками, портсигары. Тут же покоилось около десятка толовых шашек, полученных от Егорова. Маньшин аккуратно накрыл взрывчатку тряпкой, осторожно опустил крышку и навесил замок. Удовлетворенно хмыкнув, спрятал ключ в секретную щелку под сидушкой…
II…Возвышаясь над рабочим столом, Парамонов сосредоточенно просматривал секретные документы. Он курил папиросу и морщился от дыма, как от зубной боли. Покончив со сводками и донесениями, Парамонов обратился к почтовой корреспонденции. Он взял серый стандартный конверт с кривым штампом. Обратный адрес значился: г. Ныдинск, ул. Трудовая, дом 21, комната 5, Страхманюк Д.П.
Парамонов повертел конверт в тонких, желтоватых от табака пальцах, пожал плечами и вытряхнул из пакета несколько стандартных листков в клетку, исписанных убористым почерком.
«Уважаемый товарищ начальник Парамонов, – начал читать Парамонов. – Пишет Вам житель города Ныдинска, член ВКП(б) с 25-го года, почетный партийный агитатор Страхманюк Даздраперма Петровна. Хочу обратить Ваше внимание на тот непреложный факт, что несгибаемая линия нашей партии и лично дорогого великого вождя и учителя товарища Сталина, направленная на беспощадную борьбу со всякой вражеской сволочью, ведет весь советский народ от победы к победе. Мы решительно избавляемся от всякой гнилой нечисти, но разные сволочи, троцкисты-бухаринцы, отщепенцы и подонки, даже в смертельных конвульсиях и судорогах цепляются за свою смердящую жизнь, принимают умильные и слащавые позы, а потом плюют нам вслед зловонным ядом оппортунизма, отравляя сознание советских людей. Уже до нашей подрастающей смены, до детишков добрались! До каких пор (я спрашиваю Вас как коммунист коммуниста!) в нашем городе будут давать с прилавков книжонку некоего горе-сказочника Чуковского К. под названием «Муха-Цокотуха»? Книжонку этого недобитого, видно, врага открыто дают во всех магазинах, даже в сельпо дают, где керосин и веники, это возле моста, рядом с могилками. В этой горе-сказке советские люди изображаются трусливыми букашками-таракашками, испугавшимися какого-то поганого паука (по всему видать, фашиста). Это злостная пародия на наш великий народ. Так называемая сказка проповедует не только поклеп и клевету, но и закоренелый индивидуализм в лице комара, героя-одиночки. Мораль сказки горе-писаки Чуковского К. очевидна – это буржуазная, враждебная нашей идеологии мораль! Книжонка проповедует предательство интересов рабочего класса, отказ от борьбы за социалистическую революцию и диктатуру пролетариата, за коммунизм…»
Концовка письма была угрожающей: ежели он, Парамонов, не примет меры, то она, Страхманюк, дойдет до Москвы.
– Что за болты в томате, – пробормотал Парамонов, отшвырнул письмо и громко позвал: – Гаврилов!
Явился помощник – подтянутый и тонкий, как гвоздь, в начищенных до блеска сапогах, в синих выглаженных галифе, в зеленой наутюженной гимнастерке, гладко выбритый, подстриженный. Разило от него одеколоном «Гвоздика». Смотрел он уважительно и преданно.
– Что ты мне подсунул? – смягчаясь, спросил Парамонов и показал на письмо. – У меня что, дел нету?
Гаврилов смутился:
– Да она, товарищ начальник, на конверте «лично в руки» написала. В те разы я бредни ее выбрасывал во второй архив, а на этом конверте – на тебе, «в руки». Ну, я и подумал…
– Подумал-подумал… Ладно. Она что – сумасшедшая?
– Похоже. Тихая. Года два назад имя себе поменяла на патриотическое. Была Евдокия… Активистка. Работает дежурной в Доме заезжих. Характеризуется положительно… Не замужем, детей нет… Не пьет, курит папиросы…
– Так это не первое письмо?
– Третье…
– Ладно, – сказал Парамонов, делая пометку на перекидном календаре. – Тащи ее ко мне в восемь вечера.
Сказал и выругался, вспомнив про торжественное собрание партийно-хозяйственного актива района, посвященное 20-й годовщине Октября, где ему выступать с докладом. Уже неделю Парамонов пыхтел над докладом, потея и матерясь.
Вздыхая, он открыл красную папку с гербом и пересчитал исписанные листки. Их не прибавилось за ночь и было семь. А требовалось, как минимум, двадцать – чем больше, тем лучше, дело-то святое – 20-летие. Гости из управления, из обкома пожалуют – нельзя осрамиться.
Парамонов обмакнул перо в чернила, аккуратно вывел вверху чистого листа цифру «8» и приступил к теме троцкизма. Но тема не раскрывалась. Он долго морщил лоб после первых слов: «Товарищи! Наша партия…», но ничего не придумал и углубился в тексты газеты «Правда», надеясь выудить что-либо оттуда. В газете было все по-казенному, не от сердца и все не то. Парамонов завел патефон и поставил пластинку. Зазвучала речь Сталина на недавнем пленуме ЦК: «…Надо разбить и отбросить гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас будет затухать. Неужели мы не сумеем разделаться с этой смешной и идиотской болезнью, мы, которые свергли капитализм и подняли высоко знамя мирового коммунизма!»
– Сумеем, – пробормотал Парамонов. – Хорошее место для цитаты. И только. Не передирать же доклад вождя…
Измучившись и обкурившись, Парамонов собрался уж было бросить на сегодня писанину к черту, как взгляд его зацепился за серый конверт с кривым штампом. Он нерешительно вытащил письмо Страхманюк и сразу отыскал строчки, хорошо «ложившиеся» в тему. Парамонов взял перо и с облегчением написал: «Товарищи! Несгибаемая линия коммунистической партии и лично нашего вождя и учителя товарища Сталина на беспощадную борьбу со всякой вражеской сволочью ведет весь советский народ от победы к победе. Мы решительно избавляемся от разной гнилой нечисти…»
С творческим подъемом и огоньком работал Парамонов над докладом до полудня. Он с сожалением сделал остановку для участия в сеансе оперативной связи с управлением, понимая, что вдохновение после телефонного контакта с начальством может пропасть надолго.
К четырем часам пополудни доклад был вчерне готов, и Парамонов решил пообедать. В райкомовском буфете обед давно закончился, и дверь изнутри держалась на крючке. Парамонов тихо постучал и прислушался. От легких и быстрых шагов за дверью у него перехватило дыхание. Отворила высокая стройная юная женщина, румяная и пухлогубая. Парамонов сказал: «Привет, Маша!» – и снял шинель. Они прошли в полутемную подсобку. В тесноте ящиков, бочек и мешков стоял диван, накрытый шерстяным одеялом. Маша расстелила простынь, сбросила с себя юбку и кофту и легла. Парамонов торопливо стащил хромовые сапоги, снял галифе, швырнул кобуру с наганом в кадушку с гречкой. Присел на край дивана, положил горячую ладонь на Машину грудь, пробормотал ласково: «Здравствуй, тело, младое, незнакомое…»
Отдаваться Парамонову Маша согласилась недавно, после ареста мужа Федора. А была неприступной. Парамонов обещал выпустить Федора к 7 ноября. Потом Парамонов хлебал щи, жевал котлеты с гороховым гарниром, пил компот. Надевая шинель, перехватил вопросительный взгляд Марии.
– Выпущу, я же сказал. Не веришь, что ли?
– Верю, товарищ начальник.
– Тогда жди…
…В шесть вечера Парамонов явился к пионерам. Директор школы объявил ликующе: «Ребята! К нам в гости пришел человек героической профессии, прославленный чекист, герой, кавалер боевых орденов товарищ Парамонов. Встречайте!» После оваций Парамонов рассказал о трудной и опасной службе чекистов и призвал детвору к бдительности…
III …В кабинет вошла невысокая худощавая женщина лет сорока, с приятным лицом, в очках с мощными линзами. На ней было серое суконное пальто с воротником из суслика, в руках она держала черный ридикюль. Парамонов пригласил гостью садиться, предложил закурить и протянул «Казбек».– Не откажусь, – отозвалась Страхманюк.
Она улыбнулась, показав задымленные зубы, глубоко затянулась и выпустила густую струю синей копоти по-мужицки – через нос.
– Что-то с Чуковским надо делать, – сказала Даздраперма Петровна. – Вы же видите это лучше меня, а мер не принимаете…
– Кто вам сказал? – улыбнулся Парамонов. – Вот наше обращение на имя наркома, вот копии ваших писем. Они в Москве, надо ждать…
Страхманюк обалдела. Узкие глаза ее раскрылись вдруг так широко, что, казалось, еще мгновение – и линзы очков поглотят зрачки.
– Мои письма прочтет сам нарком? – наконец пробормотала она благоговейно.
– Разумеется.
– А товарищ Сталин?
– Возможно, и вождь тоже.
Страхманюк покачнулась, едва не свалившись со стула. Парамонов понял, что переборщил, плеснул в стакан воды. Страхманюк очнулась.
– Как я вам благодарна, – томно сказала она, расплескивая воду. – Вы меня понимаете. Вокруг столько контры. Среди партийцев есть контра…
– Не может быть! – ахнул Парамонов.
– Может! Начальник райпотребсоюза – вор, секретарь райкома – жулик, директор райкоммунхоза – троцкист… Народ зря не болтает. Нет! Они ж такие анекдоты рассказывают! И про товарища Калинина, и про Молотова…
– А про вождя? Говорите смело, мы свои…
– И про него, гады.
Страхманюк достала из ридикюля носовой платок и громко высморкалась.
– Вот что, любезная Даздраперма Петровна, я вам скажу, – начал Парамонов, но тут лампочка под абажуром замигала и погасла. В темноте даже линзы Страхманюк не улавливали никаких дуновений света.
– Гаврилов! – крикнул Парамонов.
– Иду! – отозвался помощник.
Было видно, как очертилась светом щель по периметру двери, – Гаврилов зажег керосиновую лампу. Очки Страхманюк стрельнули лучиками.
– И я знаю, кто враг народа, – торопливым шепотом, словно боясь, что включится свет, сказала она.
– Кто? – перешел на шепот и Парамонов.
– Наш председатель райисполкома. Он…
Тут вошел помощник, неся перед собой лампу с качающимся стеклянным колпаком. Страхманюк умолкла. Запахло керосиновой гарью.
– Вот что я вам скажу, – заговорил Парамонов, подкручивая фитиль и убавляя копоть. – Напишите об этом подробно. Кто, что, где, с кем, кому, как… Понятно?
– Да, товарищ Парамонов!
– Чем больше фактов – тем лучше. Если анекдот – тащите целиком анекдот. Но чтоб ни-ни! Никому. Даже партийцам. Секрет.
– Где мы будем встречаться? – деловито осведомилась Страхманюк и достала из ридикюля листок бумаги и химический карандаш – записывать.
Парамонов поднял брови.
– Ну, на явочной квартире или где?
– Никаких встреч! Когда надо – вас найдут.
…В полночь Парамонов провел инструктаж оперативной группы по задержанию и аресту гражданина Дроздова. Когда-то этот Дроздов служил в Добровольческой армии генерала Май-Маевского, командовал ротой. Перебежал к красным, потом попал к белым… Темная история. Дроздова реабилитировали. В Ныдинске бывший белогвардеец работал в должности ответственного корректора городской типографии. Две недели назад районная газета «Заветы Ильича» напечатала редакционную статью под заголовком: «Если тебе партиец имя». В третьем абзаце перепутали строчки: нижние поставили вверх, а верхние – вниз. Получился аполитичный текст, похожий на теракт: «Наш гениальный вождь и учитель И.В. Сталин прозорливо указывает: гибель мирового капитала сто гектаров картошки на полях колхоза «Родина» имеет всемирное историко-революционное значение, несмотря на недостатки в доставке керосина для тракторов на пахоте марксистко-ленинского учения».
Следствие установило: Дроздов организовал групповую пьянку на производстве по случаю дня рождения. Верстальщику, наборщикам и печатнику объявили строгий выговор, а Дроздова выгнали со службы и упекли в КПЗ, где он и пребывал несколько суток. Потом выпустили, но злоумышленник понимал – ненадолго. Теперь гадал, не пуститься ли в бега?
Парамонов отпустил оперативников и поехал на окраину города, к реке. У самой воды стояло одинокое строение, огороженное забором. Парамонов вышел из «эмки» и поймал всей грудью порыв свежего ветра, дувшего с реки. Подмораживало. Река, вобравшая в себя все звездное небо, была такой же неведомой и жуткой, как и весь Млечный путь. Перед грандиозностью мироздания все то, чем занимался Парамонов, блекло и меркло – так ему показалось. «Ничтожно и глупо. И это хорошо, – подумал Парамонов. – Чем глупее, тем незаметнее…»
Он толкнул дверь – дохнуло душистым теплом и музыкой фокстрота – играл патефон. Вышел босой банщик, без рубашки, в коротких байковых портках.
– Заждались, товарищ начальник! – весело воскликнул он.
– Дела, дружок, заботы! Людмила на месте?
– Здесь! Чай заваривает, закуску готовит.
– Послезавтра гости, – сказал Парамонов, стягивая командирские штаны. – Смотри, не осрамись. Не дай Бог что не так!
– Слушаюсь.
Парамонов разделся, обмотал себя простыней:
– Ну, я пошел. Через часок заглянешь попарить…
IV
«Воронок» телепался по безлюдному Ныдинску, прокладывая себе дорогу желтыми лучами фар. Сидели молча. Маньшин крутил баранку, сосредоточенно вглядываясь в рытвины и кочки. Старший группы Космаков надвинул козырек фуражки на нос и делал вид, что дремлет. Оперативники Железнов и Костарюк были настроены игриво: после взятия Дроздова они вместе с Маньшиным должны были ехать в Медвежье урочище – бить кабанов и глушить рыбу на озерах толовыми шашками.
…Много всякого добра напихали жадные руки Маньшина в металлический ящик возле сиденья! Никто никогда не узнает, что в этом ящике случилось: то ли взрывчатка опрокинулась на кислоту, то ли кислота пролилась на взрывчатку, то ли граната-лимонка от тряски сработала… Никто из сидевших в «воронке» не почувствовал, что жить оставалось каждому ровно девятьсот метров – до городского фонтана. На улице Сталина, возле осеннего фонтана без воды, машину вдруг подняло над дорогой и разорвало в клочья. Сонную тишину центра потряс грохот такой силы, что проснулись все окраины. Старший группы Космаков (уже без рук и ног, один кровавый обрубок) был в сознании полсекунды, ощутил себя летящим, увидел звездное небо и умер.
Смерть остальных членов экипажа «воронка» была простой и мгновенной, как на гильотине, – без ощущений, боли и видений.
Разорванная машина ярко пылала, освещая небо и окрестности. Пылала брусчатка, залитая бензином. Жители ближайших домов смотрели на пожар сквозь оконные рамы с выбитыми стеклами и не торопились спасать и тушить.
Приехали пожарные.
Но раньше пожарных на место ЧП примчался Парамонов – без гимнастерки, в накинутой на голое тело шинели, в валенках, с наганом в руке. Он стоял столбом, взирая на беду, жевал папиросу, и лицо его морщилось как от зубной боли…
V
…Утром прибыли чекисты во главе с начальником областного управления Кулькисом. Это был толстый коротышка, обладавший большими кулаками, бритой головой, холодными глазами и звучным басом.
– Дорулились, бляхи! – закричал он на Парамонова.
На экстренном совещании в полутемном райкомовском кабинете Кулькис стоял у окошка, под развесистым фикусом, и матерился. Членам бюро и исполкома порой казалось, что матерится и брызжет слюной вовсе не Кулькис, а фикус.
– На зеркало неча пенять, коли рожа крива! – не выдержал оскорблений красный от гнева секретарь райкома Мамин. У Мамина была сильная лапа в обкоме – и он хорохорился.
– Я с себя вины не снимаю! – басил Кулькис. – Но вы! Прошляпили! Троцкистское подполье! Спите тут как сурки!
– Какой к черту теракт! – орал Мамин. – Какие троцкисты! У нас! Средь буряков и самогона! Троцкистов сюда никаким первачом не заманишь! Сопьются!
– Вы мне эти штучки бросьте! – гремел Кулькис и в запальчивости рвал фикус на части. – Вы ответите!
…Настроение у всех было паршивое. Понимали: за ЧП в канун юбилея Октября Москва спросит сурово. К вечеру следствие разобралось как было. Арестовали интендантов из соседней инженерной части, продавших Егорову взрывчатку. Взяли под стражу Егорова. Он рассказал о кабанах, карпах и карасях, спасшихся сегодня от злодейских умыслов Маньшина.
Поискали Дроздова – не нашли. Сгинул человек. Соседи ничего не видели и не слышали. Может, взорвался…
VI
…На другой день к Кулькису напролом прорвалась Страхманюк. Кричала, что она главный свидетель.
– Ну? – спросил Кулькис.
У него было никакое от бессонницы и тревоги лицо. И у Парамонова было никакое лицо.
– Я видела бомбистов, – сказала свидетельница.
– Что ты мелешь! – испугался Парамонов. – Она сумасшедшая, товарищ Кулькис!
– Ну? – спросил Кулькис.
– Это были двое мужчин. Клянусь! – сказала Страхманюк и отдала Кулькису пионерский салют.
– Вот бумага – пишите!
Через полчаса Кулькис читал показания свидетельницы: «Выполняя задание товарища Парамонова, в ночь с 3 на 4 ноября я следила за домом начальника райпотребсоюза Козлопенко, по нему давно тюрьма плачет. Ночью, часов в 12, во двор Козлопенки въехала полуторка с чем-то в кузове. Через забор ничего не было видно, я влезла на ящик из-под водки и все разглядела.
Козлопенко тщательно запер ворота, он не знал, что я за ним наблюдаю и вижу его воровство. Люди из полуторки открыли кузов и начали таскать в сарай мешки, всего восемь штук, видно, муку или сахар, гады, прятали. Потом занесли четыре бидона – наверное, с постным маслом. Закончив разгрузку, расхитители долго лялякали о чем-то с Козлопенкой, видимо, насчет дальнейшего разворовывания социалистической собственности, уж больно рожи у них были воровские. Потом машина уехала, Козлопенко запер ворота, справил возле забора, недалеко от места моей диспозиции, малую нужду и ушел в дом, спать и видеть воровские сны. Я слезла с ящика и хотела идти к себе, как вдруг снова донесся шум машины. Неужто, думаю, еще один грузовик с наворованным добром едет к Козлопенке? Села за ящик и стала ждать. Вижу, с другого конца улицы идут двое: один в пальто без воротника, другой в фуфайке, оба высокие, в сапогах, в руках оклунки. Тут навстречу им машина выехала, фарами осветила. А когда подъехала, они кинули оклунки под машину и побежали в парк. Машина взорвалась, а я от страха и ужаса потеряла сознание. Не знаю как выжила.
К сему – Страхманюк Д.П.»
Кулькис прочитал показания, спросил сердито:
– Чего сразу не явилась?
– В беспамятстве была…
Страхманюк заплакала.
– Ну-ну, – молвил Кулькис. – Иди пока. Гаврилов! Напои даму чаем. С бубликами…
…Они долго молчали, но думали об одном. Парамонов машинально дырявил пачку «Казбека» остро заточенным карандашом, сверля папиросы. Кулькис медленно прохаживался по ковровой дорожке, пыхтел и крутил лысой башкой. Наконец сказал:
– Понял? Нет выбора. Будем так…
– Ага, – откликнулся Парамонов.
VII
…Через месяц областная газета напечатала статью под заголовком: «Осиное гнездо троцкистов в Ныдинске». В ней рассказывалось о блистательной победе чекистов, раскрывших накануне Октября заговор врагов народа. Банда убийц (Дроздов – главарь, Егоров – заместитель, Маньшин – подельщик и другие) пыталась взорвать Ныдинский райком партии, убить руководителей района, но была вовремя схвачена и обезврежена. Дроздов и Маньшин в момент задержания были убиты. Остальные, числом более десяти человек, вину свою признали полностью. Егорова, Шилова и Кузьмина (интендантов) трибунал приговорил к смертной казни. Остальным дали по двадцать лет концлагерей. Кулькиса и Парамонова наградили орденами, Страхманюк – медалью…
…В марте 1939 года сменилось руководство в комиссариате внутренних дел, по недрам системы прокатилась волна кровавых чисток. Областная газета сообщила, что осуждена группа врагов народа, внедрившаяся в чекистские ряды, творившая произвол и беззаконие. В списке казненных значились Кулькис и Парамонов… Трагична судьба и Даздрапермы Петровны: она угодила в психушку, где и скончалась в сороковом году…»
…Рассказ меня увлек. Я поздравил Михалыча. Мы сели завтракать и обсуждать произведение. Разговор за столом продолжался до ужина, пока водка не кончилась.
Летали утки, грыз объедки песец.
– Ты – гений! – кричал я Михалычу.
Мы устали и завалились спать. Проснулся я от дурмана жарившихся шашлыков. Михалыч привел в действие портативный мангал. Шашлыки он поливал коньяком. Настроение было отличное, готовность к подвигу – невероятная. Я бросился в сугроб, и рыдая, искупался в снегу. Потом мы ели шашлык, запивая коньяком из фляжки.
– Ну, поохотились, отдохнули – пора! – сказал Михалыч. – Отгулы кончились, завтра в смену.
Нагруженные скарбом, не торопясь, двинулись к дороге, где нас должен был ждать «УАЗ».
– И все же, Михалыч, в рассказе много неясностей, надо доработать, – сказал я.
– Например?
Я начал загибать пальцы:
– Куда делся Дроздов? Кто были мужики с оклунками? Участвовал Дроздов в теракте или нет?
Михалыч остановился.
– Про мужиков ничего не могу сказать – не знаю. Полагаю, Даздраперма бредила. Маловероятно, чтоб в атмосфере 30-х годов кто-то мог даже помыслить о нападении на энкавэдэшников. Я вот что думаю: если бы возможны были такие диверсии! Да по всей стране! Глядишь, не возникало бы желания устраивать массовые репрессии людей. Страшно ведь…
– Ладно, уговорил. Но Дроздов, согласись, не дописан. Мне как читателю не ясно. Странная личность.
– Ежели по жизни, то он спасся, – ответил Михалыч. – Переменил фамилию, пробрался в Сибирь, затерялся в тайге. Точно знаю, что чекистов он не взрывал. Воевал, дважды был ранен в Отечественную…
– Откуда такая точность?
– Оттуда! – хитро засмеялся Михалыч. – Это ж мой дед! Умер в восьмидесятом, царствие ему небесное…
– Ну вы даете, микромаршал! – восхитился я.
Мы медленно двигались по тундре, по болотам, перескакивая с кочки на кочку, обходя озерца, перешагивая через ручьи. Пригревало солнце, пробуждалась земля, пели птички, летали утки. Охотничий сезон в разгаре! Подошли к болотцу с хорошей водой и увидели человека с ружьем.
– Привет, Володька! – махнул рукой Михалыч.
– Здорово! – озабоченно отозвался охотник.
Глаза у него были полоумные. Он стоял возле кучи уток, с сотню, не меньше.
– Зачем тебе столько? – помрачнел Михалыч.
– Зачем-зачем… Не знаю. Солить буду!
– Некоторые, чую, вонять начинают. С неделю, небось, тут торчишь? – сказал Михалыч, присаживаясь возле кучи и перебирая мертвых птиц.
– Конечно. А что прикажешь делать?
– Эх, Володька, дурак ты был, дураком помрешь. Ничего не прикажу. Попадешься охотинспектору – большой штраф заплатишь. Инспектор настрочит бумагу нашему руководству, а руководство вытурит тебя. Как, спрашиваешь? Пинком. Под зад.
– Но-но! – набычился Володька.
– Так ты не знаешь? По новому колдоговору за травеж природы выгоняют с работы.
Михалыч поднялся, махнул рукой и двинулся дальше. Володька забегал, засуетился, закричал истерично:
– Так что мне делать, Михалыч! Как быть, елки ж палки!
Я предложил взять по утке – все одно пропадет добро. Михалыч согласился.
– Ладно, – сказал он. – Возьмем по паре штук.
Я взял четыре.
– Микрополковник! – изумился Михалыч.
– Одной даме подарю. Из пятого модуля…
И мы пошли своей дорогой…
В Багдаде все спокойно…
В феврале 1981 года в нашу редакцию позвонила секретарь Ямало-Ненецкого окружкома партии Розалия Ильина, приказав съездить к новоуренгойским коллегам и помочь в выпуске только что открывшейся газеты «Правда Севера».
– У них кадров не хватает, – сказала Розалия. – Писать некому, хоть плачь… Пушкина собираются печатать… «Капитанскую дочку»…
Мне как члену Пуровского райкома, депутату и редактору газеты «Северный луч» выделили вездеход. Часов через десять, преодолев бездорожье, «Урал» с облегчением замер на пустыре, именуемом проспектом имени академика Губкина. На одной стороне пустыря, в жилом деревянном доме, ютилась редакция. На другой, в вагончике, – типография.
Условия были неважные. Все поголовно строительные и монтажные тресты, все газодобывающие подразделения были заложниками деревянных сараев. Даже Главуренгойгазстрой располагался в трущобах. Да что там Главк! Все министры, жившие в те героические времена в Новом Уренгое, ютились, как Гавроши, где придется. Никто не думал о себе…
Бригадир полиграфистов Славик показал хозяйство: плоскопечатные машины, две «американки» (небольшие печатные агрегаты, на каких еще Ленин тиражировал свои прокламации), линотипы. Последние механизмы были крайне вредны для здоровья: металл, из которого отливались газетные строчки, содержал в себе адскую смесь – и сурьму, и свинец, и олово. В нашей державе они благополучно «дожили» до конца двадцатого столетия и отравили не одно поколение мастеров-линотипистов.
– У нас все крутится-вертится, газета выходит! Все вопросы – к редакции, – отчеканил Славик и взялся за пилу – пилить рулон бумаги…
Редакция занимала трехкомнатную квартиру на первом этаже скрипуче-трескучего дома знаменитой «бамовской» серии. Изюминка этих домов состояла в том, что по скрипам все соседи получали друг о друге самую достоверную информацию. Вот раздаются тяжелые скрипы от шагов и радостные вздохи в дальнем верхнем углу дома. На кухню, значит, прошагал хозяин пятой квартиры – колбасу кушать. Подфартило ему: целую авоську дефицитной краковской колбасы приволок вчера вечером.
Не выходя из своего кабинета, редактор всегда знал о направлениях движения своих сотрудников. В оленьих бурках «прошелестел» кто-то в сторону входной двери. Чутким ушам редактора этот шелест о важном, назревшем говорил: бухгалтер Лидия в банк за деньгами подалась.
Явно мужские групповые скрипы, вразвалочку. Это малыши-корреспонденты принесли массу событийной информации с предприятий и организаций города. Попутно они обогатились знаниями о состоянии дел в соседнем, «нашенском», гастрономе. В магазин завезли дефицитное чешское пиво. Завмаг выделил редакции бочку. Очень кстати подалась Лидия в банк!
Эксперт Владимир – мастер анализа и синтеза. Разберется в любой уренгойской проблеме из сферы экономики или политики. Веско докажет. Корректно «ущучит» и «припечатает». Первым в городе освоил шагомер.
Виктор – лирик, поэт. Доказал, что нет «низовой» печати, что требования к слову, языку, стилю одинаковые – хоть для «Известий», хоть для «Колхозной молотилки». Первым из новоуренгойцев пересел на велосипед.
Другой Виктор – мастер фоторепортажа, коренной северянин. Первым из журналистов Ямала вступил в казачество. За что получил чин есаула, саблю и медаль.
Вот торопливые скрипочки. Валентина, ответственный секретарь, прибежала из типографии. Сегодня у нее праздник – муж вернулся из командировки. Празднично и в редакции. В такие дни Валентина печет пироги, но муж всех пирогов не съедает, половина достается коллективу.
Валентина – мастер доказательств, логических построений и умозаключений. Если надо с кем-то «разобраться», – выпускают Журавлеву. Она намного хуже прокурора. После ее разоблачений в горком потоком идут жалобы обиженных. Первый секретарь хватается за сердце. В борьбе за справедливость Валентина неумолима. Это после ее публикаций начались известные в городе «судебные процессы» восьмидесятых годов, которые потом стали доброй традицией для «Правды Севера». Судов было так много, что их уже считали неотъемлемой частью редакционной жизни коллектива.
Совершенно бесшумно, как разведчица, порхала по редакции заведующая отделом писем Татьяна. Глядь, а Татьяна уже сбоку стоит, улыбается. Видела, как вы заначку в потайной карман прятали. Мастерица незаметно, без шума делать дело. Она организовала школу общественных корреспондентов, лучшую, пожалуй, на Ямале. Питомцы этой школы стали местными политиками, депутатами, студентами журфаков. Общественно-массовая работа «Правды Севера», организованная Татьяной, получила высокую оценку: на Всесоюзном конкурсе в конце восьмидесятых годов редакция удостоилась диплома Союза журналистов СССР.
Летящая походка – это Светлана. Ее стихия – лирическая зарисовка, душевный рассказ о человеке, очерк, интервью. Любит веселую компанию, открытость, хорошую зарплату, копченую курицу. Не любит фальшь, безденежье. Ненавидела выступать на партийных собраниях. Когда не удавалось отвертеться, речь свою начинала обычно так: «Выполняя исторические решения (назывался номер) съезда Коммунистической партии Советского Союза, положения и выводы, изложенные в докладе Генерального секретаря Ленинского Центрального Комитета КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР, четырежды Героя Социалистического Труда и Героя Советского Союза товарища Леонида Ильича Брежнева, наш отдел редакции принял на себя дополнительные обязательства по освещению…» и т. д. и т. п.
Каждый из сотрудников газеты имел свою неповторимую походку, свой характерный почерк.
…В редакции ответили, что шефа нет:
– У него нога сломана, лежит в гостинице с подвешенной конечностью, там и полосы читает.
Валерия я вызвал когда-то на Север из Челябинска – работать редактором газеты надымских трубопроводчиков «Трасса». Там отличился и был замечен. Так он стал редактором «Правды Севера».
Мы обнялись. Я рассказал о цели приезда. Валерий пришел в ярость:
– Они что – охренели? Подозревать нас в политической слепоте? Да у нас все пылает! Все горит! Синим пламенем!
– «Капитанскую дочку», говорят, печатаете, – подлил я масла в огонь.
Валерий вскочил с кровати и запрыгал по гостиничному номеру, размахивая костылями. Он долго ругался на весь дом, а потом объявил, что начинает публиковать материалы очередного исторического съезда КПСС.
– Ни одного номера не пропустим!
Я похвалил коллегу за идеологическую дальнозоркость и как мог успокоил. Действительно, газета и без журналистов выходит регулярно, печатает важнейшие для державы программные материалы. Чего еще надо?
– А съезд закончится, будет видно, что печатать. Письма читателей, вот что!
Я понял, что в Новом Уренгое делать больше нечего, без меня справятся. Выпили с Валерием ведро водки, и под утро я собрался в путь. Последний наш тост звучал во здравие журналистики: чтоб крепла она и наливалась силой на радость друзьям, на страх врагам, и чтоб панически боялись ее партийные и прочие бюрократы всей Руси…
…Я доложил Розалии, что Уренгой хоть и не Багдад, но там все спокойно…
Визит к фараону Житейские истории
Зоя из Уренгоя
Знаете, кто такие уренгойцы?
Уренгойцы – особый народ.
Остановите на улице любого уренгойца и попросите насовсем хоть десять тысяч рублей. И тут же получите.
Любой уренгоец – трудоголик. Он строит газопровод так, что летят искры, возводит дом так, что стоит свист.
В горящую избу войдет уренгоец, если надо – выйдет. На воде загуляет – пароход потопит, на суше порезвится – бульдозер опрокинет.
А женщины какие в Уренгое! Вам не сыскать нигде таких женщин. Если уренгойская женщина полюбит – то уж до гроба.
Все знают Зою – красавицу, умницу, с высшим политехническим образованием, с трепетной, нежной душой и двухкомнатной квартирой на Петербургском проспекте.
И угораздило ее влюбиться по самую маковку в Петюнчика, в Петушка, миловидного в общем-то мужчину, тоже с высоким образованием, но прощелыгу, без всяких там трепетных душевных струн и без жилья.
Хотя уренгойцы – народ особый, но шаромыжники среди них водятся. И вот, представьте, влюбилась по уши наша Зоя в Петюнчика, а чем он взял – загадка. Ну, был бы мужик! А то так… Симпатичный, конечно, не будем врать. Усики, глаза серо-буро-малиновые… Однако уши – во, нос – во и пузо – во.
И тут надо заметить, что этот супермен был бабник, каких поискать. Но Зоя, естественно, ослепла от любовного потрясения и никого не хотела слушать.
Петюнчик весьма комфортно въехал не только в ее сердце, но и в ее квартиру. Стали они жить-поживать: месяц живут, второй, третий…
Зоя продолжает умирать от любви и счастья, а Петюшка пребывает в состоянии загульного предчувствия. В один прекрасный день он надевает свой походный макинтош и пропадает на неделю в городских дебрях. Так с тех пор и пошло: Петя потихоньку пьет, гуляет, а Зоя потихоньку прозревает.
Однажды она окончательно прозрела. Дело было так. Приходит к ней утром какой-то нервный субъект и интересуется мужем. Зоя, естественно, отвечает, что он в командировке, в городе Москве. Нет, говорит субъект, он не в городе Москве, это я был в Москве, вот приехал сегодня и обнаружил его в своей квартире. Теперь, говорит субъект, он на балконе под охраной соседа с ружьем…
Зоя прибегает и видит под дулом берданки своего ненаглядного Петушка в тапках на морозном балконе.
Счастье кончилось, но любовь не прошла! Не прошла любовь. Наоборот: после скандала ребенок родился.
Живут, значит, они, поживают, а годы между тем летят, и вот уже у Зои двое детей, любовь никак не проходит. А Петя все бузит, и даже, мягко говоря, спивается… В конце-концов, нервы ее сдали, силы ее иссякли, и она решила покончить с Петушком. Но перед этим поехала в Америку – контора послала учиться. Живет она в Америке, учится, американцы на нее, такую красавицу, глаза пялят. И произошло то, что должно было произойти: полюбил ее не шибко молодой, но состоятельный янки. Так полюбил, что проходу не давал. Выходи, говорит, за меня замуж, без тебя счастья нет, все, говорит, мои капиталы – у твоих ног.
Что делать? Как быть? «Хорошо, мистер Гарри. Поеду в Россию, посоветуюсь в последний раз».
Приезжает она из Америки, вся такая решительная, и устраивает своему муженьку Варфоломеевскую ночь.
И случилось чудо! Через месяц, когда побои прошли, а переломы срослись, Петушок словно переродился!
Он не пьет, не ходит «налево» и обожает ее. Живут душа в душу!
…Все-таки, удивительный народ уренгойцы!
Трое в Поднебесной
Однажды Лякин заблудился в Китае. Задержался на остановке в туалете и отстал от туристической группы. Вышел – ни тебе автобуса, ни группы, ни жены, одурманенной китайской экзотикой. Туристы, понятно, они люди чужие. Но супружница! Дернул ее леший впасть в экзотический экстаз.
Огляделся Лякин – мама родная! Чужеземная страна, ни одной знакомой морды. И глухомань. На левом пространстве от дороги раскинулись рисовые поля, на правом ютилось селение и был базар, где стоял проклятый туалет под пальмами. Там Лякин поразился сортирному амбре: пахло кокосом и мускатным орехом. Еще висели гирлянды туалетной бумаги. И такой сервис – в сельской местности, где при желании можно найти приют под каждым кустом. Лякин долго обнюхивал уборную, напоследок прихватил на память рулон бумаги. А когда вышел – автобус уже тю-тю. Теперь он стоял расстроенный, посреди Поднебесной, без денег и паспорта, без жены и крыши над головой. Он даже не запомнил, из какого города они выехали и в какое место ехали. Беглая инвентаризация дала плачевный результат: Лякин обладал полным незнанием китайского языка, жалкой купюрой в пятьдесят юаней, календариком с портретом мэра Нового Уренгоя, фотомыльницей без названия, обручальным колечком и тремя бананами.
Утешившись наличием месячного запаса туалетной бумаги, Лякин сел на придорожный камень, съел банан и принялся ждать возвращения автобуса, когда там хватятся. От скуки начал вспоминать все, что знал про Китай. В Китае страшно много китайцев, вспомнил он. Здесь есть великая китайская стена. Китайцы изобрели порох, компас и презерватив. Каждый китаец считает себя пупом земли. Коммунисты Китая строят капитализм с человеческим лицом. Через десять лет Китай перегонит Америку по экономическому развитию. Китайцы едят все.
На этом познания Лякина о Китае исчерпались. Автобус так и не появился. Никто не ударил в набат и не кинулся насчет пропажи, а жена не зарыдала и не забилась в истерике. Вечером Лякин лег на базарный бруствер, укрылся целлофановым пакетом и после тягостных раздумий задремал. Ему приснилось, будто он торгует в сортире туалетной бумагой. Проснулся он от громких голосов и ударов в бок. Несколько молодчиков нагло толкались. Лякин подумал, что это бандиты и сказал на чистом китайском:
– Мао Цзэдун!
Полуночники заржали.
Тогда Лякин побряцал мускулами:
– Хунвэйбин!
Хулиганов как ветром сдуло.
Утром он купил стакан жареных козявок, бутылку воды и подался неизвестно куда. В полдень Лякин увидел пруд и решил отдохнуть. Пруд кишел утками. Возле воды стояла фанерная хибара с окнами без стекол, а над крышей у нее красовалась спутниковая антенна. Возле хибары был припаркован трехколесный грузовой автомобиль, похожий на большой мотороллер с кузовом. Колеса у мотороллера были, как у «полуторки». Лякин разделся и полез освежаться в настоянную на утках воду. Из барака вышел мужик в шортах и что-то крикнул.
– Не трону я уток! – с досадой ответил Лякин.
– А, – сказал мужик и нырнул в развалюху.
Когда Лякин вышел из воды, выскочил тот китаец в шортах и произвел осмотр гостя.
– В карман еще загляни, может, селезень там! – съехидничал Лякин.
Китаец засмеялся и спросил, что он тут делает. Лякин объяснил, что ищет россиян, а также прибежище и работу. Чтоб собрать денег на дорогу. Самое странное было то, что говорили они на разных языках, но понимали друг друга.
– Беру, – сказал мужик. – Я хозяин.
Так Лякин стал батраком. На откормочном пункте он выгуливал утиное стадо, разгружал ящики с кормом, паковал живое поголовье для отправки оптовикам, принимал новые партии молодняка.
Шло время, россияне не попадались. Чтоб не терять связь с Родиной, Лякин доставал календарик с портретом мэра Нового Уренгоя и с наслаждением читал по слогам русские слова: «Понедельник, вторник, среда… Январь, февраль, март…» К его радости, спутниковая антенна начала принимать российские программы. Так Лякин узнал об оранжевой революции на Украине. Пришлась по душе китайцам Юлия Тимошенко. Особенно когда она то распускала свои роскошные волосы, то сплетала их в воинственные, как пулеметные ленты, косы.
– У китайских женщин так не получится, – завистливо вздыхала беременная дочка. – Они не носят кос.
…Раз ехал Лякин по городу на трехколесном драндулете сдавать уток и наткнулся на памятник. Вроде бы китаец, но уж больно знакомыми и родными показались ему отдельные черты. Остановился, слез с сиденья – ба! Так это же Александр Сергеевич! Пушкин! Лякин до того растрогался, что даже прослезился, почувствовав себя уже не одиноким.
Он сдал уток, примчался на ферму, вытребовал заработанные деньги, подарил хозяину за приют и ласку календарик с портретом мэра Нового Уренгоя и подался в город жить возле памятника и ожидать русских туристов. Россияне ведь как? Всегда приходят к Пушкину, где бы ни стояли ему памятники: в Азии, Африке или в Латинской Америке. Такой народ. А как придут – так и спасут!
…Вечером сидел Лякин на лавочке возле Пушкина и зачарованно смотрел на даму небесной красоты. Дама приблизилась и сказала:
– Наконец-то! Разве ж можно так пропадать?
Лякин хотел было заспорить с женой насчет того, кто пропал и кто кого бросил, но махнул рукой. Расхотелось. Да и к чему? Какие к шутам споры, если любовь? Они долго объяснялись, а Пушкин, казалось, с интересом слушал их. И было странным видеть эту троицу в наступающих сумерках китайского тропического вечера. Порою чудилось, что Пушкин не только внимательно слушает, но и встревает в разговор. И даже тихонько посмеивается…
Юрибей
Перед рейсом Петрович проверил метеослужбу: послюнявил указательный палец и высунул в форточку кабины. Ветер дул по прогнозу, как и сказали «колдуны погоды», северо-восточный. Встречный! Петрович было настроился кольнуть бортмеханика, учел ли он встречный, но механик бодро отрапортовал, что все путем, и что вертолет залит бензином «под завязку» – легко дотянут до Гыды. У двоих пассажиров, летевших с нами, имелось в Гыданской тундре важное дело, которое могло бы удивить любого, далекого от заполярных реалий человека, скажем, москвича или краснодарца. Но не аборигена! Это были уполномоченные по сбору ненецких детей в тундре. Как будто ехали грибы собирать. На самом деле ребят надо было возвращать в интернаты после летнего пребывания в родительских чумах. Я направлялся по заданию редакции. Стоял август 1971 года.
МИ-4 глухо застрелял цилиндрами, пуская клубы дыма, потом зарычал, раскручивая винты, потом заревел и неспешно полез в небо. Четыре часа в грохочущей «стрекозе» над Ямалом – и вот она, Гыда. Здесь заправились, приняли на борт завуча местного интерната, но едва успели долететь до фактории Юрибей, как на вертолет пал густой туман.
– Колдуны проклятые! – пробормотал Петрович и произвел посадку.
Мы направились по разбитым деревянным мосткам к строениям фактории, темневшим в тумане. Нас радушно встретили хозяева – муж с женой. Быстро собрали на стол обед: уху, сочную малосольную и жареную рыбешку, вареное оленье мясо, горячий, только что испеченный, хлеб, выставили две бутылки спирта.
– А что? Пожалуй, – сказал Петрович.
– Надолго! – махнул рукой в сторону окна хозяин, имея в виду туман, и поднял рюмку.
За обедом я взял интервью у хозяев фактории. После четвертой рюмки задавать вопросы мне помогала вся компания, а после трапезы все дружно направились к вертолету передавать в редакцию материал о героическом выполнении Юрибеем плана заготовки пушнины. Но райцентр на наши призывы не откликался: видимо, мы низко сидели.
– Может, запустить движок? Да вознестись? На километр? – спросил самого себя Петрович. – Из уважения к прессе. А ты меня? Уважаешь?
– А как же! – с жаром воскликнул я, держа перо наготове.
Но экипаж Петровича отговорил.
Вечером я долго просвещал участников застолья насчет газетных жанров и мимоходом взял интервью не только у своих попутчиков, но и у самого Петровича. А после, утомленные репортерской работой, мы завалились спать.
Утро не принесло радости, туман стал еще гуще. Весь день мы трескали уху и запивали ее спиртом. К вечеру дошли до очерков и зарисовок. Петрович без запинок отвечал на вопрос о характерных особенностях этих жанров.
– Но ты мне про хвейлетон шпарь! – поднимал Петрович вилку с нанизанным куском нельмы. – Я хвейлетоны уважаю!
…Неделю туманилось. Наконец прояснилось, зазолотилось солнышко. Гостеприимные хозяева с радостью проводили нас к вертолету. Командир поднял винтокрылую птицу в синее небо и повел ее над неоглядными заполярными пампасами и прериями – искать детей. Мне передали наушники:
– Говорить с редакцией будешь? – услышал я бодрый голос Петровича. – Ни хрена, правда, не слышно, но разобрать через слово можно.
Я напряг слух и услышал заливистый голос редактора:
– Куда… делся… ядрена… феня… материалы… срочно… ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш…
– Прямо щас, разбежался, – ответил я. – Косяк лепортажей и хвейлетон впридачу!
– Сеанс окончен, – объявил Петрович. – Связи нет. Передай сборщикам – вижу чумы и ребятенки бегают. Внимание – идем на посадку!..
Иван Лукич из казино
Иван Лукич доедал последний сухарь, а пенсию не несли – дефолт. Рылся Иван Лукич, не взирая на древность, в мусорном ящике и собирал бутылки на пропитание, когда послышался свист. Так: фью-фью, как бобику. Глядь через плечо – громадный черный лимузинище сверкает задом. Вышел высокий, сытый, с пузцом, буржуин, а штаны и пиджак у него с искрой: свирк-свирк.
– Дед Иван, ты ли? – спросил буржуин и прищурился.
– Я, – ответил Иван Лукич, робея.
– Не узнал? Я ж Мишка Вякин! Внук Федоров!
Иван Лукич, обмирая, так и сел на мешок стеклотары. Хрупко стекло хрустнуло от водки «Абсолют» – видать, поддельное. Как же, теперь признал…
– Промышляешь? – ухмыльнулся Мишка. – На жизнь? А ко мне? Сытым будешь. Сбирайся!
…Эта история древняя, как сам дед. Было в ту пору, когда Зимний брали, Ивану пятнадцать годков. Бежали – и он побежал. Через ажурную ограду лезли. «Временных» видел. Царские палаты смотрел. Ну, покрали. Жутко, весело было. А кто ж тогда не крал? С той поры Иван числился официальным героическим участником великой октябрьской революции и легендарного штурма Зимнего. В гражданскую войну он воевал за лучшую долю народную. Потом служил в частях особого назначения, подавлял кулацкие мятежи, обеспечивал продразверстку. Славно отличился Иван Лукич в коллективизацию. В те поры и свела его судьба с мироедом Федором Вякиным. Сколько раз раскулачивал он Федора и подводил под заключение, но тому везло: то комиссия, то амнистия. Смотрит, бывало, Иван Лукич и белеет от бешенства: вновь на воле кулацкое отродье! Но перед войной с фашистами повезло Ивану: упек Федора в такие места, откуда возврата нет. А семейку его, это змеиное кубло, выселил в пустынь – к черту на кулички. Сгинул Федор.
Но лет через тридцать в подъезде столкнулся герой революции нос к носу с молодым субъектом. И задеревенел от жути: Федор стоял!
– Не бойся, не трону, – сказал субъект. – Мишка я, внук Федоров.
– Как-как-как? – квакнул Иван Лукич.
– Да так. За что деда сгубил?
В минуту смертельной опасности рванулся Иван Лукич и без памяти в квартиру – юрк! Многими замками защелкал. Прокричал из-за железа:
– За душонку его кулацкую!
Так и спасся……Одели Ивана Лукича в золоченую ливрею с погонами, в лаковые штиблеты, на голову наполеоновский треух напялили. Положили ему большой оклад. И стоял теперь Иван Лукич истуканом у входа в вякинское заведение.
– На фига деду куча денег? – стонал главбух. – Мы что – миллиардеры?
– Нехай чует мою доброту. Ежели совесть есть – повесится!
Но Иван Лукич вешаться не желал, а народ повалил: хотелось поглазеть на живую легенду штурма Зимнего.
Огромную прибыль принес казино дед Лукич!
Умер он в почете и славе в застолетнем возрасте.
А в казино открыли музей имени Лукича и революции…Виват, Нью-Уренгой!
Давным-давно, когда строили газопровод века «Уренгой – Помары – Ужгород» и в Новом Уренгое жили министры, захотелось доморощенным газетчикам прокатиться в пропагандистских целях вдоль «трубы» аж до самой до западной границы.
Обратились они за помощью к одному из министров, и тот распорядился удовлетворить все желания мастеров пера.
Путешественникам выдали автомобиль «Урал» со всеми удобствами и двумя шоферами, полтонны тушенки и столько же сгущенки, спиртное, меховую одежду, спальные принадлежности, повариху, деньги – и гопкомпания поехала.
На остановках странники читали строителям газопровода лекции, сочиняли путевые заметки, пьянствовали, но вели себя пристойно; лишь только раз их видели в одной из притрассовых «забегаловок», куда они нагрянули со своим столиком, стульями, стряпухой и шумно потребовали виски.
Периодически газетчики отбивали в свои редакции радиограммы. Корреспонденции были такого содержания: «С каждым часом нарастает темп самой грандиозной стройки века. Вся Европа с напряженным вниманием следит за беспримерным подвигом советских людей. Газовая артерия неумолимо продвигается сквозь ветер и пургу, через топи, реки, озера, на Запад. Европа с нетерпением ждет долгожданного события, когда у нее вспыхнет советский газ. «Виват тебе, Нью-Уренгой!» – скажет она. «Слава вам, газодобытчики и строители, транспортники и буровики первой в мире страны социализма! – воскликнет западноевропейский пролетариат. – Виват!»
Публицисты сочиняли этот бред от души. Они были твердо уверены, что наш газ спасет Европу от разрухи, даст свет и тепло лачугам и хижинам бедняков…
Не ведали очеркисты в те стародавние времена, что всегда наш Союз отдавал капитализму самое лучшее, потому что плохого капитализм не брал. Что в производство нашего продукта мы вкладывали такое огромное количество труда, что никакой ценой потом этот труд не возмещался.
Корреспонденты не знали в те стародавние времена, что газ как сырье продавался по дешевке, хотя вкалывали северяне – дай Бог каждому: самоотверженно, без нытья, недоедая и недополучая.
…Когда тушенка была съедена, а водка выпита, газетчики поразбежались, а повариха пропала без вести.
Водители долго чесали затылки, стоя на стыке Уральских гор и рукотворной «газовой артерии». Потом развернули «вахту» и тронулись в обратный путь.
Чуть живые добрались.
Такой «виват»…
Любовь-угар…
К одиноким старикам Кондрату Михайловичу и Лукерье Ивановне (на двоих 153 годка) пришла любовь. Возле артезиана. Кондрат Михайлович едва канистру водой до краев наполнил, а Лукерья Ивановна свой бидон, как в сообществе туч началась междоусобица. Тучки подрались, пошла пальба на манер артиллерийской – и хлынул ливень.
Стоят старички под акацией, слушают громы, смотрят на плещущихся в луже под дождем гусей и уток и беседуют.
– Славный дождик, Лукерья Ивановна. Ну, прямо как из бочки! То-то картошке будет хорошо!
– Верно говорите, Кондрат Михайлович. И картошке, и помидоркам, и капустке!
– А гуси как веселятся и гогочут! А утки как ныряют!
– Это они дождику радуются, Кондрат Михайлович.
– Я так думаю, Лукерья Ивановна, что огурцы после такого дождя не будут горькими.
– Не будут, Кондрат Михайлович: влаги много, вся горечь растворится и уйдет.
– А хорошо бы отведать малосольного огурчика, Лукерья Ивановна! Люблю грешным делом в такую погодку выпить рюмочку-другую, закусить малосольчиком и слушать шумы дождя. Мысли разные…
– А чего ж не отведать, Кондрат Михайлович? Как раз первую банку вчера засолила. Должно быть поспели.
Тут помирились тучки. Смолкла канонада, закончился дождик, выглянуло солнышко, нарисовало радугу. И старички влюбились.
Они пошли в домишко Лукерьи Ивановны и отведали ее малосольных огурцов. Потом Кондрат Михайлович пригласил Лукерью Ивановну к себе на окуневую уху и долго рассказывал о Ямбурге, где ему пришлось изрядно повкалывать и поморозить зад. За третьей добавкой промеж ними произошло объяснение. После той памятной ухи начался у них роман и жизнь на два двора. Не берусь судить, чем они занимались по ночам: чего не знаю, того не знаю, со свечой, как говорится, у ног не стоял. Но не раз наблюдал, как в дневное время влюбленные показывали на своих плантациях столько энергии и задора, что просто пыль столбом! Всей своей страстной деловитостью Кондрат Михайлович как бы подчеркивал: полюбуйся, какой я молодец удалой! А Лукерья Ивановна своей кокетливой расторопностью как бы говорила: смотри, какая я невеста, сноровистая да работящая. От зари до зари летали они над грядками и прореживали, пропалывали, окучивали, поливали многочисленные ряды и кусты огородных культур. До обеда колготились на огороде Кондрата Михайловича, после полудня – на огороде Лукерьи Ивановны. А вечером мчались на бахчи, где вызревали дыни, арбузы, тыквы. И такая любовная жизнь, наполненная вдохновенным, но местами непосильным трудом продолжалась каждый божий день – от темна и до темна. Промчался один медовый месяц, другой. Наступила пора собирать урожай. Влюбленные дружно и стойко, на карачках, перелопачивали кубометры унавоженной земли, выгребая центнеры картошки, лука, свеклы, капусты, закладывали добро в закрома и подвалы. Потом настал черед бахчевых, а там и кукуруза дозрела.
Как вдруг… То ли от любовного угара, то ли от беспрерывного стояния вниз головой над грядками, а может, от всего вместе, случился паралич у Лукерьи Ивановны. Была здоровехонька, хотела встать с коленок на ножки – да и брякнулась в морковку! Лежит как мертвая. Петушком кинулся Кондрат Михайлович к телефону – так его тоже долбануло: бухнулся в помидоры. Смотрит соседка и понять не может – то ли огород Лукерьи, то ли Куликово поле, одни недвижные тела.
Инсульты заработали любовнички! С того света их врачи вытащили, а дочки поразобрали заодно с сельскохозяйственной продукцией. Живут теперь старички далеко друг от друга, в разных селах, еле передвигаются и разговаривают с трудом. Иногда вспоминают об истории, приключившейся с ними после грозы в начале лета.
И теплеет у них на душе, и нежно щемит сердце…
Гигант
Второго января в шесть утра Василий Кефиров приблизился к зеркалу и ужаснулся. Перед ним стоял пятидесятилетний кривоногий плюгавый субъект со следами былой красоты и давних пороков на обрюзгшем щетинистом лице. На этом лице, как в истории болезни, можно было прочесть, что шалят нервы, ни к черту почки, печень и селезенка, ни в дугу сердце, что в жизни он, даже в бытность членом КПСС, ничего не добился, что работает и. о. начальника отдела и что зарплата хреновая.
Стоя в семейных трусах перед зеркалом и жалея себя, Кефиров опечалился. И вдруг прямо тут, в коридоре, возле оленьих рогов, висевших над зеркалом, захотелось ему измениться. Будто тяжелые рога свалились и звезданули его по темечку: ожгла отчаянная и решительная мысль – надо измениться!
С того памятного утра начал Василий Кефиров изменяться. Он бросил пьянствовать, стал бегать и прыгать, качать мускулатуру, пить настои из брусники, свеклы и других лекарственных растений, делать очистительные клизмы и вводить раздельное питание. К лету Кефиров основательно похудел, приобрел спортивную осанку, румяный цвет лица, сексапильность. А ближе к зиме его невозможно было узнать.
В здоровом крепком теле Кефирова поселился бодрый, уверенный дух, Василий похорошел, помолодел. Тут бы ему жениться на соседке со второго этажа, на несравненной Наталье Михайловне, и в радости, любви и гармонии дожидаться деток и пенсии! Но огонь честолюбия жег душу Василия. Раззудился он! Захотелось ему стать смелым, решительным, нестандартным. Для начала пошел он к стоматологу и вставил ослепительных красавцев из фарфора. Блистая керамикой, Кефиров произнес на профсоюзном собрании обличительную речь в адрес руководителей, называл их негодяями и подлецами.
Потом он поехал в аэропорт, погрузился в вертолет и прыгнул с парашютом. Затем Кефиров надел смокинг, пришел на то место перед мэрией, где стоял памятник вождю мирового пролетариата, и сыграл на гармошке второй фортепианный концерт Рахманинова.
После этого Василий проник во двор узла связи, влез на телевизионную вышку и долго, страстно кричал в сторону городской площади: «Мужчины! Овладевайте женщинами!..»
Спустившись с вышки, он выучил английский язык, проник в Штаты и соблазнил Мадонну. Тут бы Василию остепениться! Жениться бы на соседке со второго этажа, на несравненной Наталье Михайловне, и в любви да гармонии дожидаться прибавления потомства и заслуженного отдыха.
Но взъярился он. Захотелось ему стать богатым и великим.
…Не скажу какими путями, но страшно разбогател Василий. Жил он теперь во многих столицах, отдыхал на многих островах. За деньги защитил докторские диссертации нескольких наук и написал несколько романов. В год он защищал две диссертации, издавал два романа и менял двух любовниц.
Василию присвоили чин генерала и наградили орденами. Он всего добился, все ему было подвластно. Уже полным ходом велись переговоры о запуске Кефирова в космос…
…Недавно судьба вновь занесла его в Уренгой. Нахлынувшие воспоминания умилили его. Тут бы Василию остановиться! Бросить бы все к черту, смирить бы гордыню, жениться бы на несравненной Наталье Михайловне да и жить-поживать в гармонии. Но клокотал в нем вулкан честолюбия!
…На «мерсе» ехал он вечером по Петербургскому проспекту, притормозил возле автобусной остановки, сказал властно озябшей толпе:
– Изберете меня президентом – метро построю!
– Пошел бы ты в зад! – ответила толпа.
Будто свинцовые рога свалились и вдарили по темечку Василия: обмер от страшной дерзости. В голове оборвались какие-то нити.
Ошарашенного, одеревеневшего, полумертвого Кефирова отвезли в горбольницу, где он безропотно скончался от удара…
Тут и сказке конец.
Анжелика и Королев
На далеком и нежном морском горизонте прочертила погода жирную лиловую линию, грозя обрушить на одуревший от жары город субтропический ливень. Но пока еще вовсю полыхало солнце, безмятежно сияли в сиреневой дымке горы, и я решил потолкаться на пляже. Собственно из гостиничного окна, с горы, в мощный бинокль, местный пляж просматривался как на ладони и можно было бы туда не ходить, но одна деталь пляжа разожгла мое любопытство, и я засобирался.
Я быстренько нацепил короткие усики, водрузил на нос солнцезащитные очки, влез в шорты, бросил на плечо надувной матрац и продефилировал мимо лоточниц и торговок семечками к морю. Пока я спешно двигался по улице, пока, чертыхаясь, пробирался между телами и тушами пляжников, прошло минут десять. Испарилась махонькая, микроскопическая капля времени, эдакая молекула в сравнении с вечностью. Но и такой крохи бывает порой достаточно для переворота в положении вещей. Я слишком хорошо знал цену времени и потому еще шагов за сто до цели всей шкурой почувствовал: опоздал…
«Деталь» пляжа – ярко-красный, как капля томатного сока, купальник – исчезла. Вместе с купальником, естественно, и его хозяйка, а заодно с нею – шестеро каких-то мужиков. Вот бетонная тумба, а вот рядом, на мелкой гальке, то место, где только что развеселая компания азартно резалась в карты, пожирала виноград с инжиром и орошала съеденные фрукты сухим вином «Ркацители». Место совершенно чистое – значит, убрались до утра. На всякий случай я рысью пробежался вдоль берега от одного края пляжа до другого – ни на море, ни на суше их не было.
Пляж продолжал жить своей праздной жизнью: шумело море, визжали дети, гоготали взрослые, вопило радио, перемежая музыку грозными предупреждениями о вреде солнечной активности, где-то кричали «караул», а по акватории сновали взад-вперед катамараны.
Я упал на матрац и задумался. Кто-то из великих сказал: «Думать, хоть изредка, полезно – появляются извилины». Хотя, с другой стороны, в пустой голове мыслям как-то просторнее. Но это уже мой вывод. Итак, я задумался и скоро похвалил себя за умение прислушиваться к советам великих. Искать следует в гостиницах и ресторанах, понял я. Не спорю, догадка не блистала оригинальностью, но я был доволен. В конце концов, я не гигант мысли.
Теперь мне некуда было торопиться. Вскоре на небо надвинулись толстые тучи синюшного цвета, и солнце исчезло в их жутких объятиях. Когда налетел резкий ветер, я собрал манатки и двинулся к себе. Проходя мимо администратора, задал ему (так, на всякий случай) несложный вопрос и неожиданно для себя получил на него утвердительный ответ.
Вечером, в девять часов, я сидел в ресторане при гостинице, ел, не торопясь, цыпленка и поглядывал по сторонам. Ресторанные страсти еще не разгорелись: оркестр вяло, явно настраиваясь, щипал струны, никто толком еще не подвыпил и не рвался в пляс, гости вели себя пристойно. Наконец, в сопровождении шестерых кобельков появилась та, за кем я охотился. Это была броская, пикантная особа, чертовски хорошо одетая и причесанная. Кто-кто, а уж я-то знал, как она любила и умела одеваться и причесываться. К тому же, она была не только хороша, но и умна. Это я тоже знал. Боб Дюдюкин, однажды побеседовав с ней, с восхищением признался мне:
– Хороша! Бывают же такие. Где ее откопал?
Наверное, Боб всегда хотел много знать, потому он так рано состарился.
– Это тайна, Боб…
Звали ее Анжелика. У нее были роскошные русые волосы, и однажды она едва не стала матерью моего ребенка. Впрочем, спорить не буду – возможно, и не моего. Потом она сбежала от меня из Надыма, прихватив с собой заодно и мои накопления. И вот теперь, наконец, мы свидимся…
Я встал, бросил на стол возле блюда с обглоданными останками цыпленка несколько купюр, и, не спеша, под гитарное треньканье, направился к выходу. Через две минуты я уже открывал дверь номера моей беглянки, а еще секунд через двадцать приступил к серьезному исследованию содержимого ее чемодана и сумок. Потом я обшарил кровать, ванную, но тайник, где лежало несколько паспортов и немного денег, оказался в углу под паркетными брусками, на коих стоял торшер. Я выключил свет, сел в кресло и, как в добрых традициях детективных фильмов, приготовился ждать. Надо заметить, что пока я проматывал деньги в ресторане и ковырялся в Анжеликиных тряпках, бушевала гроза. Ливень в сопровождении грома и молний был таким сильным, что казалось Черное море опрокидывается на город. Под грохот небесной канонады беззвучно открылась дверь, и до меня из коридора донесся веселый разговор: моя любимая обещала кому-то быть готовой через полчаса. Она закрыла дверь, включила свет, и я предстал пред нею во всей своей красе.
После длинной и немой, естественно, сцены она, наконец, сказала:
– Господи, Королев, как ты мне надоел! Ну, чего тебе надо?
– Во-первых, я тебя люблю. Во-вторых, ежели не хочешь со мной жить – отдай мои деньги… Нехорошо.
Она сказала:
– Отдам. На днях. Мне начинает фартить.
В номер громко и назойливо постучали, дверь открылась, и в прихожку ввалились два субъекта из ее «свиты».
Анжелика обернулась и сказала:
– Сейчас!
Тот, кто был повыше и поплечистей, с угрозой спросил, показывая на меня:
– Это что за чмо?
Я прикрыл глаза. Драка не входила в мои расчеты: будет шум, придется сматывать удочки, мне вовсе не хотелось расставаться с предметом моих грез, пока я не взыщу с нее должок.
– Это мой доктор… А теперь убирайтесь, – сказала моя перелетная птичка и начала раздеваться.
– Ты что, собираешься с ними баиньки? – спросил я, когда мужики, поворчав, ушли.
– Да.
– Со всеми сразу?.. – не без ехидства осведомился я.
– Со всеми. У них большая наличность – не скупятся.
– Это безумие! – сказал я. – Они передерутся или угробят тебя.
– Такое их условие. А теперь пора. Встретимся завтра, если спасусь.
Я сделал еще безуспешные попытки отговорить ее от авантюры, а потом плюнул, обозвал шлюхой и отправился к себе.
Разбудил меня стук в дверь. Было свежее после грозы утро, на акации перед окном чирикали, прихорашиваясь, воробьи. Я натянул брюки и спросил через дверь, какого черта надо.
– Вам телеграмма!
Ни посылки, ни письма, ни тем более телеграммы я ни от кого не ждал. Я сунул газовый пистолет в карман, прижался спиной к стене и повернул ключ. Когда я открывал замок, ожидал узреть кого угодно – дьявола, носорога, милиционера, но только не хахалей моей потаскушки. Но это были они, и вид их рож не давал мне никаких шансов надеяться на пощаду.
– Где твоя сучища, доктор? – сразу с места в карьер взял плечистый и угрожающе вытащил довольно увесистый ножичек.
– Откуда мне знать? – опешил я. – А что случилось?!
– Ни хрена себе! – взревел, распаляясь, плечистый. – Обчистили нас на пять лимонов – и издеваются!
Становилось довольно шумно в это умытое, свежее, веселое утро, а я люблю тишину. Поэтому когда плечистый неосторожно сделал в мою сторону шаг, он тут же наткнулся своим животом на носок моей мокасины и, обмякнув, благополучно свалился со своей сабелькой на пол.
Остальные дружно кинулись на меня, но я уже стрелял…
Спустя несколько минут я сидел, распаренный от бега, в своей тачке и прогревал мотор. А потом я погнал «ниву» в леса, в горы, и никто не догадывался, где лежит конечный пункт моего путешествия. Я мчался туда, где спряталась моя Мессалина, а укрылась она наверняка в урочище Оленьем, у старого лешего Андреича: у него мы не раз бичевали…
Так оно и вышло! Анжелика была восхитительна. Я вновь раскис, упал в ее объятия, и по ночам мне снилась не только она, но и тугой сверток из пачек с дензнаками, обещанный ею. Пролетела как миг неделя любовных утех. В одно прекрасное утро я не обнаружил рядом с собой моей невесты, а во дворе – моей машины.
– Ось до пьяти часив була, – сказал Андреич, чихая и кашляя от табака. – Як пьять стукнуло – она гоп в «Жугуль» – и тикать! И усе…
Я обшарил аэропорт, вокзал, но обнаружил «ниву» на незаметной станции Плаксейке. Отсюда, значит, стартовала новоявленная миллионерша в неведомую даль. Где ты, моя лебедушка? В какие края унес тебя леший?
…Ключ от машины лежал на месте, в тайнике, под днищем.
Я завел мотор и взял курс на Ставрополь – в гости к Бобону. До самой Невинки я рыдал и смеялся, размышляя о подлюжном женском коварстве, о страшной роли прекрасной половины человечества в жизни доверчивых мужиков… А когда на заправке полез в багажник – то чуть не подавился куском колбасы, которую жевал: под газетой, возле домкрата, смирнехонько лежало несколько пачек дензнаков самого высокого достоинства.
Вернула-таки должок! Я поздравил себя с довеском!
И простил ее…Карлик
I
Дежурный врач новозеланской городской больницы Андрей Босовицкий (в гневе):
– Где ты шлялась?! Где тебя носило?!
Дежурная медсестра Катюша Василискина (в ужасе):
– Андрюш, ей богу! На минутку… В сортир бегала… Вон еще крутится магнитофон…
Андрей (свирепея):
– Какой магнитофон?
Катюша:
– Ну… Попросил записаться на пленку… говорил – исповедь… Целая кассета на малой скорости… Вообще-то бред. Можешь послушать…
Разговор возник в два двадцать ночи в одноместной, с претензией на роскошь, больничной палате (помимо тумбочки в помещении красовались микрохолодильник «Морозко» и навеки умолкший телевизор «Березка») города Нового Зеланска поздней осенью 1990 года. На койке перед разгневанным врачом и испуганной медсестричкой покоилось сухое и крайне морщинистое, как ядро грецкого ореха, небольшое тельце старца, с рожками на лысой голове. Катюша не узнавала в нем своего собеседника: несколько минут назад на кровати лежал вполне еще бодрый, хоть и доходяга, старичок. Конечно, лежачий, но руками и ногами брыкался…
Андрей (смягчаясь):
– Чертовщина… Заглянул к тебе, думаю, как ты тут, – а он не дышит. Пульса нет. И на моих глазах – прямо жуть – меняется… на глазах! Кожа вся сморщилась, объем резко уменьшился. Смотри, у него и рога… Как ты думаешь, что это? Может, сообщить куда надо, позвонить главврачу, что ли…
Андрей нервно закурил, походил по палате, посмотрел на магнитофон, надавил клавишу…
Катюша, одеревеневшая, столбом стояла подле тумбочки и табуретки.
II
«…Я, сестрица, никакой не сумасшедший, не подумай ничего такого. Просто исповедь моя выглядит фантазией… Слушай. Родился я в 1530 году от Рождества Христова в мыльне тятеньки моего, царского стольника Федора Отбабахина, под вечер, когда меняли маслице в лампадках. Вот, смеешься… А ты не смейся. Не смешно… Ты слушай – и запоминай. Хотя, впрочем, магнитофон пишет. В лампадках, значит… Я глотнул настоянного на мяте горячего духа и заверещал. Ночью прискакал тятенька мой, долго разглядывал меня, пил квас из ковшика, шевелил пальцами возле носа моего, сюсюкал ласково:
– Динь-дон, динь-дон, загорелся Кошкин дом…
Маменька рдела, любовно поглядывая на меня и на тятеньку. Появился я на свет Божий в один год с государем нашим Иваном Васильевичем, только на три месяца ранее: он – в августе, я – в мае. С тех пор страшно маюсь, сестрица: за грехи тяжкие покарал меня Господь.
Лет до семи воспитывался я в родительской вотчине. А после в принудительном порядке прикрепили меня в числе прочих дворянских отроков ко двору – в окружение малолетнего царя. Иван к тому периоду своей жизни остался круглым сиротой, опекали его бояре Шуйские, Глинские да Скопины. Бояре потакали мальчику во всем, поощряли все его гнусности. Только они, пестуны, повинны в растлении царя-ребенка, только по их преступной злобе государь в раннем детстве заболел психическими болезнями. Правя государством и безбожно грабя казну, бояре проводили политику подлых временщиков…
Когда я, сестрица, впервые увидел Ивана, я испужался: передо мной стоял семилетний психопат. Лишь в минуты просветления он казался мне кротким и душевным.
Помню, в первый же день нашего знакомства с ним Иван сурово оглядел нас и молвил сиплым баском:
– Подмогнете драть кота?
Конечно, мы привыкли к жестоким забавам царя, со временем они уже не казались нам ужасными, и мы мучили животных без всякого содрогания. Да что там кошки: людей давили конями. Я даже превзошел царя в злодействах.
Но шок, полученный мной в первые дни пребывания во дворце, не прошел для меня даром. В моем организме случился сбой: я как бы остановился в росте. Мои сверстники росли, мужали, крепли – я же оставался карликом. Не зря потом меня определили в потешную команду.
Когда стукнуло мне двадцать годков, Иван Васильевич уже сидел, лютуя, на троне. Лишь нас, друзей детства, щадил: тешили, видать, его приятные воспоминания. Мои ровесники пошли в гору, стали большими людьми в сыскной избе, служили не за страх, а за совесть в пыточном отделе, отдавая себя до конца любимому делу. Лишь я бегал в колпаке с бубенцами вокруг трона, потешая царскую публику и получая пинки.
Однажды государь спросил меня ласково:
– Что не весел, собака?
– Челом бью. Вели слово молвить!
Грозный находился в добром расположении духа – намедни, на пире, отравил ненавистных ему бояр. Я бухнулся в ноги:
– Допусти в избу пыточную. Там призвание мое. Не мил мне колпак дурацкий.
– Так ты же карлик! – развеселился царь. – Ты ж и топора не поднимешь!
– Допусти! Дай срок испытательный. Не посрамлю дела!
Царь задумался:
– Ладно. Тридцать ден даю. Доказывай.
…Спустя месяц слава обо мне по всей Москве пошла – так лихо кнутобойничал! Говоря современным языком – был я в застенках пыточных психологом искусным. Представь себе, сестрица, подвал зловонный, адский. На дыбе – жертва в муках корчится. Каты в сторонку отошли – отдохнуть. Вносят факелов побольше. И я вхожу. Сквозь кровавую муть видит жертва ангела в одеждах белых – синеокого русого отрока. И возгорается надеждой! Божественным, кротким голосом, полным доброты и участия, утешаю я висящего на дыбе, прошу покаяться, обещаю отпущение грехов и освобождение. Умываясь кровавыми слезами, истово кается жертва, вещает о злодейских умыслах своих и сотоварищей… Тут я ножичком ему промеж ребер, ножичком! Царь оценил труды мои: наградил сельцом и поставил с учетом моего жестокого лукавого ума чинить допросы по главным государевым делам.
Без ложной скромности скажу: идеологом опричнины был я, а не царь. Тем более не Малюта Скуратов. Меж мной и Малютой Скуратовым вражда шла лютейшая. В конце концов убедил Ивана Васильевича задушить Малюту. По сути дела, во всех тайных и явных убийствах, в которых был замешан царь, я принимал участие. Лишь раз злодейство свершилось как бы в обход. Случилось это в 1581 году, в разгар Ливонской войны, когда мы терпели одно поражение за другим. Меж Грозным и его сыном, царевичем Иваном, возникла стычка. Царевич упрекал отца в медлительности, требовал оказать срочную помощь Пскову, осажденному ливонцами. Грозный молча внимал попрекам, закрыв в гневе глаза, затем вскочил с кресла и широко размахнулся посохом. Трагедия разыгралась столь стремительно, что в первую минуту присутствовавшие не поверили в случившееся. Но царевич лежал бездыханным…
После смерти Ивана Васильевича я не шибко переживал за дальнейшую судьбу мою: такие профессионалы, как я, на средневековых дорогах России не валялись. Я продолжал с усердием и рвением служить в должности, заказов на уничтожение врагов государевых хватало, дыбы и топор палаческий не пылились без работы. Из самых громких упомяну дело об убийстве царевича Дмитрия. Разрабатывал план уничтожения угличского затворника лично я, под контролем моим велось и следствие.
Но странен, сестрица, был облик мой. При моих летах и чинах (а стукнуло мне под конец столетия аж шестьдесят семь годков) имел я наружность пятнадцатилетнего юнца. Жизнь во мне как бы тлела под невидимым стеклянным панцирем. Не ведал, что мучения мои продлятся века!
III
По снежной пустыне, под лунным сиянием, сквозь дремучие древние леса мчался я на тройке в Соловецкую обитель, к мужу великому и ученому, некогда могучему, любимцу царскому и духовнику – отцу Сильвестру. Зазнался поп, на самого царя с поучениями и угрозами полез, мыслил предать анафеме. Неприкасаемый… В гневе жутчайшем вышиб царь славного протопопа и сочинителя «Домостроя» из Александровской цитадели, чудом головы не лишил. Двенадцатую зиму маялся старец на Соловках.
В узкой и низкой келье, похожей на гроб, сидел старец пред свечечкой в размышлениях непраздных.
Присел я на краешек ложа убогого, покрытого кислой овчиною, сказал участливо:
– Себя не щадил, уповал на милость и промысел Господний… Не крал, не прелюбодействовал, не убивал. Не нарушал заповедей Христовых… За души человеческие молился. От злобы, от крови людей отводил, в веру православных чад крестил. Писания душеспасительные сочинял… верил в светлое Христово Воскресение, в правду, в жизнь, в царствие Небесное… И что же? Какова награда, отче? Забвенье…
Поднял голову Сильвестр, в черных глазах блеснуло пламя свечи, сказал скорбно:
– Царя не соблюл. Поделом мне. Не разгадал его помыслов кровавых. Чудище терзает теперь землицу-матушку, а за какие ее грехи? Поделом мне, слабому, убогому. Со слезами радости принимаю наказание Господне за мое ничтожество…
– Ой ли? Не много ли на себя берешь, отче? Царя не соблюл… Не Богу ли было угодно так?
– Нет. Господь уповал на меня, я слаб оказался.
– Чушь! Тысячи лет, отче, на земле творятся злодейства и мерзости. А Бог все уповает. Где логика? Где истина? Не знаешь? Так слушай: все, что творится на свете греховного, Богу угодно. Иначе на земле давно расцвел бы рай…
Сильвестр сверкнул очами:
– Окстись! Отрок! Мы не знаем истинной меры вины людской! Возможно, не сатанинские темные силы повинны в зверствах, но сами люди. И за то их ждет Страшный суд…
– Согласен… На земле французского короля Карлоса в день их святого мученика Варфоломея зарезали сто тысяч душ. Ежели бы франки знали, что за такой их грех Господь пошлет на них кару скорую, лютую – они бы воздержались от зверства! Значит, резня была Богу угодна? Знаю. Скажешь, что Всевышний их потом накажет. Как-нибудь. Чумой или холерой. А ведомо ли тебе: чума – плод нечистоплотности жития?
Сильвестр опустил седую, как облако, главу на грудь, смежил веки. Сказал тоскливо:
– Бог дал человеку жизнь. Он направил его на землю трудиться в поте лица и украшать ее. Но человек свернул в упрямстве своем со светлой дороги, указанной Господом. И натворил! За что же теперь Бога попрекать? За что?
– Люди свернули. Бог их уговаривал, убеждал, заклинал не творить глупости. Так? Так. И что? Не уговорил. Бог – и не уговорил!
– Не лукавь. Он уговаривает по сей день. Не фарисействуй.
– Хорошо. Но вот черное варфоломеевское зверство пошло франкам во благо: исчезли распри, установился порядок, государство окрепло.
– Это химера: не может безнравственность породить добродетель.
– Ты называешь государя нашего чудищем кровожадным, но Русь одержала победы громкие, орду свалила, ливонцев бьет, силой наливается. Зло, насилие принесли благо отчизне! Как же так, отче?
– Фарисейство, видимость величия. Суета сует. Основа у государства – гнилая. Нет основы! Уйдет тиран – зачнется смута, бесславие, конец… Устал я, отрок. Лягу…
Старец прилег. Я укрыл его тулупчиком, потушил свечку, лишь лампадка тлела.
– Слышь, отче? – позвал я. – Слышь? Все-таки – Бог! И не уговорил. А?
Сильвестр не слышал – забылся. Вправду устал после трудов умственных, да еще я с вопросами. Я был разочарован: Сильвестр не убедил меня.
…Взял шапку соболью, приблизился к спящему. Великий Сильвестр лежал у моих ног. Его боялся Грозный!
Я накинул шапку на лицо старца и прижал привычно – сильно и нежно. Старец несколько раз слабо дернулся и затих навеки… Я вышел из кельи.
IV
…Я перевешал и пересажал на кол всех врагов Ивана Васильевича. Иным удалось бежать, например, князю Курбскому. Государь слал беглецу проникновенные доказательные послания – он был, в сущности, хорошим литератором. Мало кто знает, что помимо политической публицистики (в основном – полемики с послами, беглецами, иностранными государственными деятелями) Иван Грозный написал известную песню «Ты не шей мне, матушка, красный сарафан», которая вскоре стала народной, и придумал пословицу «Закон – что дышло…» Ивану Грозному приписывают афоризм «Ни рыба, ни мясо», но это ошибка – автором являюсь я. Сочиняя послания в Ливонию, государь заманивал Курбского в родные пределы в рассуждении схватить и расправиться, уж очень он бесил царя изменой, участием в военных действиях на стороне врага.
– Как схватим, – мечтал Иван Васильевич, – так сразу ко мне: будем с Курбским спорить. Нехай поспорит! Затем снимем портки и выпорем. При людях. Опосля будем рубить: каждый день – одну конечность. Пока до главной конечности, до шеи, не дойдем. Ну, само собой, перед тем язык отрежем.
Тут Иван Васильевич замолкал, глядя на меня и как бы спрашивая: может, ты полютее что? Я разводил руками: лютее ничего быть не может. Вот ежели кишки выпустить…
– Правильно! – вдохновлялся царь.
Но Курбский не клюнул на царевы приманки.
Когда я оглядываюсь, сестрица, на пройденный мною за 450 лет жизненный путь, я вижу бесконечную, как бы уходящую в космос, дорогу, устланную трупами. Известно: я душегубец, нет мне прощения. Но я не христопродавец какой – радел об Отечестве, о государстве! Иван Васильевич был великим радетелем и приумножателем державы. Конечно, он людоед, хоть и не такой кровавый, как я, – от силы душ двадцать самочинно загубил. На Петре Великом – тоже грех душегубства. После я не знал государей российских, кто бы свои руки в буквальном смысле обагрил людской кровью.
Чудно свойство народного сознания! Николай Второй в жизни своей не обидел и мухи: его же молва окрестила «кровавым» за чужие грехи. Палач из палачей Иван Васильевич удостоился почтительного и уважительного титула Грозного. Душедав Иосиф Виссарионович вошел в историю как Великий вождь, Отец народов.
…Уравновешенный, выдержанный, Иосиф Виссарионович лишь раз был замечен в рукоприкладстве. Нарком Ежов и я – комиссар госбезопасности – пришли с докладом к Сталину. Ежов передал вождю копию известного письма Раскольникова, распространенного в газетах Франции, Англии, Америки и обличавшего сталинизм, и книгу Троцкого «Сталинская школа фальсификации». Иосиф Виссарионович внимательно читал письмо, сидя за рабочим столом, придвинувшись к лампе под зеленым абажуром. Мы стояли у стола заседаний, напряженно следя за реакцией вождя. Дочитав письмо, Сталин взялся листать книгу. Медленно, по капле тянулось время. Минут через сорок вождь захлопнул книжку, не торопясь, набил табаком трубку, затянулся, пустил клуб дыма, встал, подошел к Ежову и, глядя на него сверху, яростным шепотом сказал: «Свиньи!» Сталин так сильно двинул Ежова, что нарком не устоял и упал на карачки. Вождь пнул его сапогом.
Я опустился на колени. Успокоившись, Иосиф Виссарионович жестом разрешил нам подняться. Прохаживаясь, он тихо, медленно произнес: «Наглость… этих… отпетых негодяев… переходит границы допустимого. Их следует по заслугам наказать. Прошу вас, товарищ Ежов, и вас, товарищ Отбабахин, представить мне проект ликвидации… этих политических авантюристов, создающих превратное представление о Советском Союзе в западном мире…»
Мы подготовили и блестяще осуществили акты возмездия.
Перед политическими процессами тридцатых годов Иосиф Виссарионович мучился в раздумьях, как половчее «раскрутить» троцкистов. Я написал Сталину письмо: «Товарищ Сталин! Надо организовать встречу главарей банды (например, Зиновьева) с Вами в Кремле. После доверительной беседы «гарантируйте» им сохранение жизни и хорошее содержание за безусловное признание их вины перед партией – для укрепления авторитета ВКП(б). Попытайтесь…»
Об этом документе до сих пор не знает никто. Видимо, вождь уничтожил его. Сталин наградил меня орденом Ленина и званием Героя Социалистического Труда. Иосиф Виссарионович любил потом надо мною подтрунивать: «Ну что, товарищ Отбабахин: попитка – не питка? А? Хе-хе…»
Николай Бухарин напомнил мне своей податливостью, готовностью топить товарищей, услужить – бунтовщика Пугачева. Хорошо помню час, когда привели на допрос Пугачева. Емельян, низкорослый, скуластый, звеня цепями, перекрестился на угол, поклонился низко мне, помощникам моим, присел на скамью, сжался. Я молчал долго. Сказал тихо:
– Сам правду изложишь? Али как?
Пугачев привскочил, звеня:
– Сам, батюшка! Уж прикажи помощничкам твоим не беспокоиться. Все скажу – по каждому дню, по каждому зверству дам ответ!
Екатерина II запретила воздействовать на него физически и распорядилась кормить и содержать прилично. Спал он на чистой постели, а дневной его рацион состоял из нескольких блюд. На завтрак давали вволю гречневую, пшеничную или полбяную кашу с коровьим маслом, молоко; на обед получал Пугачев суп с курицей, отварную баранину или говядину; полдник его состоял из белого хлеба, взвара или кваса; ужинал порцией мяса.
Делом бунтовщика занимался потайной супруг Государыни светлейший князь Григорий Александрович. Меня доставили к нему в спешном порядке, как только стало известно, что Пугачев схвачен. Потемкин, огромный, лобастый, сидел за столом при свечах. Он поднял мощную главу, отбросил прочь гусиное перо, сказал величаво:
– Мне донесли, что вы у нас лучший… – он запнулся, из деликатности подбирая синоним словам «палач» и «кнутобойщик». – Лучший дознавальщик. Матушка-государыня ангельским милосердием своим запретила любые следственные строгости по отношению к злодею. Что ж, тем паче… Надобно точно установить: получал ли Пугачев деньги на подготовку и организацию бунта от польских конфедератов и от Порты? Вам, кажется, теперь ясно, что ложная истина, добытая пытками, нам не надобна. Пусть он сам добровольно сознается. Требую правды, добытой аргументами, то есть доказательствами. Употребите все свое умение…
После аудиенции я сник. Одно дело – добыть сведения под пыткой, совсем другое – выудить их методами моральными, психологическими. А вдруг – он кремень, как Разин? Я мучил Степана много дней, рвал тело щипцами, жег члены каленым железом – лишь страшные гримасы печатались на лике его. Жутким сквернословием взрывался он в часы нечеловеческих страданий, понося на чем свет стоит государя Алексея Михайловича, всех бояр, князей и дворян, а пуще всего – меня.
– Карлик… – хрипел Разин, выплевывая кровяные слова. – Проклятый… ехидна смрадная, мерзкая… В аду сотлеешь… на колу казацком сгниешь… Тьфу!..
Не выдержал мук атаман на плахе, когда рубили – закричал. Топор тюкнул раз – рука левая отскочила, он промолчал. Ноги рубили – зашелся в крике, потерял сознание. Я рубил голову, понял: в бесчувствии. Легкую смерть принял Разин…
К допросу Пугачева готовился я как к экзамену. А бунтовщик, к радости моей великой, оказался на редкость словоохотливым, ничего не утаил, всех подельщиков своих выдал и на них все вины свалил.
– Да как же так, Емельян? – усмехался я, тряся записями допроса. – Как же ты не виноват, ежели дважды изменил, бегая в Речь и в Порту, деньги от них получил немалые на бунт, чтоб спасти турок от поражения. Ты ж второй турецкий фронт открыл, на Яике и Волге! У нас в тылу!
– Эт верно, – вздыхал Пугачев, почесываясь. – Уговорили, нехристи. Когда я коней крал и сбег, чтоб свои не повесили. Деньги немалые посулили. Я прикидывал, как чуть побунтовать да половчее смыться. А полковники и енералы в ответ – брось, дескать, давай погуляем, покуражимся всласть. Смотри, какая вольница. Ну, в раж вошел. Но все они зверствовали, я ж – нет…
Такой агнец!
V
Многих исторических деятелей порешил я, смиренный карлик. Вешал Лжедмитрия, Кондратия Булавина, декабристов… Народников не щадил. Рубил головы Хованскому и Волынскому, расстреливал кронштадтских мятежников. Участвовал в убийствах Бухарина, Зиновьева, Каменева. Подвел к гибели поэтов Клюева, Есенина, Павла Васильева… всех не упомнить. Скажу не хвалясь: Политбюро поручало мне казни. Я отправил на тот свет Ягоду, Ежова, Тухачевского, Блюхера… Даже лучшего своего друга, наркома НКВД Украины Александра Успенского убил с печалью в душе.
…Мы подружились в гражданскую – судьба забросила нас в контрразведку Колчака. На исходе войны перешли на сторону красных. Я быстро поднялся «наверх», Успенский прозябал на Алтае. Позвонил ему, когда начались чистки, порекомендовал проявить себя. Успенский проявил: приговорил к высшей мере восемь тысяч алтайских коммунистов. Его благодарил Ежов. Я подсказал шефу назначить Успенского наркомом Украины.
Успенский устроил на Украине резню. Им были довольны. Но Ежов шкурой чувствовал близкий конец.
На попойках, устраиваемых приближенными, Николай Иванович плакал, роняя малосольные огурцы на галифе:
– Мы – отработанный материал истории! Да, мы уже не нужны. Нас не пощадят – знаем много…
Я утешал:
– Застрелимся, как придут, у меня «Вальтер». Надежный…
Когда Успенского вызвали для ареста в Москву, я позвонил в Киев:
– Конец тебе, Сашка. Смотри сам, куда ехать, в Москву или еще куда. Утром получишь депешу…
Успенский разыграл спектакль самоубийства: написал предсмертную записку о решении утопиться в Днепре, оставил на прибрежном песочке одежку и пустился в бега. Побывал на севере страны, на юге, на востоке… А тою порой усиленно искали труп утопленника и не находили. Наконец, смекнули…
– Раззявы, – спокойно бросил нам вождь. – Найти живого или мертвого!
Успенский знал, что такое всесоюзный сыск. Всю милицию страны подняли на ноги, все секретные службы. Узрел беглец свои фотографии, расклеенные по строениям какого-то заштатного вокзала и сразу понял: хана.
…Я пришел расстреливать. Мы сидели в камере на топчане, по-дружески молча курили «Казбек», приканчивали пачку. Успенский как-то спас меня от гибели, и мне было не просто.
Потом мы двигались – Успенский впереди – гулкими горлами коридоров спустились в подвал. Приблизились к изрешеченной пулями ярко освещенной сосновой стене. Издали квадрат этой стены казался манящей дверью к свободе.
Он не повернулся.
– Ну, будь, – вздохнул я.
– Будь, – глухо отозвался Успенский.
Он еще говорил, а я уже стрелял…
VI
Судьба уберегла меня от репрессий, сестрица. Я счастливо вышел на пенсию и вот теперь здесь, в новозеланской глуши, в больничной палате, доживаю свой срок. Мне снятся века! Ближе, милее мне век, где детство мое…
Помню чудный вечер… Прискакал с государевой службы тятенька. Стоял надо мной, ладный и пригожий, как тульский пряник, потягивал из липового ковшика мятный квас и с любопытством разглядывал меня. На его усах и бородке сверкали квасные капли. Молвил ласково:
– Лепота! Ужо, бесенок… Ну, слава Богу…
Помню другой вечер… В полутемную светлицу шагнул царь. Иван Васильевич был юн, тонок, угловат. За ним – я. Глаза царя кротки и бездонны, в них мерцало пламя свечек.
– Ну как? – с любопытством вопросил он, крестясь и подходя к колыбельке.
Царица рдела:
– Вот!
– Лепота, – прошептал Государь. – Ужо. Ну, слава Богу.
Иван Васильевич пошевелил пальцами в перстнях возле личика своего первенца:
– Ванюша! Динь-дон, динь-дон, загорелся Кошкин дом!
Потом царица возилась у колыбельки, а мы сидели тут же, играли в шахматы. Играли азартно и долго. Наконец, к вящей радости царя, я сдался.
– Будя, государь, с тобой не совладать! – разводя руки и подпуская своему голосу краски восторга и удивления, воскликнул я.
– Да, я умею играть, – бахвалясь по-мальчишески, легко и просто согласился царь. – Кого хошь объегорю.
«…Было ли это, Господи? Ты уберег меня… Зачем?! Мне снятся века, деяния мои страшные. За что ты меня так, Господи? Ведь был я невинный младенец. Птенец! За что покарал ты птенца, обратив его в дьявола?! За что?! Дай ответ, Господи! Дай!..»
VII
Главный врач новозеланской городской больницы Иван Уткин:
– Алло, Никита Сергеевич? Здравствуйте. Уткин позвонил, прошу прощения. Скончался Отбабахин…
Председатель горисполкома Никита Лебедь:
– Ну позвонил бы утром!
– Тут такая жуть! Нетелефонный разговор…
– Не темни! Что случилось?
Уткин:
– Прошу приехать. Нетелефонный разговор.
Лебедь:
– Ладно. Посылай «скорую»…
VIII
Из решения горисполкома г. Нового Зеланска: «В целях увековечения памяти несгибаемого большевика, пламенного революционера, ветерана партии, кавалера государственных наград, персонального пенсионера союзного значения Отбабахина Тимофея Федоровича горисполком решил:
1. Переименовать микрорайон Конский Бугор г. Нового Зеланска в микрорайон Отбабахино.
2. Переименовать улицу Цветочную в улицу Отбабахинскую.
3. Присвоить пионерской дружине средней школы №1 почетное звание «Юный Отбабахинец»
IX
Из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР: «…Переименовать город Новый Зеланск в город Отбабахинск…»
Гипнотизер
Сомнений нет: наш Кутюкин – гипнотизер…
Однажды (мы обомлели) он вонзил свой пронзительный взгляд в бригадира и сказал:
– Пора, бугор, бросаем работу…
Бросили! В самый разгар дня!
Как-то он заметил буфетчице аэропорта:
– Таким чаем, Дуся, больше народ не пои. Помои!
Что бы вы думали? С тех пор в аэровокзале чая не бывает.
Сидим мы как-то на совещании и толкуем про малую механизацию. Образно говоря – лясы точим. Потому что про эту механизацию пятый год болтаем.
Вдруг раздался голос Кутюкина. Вонзил он свой взгляд в начальника и говорит:
– Тельферы, подъемники, лебедки… Как низко мы летаем, как мелко мы плаваем. Без воображения, без фантазии. Надо интерпретировать! Кумекать! Давайте внедрим летающий подъемник. Вертокран! Чуете масштаб?
Начальник помялся и говорит:
– Чуем… А что?
Убедил!
С того совещания все и началось… Работники треста превратились в теоретиков, проектантов, разработчиков. Многочисленная армия наших снабженцев рыскала по всем закоулкам Отчизны в поиске пропеллеров, двигателей и шасси. Они привезли абсолютно все, что надо и многое из того, чего не надо. Были доставлены, к примеру, не только обломки обеих рук от статуи Венеры Милосской, но и голенища сапог с ног Александра Македонского.
Наконец настал решительный час. Под гром оркестра начальник перерезал ленточку, и Кутюкин включил зажигание.
Вертокран загремел моторами, пополз вверх, но над крышей треста застыл, как вкопанный.
…Господа-товарищи! Что теперь делать? Вот уже трое суток наш вертокрылый помощник ни взад, ни вперед – чего-то там заклинило. Грохочет над крышей, а в пилотской кабине – голодный Кутюкин.
Народ волнуется: план сорван, премий нет, малая механизация отсутствует, а тут еще этот кран гремит над трестом, и когда его моторы заглохнут – неизвестно.
В вертокране голодный Кутюкин требует шашлыков и шампанского: уже включил автопилот…
…Сегодня моя очередь дежурить. Может, кто хочет меня подменить? Я только сбегаю на полчасика домой. Сложного тут ничего нет, никаких секретов: смотрите на крылатого помощника – и все дела. А если он вдруг начнет падать – отскочите в сторону, чтобы не убило.
Нет желающих?..
Гипнотизер проклятый!
Загранштаны
Не знали мы, что Гаврилов такая жадоба!
Дело было так.
Пошли мы всей бригадой на проводы зимы.
– Ох, повеселимся, мужики! – радовался Гаврилов, наш массовик и затейник. – От души отдохнем!
Провожание зимы было в самом разгаре: гремела музыка, народ душился в очередях.
Наше внимание привлек многометровый, до блеска отполированный столб; на макушке столба трепыхались американские джинсы. Зазывала приглашал желающих.
– Братцы! – воскликнул наш массовик. – Братцы, попытаем счастья! Ведь даром же!
Бригадир засомневался:
– На кой ляд они нам?
Гаврилов решительно скинул с плеч пальто, сбросил валенки и, оставшись в одних зеленых носках с цветочками, обхватил столб.
– Мои будут!
Не знали мы, что Гаврилов такая жадоба!
Зрители зашумели:
– Давай, земеля!
– Дерзай!
Гаврилов сделал глубокий вздох и полез. Сперва он бодро двигал руками и ногами, зеленые носки так и мелькали. Потом наступил спад. Достигнув высоты полтора метра, спросил:
– Отдыхать можно?
– Валяй!
– Дайте попить!
Гаврилов пил, крепко вцепившись в столб. Потом он продолжил подъем. Через полчаса, на высоте двух метров, он вновь остановился и попросил сигарету:
– Курить хочу.
Покурив, скряга запыхтел, зашевелил конечностями.
Не знали мы, что Гаврилов такой жлоб!
Зрители подбадривали:
– Держись!
– Не робей!
Наконец – вершина! Дрожащей рукой Гаврилов вцепился в загранштаны, но…
Вдруг что-то случилось с Гавриловым.
Он обмяк и, набирая скорость, полетел вниз!
В больнице сказали:
– Ваш коллега потерял сознание. От перенапряжения. Разве так можно? Хорошо хоть ноги, руки и ребра поломал. Совсем мог убиться!
…Недавно мы навестили Гаврилова. С собой прихватили злополучные джинсы:
– Твои, Петя, законные. Тебе присудили. За упорство.
Из-под гипса и бинтов слабо прошелестело:
– Отошлите их назад, в Америку. Пущай красуются в Вермонте… Свои, уренгойские, буду носить…
Ну вот, мы так и думали: вовсе не жадный парень наш Гаврилов!
Как повезет
Питер Лякин был женат 13 раз.
Не считая сожительств «в свободном полете». Плюс две женитьбы в дальнем зарубежье, сопровождаемые полицейской погоней и стрельбой. Плюс восемь детишек.
Измученный неврастенией и алиментами, Питер лишь на днях обрел успокоение.
Нет, он жив. Но лежит недвижим на больничной койке с кучей расстройств.
Как повезет.
Кто-то в сотрудничестве с прекрасной своей Джульеттой неустанно производит ребятню.
И ничего.
А кто-то погибает в момент сотрудничества.
Ежели надоевший мужик устал от жизни и от любви, подруга, сочувствуя страдальцу, может шепнуть незатейливо и страстно:
– А давай, любимый, ударим шоколадом по струнам гормона радости?
И достает из запасников дозу горького шоколада, пропитанного ароматом горького миндаля.
И все.
Но, бывает, и дама разочаруется в жизни, никак не найдет себе кого-то.
Ищет и мается. Мается и ищет.
Уж сорок минуло, а милого все нет.
Спросишь:
– Ну, что ты, что, душа моя?
– Да что, – грустит. – Кто зовет – с тем не хочу я. А с кем хочу – тому я не нужна.
Как повезет.
И ведь красавица!
Другая не грустит, легко идет по жизни, прямо катится: кругла как колобок, ни дня без мужиков.
– А что? – задорно улыбнется. – Какие у меня глаза?
– Синие! – отвечают.
– Да! Прекрасные синие глаза, остальное – задница!
Как повезет.
Вот идет! Глубокие морщины избороздили лицо, выцвели глаза. Они никак не гармонируют с юношеской чернотой кудрей, окрашенных намедни.
Хочет нравиться. Готов приволокнуться. Грешит. Даже в Великий пост. Хотя и не ест мяса.
– Мадам! – стучит тросточкой. – Любой каприз ваш!
– Не трясите меня, как осину, – дама отмахивается от палки. – Осыплюсь.
Путана из подворотни:
– Сто баксов, дед, и я – твоя!
…Мне понравилась та, что прыгнула над Уренгоем с парашютом.
Она поднялась на километр, хватила под грохот вертолетных турбин граненый стакан водки и – сиганула в бездну.
И ей повезло!
…Так пусть всем им везет!
Всегда и везде.
На земле и в воздухе.
На воде и под водой.
Но лучше им туда не надо.
Пусть будут рядом с нами!
Ночь вдвоем
Мой коллега Ахов увидал на заборе объявление про интимные услуги и его разожгло любопытство. Точнее, про интим ни словечка не сказано, а лишь – «Ночь вдвоем». И телефон.
Поди разберись, что к чему.
Хотя, конечно, ясно, про что, но для успокоения можно смело сказать: а хрен его знает, на что забор намекает!
Однако, в уме понятно. Но открыто так, как на суде, сказать нельзя. Суд не примет к производству. Нет доказательств. Короче, ночь вдвоем.
Может, в картишки приглашают переброситься, может, интересную книжку про статского советника напевно почитать.
Прямо с работы отправился Ахов по адресу. «Ночь не ночь, а пару часиков любопытно посидеть», – размышлял он, звоня в дверь. Романтик, Ахов не ведал, зачем пришел. Он думал, за туманом. Оказалось, за петлей на шею. Хотя, конечно, с любовным угаром и кипением страстей.
…Освободился Ахов в семь утра. Без семи тысяч в кармане и без твердой уверенности в текущем дне.
От порога развратной квартиры Ахов прямиком угодил на службу, и там был уличен по акту в нетрезвом состоянии. Последовал приказ о понижении в должности и лишении премии. Дома ему учинили разнос.
С той поры Ахов потерял веру в счастье.
А ты не любопытствуй!
Пищевой удар
Сошел с ума Егор в полдень.
В Америку он попал по приглашению. Друг Семен, то есть Сэм, дал денег и пригласил.
Лучше бы не приглашал.
Еще в десять утра Егор был вменяемый.
– А сейчас, – пригрозил Сэм, – получишь пищевой удар.
И открыл дверь морского ресторана.
Лучше бы не открывал.
По периметру огромного зала размером с футбольное поле стояли столы и ломились от изысканных яств из океанских глубин. Впрочем, было много блюд из простого мяса. Рядом во множестве – бутылки с вином.
– У вас говорят: гуляем во всю Ивановскую, – сказал Сэм и заплатил за четырехчасовое пребывание шестьдесят долларов.
Лучше бы не платил!
Егор обезумел.
Он безжалостно насиловал себя лобстерами, королевскими креветками, крабами, акульими плавниками, черепаховыми супами, крокодилятиной, заедая все это дичью, жареной бараниной, кабаньими окороками, румяными шашлыками, шипящими в жире колбасками, бело-розовым салом с толстыми прожилками и запивая съеденное шампанским.
Егор раз сто подходил к столам и возвращался оттуда, как варяг – с богатой добычей. Он съел так много, что обессилел и оцепенел, что удав на морозе.
Наконец нервно засопел:
– В каком, Семен, российском гадюшнике позволят тебе на 900 рублей жрать и пить полдня? А? Почему простая американская порция тянет на полведра, а российская – на шкодливую пригоршню карманника? Отчего кеды в России стоят 150 долларов, а в Америке точно такие – пятьдесят?
Лучше бы не водили Егора в ресторан! Стал размышлять.
Поперхнувшись вопросами, он долго с жуткими ругательствами откашливался.
А потом сошел с ума.
Неделю до самолета в Москву Егор лежал на койке с калькулятором в руке и вслух тихо бредил.
– Представим себе, – бормотал он, – что мы живем, как янки. В таком разе при нашей средней зарплате в четыре тысячи рублей «жигули» обязаны стоить десять кусков в рублях, «мерс» – пятьдесят тысяч, костюм – двести рэ, обед – не более десятки… Хм… А представим теперь, что янки живут как мы! При их среднем доходе в четыре тысячи долларов «мерс» теперь у них должен стоить полтора «лимона» баксов, костюмчик – шесть тысяч, обед – шестьсот «зеленых»… Хе-хе! Поделом! А теперь представим…
Эти размышления и доконали Егора вчистую. «Почему, – вопил он, – паршивый «мерс» стоит у русских полтора «лимона»?! – И метался, бедняга, бессмысленно выпучивая глаза и не находя ответа.
…Настал долгожданный день, Сэм отволок Егора в аэропорт и с облегчением сдал в Россию.
– Размышляй там на здоровье! – сказал Сэм.
Такая вот история.
Не лезь, умник, в Америку со свиным рылом.
Случай перед выборами
Сидели мы на кухне в канун выборов и вели политическую дискуссию. Обсуждали за бутылкой, кто победит. Один доказывал, что Путин, другой – что Харитонов. Третий гнул, что Жириновский.
– Какой Жириновский! – кричали мы. – Он не участник. Рекламу, дурик, надо слушать.
А дядя Федор, сосед напротив, как бабахнет среди спора по столу кулаком да как заорет:
– Ша! Хакамада победит! Я сказал. Она прекрасна, как Нефертити.
– Какая Хакамада, какая Нефертити! – заржали мы. – Она же увядающая баба! Эмансипе… стриженый затылок!!
Дядя уперся – ни в какую. Взгляд безумный:
– Ее дело правое! Победа за ней. Верю, люблю эту прекрасную даму! На спор ставлю приз – иномарку!
– Видали, иномарку! – захохотали мы. – Чего захотел. На твоем «запорожце» еще Петр Первый объезжал войска под Полтавой.
– На спор – шифоньер итальянской работы! – кричит, как полоумный, дядя Федор.
– Зачем нам шифоньер? Вместо гаража?
– Плюсую к шифоньеру мою супружницу Евдокию!
Ладно, уговорил.
В понедельник, на трезвую голову, пошли за призом. Но от Евдокии категорически отказались. На фига она нам? У нас свои выдры имеются.
Дядя выглядел мрачным. Он был убит не только победой Путина, но и нахлобучкой от Евдокии. Ревнивая жена вызнала про его измену с Хакамадой и вовсю орудовала предметами кухни, охаживая ими несчастного муженька.
– Вот вам приз – выкусите! – показал нам кукиш дядя Федя и захлопнул дверь.
…До чего ж иногда доводит мужика слепая политическая любовь!
Мальчишники
Старина Калиныч посватался к одинокой красотке Михеевне. А та согласилась. Прощаясь с холостяцкой жизнью, устроил Калиныч в лесополосе мальчишник.
…Что такое мальчишник в летний день в лесной полосе на краю люцернового поля? Представьте себе тенистую лесополосу в три часа пополудни. Благодать полная: тишь солнечная, в высоком небе чуть слышно райскими свистульками жаворонки заливаются. Воздух набух пряными ароматами. Пахнет и чабрецом, и люцерной, и полынью, и акацией, и плодами туты с абрикосами. А как дурманит нюх нагретое сало, крупными ломтями разложенное по страницам районной газеты! А как сверкают мясистые помидоры, разрезанные на половинки и посыпанные крупной солью! От пупыристых огурчиков, распластанных на сочные дольки, и зеленого лучка с белоснежными ножками, хвостатой красной редиски и сладкого молодого чеснока текут слюнки. А от теплого свежего хлеба, белого и черного, из колхозной пекарни, истекающей соком копченой колбасы из настоящего мяса и от вареных куриц, покрытых нежным желтоватым жирком, начинает кружиться голова…
А в густом кустарнике вон – два больших ведра со всплывшими этикетками. В одном ведре в прохладной воде плещутся бутылки с водкой, в другом – с пивом.
В чем прелесть застолья на вольной природе? Во-первых, вы возлежите, как римский патриций, на байковой подстилке. Во-вторых, устав от возлияний, легко поворачиваетесь на другой бок и сладко засыпаете. А после здорового освежающего сна принимаете первоначальное положение – и вы за столом! Впрочем, никто не сделает вам замечания, если вы без всяких там поворотов заснете мордой в кислой капусте.
Так дотемна, пока будет водка. В потемках ходячие погрузят лежачих в тракторную телегу и при фарах развезут на дизеле домой.
Калиныч, мужик степенный и мало пьющий, от всей души угостил друзей, но и сам, расчувствовавшись, на грудь принял изрядно. Стопка за стопкой – потекла сердечная беседа за жизнь, за женщин. К концу пиршества виновник торжества заснул мертвецким сном. Жениха погрузили в телегу и привезли домой. Соседи, сидевшие в тот вечер на лавочках, видели, как возле ворот Калиныча выгрузили местного алкоголика Митрича и поволокли в сумерки двора. Тут надо сказать про одну очень важную тонкость: в пьяном виде Калиныч был точь-в-точь Митрич. Ну, копия! Однако, поскольку Калиныч по жизни почти не пил, то и народ про эту схожесть не ведал.
– Чего алкаша затащили во двор Калиныча? – в недоумении задумался на лавочках народ. И думал всю неделю.
…Через месяц Калиныч с Михеевной из-за чего-то подрались и развелись. По случаю возвращения в прежнюю вольницу новоявленный холостяк устроил в лесополосе мальчишник.…Кто не знает, что такое мужское застолье в лесной полосе, возле люцернового поля, в дурмане трав и цветов, в аромате крестьянских яств – тот ничего не знает! Калиныч, возлежа на байковой подстилке, так расчувствовался, что к концу полевого застолья заснул мертвецким сном. Его погрузили в тракторную телегу и доставили к родимой хате. Соседи на лавочках были шокированы:
– Чего Митрича к Калинычу таскают? А?!
На другой день они спросили у Митрича. Возмущенный Митрич потребовал бутылку за оскорбление:
– Ишь, чево удумали! Никогда не склонял головы! Митрич сам доползет. Без посторонней помощи!…Через месяц старина Калиныч помирился с красоткой Михеевной и вновь свистнул друзей на мальчишник…
Арфа
I
На рассвете женщины покинули душный храпящий барак. Ушла и Авва; она легонько прикоснулась губами к груди Нефер-Тинга, погладила арфу, поднялась с колен и исчезла в неярком пляшущем свете факела.
Едва луч солнца лизнул край облака, дежурный по бараку, терпеливо ждавший этого мгновения, ликующе провозгласил:
– Возрадуемся! Бог Ра явился к нам!
Строители пирамиды зашевелились на соломенных подстилках, закопошились, тяжко потягиваясь, вздыхая, истово повторяя за дежурным:
– Явился… Бог Ра… Возрадуемся…
Бог пришел, день пришел. Надо служить Богу.
II
Огромный поселок ожил. Каменщики, скульпторы, резчики, кузнецы, чернорабочие потянулись к пекарням, выстраиваясь в очереди. Люди жадно вдыхали кизячный дым, перемешанный с запахом отрубей. Очередь продвигалась быстро: чиновники следили, чтобы время не терялось. Нефер-Тинг, одетый в короткую льняную юбочку и сандалии на босу ногу, подошел наконец к пекарне, раскрыл мешок. Служка бросил горячую буханку, головку чеснока, две головки лука, махнул рукой – отходи. Еда на день. Будет пиво от фараона, но это днем, когда жара испепелит все вокруг – и священную стройку с громадой почти достроенной пирамиды, и городок вокруг нее, где размещались сорок тысяч строителей пирамиды великого Хеопса.
Нефер-Тинг отломил кусок хлеба и, жадно жуя, направился в общем потоке завтракавших людей к главному административному корпусу управления строительством. Перед зданием поток изможденных от изнурительного труда людей выстраивается в бригады и отряды. Каждое подразделение имело имя – «Сильные волей своей», «Несгибаемые», «Старательные», «Идущие впереди», «Упорные», «Верные заветной цели». Нефер-Тинг был в бригаде «Непоколебимых».
На здании управления виднелись крупные надписи: «Начальник строительства», «Технический инспектор», «Шеф-конструктор пирамиды».
Из управления вышла группа людей, возглавляемая руководителем стройки – верховным жрецом. Поднялась на подиум. Возле расположились с десяток писцов записывать речь начальника. Установилась тишина.
Верховный жрец закричал зычным, поставленным голосом, тщательно выделяя каждое слово:
– Друзья мои! Граждане великой свободной страны! Близится к концу наш двадцатилетний труд! Скоро на вершину этой ослепительной красавицы, плода ваших умелых рук – посмотрите еще раз на нее, – скоро на вершину пирамиды будет положен последний камень! Придет великий праздник! Для всего египетского народа! Дело фараона Хеопса живет и побеждает! Необходимо последнее усилие! Последний рывок! Еще немного – и вы будете праздновать открытие пирамиды! Да, нам было тяжело, было трудно все эти годы. Мы недоедали. Недосыпали. Многие из нас погибли. Но их смерть не была напрасной. Они умирали с улыбкой на устах! С глубокой верой в своего фараона! В Бога Ра! Мы помянем их. Мы придем на их могилы. Мы вспомним их лица. Все это будет! Потом! А пока – за работу! Я верю в ваши умелые, надежные, крепкие руки. А вы безоговорочно верьте в мудрость ваших начальников. Да здравствует великий Бог Ра! Да здравствует наш великий фараон – гений всего человечества! Да здравствует великий египетский народ – строитель пирамид!
Развод закончился. Бригадиры повели свои коллективы по рабочим местам…
III
Хеопс обедал.
Полуденный зной загнал все живое в норы, в землянки, в реку, под кроны деревьев, во дворцы. На пирамиде сделали паузу, чтобы переждать жар. Потом работа возобновится, и только поздней ночью люди уйдут на покой с факелами.
Пекло не проникало во дворец фараона, камни струили прохладу.
Хеопс любил наблюдать за приготовлением пищи. Он лежал на мягкой циновке.
Колдовали кулинары. На огромную лепешку из муки тонкого помола слоями укладывали финики, сыр, яблоки, инжир, поливали оливковым маслом и вином, сворачивали в трубку.
– Рулет готов, – известили они.
Вошли пивовары, внесли деревянный бочонок с новым сортом напитка.
– Пиво «Нинкаси», – представил бочонок главный пивовар. – Имеет привкус зерна, меда, фиников…
Появился главный повар. Выпотрошенного молочного поросенка он положил в большой горшок с водой, стоявший на огне, добавил туда уксуса. Вода закипела, повар извлек поросенка и натер его толченой мятой и солью. Затем поросенок угодил в котел, наполненный соусом из жира, чеснока и лука-порея, где и сварился.
Хеопс заканчивал трапезу, когда прокашлял главный жрец:
– Подъемщик блоков бывший феллах Нефер-тинг здесь, государь…
Хеопс кивнул.
Жрец подал знак.
В зал вошел юноша, встал на колени.
В руках он держал странное сооружение.
– Приветствую тебя, великий фараон!
– Приветствую тебя, гражданин Египта! – сказал фараон, приподнимая ладонь. – Ты изобрел музыкальный инструмент?
– Я.
– Сыграй… Как ты его назвал?
– Арфа.
– Сыграй на арфе.
– О чем сыграть?
– О чем хочешь. О пирамиде.
Нефер-Тинг кивнул, закрыл глаза…
Невероятные, божественные звуки наполнили огромный зал прохладой и негой. Фараон приподнялся, изумленный, жрецы замерли, зачарованные. Полчаса слушали не шелохнувшись.
Наконец, затрепетав, струны погасли.
– Ты сделал великий инструмент, – ошеломленно вымолвил верховный жрец. – Он принадлежит теперь не тебе, а фараону. Ты удовлетворишься славой…
– Да, ты удовлетворишься славой, – повторил восхищенный фараон. – Ты будешь играть на открытии пирамиды. Потом ты будешь совершенствовать свой инструмент. И так – до конца дней своих… Благодарю тебя, гражданин Египта, за арфу! Слава Богу Ра!
IV
Человек, невзрачный и неприметный, стоял перед верховным жрецом. Верховный вещал бесстрастно, вполголоса:
– Нефер-Тинг из бригады «Непоколебимых»… Изобретатель чудного и страшного музыкального инструмента – арфы. Славой своей Тинг затмит фараона, пирамиду! Даже пирамида бренна! Арфа вечна. Фараон этого не понимает, надо помочь фараону. Ты – поможешь. Египет не должен узнать Нефер-Тинга. Пусть никто никогда не узнает. Пусть в веках знают: арфу изобрели египтяне во времена великого Хеопса.
– Кто будет играть на открытии?
– Найдутся…
V
Фараон был взбешен.
Жрец ответил растерянно:
– Сегодня… нашли мертвым… И арфа… Исчезла…
Фараон в ярости вскочил с ложа. Жрец склонил голову:
– Верховный совет клянется – арфу найдем! Похитила жена Нефер-Тинга… Отряды в пути!
– Страну перевернуть! Беглянку найти!
VI
…Авву ввели. Хеопс вопросил сурово:
– Почему ушла?
– Муж умер. Мне здесь нечего делать.
– Почему украла?
– Арфа была его. Значит – моя.
– Арфа принадлежит мне!
– Если твоя – возьми арфу…
Хеопс сказал, смягчившись:
– Тебе нечего бояться. Женщины, дети, кошки пользуются привилегией в нашем государстве. Проси что хочешь. Ты красивая – оставайся во дворце, будь моей возлюбленной. Можешь выйти замуж за придворного. Скажи, за кого. Можешь взять золота… Можешь уйти. Чего хочешь?
– Хочу уйти.
– Уходи…
VII
…Египет ликовал. Белоснежная, полувоздушная пирамида, уходящая совершенными гранями к солнцу, сверкала золотым наконечником, изумляя народ.
А когда зазвучала арфа, присутствовавшие, знатный люд и полумертвые строители словно бы сошли с ума, зайдясь в небывалом восторге…
Визит к фараону
Древние египтяне жили черт знает когда. Вся Европа еще сидела на деревьях, а египтяне уже читали, считали, делили год на 12 месяцев, ориентировались по звездам. Они разбирались (с ума сойти) в гинекологии, хирургии.
Египтяне открыли сельское хозяйство: очень хотелось кушать. И добились благодаря трудолюбию, упорству и строгой государственной дисциплине больших производственных успехов. Египтяне научились выращивать пшеницу, ячмень, бобы, чечевицу, лен, ягоды и фрукты.
Они изобрели пиво.
Древние египтяне придумали лопату, грабли и метлу. Эти орудия производства дошли до нас без изменений.
В древнем централизованном государстве действовал справедливый закон: все обязаны были трудиться. На фараона. На этого, понимаете ли, живого бога. И тут сразу возникает большое «но». Но фараон лично не обогащался! Зачем? Он был на госпайке. Ведь он и так бог. Продукты, произведенные общественным трудом, становились национальным достоянием – они шли в один «бюджет». Как при коммунизме. По всей стране действовали распределители: выдавали зарплату. Поскольку денег не было, получали натурой. Рядовой чиновник греб в месяц на семью мешок зерна, пуд винограда, пуд яблок, десять метров холста, бочонок пива. А потом шел обмен – кому чего. Чернорабочий на пирамиде получал в день 2 кг горячего хлеба, ломоть свинины, три головки чеснока и три лука, овощи, пиво. Это была пайка. Помимо того шла «зарплата» его семье. Не голодал шибко пролетарий на пирамиде. Но вкалывал – до погибели.
Египтяне, впрочем, были чрезвычайно набожными людьми: за своего фараона, за Бога Ра они, не раздумывая, жертвовали жизнью.
Ежели египетский мужик был задействован на всяких, в том числе и самых тяжелых работах, то женщине, как и ребенку, давалась поблажка: она была легкотрудницей (если, конечно, процесс родов считать легкой работой). Она даже не готовила обед и не стирала одежду: еду брали в столовых (котлеты, между прочим, там делали из мяса, а не из хлеба), а стиркой занимались прачки-мужчины.
Дети учились в школах. Страна добивалась у юного поколения фантастического прилежания, умело действуя на сознание ленивцев где пряником, а где кнутом. Египетское общество делилось на классы: жрецов, чиновников, ремесленников и крестьян. Все были на фараоновом обеспечении, но получали по-разному. Был интересный закон: поскольку все в стране принадлежало фараону, то и дом, который строил себе крестьянин, тоже считался фараоновым. А потому время строительства личного жилья засчитывалось в трудовой стаж и оплачивалось из госказны натуральным продуктом.
Так жили древние египтяне в те жуткие темные времена; без денег, олигархов, телевизора и «Поля чудес», но с регулярной зарплатой в виде продовольствия, с гибкой системой налогов, твердой верой в своего мудрого фараона и в Бога Ра.
Сооружение пирамид было не самоцелью, а необходимостью. Фараоны шутили: пирамида – не роскошь, а средство передвижения. В мир иной.
Фараонов можно было понять: конец их временного земного божественного пути должен был как-то совпадать с окончанием строительства каменной божественной юдоли. Иначе было не солидно: помер, а пирамида не достроена. Потому работы на объекте шли непрерывно, с паузами лишь на сон и на обед.
Большую часть своего трудового дня фараон проводил на объекте. Он поддерживал строителей призывами типа: «Выше темпы и качество, подданные!»
Наконец, фараон помирал. Начинался волнующий момент потрошения монарха. Спецы по бальзамированию извлекали мозг усопшего, череп заполняли гудроном, вместо глаз вставляли искусственные – из эмали. Тело погружали в ванну с раствором карбоната натрия, и там оно плескалось 70 дней. После такой «водной процедуры» плоть растворялась, оставались лишь кости, обтянутые кожей. Теперь их следовало забинтовать. Если бы в те времена существовали стандарты качества, то мумиям следовало бы поставить высочайший знак: до сих пор они находятся в состоянии совершенной консервации. Эта самая консервация донесла до наших дней лики многих фараонов и даже – густоту их бровей.
Древний Египет существовал около 3200 лет до новой эры и около 500 лет – в новой. Срок немалый. Потом он стал провинцией Римской империи.
Упадок начался лет за сто до того, как туда заявился Александр Македонский – выручать братьев-египтян от персов. Некогда могучая и процветающая держава не могла даже защитить себя – позвали Македонского.
Что случилось?
Египет сожрали бюрократы. В монолитные ряды фараонов затесался энергичный дурак. Он раздробил страну на 40 уделов и заявил: берите суверенитета сколько хотите! Возникло еще сорок фараончиков – со своими дворцами, чиновничьим аппаратом, армиями. Фараончики захотели себе пирамидок… Мощное государство развалилось.
…Кусок древней штукатурки из нутра пирамиды исследовали лучом лазера. Вдруг в звукоаппаратуре пошел фон, раздались голоса людей. Это были древние голоса то ли рабочих, то ли жрецов, говоривших на сырую штукатурку.
Такой чудесный, почти фантастический факт.
…Вот, наконец, и он, золотой саркофаг Тутанхамона. Юного царя, умершего в неполных 18 лет, упрятали в три саркофага. Золотой весит 225 килограммов. Это самое крупное в мире произведение ювелирного искусства. Тутанхамон, умерший при загадочных обстоятельствах, подававший надежды быть великим монархом… Тутанхамон, пользовавшийся благосклонностью и любовью самой Нефертити… Тутанхамон, чья золотая маска передает тонкие черты юного лица…
Так вот, оказывается, какая ты – Вечность… Не спешите нанести визит к фараону – это бесполезно. Мы – темные люди, жалкие осколки Великого Прошлого. У нас давно вынули мозги.
…А они Родину защищали!
Древние персы совсем оборзели в пятом веке до нашей эры и захватили все греческие колонии в Малой Азии. А потом устремили свой алчный взор в сторону метрополии.
А в Греции в это время был как раз бум развития классического искусства, греки упивались этим. И тут они узнают, что на них вдруг буром попер какой-то перс. Естественно, греки возмутились до глубины души и, как говорится, ощетинились. А надо вам заметить, в мире ничего не было страшнее оторванного от искусства, возмущенного до глубины души и ощетинившегося древнего грека.
Но персы об этом не знали. Вероломно, без объявления войны, они перешли границу и напали на мирные города и села. Напали – и подписали себе приговор! В жуткой битве при Марафоне греки так намылили персам шею, что едва не скрутили им башку.
На время персы угомонились. Но поскольку они не умели извлекать уроков, то через десять лет опять полезли на Грецию. И получили такой удар в зубы, что еле унесли ноги из-под Саламина. А через год, ничтоже сумняшеся, вновь тупо наехали на чужую территорию. Но греки были начеку, искусно заманили интервентов в «клещи». Разгромленные под Платеями персы спаслись, как говорится, не все.
Надо заметить, что основы этики, добра и справедливости завоеватели не проходят даже в детском саду. Персы не исключение. Хотя, конечно, и в темном царстве иногда бывают какие-то проблески. Например, незаурядный персидский властелин Дарий Первый создал справедливый свод законов для внутреннего употребления. Внешняя политика оставалась неизменной – грабеж, разбой, насилие.
После трех поражений персы задумались, зашевелили мозгами. Раньше, мозговали они, вроде получалось: подвергли разграблению и Вавилон, и Египет, и всю Малую Азию. А с Грецией, туды ее в качель, – осечка!
Так и не додумались ни до чего. А ведь могли бы додуматься, проанализируй они хотя бы фермопильский случай с тремястами спартанцами. Фермопилы для греков – что Брестская крепость для русских.
Пока персы в раздумьях чесали репу, к власти в Греции пришел Александр Филиппович, то есть, Македонский. Памятуя о вероломном коварстве соседей, юный полководец-царь не стал дожидаться их очередного вояжа, сам двинул на них свои фаланги. И при Иссе уничтожил армию врага. Персия рассыпалась.
Шло время. Через несколько лет после смерти Македонского империя великого полководца тоже рассыпалась. В пух и прах. Таков непреложный закон общественного развития: империи, основанные на насилии, обязательно рушатся!
Александр Великий об этом не знал, персы, естественно, тоже. Им простительно. Об этом не догадывались даже тираны новейших времен – Наполеон и Гитлер.
…Кстати, о Фермопилах. Деревенька жива! На месте тогдашнего поля боя возвышается памятник царю Леониду и его бойцам. На постаменте – воин, бросающий копье. И слова: «Хочешь взять – приди и возьми».
Персы ведь как? Считали, что это просто триста придурков встали против целой армии.
А греки Родину защищали! И Гитлер думал, что покорит русских до зимних холодов. Но они выстояли и победили. Русские-россияне Родину защищали!
Ноктюрн
Ночь – тихая, трепетная, теплая – тонула в сиянии петербургских огней. Дворец Дашковых, где потихоньку таял бал, но откуда еще сочились сквозь яркие стекла и падали на сугробы остатки музыки, наполнялся отъездной суетой.
Ванюшка, лакей Адалии Полетики, толкнул дремавшего кучера, Петра Ивановича, как только услышал, что от крыльца прокричали протяжно и громко имя графини.
– Трогай, батюшка!
Он спрыгнул с облучка и побежал петушком рядом, а когда карета остановилась аккурат напротив каменных львов на тумбах, распахнул дверку и откинул порожец. Графиня медленно спускалась по ступенькам, сопровождаемая Пушкиным. Александр Сергеевич держал ее за локоток и рассказывал что-то веселое. Адалия смеялась, окуная лицо в соболя.
Они подошли к карете и остановились – до того хороша была ночь! Пушкин провел ладонью по курчавым волосам своим, сметая снежинки, приставил цилиндр к груди своей, продекламировал:
«Ее глаза так полны чувством,
Вечор она с таким искусством
Из-под накрытого стола
Свою мне ножку подала!»
Адалия расхохоталась задорно и лукаво, захлопала в ладоши:
– Браво, Александр Сергеевич! Ну и как ножка?
Она стояла перед Пушкиным – высокая, стройная, с прекрасными тонкими чертами лица – первая красавица «Северной Пальмиры». Он стоял перед Полетикой – небольшого росточка, с презабавным подвижным лицом, на котором выделялись огромные синие глаза – первый поэт России, первостатейный ловелас державы.
– Подозреваю – божественная…
– Идемте же, – сказала она нежно.
Они сели. Ванюшка хлопнул дверкой, вскочил на запятки и крикнул звонко:
– Трогай!
Запряженная цугом четверка лошадей сделала разворот и пошла мощным ходом к Невскому. Но едва промчались они полверсты, как Петру Ивановичу дали знак натягивать вожжи.
Экипаж остановился.
Александр Сергеевич молча вышел из кареты. На его побледневшем лице блуждала насмешливая улыбка. Из нутра донеслись гневные фразы, произнесенные по-французски с такой яростью, что Петр Иванович от неожиданности даже вздрогнул, а Ванюшка, понимавший немного по-парижски, в изумлении раззявил рот: графинька довольно неприлично выражалась!
– Пошел! – крикнула Адалия кучеру. Кони рванули, карета помчалась, лишь обернулся Ванюшка разов как бы не десять и едва не свалился с запяток.
…Никто никогда не узнает, что там случилось – в карете. Входили друзьями – расстались врагами. Есть историки, полагающие, что Полетика добивалась любви Пушкина – из любопытства. Но он ее отверг. После этого случая Адалия оказалась в числе организаторов гнусной травли Пушкина, приведшей его к Черной речке. Ненависть к Пушкину у нее не иссякла с годами. Когда в Одессе (там она доживала свой век), через полсотни лет, открывали памятник поэту, Адалия – древняя и страшная – рвалась, по свидетельству очевидцев, в каком-то безумном порыве, чтобы плюнуть на бронзовый монумент.
Досадовал и Ванюшка. Он так хотел улучить минутку и выпытать тишком у Александра Сергеича: так кто ж убил царевича Димитрия – царь Борис Годунов или кто?
Ванюшка все оборачивался и оборачивался.
А Пушкин все стоял, одинокий и маленький, на зимней пустынной дороге и все держал свой цилиндр в прощальном приветствии…
Ямбургские характеры Очерки. Публицистика
Газовые океаны Заполярья
В октябре прошлого года исполнилось 20 лет со дня образования ООО «Ямбурггаздобыча» – лидера в ряду дочерних предприятий Газпрома. Что сегодня представляет собою Ямбурггаздобыча? Это два разрабатываемых месторождения: Ямбургское газоконденсатное и Заполярное газонефтеконденсатное. Предприятие также владеет лицензией на разработку Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения.
Суммарные запасы углеводородного сырья месторождений Ямбурггаздобычи – более десяти триллионов кубометров газа, около 200 миллионов тонн газового конденсата и 300 миллионов тонн нефти. Для предприятия в годовом объеме добычи Газпрома достигает 44 процентов. К 2010 году этот показатель возрастет до 50 процентов и будет составлять около 260 миллиардов кубометров газа в год. Предприятие имеет новейшие отечественные и зарубежные технологии добычи, подготовки газа и газового конденсата, большие инвестиционные перспективы.
Ямбургское газоконденсатное месторождение, открытое в 1969 году геологами Тазовской нефтеразведочной экспедиции, относится к категории уникальных мировых гигантов. В 1983 году на месторождении было начато эксплуатационное бурение, а уже в 1986-м вступил в строй первенец Ямбурга – промысел № 2. В настоящее время здесь эксплуатируется одиннадцать промыслов.
Ямбург – своеобразный полигон для внедрения современных технологий. Широко применяется здесь и вахтовый метод организации труда, представляющий собой крупномасштабную межотраслевую систему с элементами внутрирегиональной и межрегиональной вахты. Аналогов этому методу в мировой практике нет.
В ООО «Ямбурггаздобыча», возглавляемом ныне генеральным директором, лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреатом премии ОАО «Газпром» Олегом Петровичем Андреевым, впервые в крупных масштабах было освоено строительство установок комплексной подготовки газа с применением суперблоков полной заводской готовности. Новый метод ускорил темпы ввода в эксплуатацию объектов добычи, снизил инвестиционные затраты. Внедрена в производство и высокоэффективная система контроля поддержания отрицательных температур для обеспечения стабильности грунтов в зонах техногенного воздействия. Освоена технология низкотемпературной абсорбции, обеспечивающая полное выделение конденсата при минус 30 градусов.
Заполярное газонефтеконденсатное месторождение, также открытое тазовскими геологами, по объему запасов углеводородного сырья занимает шестое место в мире. Отличается своей компактностью, что позволяет вести разработку сеноманских залежей всего тремя, но сами мощными в мире установками комплексной подготовки газа. Производительность каждой может достигать 35 миллиардов кубометров газа в год. Важно отметить, что при освоении месторождения газовики учитывали возросшие экологические требования, необходимость взаимовыгодных партнерских отношений с коренным ненецким населением. Сейчас впервые разрабатывается конкретная программа сотрудничества с органами местного самоуправления.
Заполярное – крупнейший газовый проект новой России. Он реализован за счет собственных средств Газпрома. Осенью 2004 года месторождение было выведено на проектную мощность добычи – 100 миллиардов кубометров газа в год.
Ввод в эксплуатацию Заполярного месторождения улучшил технико-экономические показатели всей отрасли за счет роста товарной продукции, дал дополнительные рабочие места. Получен выигрыш во времени для разворота работ на месторождениях полуострова Ямал.
Компания «Ямбурггаздобыча» целенаправленно работает над вводом приоритетных пусковых объектов и сокращением незавершенного строительства. Обеспечивается сдача в эксплуатацию новых дожимных компрессорных станций, обустройство Анерьяхинской площади и Харвутинского купола.
Все эти меры позволили Ямбурггаздобыче значительно стабилизировать добычу газа, пополнить сырьевую базу, повысить экономическую эффективность производства. Не случайно производственные, экономические, социальные, технические достижения предприятия отмечены многими отечественными и зарубежными наградами. Предприятие дважды удостаивалось высшей общественной награды страны – премии «Российский национальный Олимп». Газовики Ямбурга считают, что эти успехи – достойный вклад в развитие экономики Севера и всей страны. Поэтому они с хорошим настроением встречают всенародный праздник – 60-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Ведь среди работников Ямбурггаздобычи немало сыновей, внуков и дочерей тех, кто ковал эту Великую Победу.
Наверное, Север обладает магической силой, открывающей в человеке такие грани таланта, такие качества, о которых раньше и не подозревал. В тяжелейший «пионерный» период освоения Ямбурга первопроходец вдруг начинал слагать стихи, находя в простых, немудреных рифмах большой для себя смысл. «Снег – успех», «работа – забота», «ребята – орлята». И даже «классическое» – «тебя – меня». Творческая отдушина помогала людям выстоять в атмосфере космических холодов и такой же космической тьмы полярной ночи. Вдохновляет и сейчас.
Этот непокорный Стрижов
Путь от Медвежьего лежал дальний, ясный.
А через день, наперекор прогнозам, забарабанило по кабинам каравана, запуржило, замело.
Ехали «медвежатники» по вешкам…
Гусеничные вездеходы буксовали.
Напарник открыл по неосторожности дверку кабины – и выволокло его вместе с дверкой, выдуло и выбросило неизвестно куда. А в двух метрах от колеса уже не видно. Скорость у колонны тишайшая, на ощупь. И рев. То ли бурана, то ли дизелей. В замешательстве чертыхнулся напарник, встал на колени – куда ползти? Вдруг порыв налетел прозрачный, бесснежный – да вот же он, трак гусеничный мелькнул, недвижный, фарами освещенный! Рукой подать. И люди – ищут, зовут надсадно.
Такая жизнь – на пределе человеческих и технических возможностей – неделю. Внезапно, как это бывает в Заполярье, буран унялся. Последний день до Ямбургского месторождения тащились при ясной безветренной луне и крепком морозе. Остановились на берегу скрытой подо льдом речки с длинным, извилистым, как змеюка, названием Нядюмонтопоепокояха.
«Терра инкогнита» – неизвестная земля.
Хотя… Какая она, к черту, «инкогнита»? Ежели исхожена, излетана геологами вдоль и поперек, а под земной твердью найдены несметные запасы углеводородов?
Первопроходцами Ямбурга являются «медвежатники». Это от названия месторождения – Медвежье – их так романтически до сих пор величают. В повседневной жизни были они работниками славного производственного объединения «Надымгазпром», где генеральным директором в ту пору стоял Владислав Владимирович Стрижов. Директор Стрижов – замечательная личность, способнейший командир газового производства. Когда в начале семидесятых пошел «большой газ» Западной Сибири, именно Стрижову доверили возглавить флагманское газодобывающее предприятие страны. Он мыслил широко, творчески. Азартно спорил с начальством. Медвежье только набирало свои обороты, а он уже думал о перспективе – о подходах к Уренгойскому и Ямбургскому месторождениям. Был убежден: во избежание неразберихи, грубых ошибок и просчетов «пионерного периода», когда как бы закладывается «фундамент» разработки месторождения, газовикам следует самостоятельно, намного раньше строителей Миннефтегазстроя, выходить на новые газоносные площади. И начинать работу по созданию базы.
Но «верхи» строжайше запрещали своевольничать.
В 1973 году, однако, он со своими единомышленниками претворил свой замысел в жизнь. Тайно, без министерского благословения, высадил десант на Уренгойский плацдарм и приступил к его обустройству. Средства на это дело по крохам собирали из собственной прибыли предприятия. Через год «тайна» раскрылась. Начальство гневалось. На Стрижова посыпались строгие взыскания. Но спустя короткое время стало ясно: если бы не Стрижов со своей «идеей опережающего выхода», не было бы пуска в эксплуатацию в 1978 году Уренгойского месторождения!
Когда настал черед Ямбурга, Владиславу Стрижову уж никто не мешал. Помогали ему в подготовке нового «опережающего выхода» такие известные ныне руководители газового производства как Александр Ананенков, Зульфар Салихов…
И Ямбург «заговорил» раньше намеченного срока! До самого пуска «двойки» – газового первенца месторождения – активно содействовал генеральный директор вводу в разработку этой уникальной «кладовой» углеводородов.
Начальство его не любило. Торопливо как-то спровадило на пенсию, хотя полон был энергии человек. Оттого, наверное, и умер он рано. В безвестности.
Прошли годы. Восторжествовал «закон справедливости»! Помнит Газпром своих сынов. На Ямале стоят бюсты Владислава Владимировича. О нем пишут книги, его именем называют улицы и площади…
Заводы плывут…
Раскинулось море. А по волнам… заводы плывут!
Это было смелое и неординарное решение.
За рубежом, в той же Америке, практикуется суперблочное строительство и транспортировка по воде. Но там иные, более комфортные условия, хотя и блоки под тысячу тонн. А у нас? Экстремальные! Доставить по рекам и морю более двухсот блоков для промыслов Ямбурга (кстати, масса каждого из них – от 120 до 430 тонн) – непростая задача даже для «накатанной» практики.
А тут – в первый раз!
Ни на одном месторождении страны объекты промысла еще не строились из «суперов».
Но и резоны были немалые: метод хотя и технически сложный, но прогрессивный, он даст большой экономический эффект. В начале 1981 года Мингазпром принял предложение СибНИИгазстроя о применении блоков – понтонов. На стапелях Тюмени приступили к монтажу и сборке отдельных звеньев установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и подъему их на плавающие понтоны. Чтобы потом на Ямбурге они соединились в единое целое.
И потянулись необычные плавучие караваны-заводы с юга Сибири в Заполярье. Доставка по воде и по суше не лишена была драматизма. Вот пояснительная записка известного тюменского проектировщика и конструктора С.К. Стрекопытова, предоставленная мне академиком Анатолием Кузьмичом Арабским: «Ночью, в условиях шторма, блок-понтон потерялся, оборвав буксирный трос. Когда буксиры вновь стали к нему подходить, пришвартоваться на сильном волнении моря не удавалось. Это сопровождалось ударами судов бортами. О силе ударов свидетельствовал наполовину оборванный, изогнутый, скрюченный жгутом привальный брус, выполненный из стального швеллера-десятки. Для равновесия понтона еще при отправке из Тюмени вместо закладки балласта в понтон было решено закрепить на палубе, около надстройки, пять железобетонных плит. Эти плиты сорвало, вероятно, ударами при попытке швартовки буксира. Возник значительный крен с частичным погружением палубы в воду. Крен ускоренно возрастал, блок опрокинулся. Ввиду небольшой глубины он лежал на боку, зарывшись в ил. При этом удары волн произвели большие разрушения надстройки, оборвав панели. Подъем блока потребовал большого количества судов и техники. Причинами затопления явились производственные дефекты, а также ошибки изготовителей и судоводителей, погода».
Представим себе условия: холодная заполярная осень, штормящее море, ледяные волны, обрушивающиеся всей своей мощью на буксировщики, на неуклюжие, беспомощные громады суперблоков. Сколько требовалось силы и мужества, чтобы преодолеть и коварство непогоды, и ошибки изготовителей, и производственные дефекты – и все-таки доставить технологическое изделие под четыреста тонн к месту назначения!
Наконец – лагуна, берег. Теперь другая, не менее сложная задача: тащить волоком блоки по тундре на тридцать, пятьдесят, а то и семьдесят километров – туда, где промыслам предписано стоять. Впрягались тогда в одну «узду» десяток мощных «коматцу» и, поднатужившись, по – бурлацки, тянули.
В пояснительной записке читаем: «Первые рейсы от накопителя на берегу залива до площадки УКПГ-2 на расстояние 30 километров в декабре 1985 года превзошли лучшие ожидания по скорости и относительной легкости доставки блоков-понтонов. Рейс занимал 7–8 часов. Но обнаружились и недостатки. Толкание, без которого нельзя обойтись на трудных участках в помощь тянущим тракторам, не подготовлено технически. Толкание производят бульдозерным ножом-отвалом, который по своей конфигурации для этого совершенно непригоден. Но, бывало, когда блоки застревали, их не стягивали плавно, а ввиду недостатка тягачей – били бульдозерами с разгона. При этом тяжелые конструкции, особенно высокое колонное оборудование (абсорберы, десорберы), резко увеличивали динамическое воздействие на корпус понтона, приводя к крупным остаточным деформациям».
Но вот промысел. И блок к блоку – тщательно!
Подгонка по уровням.
Ювелирная работа. Если забыть, что на весу – сотни тонн.
На этой «двойке» настал знаменательный день 22 сентября 1986 года. Медленно открылись массивные, весом в тонну, шаровые краны газопровода. Дрогнули стрелки манометров. Двадцать атмосфер… сорок… девяносто… Раздался оглушительный свист набирающего разбег ямбургского газа. Он рвался в магистральный газопровод.
Несколько ярких имен из хроники того периода – руководителей и рабочих, одинаково самозабвенно вкалывавших на благо Родины: С.Т. Пашин, В.М. Губин, Б.С. Ахметшин, И.А. Шаповалов, Ю.Н. Ильясов, Н.М. Масема, П.В. Андреев, В.П. Партенко, А.А. Глубоков, Ю.П. Ражев, Ю.И. Кильдюшов, В.Ф. Макаров, Н.П. Коршунов, В.Ф. Кузнецов, В.Я. Леденев, В.П. Березкин, И.А. Варнавский, П.Д. Полуянов. Немного позднее – другие люди одной судьбы: А.Р. Маргулов, А.Г. Ананенков, О.П. Андреев, З.С. Салихов, Р.М. Минигулов…
Именно они – строители и газовики и еще сотни их товарищей занимались доставкой и превращением блоков-понтонов в установки комплексной подготовки газа.
И превращали успешно!
Живая вода
Нынче все промыслы, все предприятия и все конторы Ямбурга вдоволь обеспечены минеральной столовой водой местного розлива. Не нарзан вроде, но по качеству не хуже. А, может, полезней нарзана. Сейчас поймете, почему.
Еще вчера было не так.
Вообще-то воды на Тазовском полуострове, где располагается месторождение, хоть залейся: тысячи озер, речушек, болот. Но самым главным бассейном по праву считается Обская губа – бескрайняя, как море. Сотни кубических километров рыжих, насыщенных загрязнениями вод медленно текут в Ледовитый океан. Низовье Обского бассейна – своеобразный природный отстойник: в нем накапливаются гниющие водоросли, микроорганизмы, остатки древесины, погибших животных и рыб. Прибавим сюда «отходы цивилизации», доставляемые с промышленного верховья. Врагу не пожелаю испить водицы из Обской губы!
Если так, то почему проектировщики остановились именно «на губе», а не на артезианской скважине, как в Новом Уренгое и других северных городах? Не было у них другого пути. Ямбургский артезиан настолько засолен, что это, по сути дела, рапа. Хуже морской воды.
На первом этапе помогли установки на базе походной «Струи». Это были не самые совершенные агрегаты, но газовики и строители и такой, не очень чистой, воде были рады. Хотя специалистам стало понятно: нужны иные, кардинальные подходы.
Предприятие приобрело финскую технологию очистки, самую совершенную на тот период. На ней использовался метод коагуляции – укрупнения частиц грязи с последующим выпадением их из раствора в виде хлопьевидных осадков. Но и финская технология со временем стала «вчерашним днем», хотя качество воды оставалось «на уровне».
Ямбуржцы решили продолжить улучшение «водяного дела». По крупицам собирали сведения о научно-технических достижениях в этой сфере. Поскольку денег на закупку дорогостоящего импортного оборудования ожидать не приходилось, привлекли к проектированию и изготовлению дополнительных очистных линий отечественных производителей. Выбрали пермское предприятие «Адсорбер», на котором изготовляются отменные домашние очистные установки «Родник».
– А что вам нужно? – спросили пермяки.
– Усилить разложение молекулярных цепочек, содержащих органические соединения и железо. Ну и так далее, – ответили ямбургские специалисты.
– Сделаем!
Потребовалось воде озонирование. Озон ведь – сильнейший окислитель. Он эффективно насыщает воду кислородом. После озонового «обстрела» вода легче поддается коагуляции. Но это не все. В воде еще много алюминия. Совместно с партнерами справились и с этой задачей. Изготовили специальные фильтрационные установки, подобрали необходимые угли. Из мощного цеха фильтрации пошла, наконец, полностью очищенная вода.
Ну, все! Добились.
Вдруг… Наша чистейшая, кристальная вода непригодна для питья? Не может этого быть!
Может. Для приготовления пищи, для разных хозяйственно-бытовых нужд она хороша. А вот пить дистиллированную воду кому понравится? В воде минеральных солей не было! Собственно и природная обская вода обеднена солями, а тут еще такая доброкачественная очистка… Надо было доводить полученную продукцию до кондиции.
Вроде бы простое дело – минералка. Прозрачная жидкость, пузырьки, газ, шибающий в нос. Но взгляните на этикетку и вы поймете, сколько полезных веществ растворено на молекулярном уровне в минералке! Десятки. Поэтому перед творческой группой встал вопрос – какие соли и другие вещества прежде всего необходимы ямбуржцам? Разработкой рецепта воды занимались основательно, с участием медиков, биологов, химиков. Примерно так же, как затем и подготовкой технического проекта цеха минерализации. В течение двух лет «Адсорбер» выполнял это задание. Наконец, цех минерализации и газирования питьевой воды заработал. По своему составу минералка полностью соответствовала всем нормам и требованиям.
Нигде больше в России не производят столь полноценную столовую воду, добытую из поверхностного источника.
С того дня, как в Ямбурггаздобыче основательно начали заниматься проблемой обеспечения газовиков качественной питьевой водой, прошло больше десятка лет. Благодаря таланту и настойчивости инженеров и ученых – О. Андреева, Е. Ивановой, Н. Кирьякова, А. Наумова, Ю. Стовбы, А. Радашевского, А. Шумаева, П. Ютландова непригодная вода Обской губы из мертвой превратилась в живую.
Главное – ее чистый родник полезен для здоровья газовика!
Добрые партнеры
Руководитель Тазовского района (прагматик, тундровик, плоть от плоти ненецкого народа, вооружен новациями) Николай Харючи отлично понимал тогда – тринадцать лет назад: нужны не устные договоренности и символические рукопожатия, а серьезные, «проработанные» соглашения. Они должны были стать «несущими камнями» в фундаменте будущего, вовсе не воздушного, а вполне земного и прочного «замка» делового сотрудничества.
Как Николай Харючи догадался сделать столь выразительный ход в смутном 1992 году? Референдум – в жизни Ямала такого еще не бывало. Потому и догадался, видать, что речь шла не о простых отношениях двух кооперативов, а о глобальных интересах крупнейшей в стране газодобывающей компании и самой значительной на Ямале административно-территориальной провинции, богатой природными ресурсами. Жители тундры отдали предпочтение промысловикам Ямбурга – им они доверили вести освоение гигантского Заполярного газоконденсатного месторождения.
Но было что-то другое. Ларчик открывался просто: тазовчане почувствовали себя хозяевами. Но и газовиков нельзя было упрекнуть в отсутствии дальновидности. Александр Маргулов в бытность свою в те годы генеральным директором Ямбурггаздобычи прекрасно видел – пришли иные времена, требуются новые, гуманные подходы к коренному населению, деловые и партнерские – к властным структурам. Словом, надо было менять политику.
Генеральный директор ООО «Ямбурггаздобыча», депутат Государственной думы Ямала Олег Петрович Андреев рассказывает о том, как преобразился Ямал за последние три десятилетия: из необжитого края он превратился в мощный индустриально развитый регион. Гигантские месторождения Надым-Пур-Тазовского междуречья позволили уже добыть многие триллионы кубометров природного газа. Стратегическим планом ОАО «Газпром» на период до 2010 года предусматривается поддерживать годовой объем добычи газа в 530 миллиардов кубометров, гарантирующий энергетическую безопасность страны. Природно-климатические условия, социально-экономические особенности региона, традиционные методы хозяйствования коренных народов Севера (оленеводство, охотничий промысел, рыболовство) требуют от нас бережного сохранения природной среды, эффективного применения системного комплекса природоохранных мер – и все это в интересах населения местных муниципальных образований…
– Порой звучит вопрос о предметности выгод газовиков, – говорит депутат Тюменской областной думы советник генерального директора по работе с регионами Владимир Столяров. – Ну, как же! В первую очередь – законные гарантии на разработку месторождений, на получение отдачи. Немаловажно и то, что мы используем на наших промыслах квалифицированных специалистов, адаптированных к местным условиям. Не надо сбрасывать со счетов и благожелательное отношение к нам местного населения.
– За все годы совместной работы мы ни разу не нарушили своих договоренностей, – улыбается Николай Харючи. – Между нами установились конструктивные, деловые отношения. Приведу пример. В Москве проходила презентация журнала «Человек и карьера». Номинантами там выступали наше муниципальное образование и предприятие «Ямбурггаздобыча». Олег Петрович Андреев не смог приехать. И вот ведущий вдруг объявляет: право получить Почетный диплом предприятия предоставляется другу Андреева – Николаю Харючи! Мне было чертовски приятно. Вообще, рассматривая совместную работу, нельзя не сказать о последнем соглашении между ЯНАО и Газпромом. Это был вынужденный шаг. Объясню почему. Со дня подписания нашего первого соглашения прошло почти десять лет. Изменились законы, были упразднены взаимозачеты. И возникли проблемы с возвратом финансовых средств Ямбурггаздобыче, с передачей построенных объектов в муниципальную собственность. Наши полномочия были исчерпаны. Обратились к вышестоящим полпредам. К субъекту Федерации – администрации ЯНАО. И к Газпрому. Мы убедили в необходимости четырехстороннего соглашения. Что это дало? Появилась возможность двигаться вперед.
– Главное в наших отношениях, – рассказывает В.А. Столяров, – это надежность, социальные гарантии. Мы думаем об интересах малых народов Севера, учитываем их. Добывая природный газ, коллектив предприятия помнит о социальной ответственности, оказывает всестороннюю помощь коренным жителям. Действительно, для них строятся дома, дороги, фактории, бытовые газопроводы, другие объекты. Всего за годы сотрудничества на эти цели направлено более одного миллиарда 350 миллионов рублей. Ямбуржцы подарили оленеводам 600 компактных генераторов электроэнергии, утилизирующих тепло, получаемое при приготовлении пищи. Налоги от Заполярного месторождения включены в доходную часть бюджета Тазовского района. В соответствии с программой строительства объектов социально-бытового назначения сооружены 40-квартирный дом в капитальном исполнении, котельная, пожарное депо, хирургический комплекс, автомобильная дорога и газопровод между поселками Тазовский и Газ-Сале. Возведена современная фактория на рыбоугодии под названием «5–6 пески». Предприятием оказывается значительная спонсорская, благотворительная, финансовая помощь местному самоуправлению, организациям, коренному населению. Она исчисляется многими сотнями миллионов рублей.
– Имея неплохую финансовую базу, – подчеркивает Николай Харючи, – мы уверены в завтрашнем дне. Продолжается сотрудничество в рамках соглашения на 2002–2005 годы. Я попросил руководство Ямбурггаздобычи построить на территории района установку по подготовке моторных топлив для нужд муниципального образования. Партнеры не подвели, исполнили эту просьбу.
…Уж который год коренное население пользуется на Ямбурге услугами бесплатной гостиницы для ненцев. Тундровики получают в медсанчасти бесплатную медицинскую помощь. В магазинах Ямбурга и Новозаполярного они с удовольствием совершают покупки: цены на продукты и товары повседневного спроса здесь не «кусаются». Ненцы реализуют газовикам рыбу, оленье мясо, пушнину…
Могут упрекнуть: что-то уж больно красиво, прямо идиллия. Конечно, проблем хватает. Но газовики стараются. Например, они научились возрождать тундру после «техногенного вмешательства». И уже возвратили ненцам в сельскохозяйственный оборот более десяти тысяч гектаров тундровых земель, в первозданном виде. Возле газовых промыслов олени выпасаются, лебеди вьют гнезда.
Они знают, что отныне люди их не обидят.
Ненецкий моряк Лябо
Давно это было, лет тридцать назад. Слышу английское:
– Гуд дэй!
Оборачиваюсь – Лябо! Смеется, возле ног – чемодан.
– Какими судьбами?!
– Отпуск дали!
Лябо пожимает руку. Ну и ладошка у него! Не ладонь, а лапища. От рукопожатия пальцы у меня немеют. Не часто среди ненцев встретится вот такой богатырь.
На Лябо новый костюм с замысловатыми заморскими пуговицами. От рубашки веет сиреневой свежестью. Галстук подчеркнуто тонален пиджаку и брюкам: по легкому с просинью полю – неброские темно-синие полоски. Туфли на модной толстой платформе. Массивные запонки надменно посверкивают золотом.
Скуластое лицо Лябо засмуглело до черноты на тропическом зное. Он, наверное, мечтал окунуться в заполярную прохладу, но и в Заполярье уже две недели подряд стоит одуряющая июльская духота, за городом, на берегу небольшой обской протоки, полно купальщиков. При незаходящем солнце лишь несколько часов бывает прохладно, утром столбик термометра опять лезет вверх до отметки двадцать восемь…
– Присаживайся. – Я наливаю гостю воды со льдом.
Лябо смахивает платком пот со лба, отпивая глоток, достает из кармана пачку сигарет, угощает.
– Ты совсем озарубежился, – говорю я, закуривая «Пэл-Мэл». – От тебя так и несет заграницей.
– Не совсем.
Он откидывает полу пиджака, и я вижу старый, потрескавшийся, видавший виды широкий ремень с флотской бляхой.
– А под рубашкой знаешь что? Тельняшка.
Лябо громко звенит ложечкой, достает льдинку, отправляет в рот, и я слышу, как она хрустит на крепких зубах. Темные глаза его смотрят с веселой доброжелательной улыбчивостью. По натуре застенчивый, Лябо сейчас любому незнакомцу смог бы, пожалуй, показаться разбитным малым: движения его слишком энергичны, порывисты, смех громкий, речь быстрая, возбужденная. Я знаю отчего: рад приезду, соскучился. На Ямале он не был почти год. В Салехарде он всегда делает короткую остановку. Чтобы затаить дыхание, как он говорит, перед домом, после многомесячного плавания. Переживания встречи никогда не повторялись, но всегда оставалась у него затаенная, ничем не объяснимая робость. Однажды, еще в армии, рассказывал ему товарищ по службе, вернувшийся из отпуска:
– Приехал я, значит, прямиком, без остановки, домой. С поезда на автобус, на такси. Наконец улица, дом. Распахнул калитку, взлетел на крыльцо и остановился: рука не поднимается дверь открыть. Сердце – ходуном, чуть не выскакивает. Не могу заставить себя войти – и все! Стою, не шелохнусь. Боюсь. Хоть бы Шарик, подлец, тявкнул, вышел бы кто-нибудь! Сел на ступеньку, не знаю, что делать. Сколько времени прошло – не помню, может, десять минут, а может и больше. Только слышу, вдруг маманя закричала, из комнаты выбежала. Оказывается, она мою фуражку через окно увидела. Фуражку-то я снял и на ветку сирени повесил…
То же самое случалось и с Лябо. Через год он уволился в запас. Весь маршрут по Обской губе и Тазовской пассажирский теплоход проходил за двое суток, и Лябо не выдержал. В Антипаюте ему подвернулся вертолет, летевший до родного поселка. Через час он был уже на месте, сидел на днище перевернутой старой лодки у плещущей воды, задумчиво смотрел на рыжую пенистую волну и никак не мог заставить себя, к своему удивлению, сделать несколько шагов к видневшимся за зеленым чахлым тальником островерхим чумам…
– Телеграмму послал матери? – спрашиваю я.
– Нет, свалюсь как снег на голову.
– Работой доволен?
– А как же! – смеется Лябо. – Я теперь – как тот горностай, вовек не вылезти из бутылки. Из моря.
– Горностай?
– А-а, это еще в детстве… если случится, приглядись, как ненецкие пацаны ловят этих зверьков. Берут бутылку из-под шампанского, отбивают горлышко, зарывают под высоким углом в сугроб, а на дно кладут приманку. Горностай забежит в бутылку, а выкарабкаться не может – лапы скользят.
…Моряком Лябо мечтал стать с детства. После школы поступил в речное училище. Но едва получил диплом, как призвали в армию. Войсковая часть находилась на Дальнем Востоке, на крутом берегу Тихого океана. Там он впервые увидел большие морские суда.
После увольнения в запас все получилось как нельзя просто. Лябо подал рапорт в соответствующие инстанции и получил «добро». Его определили в Клайпеду на сухогруз «Чарнас» сначала матросом, потом четвертым штурманом. Он поступил на заочное отделение Клайпедского морского училища.
И пошли в Россию письма. Из Мексики и США, Кубы и Португалии, Бразилии и Канады, Анголы и Швеции. Адреса были разные, автор писем один: Лябо Тимофеевич Яр.
– Тебя слава не смущает? – спросил я.
– Издеваешься?
– Нисколько. Ты ведь первым из ненцев стал моряком, штурманом дальнего плавания.
– Ну и что? Экая важность – стал четвертым штурманом. Проблема, что ли? У тех ненцев, кто за работу получил ордена, высокие звания – у тех действительно слава. Я штурман, но откуда ты знаешь: плохой или хороший? Хочешь, про один случай расскажу?
– Любопытно.
– Шли мы по Северному морю. Я на вахте. Волна приличная. Приборы, конечно, у нас по последнему слову техники. Однако на них надейся, но и сам не плошай. И тут ЧП произошло. Вижу вдруг – наперерез нашему курсу рыбацкая шхуна скачет. Дистанция до нее рискованная. Я с помощником все машины вырубил – и задний ход. Все обошлось благополучно, только на камбузе от торможения стаканы упали. Естественно, шум поднялся: «Как? Почему?» Нагоняй зверский получили мы. За расхлябанность свою, за то, что поздно заметили препятствие. А ты все: первый да первый… Слушай дальше. Был я еще пацаном. Один раз на речке провалился трактор под лед. Глубина там небольшая, метра три, макушка кабины виднелась у поверхности. Тракторист вынырнул, спасся. Пролом во льду, черная, как чернила, вода, а над ней пар: то ли от тридцатиградусного мороза вода курится, то ли от раскаленного мотора. Ну что? Поднимать надо, а как? Придумали. Сварганили над прорубью опорную установку из бревен вроде лебедки. Оставалось подцепить утонувший трактор, протянуть троса через блок и подать конец на тягачи. Кому лезть в воде цеплять? Судили-рядили, вызвались двое геофизиков. Один из них разделся в «газике» и, голый, босой, побежал к проруби. Бежит, а снег у него под ногами хрустит, как капуста: хрум-хрум.
Обвязали его веревкой для страховки, перекрестился он и бултыхнулся в воду. Секунд через тридцать собрался вылезать – не тут-то было: веревка зацепилась и не пускает. Парень и так и сяк – ничего не получается! И ножа с собой не прихватил. Если бы растерялся – пропал бы, это точно. Понял, что выход один – веревку развязать. Сам знаешь, как развязывается сырая веревка. Сумел, однако. Когда вынырнул, еле отдышался. И что ты думаешь? Бросил помогать? Испугался? Ничуть. Вновь рвался в прорубь!
– Да все понятно, – смеюсь я. – Вот ты сделал, как говоришь, небольшое дельце – стал штурманом, а до тебя из ненцев никто этого не сделал. Отсюда вывод…
Лябо морщится:
– Мели, Емеля. И бокс на всякий случай сюда приплети. Ведь я мастер спорта. Среди ямальских ненцев нет мастеров по боксу.
– Кстати, тренировки не бросил?
– Нет, я в форме, как штык. А поначалу не верил: где, думаю, мне тягаться. В армии провел несколько боев, смотрю – удачно. Первый разряд мне еще в речном училище присвоили, а тут по всем параметрам тяну на кандидата. В состав сборной военного округа включили. Ребята у меня спрашивают, где, мол, занимался раньше. Нигде, говорю, толком не занимался, в детстве хорошие навыки получил у тазовского тренера Никитина. А боксом потому стал заниматься, что не захотел прыгать через нарты.
– Какие нарты?! – удивляются солдаты, мои однополчане.
– Национальные виды спорта такие есть, объясняю: прыжки через нарты, метание тынзяна, аркана то есть, и топора, гонки на оленьих упряжках. Вижу, интересно им, я и давай рассказывать. Бокс ненцам ни к чему, они драться не любят. Объясняю: нужда исстари приучила их к другому делу, чтобы выжить в снегах – отлично ловить оленей тынзяном, отлично метать топор (вдруг медведь навалится, а ружья под рукой нет), хорошо бегать, прыгать и управлять нартой. Короче, толкую, в цене смелость, ловкость, сноровка и опыт. С этими качествами в тундре не пропадешь. Вот кто из вас перепрыгнет через сто саней? Ахают: сразу сигануть через сто?! Нет, отвечаю, не сразу, а по отдельности, козликом, и без передышки. Вы, наверное, думаете – ерунда. Э-ге-ге! Некоторые новички прыгали до изнеможения и падали на двадцатой нарте… Долго мы наши спортивные темы перелопачивали. А разговор чем закончился?
– Чем?
– Вопросами про наше житье-бытье ненецкое, про людей и природу. Я им целую эпопею-панораму развернул. А как дошел до куропаткиного чума – не поверили! В диковинку показалось. Не может, говорят, такого быть! Я им: вот где ночует куропатка? В снегу. Зарывается глубоко, с головой. Так теплее. А почему мне нельзя? Ночевал не раз я в тундре. Найдешь, бывало, куст развесистый, зароешься в снег с подветренной стороны, подоткнешь под себя малицу, спрячешь морду в меха и храпишь до утра. Ночью поземка метет, морозец пристукнет, а мне, конечно, стужа нипочем. Встал, отряхнулся, дальше побежал. Так вот.
– Так ты про бокс… – напомнил я.
– Ну, чувствую, что на кандидата тяну. И вдруг выхожу в чемпионы округа! Конечно, тренировался, как черт, времени достаточно было. Потом первенство Вооруженных Сил СССР – и снова приз! Ретиво, думаю, но не слишком ли высоко залетаю? По способностям? Следом Всесоюзный турнир подкатил, потом снова первенство, теперь уже дружественных армий. Леший возьми – победа за мной! Стал кандидатом в мастера спорта, через полгода присвоили звание мастера. Я – грудь колесом! Не шутка! Настало время и в Испанию ехать в составе сборной команды СССР от спортобщества «Водник» на спартакиаду боксеров-моряков двадцати двух стран Атлантического бассейна. Что ты думаешь? Первое место! Но когда радость улеглась, поглядел на себя как бы со стороны. Стало мне легко, почувствовал себя проще, уверенней: чего я ломаюсь, из шкуры лезу, думал я. Великим спортсменом не быть, не создан для этого, а для собственного удовольствия и так добился немалого. Как ты на это смотришь?
– Я тебе в этом не советчик, Лябо. Сам выбирай.
…После той встречи я не видел Лябо года три. С дороги он прислал письмо: «Вот я уже на судне. Сегодня ночью уходим. По приезде сразу начали гонять по разным комиссиям. Встретил всех своих ребят, с которыми был в прошлом рейсе. Мы снова идем в Южную Африку. Ждите писем из Луанды. С негритянским приветом, Лябо».
И вдруг нагрянул он!
– Не замечаешь во мне перемены? – спросил после взаимных объятий с рукопожатиями.
– Такой же, по-моему. Прежний.
– Я бросил морской флот. К черту загранку, на ней поставлен крест! Вернулся работать домой.
– Ты спятил, Лябо!
– Нет, просто ямальский магнит оказался сильнее океанского. Мне на Севере надо быть, а я на Юг затесался. Зачем? Не понимаю. Чем Обская губа не море?
– Не темни!
– Не темню. Приеду в отпуск – сколько изменений в поселке, сколько перемен! Друзья все тут. Сидишь в гостях – как чужак, дома – как залетный гость. Мне говорят: ах, это прекрасно! Видеть белый свет, знакомиться с дальними странами! К чертям пальмы, коралловые рифы, муссоны, пассаты! Самое интересное и замечательное мы всегда оставляем дома. Не прав?
Я пожал плечами.
– А зачем такая жизнь, если в каждом плавании я только и думаю о Ямале? А ты наверняка представлял меня счастливцем…
– Представлял…
– Однажды в Атлантике приснился сон. Будто стою я зимней ночью один в тундре. Никого вокруг. Тишина. Звезды. Где-то нарта поет. Пошел я за этой оленьей упряжкой, на звук, а остановить ее не могу – голоса нет. Слышу, каюр тихонько поет: «Гэй, гэй, гэй, гэй!» Голос все дальше и дальше, и будто начал пропадать меж звездами и снегом. Тоска взяла. Шел, покуда не упал. Лежу, замерзаю. И тут, как обычно в сновидениях, чудеса начались. Снег возле меня от дыхания растаял постепенно, трава зеленая показалось, от земли тепло пошло. Лежу, греюсь, как у печки. Проснулся утром и понял: пора. Смешно?
– Да нет.
– Ты пойми, нутро у меня такое. Нераспечатанное. Вбирало все в себя подряд, а назад ходу не было. Недавно распознал суть свою, когда начал примерять себя к прожитой жизни. Все вроде правильно, все хорошо, да расходовал себя не там, где надо. Мое место тут. Теперь жди меня только с северным загаром, – улыбнулся он.
…Уж тридцать лет он счастлив, бороздя на баркасе, похожем на корыто, Обскую губу студеную.
Об авторе
Сборник рассказов и очерков Бориса Касаева «Большая охота» заинтересует читателей актуальностью затрагиваемых тем, глубоким историко-философским осмыслением прошлого и современной действительности. Его произведения отличаются художественной завершенностью, лаконичностью стиля, тонким юмором. Борис Касаев родился на Ставрополье в 1945 году. По профессии – журналист. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. После службы в армии, с 1971 года, живет на Ямале, сначала в поселке Тазовском, в городах Салехарде и Тарко-Сале, а с 1982 года – в Новом Уренгое. Работал в Ямало-Ненецком окружкоме партии, главным редактором газет «Северный луч» и «Правда Севера». С 2000 года – в управлении по связям с общественностью ООО «Ямбурггаздобыча». Доподлинное знание жизни северян-газовиков, быта и нравов коренного ненецкого населения придают прозе талантливого писателя особый, неповторимый колорит. Книга «Большая охота» рассчитана на широкий круг читателей.


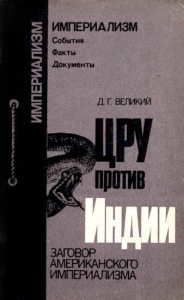


Комментарии к книге «Большая охота (сборник)», Борис Михайлович Касаев
Всего 0 комментариев