В вертолетной катастрофе у берегов Байкала погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. Это событие - само по себе печальное и экстраординарное - в современном российском контексте выглядит особенно трагично. Вертолетная катастрофа Есиповского до неприличия похожа на другую вертолетную катастрофу, в которой четырьмя месяцами ранее погиб представитель президента в Госдуме Косопкин и сопровождавшие его алтайские чиновники. Конечно, разница между двумя крушениями есть - тогда были новогодние каникулы, теперь майские; тогда был Алтай, теперь - Байкал. Тогда были архары, теперь - вроде бы медведи. Но в остальном все выглядит какой-то сверх меры циничной иронией судьбы. Как и в январе на Алтае, на Байкале высокопоставленный чиновник летел на частном вертолете по незарегистрированному маршруту. Как и в январе, после крушения подчиненные погибшего чиновника заявили, будто покойный летел не просто так, а - я не шучу, и. о. иркутского губернатора Сергей Сокол действительно так говорит, - высматривал с воздуха место для закладки особой экономической зоны. Как и четыре месяца назад, неофициальная и более правдоподобная версия (в алтайском случае из этой версии выросло расследуемое до сих пор уголовное дело) состоит в том, что чиновник охотился с воздуха. Наконец, и тогда, и теперь место действия - заповедные сибирские земли, где жители до сих пор верят в могущественных языческих богов, - и, прямо скажем, кровавая развязка и в алтайском, и в байкальском случаях способна заставить даже скептика подумать, что с этими богами шутки плохи.
Уголовное дело об охоте Косопкина и его друзей на Алтае прокуратура завела в конце апреля - за несколько дней до гибели Есиповского. Крушение вертолета на Байкале темой аналогичного расследования пока не стало - но, очевидно, скоро станет. Январская вертолетная охота была беспрецедентным случаем чиновничьей наглости; многие комментаторы, включая автора рубрики «Драмы», писали тогда, что сенсацией эта охота стала только вследствие крушения вертолета - не разбейся Косопкин, никто бы никогда и не узнал, что высокий федеральный чиновник охотился на краснокнижных архаров. Спустя всего четыре месяца судьбу полпреда Косопкина повторил губернатор Есиповский. Казалось бы, после «алтайгейта» сибирским чиновникам хотя бы годик посидеть тихо, проводя досуги не на вертолетной охоте, а, например, на рыбалке, - так нет же. Как летали, так и летают - очевидно, и после гибели Есиповского будут летать. Давно уже никто не спорит с тем, что едва ли найдется на свете более бессовестное существо, чем российский чиновник двухтысячных. Вертолетные истории из сибирской жизни вносят важную поправку: российский чиновник двухтысячных - существо не только бессовестное, но и безмозглое.
Милиция
Уже много дней прошло с тех пор, как милицейский майор Евсюков «дежурил в связи с празднованием Красной горки», а ленты информагентств - как заговоренные. Каждый день сообщают о каком-то обнаглевшем милиционере, который или ограбил кого-то, или убил, или съел. Едва ли последний бой майора Евсюкова как-то радикально изменил криминогенную ситуацию внутри милицейского сообщества - ни больше, ни меньше преступлений милиционеры совершать не стали, просто мы имеем дело с очередной шумной и заведомо безрезультатной кампанией по борьбе за все хорошее против всего плохого.
Чем закончится эта кампания - отставкой Нургалиева, сокращением кадров МВД или каким-нибудь общемилицейским психологическим тестированием, неизвестно; едва ли кто-то всерьез ожидает от государства быстрого и эффективного решения милицейского вопроса. При этом нельзя сказать, чтобы вопрос был совсем уж нерешаемым - даже высочайше ненавидимая Грузия при гораздо меньших денежных и административных возможностях свою полицию отформатировала. То есть с тем, что одолеть ментовщину в принципе возможно, спорить трудно. Но еще труднее спорить с тем, что очередная кампания, свидетелями которой мы стали, закончится либо какой-нибудь гадостью, либо - вообще ничем. Приученные к тому, что любая проблема решается правильным подбором сюжетов в программе «Время», российские власти - и многолетний их опыт тому порукой, - не способны больше ни на что вообще, а значит, если события, подобные бойне Евсюкова, вдруг перестанут происходить, это будет иметь только астрологические, но никак не политические объяснения.
Парад
9 мая, как обычно, на Красной площади проходил парад в честь Дня Победы - как всегда в последние годы, с танками и самолетами, ничего нового. Мы даже не обратили бы на этот парад внимания, если бы накануне праздника помощник командующего войсками Московского военного округа по связям со СМИ полковник Олег Юшков не выступил с интригующим заявлением. По словам Юшкова, в последний момент в программу мероприятия были внесены некоторые коррективы, а именно - организаторы парада «приняли решение отказаться от участия в нем боевых машин десанта (БМД-4) из-за ограничения по времени проведения мероприятия». «БМД-4 не будет участвовать в параде, так как ее прохождение по Красной площади не укладывается во временном отрезке, который отведен для прохождения по площади пеших колонн, бронетехники и пролета военной авиации», - объяснил полковник Юшков 8 мая. То есть на протяжении многих недель подготовки к параду никто ни о чем таком не задумывался, а потом оказалось, что БМД не укладываются в хронометраж.
Конечно, можно предположить, что алчность директоров государственных телеканалов настолько безгранична, что ради каких-нибудь рекламных роликов они были готовы урезать трансляцию парада, но верится в это все-таки с трудом - и рекламный рынок теперь не тот, что был в тучные годы, и вообще - государственническую десятину «Первый» и «Россия» блюдут вполне тщательно, ни у кого до сих пор не было оснований упрекать Константина Эрнста и Олега Добродеева в пренебрежении державностью. А кроме телевизионных дел - что еще может ограничивать хронометраж парада? Пожалуй, ничего. К тому же отсутствие этих бээмдэшек на Красной площади заметил бы только десяток специалистов, которые поворчали бы об этом у телеэкранов, - ну и все. А полковник Юшков зачем-то сделал специальное заявление.
Скорее всего, мы имеем дело с достаточно неуклюжей попыткой скрыть от общественности нечто, что всерьез заставило понервничать начальников полковника Юшкова. Похожий случай был летом 1996 года накануне второй инаугурации Бориса Ельцина. Президент отлеживался после инфаркта, и перспективы его участия в обязательной церемонии были достаточно туманны. И тогда в прессу были вброшены подробности какого-то шизофренического сценария инаугурационных торжеств, над которым несколько дней подряд потешались все газеты и телеканалы. А когда торжества отменили, заменив их скромной десятиминутной церемонией в Кремлевском дворце, все обрадовались, и тема президентского здоровья как-то отошла на второй план. Может быть, что-то подобное произошло и теперь? Понятно, что у участников правящего тандема никаких проблем со здоровьем быть не может, но проблемы бывают не только медицинские. За три дня до парада в СМИ появились сообщения, что несколько сводных полков сговорились не кричать «Ура!» в ответ на приветствие министра обороны Сердюкова - якобы таким образом военные хотели выразить министру свой протест против его политики. Почему бы не предположить, что исключение из парада прохождения БМД и стало ответом на этот декабризм? Стоит, очевидно, проследить за дальнейшими военными новостями, - вдруг что-то прояснится.
Морозов
Если кто- то коллекционирует самые яркие высказывания российских политиков -вот вам в копилку: Олег Морозов, первый заместитель председателя российской Госдумы, отвечая на вопрос журналиста «Коммерсанта», кто будет президентом России в 2018 году, сказал: «Так ли это важно?…Спрашивать, кто будет в 2018 году президентом, некорректно. Медведев и Путин сами решат, кто из них в это время будет достоин президентства».
Я совсем не склонен рассуждать о диктаторских порядках в современной России, об угнетении народа и прочих подобных вещах. При этом некоторые антидемократические проявления у нас сегодня, конечно, есть - эдакие отдельные недостатки, они же перегибы на местах. А перегибы - на то они и перегибы, чтобы рано или поздно с ними кто-нибудь разобрался. И когда Россия начнет преодолевать тяжкое наследие двухтысячных, может быть, среди преодолевающих окажется и вице-спикер Морозов, который, может быть, скажет, что это время было такое, или что в сердцах царили сон и мгла, или еще что-то в этом роде. Собственно, эту заметку я пишу в том числе и для того, чтобы вице-спикеру Морозову в этом будущем было бы сложнее оправдываться. Да, формула «Путин и Медведев сами решат» вполне адекватно отражает реальность, - но даже сами Путин и Медведев ее заметно стесняются, тщательно организуя все формальные шаги - от всеобщих выборов до консультаций с парламентскими фракциями. Вице-спикер Морозов устроен проще - он говорит ровно то, что думает. Но в том-то и фокус, что это - его, Морозова, мысли. Чтобы иметь лакейскую душу, тирания совсем не обязательна - и я очень не хочу, чтобы завтра Морозов, оправдываясь, списывал особенности своей души на особенности политического режима в России, каким бы ни был этот режим.
Кенигсберг
Мэр Калининграда Феликс Лапин первым из калининградских и вообще российских официальных лиц заявил о предпочтительности возвращения Калининграду его исторического имени. «Какая разница, как он назывался? Ну, жил здесь Кант. Кант жил где? В Кенигсберге. Наверное, я еще раз повторяю, у России, я считаю, была бы гордость от того, что да, Кенигсберг - это российский город, в составе Российской Федерации», - сказал Лапин, и это заявление мэра самого западного российского областного центра вполне тянет на настоящую сенсацию. До сих пор российские чиновники любого уровня старательно избегали любых попыток перевести разговор о переименовании Калининграда в дискуссионную плоскость - даже торжества по случаю 750-летия города, прошедшие несколько лет назад, вначале были чуть не сорваны по инициативе Кремля, представители которого говорили о нецелесообразности празднования юбилея «несуществующего немецкого города».
Когда переименовывали Ленинград, Свердловск, Горький и Куйбышев, о переименовании Калининграда не было и речи. Если возвращение исторического имени Самаре - это просто эпизод топонимической политики, то возвращение исторического имени Кенигсбергу - это большая политика, практически пересмотр итогов Второй мировой войны. Сегодня вернем на карту Кенигсберг, а завтра и сам город немцам отдадим - примерно так выглядела консенсусная точка зрения по этому вопросу, существовавшая в девяностые и в Калининграде, и в «большой России». Всерьез о переименовании города говорили только немногочисленные прозападные интеллигенты, и голоса их почти не было слышно. Теперь о возвращении имени Кенигсбергу говорит мэр города, и его-то уже нельзя не услышать. При этом еще несколько лет назад подобные заявления для калининградского политика могли стать концом карьеры; имя Калининград относилось к бесспорно не подлежащим пересмотру вопросам. Теперь что-то изменилось. Что именно?
Можно выдвинуть несколько версий - от ослабления ветеранского лобби, когда-то имевшего в Калининграде немалый политический вес, до уменьшения зависимости чиновников от воли избирателей. Но все же более правдоподобным мне кажется такое объяснение. На протяжении последних почти десяти лет официальные власти России эксплуатируют тему войны 1941-1945 годов, что называется, и в хвост, и в гриву - эта тема используется для выяснения отношений и с Украиной, и со странами Прибалтики, и с Европой, и даже с оппозицией внутри страны. На первый взгляд, третье (второе было при Брежневе) дыхание культа Победы не дает Девятому мая уйти в историю - в действительности же такая эксплуатация последней советской святыни ведет или даже уже привела к самой быстрой ее десакрализации - пожалуй, даже если бы по телевидению с ежевечерними проповедями выступал знаменитый Резун-Суворов, эффект был бы более слабым.
На примере калининградской топонимики это видно вполне отчетливо. Еще пять лет назад «победные» аргументы против переименования города работали, теперь - не работают. По-моему, важная веха - причем не только для Калининграда.
ТИГР
МВД провело предварительную проверку финансирования организации ТИГР (Товарищество инициативных граждан России), известной прежде всего участием в массовых акциях «праворульных» автовладельцев во Владивостоке этой зимой. Инициатором проверки выступил депутат Госдумы Сергей Белоконев - один из лидеров движения «Наши». По мнению Белоконева, за финансированием ТИГРа стояли иностранные неправительственные организации, то есть автомобилисты во Владивостоке митинговали не сами по себе, а потому, что им за это заплатили какие-то внешние силы.
В результате проверки никаких свидетельств иностранного финансирования обнаружено не было - впрочем, и не могло быть, потому что ТИГР, будучи сетевой организацией, не имеет ни оргструктуры, ни бухгалтерии, ни вообще каких бы то ни было подразделений, в которые могли бы поступать деньги - хоть иностранные, хоть отечественные. Очевидно, при желании правоохранительные органы все равно могли бы в чем-то уличить «товарищество», но не уличили - и это даже можно было бы считать очередным доказательством политического потепления, если бы мы искали такие доказательства. Интереснее в этой истории другое - государство (а профессиональный нашист Белоконев, разумеется, воспринимается именно как представитель государства) всерьез считает, что никаких протестов против правительственной политики не может быть без того, чтобы за этими протестами не стоял какой-нибудь иностранный центр. Это вдвойне странно, если учесть, что российская власть, кажется, вполне адекватно воспринимает зимние бунты в Приморье - например, премьер Путин в интервью японским СМИ откровенно заявил, что правительство сознательно пожертвовало интересами дальневосточных автомобилистов: «Приходится выбирать не между хорошим и очень хорошим, а между не очень хорошим и совсем плохим. Как Вы думаете, что предпочтительнее для правительства: забастовки автопроизводителей либо забастовки торговцев?» Если интересы какой-то социальной группы сознательно ущемлены властью, вполне логично ожидать протестов со стороны этой социальной группы. Но в то же время государство всерьез ищет иностранный след в организации протестов, и здесь уже никакой логики нет и быть не может - впрочем, кого это когда-нибудь останавливало?
Олег Кашин
Хроники ***
Женщина лет пятидесяти в супермаркете просит осьмушку хлеба - для этого надо располовинить четвертинку «Дарницкого». Продавщица со вздохом отказывает - упаковка, штрих-код, но достает из кармана пятирублевую монетку. «Благодарю вас», - после короткого угрюмого раздумья отвечает женщина. Вида, что называется, приличного, самого чистоплотного, в корзине - дешевые макароны и пакет куриных потрохов. Вот кого спасли бы продуктовые карточки, идея введения которых активно обсуждается аж с прошлого лета.
ВЦИОМ представил данные нового опроса: введение продуктовых карточек для малоимущих поддерживают 62 процента опрошенных (51 процент - в прошлом году). Примерно на столько же уменьшилось количество тех, кто против (24 процента). Наиболее популярна эта идея в Сибири (78 процентов) и на Урале (76 процентов), наименее - на Северо-Западе России (32 процента). Адресатами этой помощи готовы стать 35 процентов респондентов - по преимуществу это люди в возрасте старше 60 лет или малоимущие, в чьих семьях доход на одного человека не превышает 1500 рублей.
При этом 48 процентов уверены, что изначально хорошая инициатива (безналичные деньги, которые можно будет тратить исключительно на продукты - табак и алкоголь в реестр не входят) - на практике окажется «как всегда»: до истинно нуждающихся помощь не дойдет, а достанется маргиналам или, напротив, формально бедным, но фактически обеспеченным пенсионерам. Есть и другое мнение, озвученное политиками: в условиях частной торговли на карточках неизбежно нагреют руки распределительные органы и дружественные им торговые сети. Это резонное опасение, однако, оно не отменяет необходимости как-то решать вопрос. Для начала, например, признать, что голод в России - это не публицистическая гипербола. За год количество россиян, находящихся за чертой бедности, увеличилось вдвое, - сегодня их 14 процентов, выросло и количество бедных (тех, кому хватает денег только на еду, а покупка одежды уже вызывает затруднения) - их теперь 32 процента, - и удивительно ли, что треть населения готова стать адресатами продовольственной помощи? Представители торговых сетей уверенно говорят о неизбежном росте цен на продукты, расходятся только в масштабах - оптимисты пророчат удорожание на четверть, пессимисты - на 45 процентов.
Есть и совсем специфические мнения. Например, начальник управления потребрынка администрации Твери утверждает, что продовольственная помощь не нужна, потому что «областные власти успешно решают проблему с малоимущими гражданами». Зачем карточки, вопрошает чиновница, когда у нас регулярно проводятся продовольственные ярмарки? Нет, ничего не меняется - кому «царь беспощаден», а кому вечная Божья роса.
***
Фонд помощи многодетным семьям «Русская береза» (rusbereza. ru) полон отчаянными письмами из провинций. Пишут в основном матери семейств из сельских районов Урала и Сибири, не процветавших и до кризиса, а сейчас совсем обескровленных. Все - непьющие, с хорошими характеристиками из сельсоветов. Просят о любой помощи для детей: еда, молочные смеси, ношеные одежда и обувь, постельное белье, школьные принадлежности - все, что угодно. Больше им попросить не у кого.
Новосибирская область: «Я получаю пенсию, половина уходит на таблетки, хозяйство не держим, потому что некому за ним ходить. Я в доме передвигаюсь с помощью табуретки. Прошу вас хоть чем-нибудь помочь. В совхозе дают только малую часть зарплаты, и если возьмем мешок муки, то жить не на что. Мешок муки стоит 780 руб.».
Красноярский край: «Я одна воспитываю семерых детей. Старшему - 18, младшей - 4 года. В прошлом году попала под сокращение на работе, с мужем пришлось развестись, так как стал сильно пить. Тут и начался этот кошмар. Продукты покупаем только необходимые. Хорошо хоть свое хозяйство, но и его уменьшили, так как корм дорогой. Прошу Вас помочь мне одеждой».
Пермский край: «Живу у подруги в общежитии. Старшую сумела устроить в садик. Наш доход на троих 2 323 р. в месяц. Работы нет, жилья своего нет, порой думаю наложить на себя руки, чем жить так. Вот только бабушки и спасают. Кому дров наколю, кому воды принесу, кому полы помою. А детей одеваем всем миром».
Тоже Пермский край: «Пишет вам обычная ученица 9 класса деревенской школы. Я живу в маленькой деревне в семье у меня всего 5 человек. Мама на пенсии вот уже 9 месяцев, но пенсия у нее маленькая, едва хватает на содержание всех нас (примерно 3 700). Мы держим огород, корову. Из одежды носим обноски, иногда что-то перепадает от родственников. Одежду мы не покупаем, она нам просто не по карману. В школу мы еще можем найти что-то приличное, а на улицу я надеваю то, что несколько лет назад носил брат. Наступила зима, и в резиновых сапогах на улице много не походишь. Пытаемся найти что-нибудь из старого, чтобы хоть как-то „обмануть“ зиму».
Это не какая-то экстремальная Россия, не зона особенного бедствия, - это обыденность, фоновое отчаяние десятков тысяч российских семей. Зайдите на сайт Фонда, прочитайте эти письма, - они громче и страшнее любых репортажей «из глубинки». И не выбрасывайте старые вещи - может быть, именно благодаря тем курткам и ботинкам, которые вы не решитесь надеть даже на даче, уральский ребенок сможет не забыть дорогу в школу.
***
Самый актуальный лозунг политики занятости - «создавайте собственное дело». Сокращенным рабочим и клеркам предлагают - в риторике девяностых годов - не ждать милостей от работодателей и стать бизнесменами. В обмен на дельный бизнес-план (социально ориентированное производство, с созданием рабочих местах) обещают федеральные субсидии, всяческие льготы и горячую поддержку. Все это, кажется, хорошо и конструктивно, однако степень заявленной государственной поддержки несколько, мягко говоря, озадачивает. Например, магнитогорским претендентам назначена максимальная субсидия в 5 630 рублей в месяц (и это после того, как кандидат докажет свою благонамеренность по доброму десятку критериев, а самое главное - докажет, что его бизнес не будет направлен исключительно на «получение личной выгоды»). Какие производства можно развернуть при таких-то щедростях, неизвестно, - однако процесс идет, транши поступают, и есть кандидаты, и их досье смотрят на свет. Вероятно, в результате этой кипучей деятельности мы получим особую генерацию предпринимателей, которые будут торговать морковкой не просто, но социально ориентированно, в рамках изничтожения безработицы. Впрочем, все лучше, чем ничего.
Другой тренд - привлечение безработных к «общественным» работам под угрозой лишения пособия (фронт - как на традиционном субботнике: ремонт школ, больниц, расчистка территорий) - тоже вызывает вопросы. За «общественные» работы все-таки надо платить хотя бы минимальную зарплату - 4 300 рублей, а многие предприятия, например, в Ярославле, - не могут себе позволить и этого и со слезами вынуждены отказаться от почти дармовой рабочей силы. По сообщениям из школ, необычайно возросла требовательность классных руководителей к родителям: как в старые добрые времена, родители красят стены и ограды, убирают прошлогоднюю листву и скидываются на линолеум.
Евгения Долгинова
Анекдоты Девочки убили девочку
Следственным отделом по Зиминскому району следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Иркутской области расследуется уголовное дело по факту убийства 15-летней ученицы одной из местных школ. Ее тело обнаружено в болотистой местности за поселком Кирзавод. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое подозреваемых - 15-летние девочки. Две из них учились в одной школе с убитой, еще одна - в соседнем учебном заведении.
Установлено, что 12 мая 2009 года потерпевшая встретила трех своих знакомых. Во время разговора она узнала, что девочки пошли за гаражи распивать алкогольные напитки. В результате она присоединилась к их компании. Чуть позже между подростками произошел конфликт, одна из девочек сильно толкнула потерпевшую. Испугавшись, что та сообщит об этом родителям, три подружки решили убить свою попутчицу. Они заманили ее на пустырь, там оглушили бутылками и задушили ремнем от куртки. Затем скрылись.
Девушки задержаны, свою вину они признали. Сейчас с ними работает следователь Следственного комитета.
Кирзавод. Хорошее название. Кирпичный, наверное, имеется в виду.
В этом названии сконцентрировался весь этот ад, вся эта бесконечная серая катастрофа.
Кирзавод, гаражи. Низенькие кривенькие гаражи из серого силикатного кирпича. В гаражах хранят свои копейки, пятерки, облезлые шестерки, помятые древние москвичи-2140 жители Кирзавода.
Хорошо выпивать за серыми низенькими гаражами. А чего, нормально. Где еще выпивать пятнадцатилетним девочкам, жительницам поселка Кирзавод, у которых вся жизнь впереди, перед которыми открыты сто дорог, которых ждет в их ослепительном будущем любовь, счастье, самореализация и прочий успех. Больше негде. Вот они и выпивают за серенькими гаражами.
Кто дура? Я дура? Ты у меня, сука, за дуру ответишь!
Заманили, оглушили, задушили.
Может, дело в названии? Наверное, трудно жить в поселке Кирзавод и не озвереть, в той или иной степени. Назвали бы поселок как-нибудь по-другому, Лесные дали, Заречный, или хотя бы Знамя Труда, или, на худой конец, Кировский. Может, и обошлось бы.
Хочу телефончик
Жительница Ставрополя, оформившая кредит ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на покупку телефона на девичью фамилию, с целью избежать выплаты денежных средств за полученный кредит, сделала ложный донос о том, что неизвестное ей лицо, якобы воспользовавшись документами на ее девичью фамилию, заключило кредитный договор. Уголовное дело по обвинению гражданки в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), поступило в суд.
Согласно материалам дела, в феврале 2007 года женщина заключила в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» кредитный договор, по которому получила кредит на покупку сотового телефона на сумму более 12,3 тысяч рублей. Данный кредит она оформила на свою девичью фамилию.
В июле 2008 года она обратилась в ОВД по Промышленному району по адресу г. Ставрополь, чтобы написать заявление, в котором сообщила, что неизвестное ей лицо, якобы воспользовавшись документами на ее девичью фамилию, заключило кредитный договор, по которому получило кредит в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на покупку сотового телефона. Тем самым она заявила об оконченном преступлении средней тяжести, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ, которое на самом деле совершено не было.
Данное заявление было зарегистрировано в книге учета заявлений, сообщений и происшествий в ОВД, рассмотрено, но подтверждения не нашло, следовательно, женщина подала ложное заявление о совершении преступления, т. е. совершила заведомо ложный донос и осознанно нарушила нормальное функционирование правоохранительных органов.
В случае вынесения судом обвинительного приговора подсудимую ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
За 12 300 рублей можно купить очень хороший телефон. Так сказать, крутой. Например, Sony Ericsson W902. Или Nokia N79. Или Nokia 5800 Xpress Music. Продвинутые модели. С мобильным интернетом, с фото- и видеокамерами приличного разрешения, с качественными плеерами. С кучей всяких приятных прибамбасов.
И девушка купила вот такой телефон. Захотелось очень. Нет, конечно, мобильный телефон - вещь в наше время необходимая, кто бы спорил. К счастью, сейчас это удовольствие может себе позволить практически каждый. Можно купить простецкий телефон с минимумом функций за тысячу. А за три тысячи - даже и не очень простецкий, а, опять-таки, с прибамбасами.
Но девушке захотелось не просто телефон, а навороченный, крутой, классный, клевый, красивенький такой, модненький, хорошенький, симпатичненький такой телефончик. Чтоб с музычкой. Чтобы можно было идти по солнечному Ставрополю и слушать через наушники бум-бум-бдыщь. Хорошо, весело. И чтобы можно было мелодию звонка закачать какую-нибудь этакую. Что-нибудь из Димы Билана или группы Виа-Гра. И чтобы можно было бы сфотать себя на фоне чего-нибудь и послать фотку подружке по MMS. Другие продвинутые функции девушка, скорее всего, не освоила, вряд ли она вникала в тонкости мобильного видеоблоггинга и синхронизировала контакты с домашним компьютером. Зачем ей это. Главное - чтобы музычка, фотки и телефончик прикольный.
И вот ради этого девушка пошла на, фактически, уголовное дело. Советовалась, наверное, с кем-нибудь. Планировала. Вот что общество потребления с людьми делает.
Заморозил и утопил
В Амурской области приговором Магдагачинского районного суда осужден 34-летний житель поселка Магдагачи Николай Коптев по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с Коптева в пользу матери бывшей супруги в счет возмещения причиненного морального вреда 200 тыс. рублей.
28 декабря 2008 года между Коптевым и его женой возникла ссора из-за того, что он заподозрил ее в супружеской измене. В ходе ссоры Коптев, разозлившись на жену, стал ее избивать, нанеся множественные удары кулаками и три удара стеклянными бутылками, разбив их о голову супруги. В результате Коптев причинил жене телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.
Кроме того, 7 января 2009 года супруги совместно распивали спиртные напитки, отмечали праздник, после чего Коптев уснул. Проснувшись, он обнаружил, что его супруга находится в нетрезвом состоянии. Разозлившись, Коптев решил отрезвить ее, ненадолго закрыв на лоджии, во исполнение чего вывел свою жену, находящуюся в легкой домашней одежде, на лоджию их квартиры, где была температура воздуха около минус 22 градусов, и, закрыв ее там, вернулся в квартиру, где, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул. Утром Коптев проснулся и забыв, что его жена находится на лоджии, ушел из дома, а вернувшись через два часа, вспомнил об этом. Сразу же зайдя на лоджию, Коптев обнаружил, что супруга находится в бессознательном состоянии. Понимая, что жена замерзла, Коптев решил ее отогреть, положив в ванну, наполненную теплой водой, и предвидя, что жена, находясь в бессознательном состоянии, может захлебнуться, с целью предотвращения этого и недопущения ее смерти, стал за ней наблюдать. Примерно через 10 минут Коптева пошевелилась. Коптев, предположив, что супруга пришла в сознание и может себя контролировать, но не зная это достоверно, неверно оценив обстановку и состояние жены, без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение вредных последствий, вышел из ванной комнаты, оставив жену без присмотра в ванне, заполненной водой. В отсутствие Коптева его жена, будучи в бессознательном состоянии в заполненной водой ванне, захлебнулась, в результате чего наступила ее смерть на месте происшествия.
В судебном заседании Коптев с предъявленным ему обвинением согласился полностью, в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учел положительные характеристики подсудимого, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также наличие ряда смягчающих вину обстоятельств: наличие двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию преступления, полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном. Определением суда несовершеннолетние дети осужденного переданы на попечение бабушки.
Тут многое можно было бы прокомментировать (чего стоит хотя бы возмущение пьяного Коптева тем фактом, что его жена пьяна!), но как-то не хочется. Что уж тут говорить. Комментарии излишни. Одно интересно: положительные характеристики подсудимого. Какие у этого чудовища, у человека, способного (не важно, в каком состоянии) выставить свою жену на балкон в 22-градусный мороз, могут быть положительные характеристики? Что, на работе на хорошем счету? Не имел взысканий? Может быть, грамотами награждался, за успехи в труде? Пользовался уважением в коллективе? Или, может, соседей опросили? «Михалыч - он мужик нормальный, спокойный, ну, выпьет, бывало, ну кто же не пьет, все пьют, а так - нет, ничего плохого сказать не могу, хороший мужик, помню, денег у него занимал, никогда не отказывал, выпивали вместе, хороший мужик, веселый такой». Или положительной характеристикой является тот факт, что Коптев не был судим, не сидел?
Положительные характеристики. Положительно характеризуется по месту работы и жительства. Нормальный мужик. Заморозил, утопил жену. Положительный герой.
Дмитрий Данилов
* БЫЛОЕ * Екатерина Шерга Шнурок Фриды
Половой вопрос сто лет назад
«Посвящается моей жене Эмме, урожденной Штейнх…» Я держу этот том в руках, пытаюсь понять, как заканчивается фамилия супруги - но истончившийся, пожелтевший лист бумаги наполовину оборван. Уцелела дата издания - 1909 год.
Сто лет назад сей увесистый труд объемом в шестьсот страниц издавали, переиздавали и жадно читали во всем мире. Все в нем было сенсационно, начиная от заголовка. «Половой вопрос. Естественно-научное, психологическое, гигиеническое и социологическое исследование для образованных». Конечно, лишь от очень уважаемого человека с безупречной репутацией образованные люди могли выслушать рассуждения на такую опасную тему. Автор книги - профессор психиатрии Август Форель, доктор медицины, философии и юридических наук, служивший к тому же директором цюрихской больницы для душевнобольных.
Книгу открываешь в надежде найти занятные приметы времени. Эти надежды оправдываются. Вот профессор объясняет, почему он смело рассказывает о социальных язвах: «Я сообщаю об этом тем читателям из лучшего круга, которые сами вращаются в обществе избранных, порядочных людей, а прислуга никогда не сообщает им правды о мире». Конечно, сразу хочется оказаться там - в эпоху, где еще существовали лучший круг избранных, порядочные люди и прислуга. Только пусть она никогда, никогда не сообщает правды о мире!
Вот автор восхищается последними достижениями науки, в том числе противозачаточными средствами, лучшее из которых - эластичная каучуковая оболочка, которая носит название «гандон». Да! Так и написано! Далее следуют подробные разъяснения, касающиеся этой полезной новинки. Но тут лучше предоставить слово профессору. «Один и тот же гандон, если он прочен, можно употреблять очень часто; надо только его каждый раз вымыть, высушить между двумя платками с обеих сторон и, закрутив отверстие, оставить до утра сушиться… Все эти детали очень важны, так как бедные люди не могут каждый раз покупать эти довольно дорогие вещи». Книгу, кстати, переводил с немецкого Михаил Энгельгардт, известный в ту эпоху переводчик и публицист.
Вот доктор Форель рассуждает об относительности норм приличия: «Английская мисс, которая в Англии ужасно стыдится, если увидит обнаженную на полвершка руку или ногу, в тропических колониях очень скоро находит совершенно естественным видеть вокруг себя совершенно голых негров». Тут же воображаешь эту колониальную английскую мисс, в корсете, шляпке, юбке до пят, не подозревающую, что скоро утонет «Титаник» и убьют эрцгерцога, весь мир полетит в тартарары, а закончатся неслыханные перемены тем, что женщины начнут носить юбки до колена.
Но и время, когда Форель создавал свой труд, уже воспринималось как переломное. Эпоха невинности подходила к концу. Викторианская мораль все очевиднее доказывала свою неприменимость к реальной жизни. Стало возможным признавать и обсуждать сексуальные инстинкты. «Пришла Проблема Пола, румяная фефела и ржет навеселе», - фиксировал Саша Черный. Никто, однако, не знал, что с этими инстинктами делать и как ими управлять. Обыкновенный герой своего времени, пожилой академик у Мопассана размышлял: «С восемнадцати и до сорока лет, если включить в счет все случайные встречи, все мимолетные связи, можно допустить, что у нас были близкие отношения с двумя или тремя сотнями женщин».
Сравним это с диалогом у Довлатова: «Спрашиваю у Чернова:
- Много у тебя было женщин?
- Тридцать шесть и четыре под вопросом«.
Столь поразительная разница в цифрах объясняется исключительно тем, что француз, как и большинство его сверстников, изрядно шатался по борделям. Ибо все еще подразумевалось, что от мужчины следует ожидать непрерывных половых подвигов, но от порядочной женщины - целомудрия. В результате значительную часть женской половины человечества составляли старые девы и проститутки.
Размышляя над этим противоречием, Август Форель предлагает рецепт, который ему самому казался наиболее разумным и реалистичным. В грядущую эпоху просвещенные мужчины добровольно будут хранить абсолютное целомудрие до двадцатипятилетнего возраста. И тогда-то, невинные как ангелы, пойдут к венцу рука об руку с такими же невинными восемнадцатилетними девицами. Швейцарцу в голову не могло прийти, что разразится сексуальная революция, и молодые девушки будут вести столь же свободную сексуальную жизнь, что и мужчины. Такой вариант профессор, разумеется, и вообразить не мог, он даже о нем не заикается.
В некоторых случаях швейцарский врач оказался удивительно прозорлив, в других - потрясающе наивен. Задачи по исправлению морали, которые казались ему грандиозными и трудно выполнимыми, худо-бедно решены. Зато с теми, которые представлялись ему сущей ерундой, как-то не получилось.
В цивилизованных странах общество не отвергает матерей-одиночек и не заставляет их топиться. Никто не тащит в тюрьму живущих вместе гомосексуалистов. Всеобщее образование внедрили. Женщины преподают в университетах и руководят государствами. В то же время цюрихский мечтатель предсказывал, что человечество с легкостью откажется от алкоголя, а женщины - от варварского «раскрашивания лица, волос, даже губ». Тут он, как мы видим, жестоко ошибся.
В России книга швейцарского врача успех имела чрезвычайный. До революции она переиздавалась четыре раза. Среди читателей был некий юный врач, сам впоследствии ставший литератором. Точно известно, что ему была знакома по крайней мере одна глава из книги. Там рассказано о некой Фриде Келлер, девушке из бедной семьи, поступившей служить в кафе. Хозяин как-то попросил ее спуститься в погреб, девять месяцев спустя она родила мальчика, которого задушила и закопала в лесу, и - как все мы, конечно, помним - на суде говорила, что ей нечем было кормить ребенка.
- А где же хозяин этого кафе? - спросила Маргарита.
- Королева, - вдруг заскрипел снизу кот, - разрешите мне спросить вас: при чем же здесь хозяин? Ведь не он душил младенца в лесу!
Такова эта история. Специалистам по творчеству Булгакова она хорошо известна, а привязка к судьбе швейцарской убийцы и позволяет датировать события «Мастера и Маргариты» весной 1929 года. Реальная же Фрида Келлер предстала перед судом, была приговорена к смертной казни, которую заменили на пожизненную каторгу.
Для Фореля история соблазненной и покинутой служанки - пример общественного ханжества, подкрепленного судебным произволом. Но мы, просвещенные читатели двадцать первого века, как-то не вполне можем разделить пламенную убежденность автора. И не потому, что сердца наши черствы. Просто мир изменился.
Столетие назад женская непорочность была святыней, детей же путалось под ногами несметное количество. (Та же Фрида была одиннадцатой дочерью в семье; а ведь имелись еще и братья.) Для нас же культ девичьей невинности - вещь столь же абстрактная и устаревшая, как, например, принципы вассального долга или кодекс самурая. Зато каждый ребенок вполне конкретен и крайне ценен. Тем более что гандон доступен самым широким слоям населения, и рожают редко и поздно. Поэтому, когда мы читаем, как сначала девушка роет ребенку могилку в лесу, а потом душит его специально захваченным шнурком (не платком, как в романе), нам сложнее сострадать несчастной жертве общественного лицемерия. Как-то сразу в голову приходит, что наверняка можно было ребенка отдать на воспитание, найти бесплатный приют. Но женщина той эпохи была беспомощна и безответственна, она брела по жизни, словно сомнамбула.
Интересно, что у Булгакова Фрида присутствует на Балу Сатаны - то есть она мертва. Но на самом деле печальные приключения швейцарской преступницы относились к периоду, когда она сама была еще практически ребенком, так что, с большой вероятностью, Фрида Келлер намного пережила и Августа Фореля, и Михаила Булгакова. И никогда не узнала о писателе, который, убив ее раньше срока, подарил ей такую яркую посмертную судьбу.
Но и самому профессору не суждено было узнать, какой странной окажется судьба «Полового вопроса» в России. На долгие годы эта книга осталась единственной в своем роде. (В 20-е годы выходило много сочинений, посвященных половым отношениям нового коммунистического человека. Но они издавались малыми тиражами и быстро оседали на дне спецхранов.) Сей объемный труд весьма ценили букинисты. В домашних библиотеках он занимал почетное место. Гости часто одалживали его у хозяев почитать. Однако же популярность старинной книги носила особый характер.
В труде швейцарского ученого искали не прогрессивные социальные теории, а прямо вот так - не на заборе, а типографским шрифтом на бумаге - напечатанные неприличные слова. Вероятно, профессор иначе представлял себе грядущее разумное общество.
На внутреннем фронте без перемен
По страницам советской прессы 1920-х
«Буревестник», № 3, 1924
Выходной день
Услышав звонок, Варвара Павловна Таманцева, очаровательная женщина, имевшая в своем распоряжении чудную квартирку и незастрахованную домашнюю работницу Лушу, поспешила открыть дверь. Эту незатейливую работу пришлось выполнить потому, что Луша была послана с поручениями на весь вечер.
Открыв дверь, Варвара Павловна замерла на месте. Перед ней стоял неизвестный товарищ в кожаной куртке с каким-то замочком на груди. В руках неизвестного был портфель. Варвара Павловна сообразила все в одну секунду… Да, да, безусловно, он! Обследователь жизни прислуг! Об этом теперь много пишут и говорят… За эксплуатацию прислуги штрафуют, арестовывают, высылают… А Луша не застрахована! О, боже!
Варвара Павловна учла все это сразу, и гениальный план проник в ее белокурую головку. Она непринужденно вставила наманикюренный палец в ноздрю и нараспев спросила:
- Вам кого, барыню? Ей нет!
Гражданин удивленно взглянул на двухкаратное кольцо, украшавшее ковыряющий палец, и сказал:
- А вы, гражданочка, кем здесь будете?
- Мы - прислуги, - заявила Варвара Павловна, меняя ноздрю:
- Завсегда в них состояли на страже интересов, и не надо нам монахов, и не надо нам попов!
Фраза произвела на товарища хорошее впечатление. Он с любопытством взглянул на кротовую жакетку, прикрывавшую белые плечи Варвары Павловны. А она, уже увлекшись своей ролью, продолжала:
- Ох, какая у меня барыня! Прямо не поверите, прямо политкаторжанка душой! Вот заместо прозодежды - жакетку выдала мне… А работы у меня - час в сутки… Ничего барыня мне делать не позволяет… Все говорит, что от работы маникюр на мозолистых руках портится… И притом, какая она антирелигиозная! Бога - чертыхает всегда! Ей бы в Женотделе при Наркоминделе делегаткой быть, а не то, что так! Вот какая у меня барыня, тов. обследователь!
При последнем слове гражданин самодовольно улыбнулся и положил руку в карман. Увидев этот жест, Варвара Павловна засуетилась еще больше…
- Так что, тов. гражданин-обследователь, вы уж все запишите! И что жалованья я получаю по индивидуальному бону на культпросвет 100 рублей ежемесячно, и что в Ялте я в этом году со всеми прочими трударями все лето жила, и что барыня моя вполне безусловная кандидатка по образу мыслей и прочее…
Но тут гражданин вдруг взглянул на чудную обстановку гостиной и громовым басом заорал:
- Эксплуатируют тебя здесь, домработница. Хозяйка ваша - гиена! Вы - несознательны. Вам глаза деньгами и Ялтой закрывают, а свободы у вас нет!
Варвара Павловна побледнела… Хотелось угостить товарища вином, привезенным с юга шоколадом, словом, чем угодно, лишь бы он не оштрафовал хозяйки, чудной, щедрой, безбожной, отзывчивой и лояльной… А гражданин продолжал:
- Да, свобода твоя заперта в эти комнаты, и нет у тебя выходного дня, как нет солнца в темнице!
- Выходного дня нет? - возмутилась Варвара Павловна, - да у меня десять выходных дней в неделю, не считая октябрьских праздников и 1 мая. Моя барыня меня всегда для охраны труда и материнства гулять высылает.
- Не верю! - прогремел гражданин. - Докажи, что ты трудовая дочь, а не приспешница!
- Выходи сейчас гулять! Небось, слабо? Трусишь, да?
- Я? Нисколько!… - И, надев манто, Варвара Павловна вышла с неизвестным на улицу. Прощаясь на улице, добрый товарищ говорил:
- Вот что, дорогая! Я буду следить за тобой! Раньше десяти не возвращайся, а то я пойму, что ты с капиталом заодно! Пойди в домпросвет на лекцию и запишись в друзья радио! Это вашей сестре необходимо!
Возвращаясь поздно вечером домой, усталая от новых впечатлений, Варвара Павловна заметила три вещи: взломанную дверь, почти пустую квартиру и записку, приколотую к люстре. На записке было:
«Уваж. гр. Может, я виноват, но вы абсолютно политнеграмотны. Я на арапа звонил, а увидел вас, думал - засыпался. Но от вас идейная мысль исходила, и я воспользовался. Звиняюсь. Уважаемый вас (подпись неразборчива)».
М. Коварский
«Будь жив!», № 2, 1925
Хихинька (Такие бывают)
Есть разные, понимаете, комсомолки в нашем комсомольском кружке. Скажем, есть такая, которая не столько на слова руковода внимание обращает, сколько на нос его. Ежели на его носу угорь большой сидит, значит, прямое ей удовольствие! Нос, мол, у руковода не простой, а с угрем, как же не посмеяться! Еще скажем, когда руковод лекции свои читает, то привычку имеет пальцы растопыривать во все стороны - значит, подхихикнуть, да подфыркнуть можно. Чего, скажем, в пальцах руковода смешного, ан нет, смешно, потому такая комсомолочка и подфыркнуть над ними не прочь.
Волосы всегда у Хихиньки завитые, щипцы каждый день у соседки одолжает, и по бокам пейсы, мода такая. А что хорошего в этих пейсах? В весеннее время, когда солнце зашпаривает - пот на пейсах скопляется, и по лицу течет, грязными струями льется. В кармане у ней завсегда коробочка с пудрой, и ходит она на кружок не иначе, как с галстуком-бабочкой.
Записки любит писать. Карандаш у ней (специально для любовных записок) - маленький огрызочек, такой замусоленный, и когда записку с вопросом пишет, то завсегда каракули наляпывает…
И однажды узнал я, что Хихинька прямо-таки «вумная, как вутка». Прочитал руковод лекцию по комсомольской этике и спрашивает: «Ежели у кого из Вас есть ко мне вопросы, то задавайте!»
Которые настоящие комсомолки, те вслух задали вопросы, а которые потрусливее вроде Хихиньки, так те на записках. Ответил руковод на вопросы, не вспотел и не покраснел даже, а тут, как ему записку подали, и как вот одну развернул и прочел, то прямо вопрос в краску его вогнал, а ежели он, знаете, никогда не краснел до сих пор. А накарякано было:
«У Вас, товарищ лектор, нос очень большой, а потом еще угорь на нем большой сидит, ответьте, почему Вы не моете лицо дегтярным мылом?»
Его аж всего в испуг бросило. Каково на такой вопрос ответ дать! Прямо парень в бутылку залез. Ежели, говорит, еще такие записки писать будут, так впрямь иди к парикмахеру, и угорь сбрить дай. Сконфузился парень. А Хихинька уже по всей фабрике раззвонила, как у руковода большой нос с угрем.
Всех Хихинек со всей фабрики собрать хочет…
Юнкор Жало
«Смехач», № 15, 1924
Детские письма (Материалы для истории)
1914 г.
Дорогое «Задушевное Слово»!
Мне восемь лет, у меня есть собачка Тобик и кошечка Мурка. Есть ли у кого-нибудь тоже собачка Тобик и кошечка Мурка?
Больше всего мне нравятся повести Чарской.
Кроме того, я получил на именины заводной автомобиль, у которого колесо совершенно отскочило. Отскочило ли еще у кого-нибудь из подписчиков колесо?
Царевококшайск, Петя Прянишников, 8-ми лет
Милая Танюша Кобызева!
Я очень рада познакомиться с тобой и вести переписку через наш журнал «Задушевное Слово». Меня зовут Лялей. Мне 9 лет и я занимаюсь с гувернанткой, m-lle Грюо.
Я много читаю, шью для куклы и люблю фисташковое мороженое.
Так же придумываю стишки. Посылаю тебе в альбом:
Будь всегда мила, прекрасна И послушна уж всегда, Вот тогда тебя полюбят Уж наверное навсегда Нравятся ли тебе мои стишки?Великие Луки, Леля Огурцова, 9-ти лет
1924 г.
В юные пионеры. Очень нужно.
Сапчаю, товарищи, что мамка у меня, будучи кулацкий элемент, торгует барахлом на рынки, я ей толкую, но без последствий, а кроме всего дергает за ухи, с чем я конечно не согласен и прошу принять меня в юные пионеры, как Ваньку и Аришку. Всегда готов!
Ленинград.
Писал Егор Сипунов. Ленинец.
В деревню Кузьмиху.
Колька! Зачем ты уехал в деревню? У нас шибко весело, и я пел. «Эй, буржуй, ставай с постели, открывай пошире двери. Во! И больше ничего». Умеют ли эту песню ребята в деревни? Напиши.
У нас народилась девченка, оченно махонькая. Вчера октябрили в клуби Нарсвязи, так что я теперь обязан поддерживать сестру Нинелу, для борьбы с капитализма твердой мозолистой рукой. Обязательно приезжай к осени в нашу школу.
Свердловск.
Твой пионер Иван Ступкин
В редакцию «Известий» (№ 167 от 24 июля)
Сегодня в 3 часа дня в сквере храма Христа Спасителя был избит мальчик сторожем сквера, так что палка сломалась, конец палки у мамы его.
Москва, Настя, Соня
Собрал Ив. Пр.
О мальчике в трусиках и мальчике в штанах
Солнце… Солнце… Солнце… Полная нагрузка летом, Никаких сверхурочных, а работа - за совесть! Послушайте, согретые солнечным светом, Простую и краткую советскую повесть - О солнце августа, о живых временах, О мальчике в трусиках и мальчике в штанах. По пыльной дороге, за рядом - ряд, Ловя улыбку и хмурый взгляд, Голые ноги И зычный рог - Тысячи ног, Юнец на юнце, при юнце старшем Проходят стремительным маршем От солнца смуглы, от пыли серы Пионеры! Прямо по мостовой, отливая бронзою шей, В трусиках синих - ватага голышей! А рядом, на краю панели, Где сгрудилась на момент человечья случайная каша, Остановился прохожий Нэп, Весь - ужас, тоска и одышка; Справа - папаша, слева - мамаша, А посередине - сынишка. Папе не нравится, мама кипятится: «Как же это - в столице, среди бела дня - Толпа голышей? И что за зверские лица? И что бы сказала на все заграница? Федя, не ерзай, держись за меня!» Покамест, оглохши от детского гама, Папаша с мамашей прятали «Ах», - Под солнцем полудня надвинулась драма: Мальчика в трусиках увидел мальчик в штанах. Среди прочего голоштанного народа Товарищ Петька, папиросник в отставке, А ныне пионер шестого взвода! Голова - вихрастая редька, Глазишки сверкают лучисто… Узнал, кивнул, улыбнулся: «Катись к нам, Федька!» И на месте Федькином чисто. Как ни искали папа и мама, Не нашли белоштанного Феди - Исчез, смылся, превратился в прах… Но шагали вместе, под гром оглушительной меди, Мальчик в трусиках и мальчик в штанах!…Александр Флит
«Смехач», № 20, 1924
Дедушка и внучек
- Дедушка, а дедушка!
- Слышу, детка, чего тебе?
- В твоем шкафу старую газету нашел, стал читать. Да не все понял.
- Например?
- А что это, дедушка, «нэпачи» - дикие? Людоеды?
- Вроде… из рабочего человека соки вытягивали.
- Где же была милиция? И как они нападали? Шайками? Они, наверное, были татуированы, с кольцами в ноздрях и перьями в волосах, как на картинках? Дедушка, чего ты смеешься?
- Да милиция смотрела, все кому следовало смотрели, высылали их подальше…
- На их родину? В дикие места? В прерии?
- Да, да… были они круглые, жирные, в кольцах на всех пальцах… Да, шайка была большая.
- А перья на голове были?
- У женщин на шляпах.
- Страусовые?
- И страусовые.
- Дедушка, а почему они любят танцы «шимми» и «фокс-трот»? Это танцы диких, да? Дедушка, а что это такое «буржуазная сволочь»?
- Это вымершая порода людей. Разве только в самых диких уголках, в непроходимых лесах и болотах встречаются отдельные экземпляры. В этнографическом музее можешь увидеть мумию этой сволочи…
- Дедушка, она не может ожить?
- Нет, детка, она засохла. Да пусть оживет: теперь она не страшна.
- А что такое «сокращение штатов»? Это в Америке? Дедуся… деду… задремал! Дедушка-а!
- Что?! А?!
- Задремал ты, а я тебя за колено тронул.
- Спасибо, внучек, что разбудил: снилась всякая дрянь. Романовы, Распутин, Ллойд Джордж, Пуанкаре, Керенский…
- Дедушка, а что это такое?
- Завтра, внучек. Завтра, сейчас спать пора.
Исидор Гуревич
Сын Ротшильда (Провинциальная трагедия)
Папаша Эпштейна - кустарь-одиночка. Имел часовой магазин. Был скромен, был ласков, был беден и - точка. Семейство Эпштейна - жена, сын и дочка. Имущество - пара перин. По улицам стыли зеленые лужи. Тащились унылые дни. Мамаша заботливо стряпала ужин. Папаша за стойкой сморкался, простужен, Вдыхая букеты стряпни. Иосиф Эпштейн, сын Эпштейна Арона, Курчавый, в веснушках, семнадцати лет, Решил, что довольно будильников звона; Настроившись в общем весьма непреклонно, В столицу взял в «жестком» билет. Рыдали: папаша, мамаша и дочка, Слезой поливали дощатый перрон. - Не бойся, Иосиф: «кустарь-одиночка» Для вузной анкеты - похвальная строчка И лучше, чем, скажем… барон!… Бом! Бомм!! - Хорошо ли ты спрятал десятки? - Фуфайку, фуфайку в дороге надень! Поплыли: платформа, папаша «в крылатке», Газетный киоск, две цветочные грядки И новый, пленительный день. Сентябрь золотистый глядел в спину лету, Прохладные утра льнули к зиме. Иосиф заполнил со вздохом анкету, И, щурясь навстречу осеннему свету, По вузовским плитам шагал в полутьме. Глупость ли? Случай?… Но жертвою строчки Пал юный Эпштейн, нерасцветший талант. Не всякого мама рожает в сорочке: В графе «род занятий» на хитром листочке; Забыв благодать «кустаря-одиночки», Махнул… «часовой фабрикант»! Ужели же правда? И нет ли описки?? Ведь сердце вступило с надеждой в союз! Сказал председатель: «Забыли о чистке? Если включать нам заводчиков в списки, сам Ротшильд попросится в Вуз!… Рыдали: папаша, мамаша и дочка, Слезой поливали дощатый перрон. Ты плачешь, Иосиф: «кустарь-одиночка» Для вузной анкеты - похвальная строчка. И лучше, чем, скажем… барон!…Александр Флит
«Буревестник», № 1-2, 1925
Спренжинер и его метод
Это было очень давно… Случайно пришлось мне посетить Одессу… Все показалось мне в этом городе интересным! Но самым интересным был, безусловно, Спренжинер.
Я стоял на перекрестке двух лучших одесских улиц, и характерный гортанный шум бурного городского котла окружал меня. И вдруг какой-то писклявый тенорок донесся до моего слуха:
- Что? Вы не знаете старинной фирмы Балагулова и Ко?
Тогда, простите, мне даже неловко! Я хотел бы иметь столько копеек за всю свою жизнь, сколько пуговиц пришивается этой солидной фирмой каждую минуту к выделываемым ими рубашкам.
Принц Монакский страдает бессонницей, когда он спит не в рубашке Балагулова и Ко! А если вы подумаете сравнить эти многоуважаемые рубашки с рубашками какого-нибудь голоштанника Шевелева, то вы увидите, что это за разница, которую ни один рак никогда не съест! Что может быть мечтательнее фирмы Балагулов и Ко, Арнаутская, 6, второй этаж!?
Человек, хваливший фирму Балагулова, усиленно размахивал руками. В его тоне сквозила дикая уверенность в своей правоте. Правда, он говорил об этих рубашках более экспансивно, чем требует обыкновенное удовлетворение бельем, но я не знал Одессы и потому послушался убедительного оратора. В тот же день я купил комплект белья у фирмы Балагулов и Ко…
На завтра довелось мне опять побывать на том же углу, где горячился писклявый тенорок… Кругом было страшно шумно, но через весь шум и гам я услышал нотки знакомого голоса. С непередаваемой страстностью голос этот скрипел:
- Ребенок вы! Разве обязательно нужно быть одесситом, чтобы знать лучший магазин белья Якова Шевелева? Разве в Африке каждый слон не знает Шевелева? Всякое тело, которое купается, минимум, раз в три месяца, должно изъявить горячий протест, если его не облачают в рубашки Шевелева - Симферопольская, 8, вход со двора… А говорить про этого прощелыгу Балагулова, когда жив еще Шевелев, - это то же самое, что мазать хлеб гуталином, вместо красной икры!!!
Я был ошеломлен! Я знал, что вкусы у людей меняются, но не в течение суток… В конце концов, я сам стал жертвой отвратительного Балагулова. Вчерашняя сорочка жгла мое тело, а внутренний голос шептал мне: «Иди немедленно к Шевелеву, а Балагуловскую дрянь выброси в Лиман…»
Но я не пошел к Шевелеву, а обратился к писклявому тенорку:
- Слушайте! Что все это значит? Вы орете каждый день другое, вы смущаете приезжих, вы возбуждаете одну часть населения против другой, черт вас возьми!
- Очень приятно. Спренжинер, Шалашная, 3, - ответил мне крикун.
- Что все это значит?
- Вот что: рубашки Балагулова я буду хвалить до тех пор, пока Балагулов дает мне возможность иметь хоть одну собственную рубашку. А когда вчера вечером он мне сказал, что рубль в день за рекламу - это бешено много, так рубашки Шевелева моментально улучшаются… Aх, что говорить! Вы думаете, все рождаются в сорочках? А у меня тоже дети, которые больше любят хлеб, чем халву, только потому, что халву они еще вообще ни разу не ели! Своя рубашка ближе к телу, - закончил он и убежал…
Через минуту я слышал опять, но уже с другого угла:
- Что? Вы не знаете Шевелева? и т. д.
Впрочем, почему это я вспомнил вдруг Спренжинера? Вот почему: вчера, гуляя по улицам красной Москвы, я увидел такие плакаты:
- Нет свежих продуктов, кроме как в Моссельпроме!
- Где свежие яйца и масло? Только в Трудсоюзе!
- Пейте одни вина Винторга!
- Самые натуральные вина - лишь в Винсиндикате!
- Требуйте всюду лучшие табаки - Укртабактреста!
Н. Рогов
«Смехач», № 15, 1925
Манифест 17-го октября (По различным воспоминаниям)
I. Воспоминания коммуниста
1) Шрам во всю голову. У Казанского драгун шашкою хватил, когда, значит, товарищам со скамейки объяснял, что не надо верить царской сволочи, потому надует и что манифест - тьфу! Сами возьмем, что надо.
2) Поражение в легких. Доктор говорит: «От Сибири это, от ссылки. От худосочия и от плохого питания». Действительно, в ссылке почти что ничего не ели. Худо было.
3) Бронхит. Не очень, чтобы сильный. Это когда бежал. Простудился. Отмороженные пальцы не в счет, конечно.
4) Ревматизм. От «централов». Паршивые они и совсем сырые.
5) Ну, сердце там…
Впрочем, все это пустяки. Маленькие недостатки личного организма. Была бы здорова пролетарская революция. А она ничего. Крепко сделана. Всех переживет.
II. Воспоминания нэпмана
Когда вышел манифест и все закричали, что свобода, я сразу сказал жене своей:
- Муся! Нельзя упустить случая. На этой свободе надо что-нибудь заработать.
Это теперь я такой замухрышка, торгую фруктами вразнос, и милиционер гонит меня с места на место…
Тогда я имел свой собственный автомобиль, а в банках я был первое лицо.
И что вы думаете? Так и вышло.
На манифесте заработал. На Государственной Думе заработал. На роспуске Думы заработал. На «выборгском воззвании» заработал. На ленских расстрелах заработал. На войне заработал, На «Феврале» заработал. Когда пришел большевистский «Октябрь», я опять сказал жене:
- Вот увидишь, Женя (с Мусей я уже тогда разошелся), что я тут заработаю, как следует.
И что же вы думаете? Заработал… пять лет со строгой изоляцией.
Есть, оказывается, Октябрь и Октябрь…
III. Воспоминания младшего дворника
Двадцать лет прошло. В этот день, помню, пригласил меня его высокопревосходительство в кабинет и сказал:
- Поздравляю вас: вы назначаетесь товарищем министра.
Новые веяния… Нужны молодые силы. Вы, кажется, из либералов?
- Для видимости, ваше высокопревосходительство. Дурака валяю…
Министр рассмеялся.
- Такие нам и нужны, чтобы дурака валяли. Весь манифест - валяние дурака…
До самой революции валял дурака. Потом меня самого стали валять…
Ну, ничего. Слава богу, жив и место имею. Жильцы хорошие, на чай дают. Хлеба вдоволь, и комната полагается. Мои товарищи за границей здорово позавидовали бы…
В. К.
«Смехач», № 19, 1925
Гусь и секретарь
Я к теме гусиной пробрался тайком, В руках очутилась добыча. Попались случайно мне: волисполком, Пал Палыч, гусиный обычай, Победа идеи и стойкость в грехах - Дозвольте, читатель, поведать в стихах. Село. Волсовет. Тишина. У окошка - стул. Секретарь. И «Безбожник» в руке. Жена - секретарша, веселая Стешка, гуся притащила в мешке. Пал Палыч - идейный и против мещанства: - Гусь? Рождество? Это что за режим?! - Я-те дам за гуся! Предрассудок! Дурманство!! А гусь на столе недвижим. Сутки рыдала в избе секретарша, Всей горечи давши исход, Но шагом победным Буденного марша Гусь выступил с мужем в поход. Агент Сельсоюза - парнишка толковый: Глянул под перья: товар - первый сорт: И гусь секретарский был взят за целковый И двинут в советский экспорт. Склады… Вагоны… Порты… Перегрузки - пути описать не берусь. Но прибыл в Италию истинно русский Откормленный, праздничный гусь. Покамест кончалась гусиная повесть Под небом Милана в обеденный час, Пал Палыч на праздниках выпил на совесть В борьбе с самогоном госспиртный запас. Не счесть стоеросов в Советском Союзе: Идейно Пал Палыч был ангельски чист, Но, в силу подобных нелепых иллюзий, Гуся из Булаковки слопал… фашист!Александр Флит
«Будь жив!», № 10, 1925
«Ночь. Луна. Он и она»…
Если раньше парень, встретившись с девушкой, вел с ней разговор о луне и звездах, заканчивая обычно поцелуями в укромных местах, то они теперь уже говорят о новостях дня, о работе различных комиссий и т. п.
Ст. Деповка, Ю.-З. Рабкор «Рожок»
Итак, пускай круглится мелкобуржуазная луна и верещат кузнечики, - Серега Пазухин на них - нуль внимания, килограмм презрения. Серега Пазухин деловито смотрит на стрелки часов, поблескивающие под лунными лучами, и размышляет;
- Чорт! Баба - баба и есть. Сказала: ровно в 10 на скамье у забора. А теперь уже четверть одиннадцатого. Вот возьму - встану и уйду.
Серега Пазухин прячет часы и устраивается плотнее на скамье. О чем думать? Чем заполнить тягостное ожидание? Но вот за кустами хрустнул песок, вот мелькнуло белое пятно.
- Танюша!
Серега Пазухин срывается с места готовый бежать навстречу, но остается стоять и вынимает часы.
Еще несколько секунд (секунд ли? они почему-то ужасно длинные) - и Танюша Скворцова, радостная, в белом платье и красной косынке, улыбающаяся, стоит рядом.
- Вот и я!
- Вот и вы! - говорит Серега, приближая часы к ее лицу:
- 17 с половиной минут опоздания, товарищ Скворцова. Нужно приходить аккуратно к началу. Объявлено, кажется, ровно в десять?
Танюша заливчато рассыпается смехом. Ах, чорт дери, что это за странный глубокий грудной смех! Ужасно действует на нервы делового человека…
- Вам все - смешки! - ворчит Серега, пряча часы. - А между прочим, у женщин особенно опоздания и неявка входят в систему дня. Возьмем, например, вчерашнее собрание ячейки… Чего вы, между прочим, стоите? Садитесь, товарищ Скворцова.
Оба товарища садятся на скамью. О, нет! Не рядом - места много: она - на освещенном конце, он в тени.
- Так вот, возьмем вчерашнее собрание… - продолжает Серега. - Кого нет? Смагиной, Ивановой, Егорушкиной и, конечно, само собой понятно, Скворцовой… А собрание, между прочим, важное…
- Я, кажется, привела уважительные причины… - певучим голосом говорит Танюша Скворцова и смотрит прямо на разъясненную луну.
Ах, что за странный свет на лице! Как изумительно горят глаза!… И почему такой певучий голос? Как будто нельзя говорить просто, как все.
- Ерунда - ваши уважительные причины, - храбрится Серега:
- Отговорки! Женская отсталость и больше ничего… Я, собственно, позвал вас, чтобы как раз информировать о вчерашнем собрании, по вопросу о…
Он косится на Танюшу, мечтательно обращенную лицом к луне.
- Что вы все смотрите на луну?
- Ничего. Я вас слушаю, товарищ.
- Женская манера! Нельзя сразу два дела делать: или луна, или… текущие вопросы… Оторвитесь, пожалуйста, от луны!
- Ах, она такая чудная… Смотрите - и нос, и глаза… Как будто даже улыбается…
- Предлагаю немедленно отодвинуться в тень. Луна, между прочим, не включена в повестку и нечего на ней задерживаться… Луна как луна…
Танюша покорно передвигается в тень, и теперь она сидит - рукой подать от Сереги. Теперь лица не видно, но зато ужасно близко оказалась полная белая рука и - что это? Паутина коснулась его щеки? Нет, не паутина, ей-богу! Вероятно, волосы выбились из-под косынки… Не могут, ей-богу, коротко стричься!… Вот возьму и встану…
Пока Серега обдумывает создавшееся положение, где-то совсем близко заворочалась и начинает петь пичужка.
- Перехожу к информации по вопросу о хозобрастании… - решительно говорит Серега и сейчас же чувствует, как мягкая ладонь зажала ему рот.
- Тсс… тише, товарищ, - шепчет Танюша. - Соловей… Слышите?
Серега хочет вскочить, хочет крикнуть, что на обрастание, и что соловей лишен права голоса.
Но рука - она все еще на губах, она почему-то словно прилипла к его губам… Он молчит, боясь шевельнуться.
Только бы не послышался над ухом голос:
- Товарищи! На скамье просторно, а вы жметесь. Это ж не гигиенично.
Ив. Прутков
Красная Шапочка (Сказочка)
Жила- была на свете Красная Шапочка. И жил-был на свете волк. Волк был матерый, все время матерился. И хоть говорят, что волки огня боятся, только этот волк не боялся: чуть завидит вдали огонек пивнушки, так туда из своей волчьей ямы и попрется… А в пивнушке волку раздолье: сидит он там, зубы на всех скалит, бутылочками по головкам гладит и волчью натуру свою, знай, показывает.
Однажды собралась Красная Шапочка погулять… Идет себе, идет, наганчик в кобурке придерживает, штрафы с кого следует взимает, а солнышко на запад укатывается. Посмотрела Красная Шапочка вокруг и видит, что ночь настает… Ночь темная, хоть глазa выколи. И слышит вдруг Красная Шапочка здоровенное храпение под забором. А храпел-то волк.
- Эй, кто там? - спросила Красная Шапочка.
- А тебе на что? - рыгнул волк. - Здесь, мать твою, чертова бабушка лежит!
- Удивительно, - подумала Красная Шапочка. - Бабушка, а отчего у тебя уши длинные?
- Чтобы лучше слышать, где мильтон обретается, - ответил волк.
- Бабушка, отчего у тебя нос такой большой?
- Чтобы чувствовать, где мокрым делом пахнет!
- А глаза, бабушка, почему у тебя такие большие?
- Это они на чужую собственность расширяются!
- А руки? Какие здоровенные лапищи! Зачем тебе?
- Эт-та, чтобы, в случае чего, в ряжку кого кастетом звездануть!
- А рот, бабушка, какой громадный рот! - удивилась Красная Шапочка.
- Чтоб тебя слопать! - рявкнул волк.
И действительно, захотелось волку Красную Шапочку слопать. Правда, не слопал он, потому что свисток у Красной Шапочки был, и она свистать здорово начала.
Только хоть и не слопал волк Красную Шапочку, зато и его никто не тронул. Убежал волк, хвост поджав, невредимым в свою волчью яму…
Вот и все… Сказочке тут и конец… Жалко только, что волку конца нет и неизвестно, когда будет! Уж очень Красная Шапочка любопытна, уж больно много волка она расспрашивает и с волком разговаривает… А пора бы ей, восьмилетней Красной Шапочке, знать, что бабушки пьяными под забором не валяются, что бабушки поздно вечером дома в кроватках лежат, и что в каждой сказочке есть мораль…
А мораль - вот она:
С волками жить - по-волчьи выть.
М. К-ий
Публикацию подготовил Евгений Клименко
Семен Чарный Банду Троцкого под суд!
Неудачная инсценировка революционной законности
Все читавшие Булгакова помнят яркий эпизод ограбления домовладельца Василисы бандитами, выдающими себя за военных, пришедших с обыском. Возможно, что источником для этого эпизода послужили рассказы киевских знакомых писателя. Но, может быть, описывая обыск-ограбление, Булгаков опирался на рассказ о прогремевшем в начале 1920 года в Москве деле «Секретного отряда особого назначения имени Троцкого и МЧК».
Банда
Вся эта история началась летом 1919 года, когда 23-летний Вильгельм Патковский поступил добровольцем в одну из самых экзотических частей того времени - Тяжелую артиллерию особого назначения (ТАОН), базировавшуюся в Москве, на должность чертежника. Позже, когда в ТАОНе было образовано политическое управление, Патковский, как человек деятельный и образованный, получил новое назначение - он стал «состоящим для особых поручений при комиссаре». Поскольку в боях часть практически не участвовала, то красноармейцы откровенно сидели без дела. Для того чтобы хоть чем-то занять их, при ТАОНе был создан Красноармейский клуб. В клубе среди прочих развлечений был и свой театр-студия. Студию возглавил бывший актер Малого театра 30-летний Б. Васильев, носивший одновременно звучное звание «секретаря Совета народных комиссаров Украины». Видимо, ему первому пришла в голову мысль о возможности проведения ограблений под видом обысков, благо весь необходимый реквизит был под рукой.
Однако самое первое ограбление случилось спонтанно, и его случайным виновником оказался именно Патковский. Он часто приходил в театр на репетиции, поскольку там работала его невеста, и потому хорошо знал Васильева и его друзей. 6 декабря 1919 года в один из его приходов собравшаяся небольшая теплая компания решила развлечься традиционным русским способом - выпивкой. Поскольку тогда был сухой закон, то уже в этот момент они становились преступниками. Впрочем, подобное происходило настолько часто, что до суда дела о пьянстве доходили лишь в том случае, если кому-то сильно хотелось уничтожить конкретного человека.
Итак, появилась первая бутылка разведенного спирта. За ней последовала вторая, принесенная политруком стоявшего рядом 5-го драгунского полка. Дальнейшее проще описать словами самого Патковского: «Когда все были достаточно хмельные, кто-то начал употреблять наркоз, кокаин, и предложил попробовать мне. Достаточно охмелев и не отдавая себе ни в чем отчета, я заинтересовался наркозом и понюхал в первый раз кокаин. Смутно помню, что в дальнейшем спрашивали, где можно найти алкоголь, и я указал на доктора Левина». Видимо, доктор занимался нелегальной продажей спирта для «немедицинских нужд». Поскольку денег у доблестных красноармейцев к этому моменту уже не оставалось, то высказанная Васильевым идея забрать спирт под видом обыска была принята на ура.
Этот поход и привел к образованию банды, взявшей себе звучное название «Секретный отряд особого назначения имени Троцкого и МЧК». Обыск у Левина прошел без сучка и задоринки, а «чекисты» изъяли не только спирт, но и золото, которое доктор отдал под угрозой ареста. Жаловаться он, как в дальнейшем и другие ограбленные, не хотел, поскольку бандиты выбирали своих жертв из числа лиц, бывших не в ладах с законом, и меньше всего хотевших, чтобы их деятельность оказалась в сфере внимания советской юстиции, а название «отряда» звучало для того периода весьма правдоподобно.
Правой рукой Васильева стал 21-летний Александр Берестецкий, работавший в ТАОНе механиком-водителем. Кроме них в банду вошли около 10 человек, в основном молодежь в возрасте 18-25 лет, - красноармейцы, артисты, студенты. На «обысках» роль комиссара играли попеременно Васильев и Берестецкий. Всего за три с небольшим месяца банда успела ограбить таким образом пять квартир. Впрочем, возможно, что псевдообысков было и больше - следствие по этому делу шло очень быстро, и о чем-то подсудимые могли и умолчать. Помимо грабежей члены «отряда имени Троцкого» занимались и банальным жульничеством. Так, Берестецкий, вместе с 18-летним З. Б. Зельвенским, сговорившись с московскими спекулянтами о продаже 3,5 пудов бензина, вместо этого подсунули им воду, став таким образом предшественниками многочисленной плеяды советских и постсоветских жуликов, сделавших себе на этом состояние.
Руководство ТАОНа как минимум знало о ситуации в части и существовании банды, но ничего не предпринимало, поскольку у военкома Симановича у самого рыльце было в пуху. Будучи в 1919 году на Украине для заготовки фуража и лошадей для ТАОНа, он привез оттуда 500 000 рублей, то ли полученных в качестве взяток, то ли просто присвоенных им в Екатеринославле. Привезенные деньги Симанович отдал на хранение… Берестецкому. Возможно даже, что военком получал от бандитов часть добычи, а сам выступал в роли наводчика.
Суд
Зимой 1919-1920 гг. по Москве поползли слухи о банде чекистов, грабящих состоятельных людей. Довольно быстро эти слухи дошли до МЧК, где было решено провести собственное расследование - не потому, что чекисты так уж любили ограбляемых «буржуев», а потому, что подобные слухи говорили о возможном неповиновении сотрудников МЧК начальству, запретившему подобные «самочинные обыски». В марте 1920 года с помощью своей агентуры в преступном мире чекисты вышли на «отряд», буквально накануне совершения им нового, шестого по счету налета. Всего было арестовано 12 человек, в том числе Симанович и Патковский, который к тому моменту уже успел уйти из ТАОНа, потребовав от «друзей», чтобы они прекратили свою деятельность, продвинуться по службе в МЧК и даже жениться за два дня до ареста. Следствие было быстрым, и уже 1-2 апреля в Москве состоялся суд… Ничего хорошего подсудимым он не обещал. Это можно было понять даже по составу трибунала. Председательствовал там Василий Васильевич Ульрих, ставший печально известным в 1930-х, когда под его руководством один за другим штамповались приговоры «врагам народа».
И действительно - приговор был суровым. Васильев и Берестецкий были приговорены к расстрелу (притом, что еще оставался месяц до официального восстановления смертной казни в стране). Кроме бандитизма и афер с бензином им был также поставлен в вину, говоря современным языком, «черный пиар»: «[Их действиями] подрывался авторитет советской власти, давался повод к нареканиям граждан города Москвы по отношению к способам проведения обыска органами розыска и следствия», - говорилось в приговоре. Досталось также и Симановичу. Здесь проявился стиль, который пышным цветом расцветет в 1930-е на больших процессах. «Симанович, будучи старым и ответственным коммунистом, кладет пятно на коммунистическую партию пролетариата», - патетически объявил Ульрих и приговорил 27-летнего военкома к тяжелым принудительным работам бессрочно. Еще двое участников банды получили 15 лет лагерей, остальные отделались 5-10 годами. И наконец двое были оправданы за недоказанностью. Мать Берестецкого пыталась спасти сына, представив в суд заключение психиатра о его периодической невменяемости. Однако трибунал отклонил ходатайство об отсрочке расстрела и проведении экспертизы под тем предлогом, что диагноз-де был установлен в 1918-м, и в нем нет никаких указаний на вменяемость или невменяемость подсудимого в момент совершения преступления, хотя никаких подобных указаний в диагнозе не могло быть по определению.
Улыбка судьбы?
Осенью 1920-го большевики, стремясь разгрузить тюрьмы, объявили амнистию. Патковский, отбывавший наказание в Андрониковском лагере (в одноименном монастыре) в Москве, в должности агента по техническому оборудованию, 13 октября 1920 года направил в Кассационный отдел Верховного трибунала РСФСР просьбу амнистировать его. Он писал, что в обыске у Левина никакого участия не принимал, «будучи одурманенным ушел домой и о том, что там случилось, узнал только на суде». Еще один «обыск», по его словам, Патковский сорвал тем, что, посреди дороги узнав, что идут «на дело», упал в обморок, и соучастникам пришлось нести его обратно в ТАОН.
Последняя фраза письма звучала так: «В упорной работе в лагере я стараюсь загладить свои нравственные мучения от пережитого позора и прошу освободить меня как невиновного». К делу были приложены характеристики от лагерного начальства, писавшего о необходимости поощрить заключенного за отлично выполняемую работу, и от бывших сослуживцев Патковского по МЧК, отмечавших, что он был исключительно положительный человек.
Положительные характеристики, видимо, оказали нужное воздействие на судей, и потому ответ Верхтриба был положительный. 5 января 1921 года начальнику Андрониковского лагеря пришло письмо следующего содержания: «Отдел судонадзора просит сообщить заключенному Патковскому Вильгельму о том, что срок заключения ему сокращен до 3 лет». Впрочем, несмотря на подобную улыбку судьбы, в дальнейшем фортуна явно не благоволила экс-чекисту. В 1930-х он был сослан в Минусинск. Когда же начался Большой террор, Патковский оказался в списке тех, кто был осужден местной «двойкой» (районные партийный босс и начальник НКВД), и 2 августа 1938 года был расстрелян в Минусинске.
По материалам ГАРФ
Ярослав Леонтьев Буйные шиши
Махновцы смутного времени. Часть вторая
Сделав выбор в пользу авантюры Лжедмитрия II, Лисовский был повышен в чинах, став тушинским полковником. Сначала он жестоко подавил попытку восстания в Суздале, затем в апреле 1609 г. гетман Сапега направил лисовчиков в карательную экспедицию для усмирения восставших замосковных городов с отрядом из трех тысяч казаков и нескольких пушек. На другой день вслед за ними выдвинулись еще несколько хоругвей (рот) «литвы». Каратели захватили Кострому, Галич, Соль Галицкую. Потом они осадили Устюжну, но не смогли с ходу взять отменно укрепленный город, выдержавший уже ряд штурмов. Окончательному закреплению успехов Лисовского в Замосковье неожиданно помешал воевода Жеребцов.
Лисовчики против сибирского «спецназа»
День 1 мая 7117 г. от сотворения мира оказался особенно примечателен. В этот день разразились важные бои за Кострому и Ярославль. Объединенным ратям северных ополчений удалось отбиться от посланного Сапегой в Ярославль полка Яна Микулинского с приданными ему казаками. Пан Микулинский сумел лишь разорить окрестности города, включая Николо-Сковородский монастырь в селе Меленки (местность, где век спустя была основана Ярославская большая мануфактура, с ее знаменитыми ткацкими станками, которые Валентина Терешкова променяла на космические дали).
Одновременно с боями на подступах к Ярославлю, ниже по течению Волги разгорелось сражение за Кострому. Но здесь инициатива, напротив, принадлежала ополченцам. Укрывшийся за мощными стенами Ипатьевского монастыря тушинский воевода Никита Вельяминов послал грамоту-отписку Сапеге, в которой сообщил о подходе на судах к монастырю костромских и галичских ополченцев, усиленных нижегородскими и сибирскими стрельцами: «… а у них, господине, воевода Давыд Жеребцов».
Биография сыгравшего огромную роль в разгроме тушинцев Давыда Васильевича Жеребцова сегодня мало известна даже специалистам, не говоря уже о широкой аудитории. Его далеким предком был черниговский боярин Федор Бяконт, один из сыновей которого вошел в историю под именем митрополита Московского Алексия Чудотворца. От Бяконта ведут свою родословную дворянские роды Игнатьевых и Жеребцовых. Из-за близости Годунову Василий Шуйский отправил Давыда Жеребцова на воеводство в далекую Мангазею в низовьях Оби. Именно при Жеребцове здесь был срублен хорошо укрепленный кремль, а в 1607 г. на берегу Никольской протоки реки Турухан воеводой было построено Туруханское зимовье (впоследствии Новая Мангазея или Туруханск), сыгравшее важную роль в освоении Енисейского Заполярья. Летом 1608 г. Жеребцов выступил с мангазейскими стрельцами в поход, на помощь осажденной Москве. Подробности тысячеверстного «ледяного» похода Гражданской войны XVII в., к сожалению, пока еще остаются неизученными. Но, также как и осенью 1941-го, сибиряки появились в самый нужный момент. Судя по всему, по дороге Жеребцов оброс серьезными силами: в одном строю с 1 200 сибирских стрельцов действовало около 600 архангельских и нижегородских стрельцов, не считая ополченцев. Эта серьезная рать неожиданно для тушинцев появилась под Галичем со стороны Вологды, а затем у стен Ипатьевского монастыря, где им впервые пришлось столкнуться с лисовчиками, подошедшими со стороны Ярославля.
Александр Лисовский занял позиции напротив Костромы - на Нагорной стороне в Селище, а ободренные его приходом тушинцы начали осуществлять боевые вылазки из монастыря. Тогда Жеребцов решил нанести упреждающий удар: воспользовавшись наличием у него судов, он высадил десант и «велел по воровским таборам стреляти из наряду», как тогда именовалась артиллерия. В итоге помятый Лисовский начал спешный отход на Кинешму…
Тем временем Жеребцов пришел в «сход» к Михаилу Скопину-Шуйскому в Троицкий Калязин монастырь (современный верхневолжский город Калязин в Тверской области). «Герой-юноша», как его именовал Карамзин, а вслед за ним Загоскин, 23-летний Скопин очистил к тому времени от «тушинцев» пространство от Великого Новгорода до Твери, и собирал теперь крепкую армию в Калязине. Монастырь был превращен в военный лагерь, прикрытый с правого берега Волги оборонительным острогом. Сюда со всех сторон стекались ополченцы и дворянские рати. Даже из осажденной Москвы прорвалась казачья «станица» воеводы Григория Валуева - непосредственного убийцы Лжедмитрия I. И тогда встревоженный гетман Сапега, вняв увещеваниям из Тушина, решительно двинулся навстречу Северному ополчению. Он встал лагерем на расстоянии одного перехода до Калязина, и начал выдвигать отряды «крылатых» гусар на позиции напротив монастыря. На подмогу к нему из Суздаля примчались лисовчики. В Успеньев день началась кровавая сеча, в которой не последнюю роль сыграли союзные Скопину-Шуйскому шведские мушкетеры и сибирские стрельцы. Они не только отбили все атаки гусар, но и сами перешли в наступление, загнав часть сапежинцев в топкие берега реки Жабни. Лисовскому второй раз пришлось ретироваться от Жеребцова. Скопин-Шуйский по достоинству оценил вклад в успех общего дела сибирского «спецназа», вследствие чего именно Жеребцову и его людям была поручена еще одна серьезнейшая операция. Благодаря летописцу героической обороны Троице-Сергиева монастыря Авраамию Палицыну об этом подвиге Давыда Жеребцова широко известно. В темную и холодную октябрьскую ночь ему удалось почти невероятное - пробиться сквозь таборы осаждавших и прорваться через Красные ворота в монастырь. Эта блестящая «десантная» операция вдохнула новые силы в иссякнувшие ряды защитников обители Преподобного Сергия. Жеребцов привел в монастырь 600 «мужей избранных», усиленных тремя сотнями ополченцев из Галича, Костромы, Кашина и Углича, и принял общее командование на себя.
Перенеся к концу октября 1609 г. свою ставку из Калязина в Александровскую слободу и соединившись здесь с войсками подошедшего на соединение из Владимира Федора Шереметева, Скопин-Шуйский посылал во все стороны отряды для освобождения все еще находившихся в руках «тушинцев» городов и осажденных монастырей. Однако попытка, предпринятая Шереметевым и князем Борисом Лыковым, выбить лисовчиков из Спасо-Ефимьевского монастыря в Суздале окончилась неудачей. В отличие от блестящей лыжной операции сибирских стрельцов Жеребцова на пару с тем же Лыковым, закончившейся вытеснением гетмана Сапеги из Дмитрова. За свои многочисленные подвиги, Давыд Жеребцов был щедро одарен Василием Шуйским, получив в поместье из дворцовых земель село Шуморово и сельцо Поводнево с более чем 20 деревнями и другими угодьями в Ярославском уезде. Однако воспользоваться свалившимся на него богатством воеводе было не суждено…
Лисовский, понимая, что раньше или позже его заблокируют и принудят сдаться или прорываться с боем из оказавшегося в тылу армии Скопина-Шуйского Суздаля, предпринял воистину махновский рейд. Весной 1610 г. лисовчики вместе с отрядом казачьего атамана Андрея Посовецкого ринулись по тылам правительственной армии. Прежде всего, головорезы-«черкасы» захватили и разорили Ростов Великий, надругавшись над мощами преподобного Леонтия. Далее их путь лежал к Калязину монастырю, где и завершилась смертоносная «дуэль» с летальным исходом между двумя легендарными военачальниками.
Как и почему Давыд Жеребцов оказался в Калязине монастыре во главе незначительного гарнизона, не превышавшего и сотни человек, в точности не известно. Возможно, он был экстренно послан туда для охраны запасов оружия и провианта, и организовать оборону монастыря просто не успел. 2 мая 1610 г. лисовчики ворвались в Калязин монастырь. Его гарнизон отчаянно сопротивлялся, но силы оказались неравными. Настоятель Левкий, воевода Жеребцов и все оставшиеся в живых защитники были преданы мученической смерти. Мощи Макария Калязинского были вынуты из серебряной раки и разбросаны по монастырскому пепелищу, а сама рака - вклад в монастырь Бориса Годунова - изрублена на куски и увезена в качестве трофея.
Расправившись со своим давним противником, лисовчики безнаказанно двинулись дальше на северо-запад. На пути их оказался Кашин, ополчение из которого ушло со Скопиным-Шуйским. Об этом вторжении, скорее всего, сохранилось известие в истории Тверского края, принадлежащей перу его первого летописца Диомида Карманова, тверского нотариуса XVIII в.: «… набежав нечаянно, город взяли и жителей мучили неслыханными мучениями, а именно: людей ломали, вешали на деревьях, в рот насыпав пороху и, зажав оный, жгли на огне; а женскому полу прорезывая сосцы, вздергивали веревки и таким образом вешали; в тайные уды порох насыпав, зажигали и другие ужасные лютости производили, и при том, ограбив граждан и церкви, вышли».
Лисовский против Пожарского
Взять саму Тверь с ее хорошо укрепленным кремлем головорезам Лисовского было не под силу, но они, как смерч, погуляли по ее окрестностям. Далее они направились под Торопец и «приступили» к острогу, но были отбиты. Отсюда Лисовский и Посовецкий двинули свои силы в район Великих Лук, а затем в псковские пригороды. Обосновавшись на Псковщине, базой для своей дислокации Лисовский избрал древнюю крепость Воронич, расположенную в непосредственной близости от будущего родового имения Пушкиных - сельца Михайловское. После дневных разбойничьих рейдов по окрестным землям Лисовский с наступлением ночи спешил к крепости и укрывался за высокими деревянными стенами с башнями и бойницами, стоявшими на мощном земляном валу. Через 215 лет после этих событий, работая над «Борисом Годуновым», Александр Сергеевич нередко заходил на это старое городище, наверху которого стояла деревянная Георгиевская церковь. В церковной ограде находилось старинное семейное кладбище Осиповых-Вындомских (сейчас церковь восстановлена, а к прежним погостам добавились могилы Семена Гейченко с женой), а в траве с давних пор лежали каменные старинные ядра для пушек. Живейший интерес Пушкина к истории древней крепости Воронич своеобразно отразился в первоначальном названии драматического произведения - «Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве - летопись о многих мятежах и пр. писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче».
Вскоре атаман Посовецкий решил покинуть Лисовского, но у того появились новые союзники в лице… псковичей. Непокорный Псков бунтовал уже давно, и привести его к покорности было поручено верным Шуйскому новгородцам и шведским наемникам. Тогда псковичи запросили помощи у лисовчиков. Лихой «батька» не только очистил псковский рубеж от «немецкой» угрозы, но и переманил на свою сторону 500 английских и 300 ирландских легионеров. Среди тех, кто неожиданно оказался в рядах лисовчиков, был поручик Георг Лермонт, перешедший впоследствии к Пожарскому и ставший родоначальником рода костромских дворян Лермонтовых.
Реабилитировав себя своими действиями против шведов в глазах Сигизмунда III, Лисовский на обратном пути из Ивангорода в январе 1611 г. тайно пришел под Печоры, захватив острог и нещадно ограбив торг, где взял «много множества всякого богатества». Сам город, однако, осаждать не стал, а двинулся дальше, имея стычки с псковскими ратными людьми под Островом и Опочкой. Затем лисовчики взяли город Заволочье, откуда они теперь и действовали, нападая на Псковские и Новгородские земли. В 1615 г. совершили набег в Северскую землю, на «украинные» города Карачев, Лихвин, Перемышль, Белев. Во время этого набега ими была нещадно разорена Жабынская Введенская пустынь на Оке (близ Белева), основателю которой 76-летнему Онуфрию (в схиме преподобному Макарию Жабынскому) пришлось ее отстраивать заново.
Осенью 1615 г. Лисовскому пришлось скрестить оружие с освободителем Москвы князем Пожарским. В трех верстах от Орловского городища (на месте разрушенной древней крепости), у Царева брода состоялась битва между войском под командованием князя Пожарского и лисовчиками. Разбив авангард царских войск и обратив в бегство Передовой полк Степана Исленьева, Лисовский укрепился лагерем у деревни Гать. У Пожарского оставалось в резерве всего 600 воинов, окруженных со всех сторон лисовчиками, насчитывавшими до 2 000 бойцов. В ответ на уговоры отступать к Болхову, Пожарский, согласно «Новому летописцу», рек: «Помереть всем на сем месте!» - после чего перешел в наступление. Кровавый бой шел до позднего вечера. Не зная истинных сил Пожарского, Лисовский решил отступить по старой Кромской дороге. Из-под Орла, через Тулу, молниеносным броском он переместил своих людей в район Ржева, где стремительно ударил на обозы войска своего старого противника Шереметева, выступившего из Москвы в поход для оказания помощи Пскову в борьбе со шведами. С реляцией об одержанной победе и с захваченными «языками» Лисовский послал своего ротмистра Синявского в Смоленск к гетману Ходкевичу, когда-то бывшему его первым командиром. Обрадованный Ходкевич в свою очередь отправил Лисовскому дары в виде роскошного аргамака. Но вышедший из крепости Белой Семен Яковлев с ратными людьми перехватил Синявского по дороге, и гетманский подарок был отослан в Москву царю Михаилу Федоровичу.
В конце концов, фортуна начала изменять «батьке» Лисовскому. Зимой 1616 г., выступив с базы своей дислокации под Вязьму с целью подготовки нового набега, он внезапно скончался, упав замертво с заезженного коня. Не суждено ему было покрасоваться на гетманском аргамаке, который, глядишь, и мчал бы его дальше дорогами кровавых побед и разбойной наживы.
Казак с картины Рембрандта
После скоропостижной кончины «батьки» его преемником стал Станислав Чаплинский, который был направлен королевичем Владиславом (профессиональная армия под его командованием вторглась в пределы Московии весной 1617 г.) в хорошо знакомые лисовчикам места. Чаплинский появился было под Троице-Сергиевым монастырем, но был отогнан пушечной стрельбой. Тогда он двинул свои войска на Переславль-Залесский и простоял под городом восемь дней. После этого Чаплинский с казаками отошел на Александровскую слободу, ограбив по пути небольшой монастырь Симеона Столпника на реке Серой. Разоренную прежними набегами слободу, согласившуюся принести присягу Владиславу, он не тронул и даже выдал слобожанам охранную грамоту. Из слободы, по словам Авраамия Палицына, лисовчики сделали свою последнюю вылазку (начиная с 1608 г.) против обители Сергия Радонежского. 24 сентября они «в нощи прииде к Троицкому монастырю». В начавшемся бою стрельцы выбили Чаплинского из слобод. Уходя за речку Вохну, он поджег село Клементьево. Но отряд из монастыря настиг лисовчиков и в повторном бою старый и верный сподвижник Лисовского Чаплинский был убит.
Но если лисовчикам не сей раз не фартило, то как тут заодно не вспомнить об их более удачливых земляках. Особенно после кинопремьеры «Тараса Бульба». Вместе с Владиславом на Русь вторглись 20 тысяч казаков интервентов во главе с легендарным Петром Сагайдачным и Михайлой Дорошенко (родителем сподвижника гоголевского предка). Сагайдачный захватил Путивль, Ливны и Елец, а Дорошенко - рязанские города, не щадя, как свидетельствуют летописи, ни младенцев, ни духовенство, ни собственных казаков, пытавшихся увещевать алчных и кровожадных атаманов. Под Ельцом их отряды соединились, и объединенное запорожское войско подступило к Михайлову. Запорожцы пускали в деревянную крепость «множество стрел с огнем», палили из пушек и попытались запалить городские стены. Однако защитники Михайлова бросились на вылазку, сожгли все осадные сооружения и перебили множество казаков. Рассвирепевший Сагайдачный пообещал, что сожжет Михайлов дотла, а всем жителям от мала до велика прикажет отрубить руку и ногу и скормить собакам. Несмотря на похвальбы и угрозы, после второго неудачного штурма потеряв больше тысячи человек, гетман снял осаду и двинулся на соединение с королевичем Владиславом. Как записал летописец, «всепагубный враг Сагайдачный с остальными Запороги отъиде от града со страхом и скорбию». День избавления от казаков михайловцы отмечали вплоть до установления Советской власти. За участие в осаде Москвы и удачное для поляков Деулинское перемирие запорожцы получили 20 тысяч злотых и 7 тысяч штук сукна.
После ухода из Московии отряды лисовчиков возглавил Валентин Рогавский. По договоренности Сигизмунда III с Фердинандом Австрийским, запросившим у поляков помощи против венгров и чехов, лисовчики в количестве 10 000 были отпущены на службу к императору. В походе они выбрали своим новым вождем Яроша Клечковского и разделились на несколько самостоятельных хоругвей (рот). В 1621 г. они участвовали в Хотинской битве, позже сражались в Венеции и Ломбардии. Последним известным делом была их победа над французами при Иври. После заграничных походов 1619-1623 гг. образ «лисовчика» на коне, с саблей на боку и «рушницею» за плечами, идущего в бой без обозов и палаток, стал необычайно популярен в польской литературе и живописи. Этот романтический образ из Польши перекочевал в другие страны и глубоко запал в сердце великого Рембрандта. Около 1655 г. им была написана картина «Лисовчик», известная также под названием «Польский всадник». Польские искусствоведы, исследовав картину, пришли к выводу, что она писалась с натуры, на что указывает исключительная точность передачи элементов костюма, вооружения, упряжи, породы лошади и даже манеры держаться в седле. Высказывалось также предположение, что живописцу позировал Симон-Кароль Огинский, родной прапрадед композитора Михаила-Клеофаса Огинского, поехавший в 1641 г. учиться в Голландию и женившийся там. В 1791 г. родной дядя композитора гетман Михаил-Казимир приобрел картину Рембрандта, послав ее затем в подарок последнему королю Речи Посполитой Станиславу-Августу Понятовскому вместе с шутливым письмом. «Сэр, посылаю Вашей Королевской Милости казака, - писал он, - которого Рембрандт посадил на коня. Съел этот конь во время пребывания у меня 420 немецких дукатов…» Сейчас эта картина находится в Собрании Фрика на углу Пятой авеню и 70-й улицы в Нью-Йорке - широко известном художественном музее европейских мастеров XIV-XIX вв.
Мария Бахарева По Садовому кольцу
Часть девятая. От Крымского вала до Зубовской площади
Какая часть Садового кольца самая молодая? Этот вопрос мог бы показаться бессмысленным - поскольку череда опоясывающих центр Москвы улиц появилась, когда был срыт крепостной вал Земляного города, в 1820-е годы. Но далеко не все участки начали застраиваться в это время. Дольше других оставалась пустынной улица, ведущая от Калужской площади к Москве-реке, получившая название Крымского вала по находившемуся здесь в Средневековье Крымскому двору - московскому посольству крымского хана. Крымский вал круто спускался вниз. Места эти легко затапливались во время весенних разливов Москвы-реки и проливных дождей, строиться было невыгодно. На планах и фотографиях середины XIX века видна застройка лишь верхней части улицы, а от Старого Огородного переулка (ныне - Мароновский) до самого берега тянулись поля.
Левая сторона Крымского вала начинается с построенного в 1960 году здания гостиницы «Варшава». За ним - здание Московского института стали и сплавов. До революции оба этих участка принадлежали купеческому семейству Комаровых. На углу с площадью стоял каменный дом с лавками в первом этаже (Калужская площадь была рыночной), дальше по Крымскому валу стояло несколько деревянных домишек. Участок, на котором сейчас располагается ЦПКиО им. Горького, принадлежал городской управе и, как пишет большинство источников, здесь находились городские свалки. И, наконец, у самого Крымского моста стоял «Пароходостроительный, котельный, машиностроительный завод Н. Э. Бромлей», выпускавший, среди прочего, автомобили «Бромлей». От него сохранился один корпус, перестроенный в конце 1920-х годов в конструктивистском духе.
По другую сторону Крымского вала, на месте трех жилых домов (№ 4 построен в 1941 году, № 6 - в 1964-м и № 8 - в 1936-м) было два квартала одно- и двухэтажной застройки. Жил здесь «мелкий люд» - ремесленники, лавочники, рабочие. Сразу за Мароновским переулком, там, где сейчас стоит здание художественного лицея, некогда находились Крымские бани, владельцем которых был купец Сергей Иванович Шмелев - любимый «папашенька» писателя Ивана Шмелева. Описания этих мест, разумеется, сохранились в его «Лете Господнем»: «Спускаемся от рынка по Крымку к нашим баням - вот они, розовые, в низке! - а с Мещанского сада за гвоздяным забором таким-то душистым, таким-то сочным-зеленым духом, со всяких трав!… с берез, с липких еще листочков, с ветел, - словно духами веет, с сиреней, что ли?… - дышишь и не надышишься». Дальше застройка обрывалась. В конце 1930-х на пустом участке планировалось построить здание Академии наук и архитектор Щусев даже успел создать его проект, но строительству помешала война, а после нее стройку так и не возобновили. Только в 1970-е годы здесь, наконец, построили белый параллелепипед Центрального дома художника и Третьяковской галереи, окруженный парком.
Заканчивается Крымский вал переброшенным через Москву-реку ажурным Крымским мостом. Это место также связано с историей семьи Шмелевых. Энциклопедия «Москва» пишет, что дед писателя, Иван Иванович Шмелев, был подрядчиком на строительстве деревянного Крымского моста. Это не совсем верно: по свидетельству той же энциклопедии, родился Иван Иванович в 1819 году, а деревянный Никольский (потом он назывался Крымским) мост построили еще в 1789 году. Вероятнее всего, Шмелев участвовал в строительстве уже металлического Крымского моста, возникшего на месте деревянного в 1870-е годы. Он был создан по проекту В. К. Шпейера, огражден высокими решетчатыми фермами и украшен башенками. В 1937 году мост сдвинули вниз по течению, а на старом месте начали строить новый Крымский мост - тот, что стоит и по сей день. По окончании строительства старый мост снесли.
Короткие улочки на другом берегу Москвы-реки по обе стороны «надземной» части Крымского моста называются Крымским проездом. Слева, на углу с Фрунзенской набережной - жилой дом 1932 года постройки (арх. А. Плигин). За ним - сквер, разбитый в 1960-е годы на месте двух трехэтажных доходных домов. Прямо напротив них стояло (и стоит до сих пор) не лишенное изящества здание лицея памяти цесаревича Николая, более известного как «Катковский лицей» - по имени основателя, редактора журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» М. Н. Каткова. Быт учеников был поставлен на английский лад, о чем свидетельствует выпускник лицея художник Игорь Грабарь. «День наш в лицее был распределен следующим образом, - писал он. - Мы спали в общих дортуарах, в которых всю ночь ходил, не смея присесть, дежурный с заводными контрольными часами на шее, не дававший разговаривать и озорничать. Будили нас по звонку, и мы одевались и шли умываться, после чего отправлялись вниз, в столовую, пить горячее молоко с булками. Покончив с этим, мы поднимались на второй этаж, в церковь, на общую молитву всех восьми классов и затем расходились по классам. В 12 часов был горячий завтрак, который получали и все приходящие ученики, затем снова шли в классы, потом обедали, около часу гуляли или играли в саду в лапту, часа два отдыхали и вечером в своих пансионах готовили заданные уроки под наблюдением и руководством специальных туторов. Выпив опять молока, ложились спать». После революции в этом здании некоторое время находился Наркомпрос, потом в нем разместился МГИМО, а сейчас в нем находится Дипломатическая академия.
Зубовский бульвар, который тянется от Крымской площади до Смоленского бульвара - один из самых коротких участков Садового кольца. Его длина - всего полкилометра. Сегодняшний Зубовский бульвар (если не считать наземного вестибюля станции метро «Парк Культуры») начинается с неоклассического доходного дома Чепелевской (1914 г.). Арендатором этого здания была Женская учительская семинария - учебное заведение, в котором готовились преподавательницы для начальной школы. В семинарию принимали девушек не моложе 16 лет, обучение длилось 4 года и стоило 250 рублей в год для пансионаток и 100 рублей для приходящих студенток. Нуждающиеся могли получить стипендию, которая покрывала расходы на обучение, - но в обмен на это они должны были не менее четырех лет по окончании семинарии проработать по специальности.
Далее - построенный тремя годами ранее дома Чепелевской доходный дом Любощинских, бывших в родстве со знаменитым хирургом Н. И. Пироговым. В этом доме жил не только писатель Викентий Вересаев, но - и это меньше известно - анархист Михаил Бакунин. Он был приятелем домовладельцев и мужем их дочери Софьи. Квартиру 11 занимал еще один друг семьи Любощинских, философ и богослов Сергий Булгаков. Невестка Булгакова в одном из интервью рассказывала, что по воспоминаниям ее мужа Федора Сергеевича, «на Зубовском бульваре в квартире Булгаковых была голубятня… голуби залетали прямо в окно. «…» А в другой комнате жили канарейки, их было сорок штук».
Похожие доходные дома (Зубовский бульвар, бывший одноэтажно-усадебным, активно перестраивался в 1910-е годы) стояли и дальше, на месте нынешнего длинного здания издательства «Прогресс» (точнее, бывшего здания издательства - сейчас его занимает множество арендаторов, самый видный из которых - телеканал РенТВ).
Главное украшение Зубовского бульвара - построенный ориентировочно в 1820-е особняк князя И. А. Гагарина (№ 27). Сейчас в нем находится банк. Дома 29, 35 и 37 - остатки застройки начала века, из их ряда выбивается лишь дом 31, встроенный сюда в 1946 году.
Правая сторона Зубовского бульвара начинается с белых корпусов Провиантских магазинов (складов), удивительного памятника «промышленного» ампира. Изначально эти здания принадлежали военному ведомству - и, как ни удивительно, военные ведали ими больше ста лет (после революции в складах устроили автобазу Минобороны). Лишь совсем недавно Провиантские магазины передали Музею истории Москвы - и теперь их собираются реконструировать, пристроив еще один корпус и перекрыв весь комплекс зданий стеклянным куполом.
За Провиантскими складами - здание РИА «Новости», изначально построенное как пресс-центр Олимпиады-80. За ним, с отступом от красной линии, стоит кооперативный дом 1930-х годов (кооператив «Научные работники»). В нем провел последние годы своей жизни инженер Владимир Шухов, выселенный после революции из своего особняка на Смоленском бульваре (подробнее об этом см. прошлый выпуск «По Садовому кольцу»).
Завершается Зубовский бульвар доходным домом генерал-майора Шекаразина (он известен и по имени своего последнего владельца, фабриканта К.-М. Жиро). В этом доме несколько лет прожил художник Михаил Врубель. По свидетельству биографов, здесь он написал картины «Пан» и «Царевна-Лебедь».
* ДУМЫ * Борис Кагарлицкий Их и наша
Трудности классового подхода
Во второй половине XIX века Фридрих Энгельс потряс читателей циничной констатацией очевидного, но неприятного факта: «Каждый класс и даже каждая профессия имеют свою собственную мораль, которую они притом же нарушают всякий раз, когда могут сделать это безнаказанно». Этические системы, хоть и выдают себя за нечто вечное, неизменное и абсолютное, на самом деле условны, изменчивы, а главное отражают не вечную истину, а конкретные социальные потребности, правила жизни, которые нужно поддерживать для того, чтобы сохранялся определенный социальный порядок.
Понимание условности моральных доктрин было общим итогом Просвещения, результатом идеологических перемен, которые принесло XIX столетие, поставившее науку выше религии, успех выше подчинения, провозгласившее своим принципом рациональное знание. Однако тот же XIX век принес с собой трагический парадокс: понимание условности этических систем вовсе не освобождает человека от требований морали, не снимает с него личной ответственности за свое поведение и решения. Подводя итоги идеологическим поискам эпохи, марксизм сформулировал принцип классовой морали, но это отнюдь не означало, будто этические ограничения с людей снимаются. Энгельс не прославлял классовую мораль, противопоставляя ее «общечеловеческим нормам», он лишь констатировал классовую (или даже более узкую, корпоративную) основу любой морали, сколько бы она ни претендовала на всеобщую значимость. Иными словами, социальная ограниченность морали это не то, чему надо радоваться, но то, о чем надо помнить. И сохраняться эта ограниченность будет до тех пор, пока общество остается разделенным на классы.
Заметим, что классовая мораль - это уже шаг вперед, по сравнению с моралью, допустим, племенной. В племени, например, разрешено есть людей, но только если они - не свои. А общественная мораль, даже самого отсталого классового общества уже таких вольностей не допускает. И, наконец, говоря о «пролетарской» морали, Энгельс (позволявший себе довольно ироничные замечания по этому поводу) отнюдь не утверждал, будто морально все то, что служит победе данного класса в противостоянии с другими классами. Он лишь подчеркивал, что с точки зрения пролетариата, как и с точки зрения буржуазии, морально то, что в данный момент большинство считает этически оправданным. Изменение жизни и настроений массы меняет и ее представления о допустимом, желаемом и «правильном» поведении.
Трагический ХХ век поставил вопрос куда жестче. Революция 1917 года, сопровождавшаяся ожесточением Гражданской войны, по существу, поставила вопрос об отказе от любых моральных ограничений и норм, применительно к представителям противостоящего класса. А победителям нужно было не только пытаться создавать «новую мораль» в государстве, но и противостоять моральному одичанию общества, пережившего хаос войн, голод и безвластие. Понятно, что новая этическая система должна была организовать жизнь советских рабочих, не только их борьбу с классовыми врагами, но и их повседневность, их взаимоотношения между собой (что, по Энгельсу, кстати, как раз и является главной задачей классовой морали).
Новая система правил, закрепленная сталинской системой репрессий, просуществовала достаточно долго, постепенно деградируя, и превратилась под самый конец в невнятный «Моральный кодекс строителя коммунизма», развешанный по всем советским конторам, никем не читаемый и никем всерьез не воспринимаемый. Дискуссия по проблемам этики окончательно свелась на нет вместе с прекращением террора. С того самого момента, как общество утвердило для себя некоторые правила элементарной гуманности, не только спорить, но и думать больше оказалось не о чем: людей больше заботил вопрос о поиске дефицитных товаров и престижном потреблении, нежели о нравственных проблемах.
Между тем дискуссия о революции и морали, начатая и забытая в СССР, продолжалась в мировом левом движении, среди интеллектуалов, политиков и активистов, которые, в отличие от советских функционеров, отнюдь не склонны были считать нравственные вопросы раз и навсегда решенными.
Самый известный эмигрант ХХ века, Лев Троцкий в 1938 году написал знаменитую статью «Их мораль и наша», которую с полным правом можно назвать одним из самых ярких и одновременно самых слабых его произведений.
Человек, который будет судить о статье Троцкого только по заглавию, наверняка подумает, будто речь в ней идет о буржуазной и пролетарской морали. Ничего подобного! Пафос статьи направлен против левых критиков троцкизма, социал-демократов и анархистов, осуждающих большевизм за диктаторские меры. Больше всего его возмущает, когда на основе формальных признаков фашизм приравнивают к коммунизму или обвиняют большевиков в аморализме, ссылаясь на то, что они нарушают общепринятые буржуазные нормы.
«Основная черта этих сближений и уподоблений в том, что они совершенно игнорируют материальную основу разных течений, т. е. их классовую природу и, тем самым, их объективную историческую роль. Взамен этого они оценивают и классифицируют разные течения по какому либо внешнему и второстепенному признаку, чаще всего по их отношению к тому или другому абстрактному принципу, который для данного классификатора имеет особую профессиональную ценность. Так, для римского папы франкмасоны, дарвинисты, марксисты и анархисты представляют близнецов, ибо все они святотатственно отрицают беспорочное зачатие. Для Гитлера близнецами являются либерализм и марксизм, ибо они игнорируют «кровь и честь». Для демократа фашизм и большевизм - двойники, ибо они не склоняются перед всеобщим избирательным правом. И так далее.
Известные общие черты у сгруппированных выше течений несомненны. Но суть в том, что развитие человеческого рода не исчерпывается ни всеобщим избирательным правом, ни «кровью и честью», ни догматом беспорочного зачатия. Исторический процесс означает прежде всего борьбу классов, причем разные классы во имя разных целей могут в известных случаях применять сходные средства. Иначе, в сущности, и не может быть. Борющиеся армии всегда более или менее симметричны, и, если б в их методах борьбы не было ничего общего, они не могли бы наносить друг другу ударов«.
Троцкий походя замечает, что буржуазия «далеко превосходит пролетариат законченностью и непримиримостью классового сознания», а затем нападает на умеренных левых, на сталинистов, на анархистов. Но больше всего на умеренных левых. Все эти социал-демократы - «мирные лавочники социалистической идеи» - не желают понять требований борьбы, не осознают, что гражданская война имеет свою жестокую логику.
«А что такое все эти демократические моралисты? Идеологи промежуточных слоев, попавших или боящихся попасть меж двух огней. Главные черты пророков этого типа: чуждость великим историческим движениям, заскорузлый консерватизм мышления, самодовольство ограниченности и примитивнейшая политическая трусость. Моралисты больше всего хотят, чтоб история оставила их в покое…»
Увы, история никого не оставляет в покое, вынуждая людей участвовать в событиях, которых они всей душой желали бы избежать, и делать выбор, от которого, будь их воля, несомненно предпочли бы уклониться.
При этом Троцкий злорадно подмечает, что многие из тех, кто публично критиковал большевизм в годы революции, в 30-е годы готов был смириться с куда худшими «эксцессами» сталинизма - во имя единства антифашистского фронта. С моральной точки зрения упрек совершенно правильный. Но так ли уж неправы были в политическом плане социалисты, искавшие в Сталине союзника против Гитлера? И насколько оправданы подобные морализаторские упреки в устах самого Троцкого, который ставит во главу угла классовые интересы? Не логично ли предположить, что для защиты классовых интересов французского пролетариата от фашистской угрозы можно было проигнорировать печальную участь нескольких старых революционеров в далекой России? Тем более, что подлинные масштабы сталинского террора тогда не представляли себе не только западные левые интеллектуалы, но и сам Троцкий.
Впрочем, даже если бы о ГУЛАГе знали больше и подробнее, меняло бы это ситуацию перед лицом фашистской угрозы, которая была совершенно конкретна на Западе? Нужно было спасать демократические завоевания трудящихся, которые могли быть в любой момент растоптаны. В Испании нужно было сражаться с вооруженным противником, а для этого необходима была поддержка СССР с его военно-промышленным комплексом. Это было важнее и срочнее, чем осмысление трагических противоречий советской истории.
Проблема Троцкого в том, что подобная логика полностью вытекает из его собственного понимания классовой морали, если только не отождествлять интересы класса с деятельностью и политикой троцкистской фракции коммунистического движения.
Разоблачая противоречия в рассуждениях своих оппонентов, красочно расписывая их неудачи и «предательства», великий изгнанник так и не дает своим читателям позитивных ответов и рекомендаций, оставляя без ответа вопрос о том, что же такое «наша» мораль, чем она отличается от «их» морали и кто, в конце концов, эти «они» - буржуа или другие пролетарии, имеющие неверную политическую ориентацию?
Вывод, к которому автор подводит читателя, состоит в том, что вопросы революционной морали сливаются с вопросами революционной стратегии и тактики. Правильный ответ на эти вопросы дает живой опыт движения в свете теории.
Однако выбор должен делать отдельный человек, и делать его индивидуально. Ответственность надо брать на себя за конкретный поступок, а не только за успех стратегии.
Впрочем, это еще не самое главное, не самое трудное.
Ссылки на «классовую природу» морали ничего не меняют и ничего не оправдывают, поскольку (вспомним Энгельса), в политике то и дело совершаются поступки, не соответствующие никаким нравственным критериям, в том числе и принятым внутри рабочего класса. И вообще, кто сказал, что «внутренние» и «внешние» этические требования передового, борющегося за всеобщее освобождение класса должны быть ниже, чем у класса-эксплуататора?
Главная проблема в том, что в определенных политических и исторических обстоятельствах морально безупречное поведение невозможно в принципе. Вернее, оно равнозначно неучастию в событиях, бездействую, самоустранению. Так, фактически, поступили Ю. Мартов и шедшие за ним левые меньшевики, которые не могли поддержать «белых», как противников трудового народа, но не могли и смириться с «красным террором» большевиков. Однако является ли бездействие, в свою очередь, морально безупречным поведением? Ведь оно равнозначно отказу от попыток помешать свершению зла.
Мещанское рассуждение о том, что политика - грязное дело, само по себе глубоко аморально и грязно, ибо в конечном счете смысл его сводится к тому, чтобы безропотно отдать общество во власть разного рода ворам и преступникам, ибо «иначе и не бывает». Этот тезис агрессивно отрицает сопротивление, борьбу за справедливость и даже элементарную потребность в защите собственных прав (это же тоже политика). Отдать во власть воров и преступников, впрочем, приходится не только абстрактное «общество» и «других», но и себя, свою семью, в той мере, в какой ваша собственная жизнь зависит от общества и, следовательно, от политики.
Разумеется, самым удобным способом решить проблему оказывается «относительная» мораль. Все делают гадости, но мы - меньше. Нельзя делать историю в белых перчатках, но у нас руки не такие грязные, как «у них». Все так поступают, но на «их» фоне мы лучше. Только откуда такая уверенность, будто ваша грязь действительно чище?
Читая записки и дневники нацистских преступников, то и дело наталкиваешься на одну и ту же мысль: мы делаем ужасные вещи, но если победят наши враги, то все будет еще хуже. Если власть достанется евреям и коммунистам, если придут русские с американцами, то они с немцами поступят еще хуже, чем немцы поступали с ними. Тезис ничем не оправданный с точки зрения опыта - где, когда евреи загоняли в концлагеря, травили газом и расстреливали немцев? - но объяснимый с точки зрения логики «относительной морали».
Задним числом история все ставит на свои места. Русские с американцами пришли. Власть в Восточной Европе досталась коммунистам, среди которых были и уцелевшие евреи. В ходе войны были ковровые бомбардировки германских городов. После победы были репрессии и жесткости (массовое изнасилование немок, выселение немцев из Восточной Пруссии и Судет). Однако дело не только в том, что это можно трактовать как своеобразное возмездие за поддержанную германским народом политику Третьего рейха, и даже не в том, что безобразия, имевшие место в Центральной Европе после победы антигитлеровской коалиции, все равно не шли ни в какое сравнение с тем, что творилось там же в годы правления нацистов. Главное различие в том, что даже система, установленная в «коммунистической» Восточной Германии, со всем ее авторитаризмом, была на порядок гуманнее «Третьего рейха». Про Западную Германию и говорить не приходится. Поэтому мы не забудем и не простим преступлений нацистов, но готовы простить концлагеря, организованные для американских японцев в Калифорнии, или бомбардировку Дрездена. История не может оправдать, но может простить…
Итак, цель не оправдывает средства, но до известной степени они могут быть частично оправданы историческим результатом. Однако здесь мы рискуем угодить в новую ловушку. Во-первых, оправдание через результат может быть только частичным (кто сказал, что та же цель не могла быть достигнута меньшей ценой?), а во-вторых, результат предъявит нам история в будущем, действовать же, принимать решения надо сейчас.
Приходится признать: честный ответ на подобные вопросы состоит в признании невозможности одного правильного ответа.
Мы остаемся перед необходимостью постоянного личного выбора, и никаких подсказок, готовых формул и применимых по шаблону «нравственных императивов» не существует. Вернее, они существуют, но пользы от них в реальных обстоятельствах, увы, немного…
Не обязательно выбор принимает трагическую форму, но даже в наше не героическое (к счастью) время груз моральной ответственности постоянно лежит на всяком, кто занимается политической деятельностью и, парадоксальным образом, особенно на том, кто пытается заниматься политикой в противостоянии системе. Ибо антисистемная деятельность требует отрицания не только принципов, но и средств, характерных для существующего порядка, тогда как эффективность борьбы предполагает, как минимум, возможность использования этих средств; радикальная критика требует бескомпромиссной стойкости, а успех в реальном мире невозможен без готовности идти на компромиссы, и это правило является общим, независимо от радикализма политических требований. Моральное осуждение системы не освобождает от необходимости жить в этой системе, а следовательно сообразовываться с ее условиями и правилами.
Пожалуй, самый лучший ответ на эти вопросы дала древнекитайская история о разочаровавшемся во власти мудреце. Изгнанный из столицы философ Цюй Юань пришел на берег реки и стал жаловаться рыбаку на порчу нравов и упадок добродетели. «Грязное болото - наш век, - говорил Цюй Юань. - Чистого больше нет. Власть в руках у безграмотных людей. Восхваляют доносчиков! А благородные мудрецы не имеют известности!»
Так он возмущался и сетовал, перечисляя пороки и преступления общества.
«Что ж, - ответил рыбак, - в грязной воде можно ноги мыть».
Философ не понял, и утопился.
А рыбак пошел по своим делам…
Евгения Долгинова Чужие дети
Комфорт или жизнь
I.
В столицах шум. Мне как будто плюнули в лицо, - яростно говорит одна. Нет, - горько возражает второй, - это нам, всем нам плюнули в лицо. Нет, - говорит третий, - эти плюнули в харю будущему своих детей.
Своих детей (во всяком случае - детей-подростков) у них чаще всего нет, но нужно ли, - они переживают за всех наших, за каждого; об очередном грязном преступлении из серии «Россия против детства» (в данном случае - введении комендантского часа для подростков) они вещают с гражданских облаков, с горней выси правосознания. Внизу, на земле, мы - дремучая родительская масса, агрессивно-, разумеется, -послушное большинство - мамки, клуши, рабы сверху донизу все рабы, - одобряем полицейщину.
Малость, вздор - всего-то поправки к закону, а ведь какие дебаты, какие бои.
Ожесточенная полемика вокруг поправок к закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» началась за несколько месяцев до того, как поправки были утверждены президентом. Собственно текст закона мало кто читал; коллективному «нравственному переживанию», как известно, надобен не контент, а информационный повод. Обвальную «этическую реакцию» вызвали заголовки новостных лент, где сияла бодрая, со звонким оккупационным привкусом, дефиниция «введен комендантский час для лиц до 18 лет». Так в общем-то рутинное, далеко не революционное законодательное событие (регионам разрешили устанавливать ограничения на пребывание несовершеннолетних на улицах с 10 вечера до 6 утра и посещение ими различных злачных, винно-водочных и сексшопных мест) обросло неслыханными репрессивными ожиданиями.
Механизм работы закона и процедурные моменты надменно не прописаны (точнее, прописаны, но в федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - но кто же будет читать так много утомительных букв!), поэтому общественное сознание немедленно его дорисовало. Образ вполне себе канонический: алчные менты получили право потрошить наших чистых университетских деточек на вечернем пути домой из драмкружка, кружка по фото (другие места наши деточки, ясное дело, не посещают), сажать их в обезьянники вместе с бомжами-проститутками и стричь с безвинных родителей административные штрафы. Так вот и видишь харкотину бомжа на белом воротничке напуганной курсистки. Объясняю старому товарищу: нет, даже и сейчас, при задержании, не сажают несовершеннолетних вместе со взрослыми, отправляют в спецприемники, - какие-то церемонии с детьми (единственная категория населения!) еще сохранились и соблюдаются, он отвечает: а вот увидишь, отменят и церемонии, все будет «на общих основаниях». Да почему, с чего бы вдруг? Ни малейшей иллюзии нет в отношении родной милиции, но подозревать ее еще и в каком-то сладострастном, садистическом сверхэнтузиазме, в каком-то садизме подвижничества - не жирно ли?
II.
Сенсационность закона сильно преувеличена. Его противники в упор не замечают тот факт, что законы о «комендантском часе» уже работали как минимум в 15 регионах, в том числе в Москве. Принципиально новым стало расширение возраста - если раньше ограничения касались детей до 14, максимум - до 16 лет, то сейчас разрешили угнетать в улично-клубных правах всех несовершеннолетних. 17-летний перво-, а то и второкурсник оказался приравненным к восьмикласснику, ему искусственно продлили детство.
Ничего хорошего в этом напоминании о статусе, скорее всего, нет. Но выбор не между приятным и неприятным, - выбор между живым и мертвым.
III.
Казалось бы, стоило приветствовать - Россия выступила эпигоном западного охранительного опыта. Однако ж нет, противники закона говорят прямо: не должно свиному рылу российского ювенального энтузиазма вписываться в калашный ряд цивилизованного мира. Израильский или американский мент - отец родной, а российский - насильник и уголовник. Негодования в СМИ и интернете достигли накала, когда упившаяся скотина майор Евсюков расстрелял покупателей в супермаркете.
Дискуссии обозначили как минимум несколько горячих точек кипения. Первое - запредельное отношение к милиции. Кажется, милицию уже больше невозможно демонизировать, нет маневра, нет такого изысканного греха, которым (в народном сознании) не обладали бы правоохранители. Второе - поразительное равнодушие к проблематике так называемых «трудных» или «неблагополучных подростков», для которых, собственно, и принимался закон, - они практически исключены из общественного дискурса, видимо, как «конченые» и не заслуживающие государственной заботы. И третье - невероятное благодушие в отношении собственных детей.
Спор родителей-прогрессистов и родителей-охранителей меж собою легче всего описать в категориях разных подходов к воспитанию, свободы и охранительства, доверия и контроля, - однако менее всего это педагогический спор. Это конфликт интересов благополучных и неблагополучных детей. Больше всего в неприятии «комендантского часа» не ужаса перед грядущими тяготами вечерней жизни детей (которые, несомненно, возникнут, - но пока же они выглядят как минимум разрешаемыми), сколько непреклонного самодовольства существующим положением вещей. «И так хорошо». Есть аргументы, казалось бы, ослепительные: в Кузбассе за год работы закона о комендантском часе преступность несовершеннолетних снизилась на 11 процентов, ну это ладно, - но вот количество преступлений в отношении самих несовершеннолетних снизилось на 59 процентов! Стоит вдуматься: за этими цифрами - живые дети: не убитые, не изнасилованные, не подвергшиеся и избежавшие. Какое-то количество физически выживших детей.
Реальность такова, что единственной эффективной мерой внушения для небрежных родителей становится товарищ МРОТ. В Кузбассе объявили штраф для попустительствующих родителей - от 1 до 3 минимальных зарплат; для владельцев злачных заведений, поощряющих детское присутствие, - в пару десятков раз больше. И все, работает только репрессия, штраф, только логика убытка, - больше ничего.
Вопрос в том, готовы ли мы, относительно благопристойные родители (ну хочется думать про себя именно так) принять часть этой ответственности.
Мотив старинный, извечной: свету ли провалиться, или мне чаю не пить?
Проще всего назвать эту альтернативу ложной.
Вопрос приобретает любопытную этическую плоскость: готова ли я платить штраф за вечерние романтические прогулки своей дочери, зная, что только при этом порядке (ну, такова данность: сегодня - только при этом) вещей какое-то количество чужих детей наверняка убережется от насилия?
Я предпочла бы другой порядок вещей и другую социальную реальность, однако наши предпочтения вряд ли способны что-то изменить.
IV.
Хорошо над Москвою-рекой повстречать соловья на рассвете.
Но еще лучше - просто остаться в живых.
Может быть, и без соловья.
Поэтому мне, обывателю, совсем не важно, что думают о нравственности и духовности Госдума, Совет Федерации и Патриархия. Мне обывательски, эгоистически важно, чтобы пьющий и сидевший сосед Сидоров не выпустил вечером Сидорова-мл. погулять по родным Текстильщикам, - славного парня, собирающегося повторить папашу во всех его несомненных достоинствах. И скорее всего, он это сделает, потому что штраф в пересчете на поллитры потрясет его воображение.
Я думаю об этом с надеждой, проходя через толпу юных обкурков, сидящих в переходе на корточках, наблюдая за пивной одутловатостью пятнадцатилеток в полуночном супермаркете или - за тонкими, загорелыми девочками в последних электричках, бесстрашно шагающими в перронную тьму. И мне кажется, что там, в казенном мраке - в обезьяннике, спецприемнике, под сенью мышиных мундиров - их шансы на жизнь будут выше, пусть и совсем ненамного.
* ОБРАЗЫ * Евгения Пищикова Три кодекса
Бытовая мораль и житейская нравственность
I.
Недавно я разбирала книжные полки и наткнулась на интереснейшую научно-популярную книжку 1975 года издания. Называется она «Расскажу откровенно… или записки врача-венеролога». Автор - заслуженный врач РСФСР Борис Яковлевич Кардашенко.
С первых же строк текст просто-таки заставляет себя читать: «Они пришли вместе. Он и она. Она была несколько смущена. Он почему-то улыбался такой неискренней, искусственной улыбкой, которая больше походила на гримасу. В ответ на мой довольно холодный и несколько суровый взгляд улыбка исчезла с его лица. Мы поняли друг друга без слов».
Да уж. На каждого доброго доктора Айболита найдется справедливый доктор Атыкакдумал.
Собственно говоря, перед нами медицинский детектив. Ибо «напряженные трудовые будни работников венерологического диспансера» наполнены не только трудами по излечению заболевших, но и яростными усилиями спасти страну от пандемии гонореи. Тщательнейшим образом выявляются все лица, когда-либо вступавшие в близкие отношения с тем или иным больным, составляется возможная эпидемиологическая цепочка; «выявленные» случайные партнеры вырываются из теплых постелей, из супружеских спален: пожалуйте на проверку, товарищи. Рассылаются по инстанциям компрометирующие письма (Борис Яковлевич, впрочем, всегда безупречен и тщательно отметает возможные упреки в нескромности: «В официальном письме мы, разумеется, не упомянули истинную причину нашего пристального интереса к гражданину N.»), рушатся семьи, стон стоит по всем московским гостиничным номерам.
Вот яркий пример подвижнического труда.
«По телефону я пригласил к себе в кабинет Николая Александровича, нашего Шерлока Холмса, - пишет доктор Кардашенко, - так мы в шутку зовем своего сотрудника, который помогает нам решать задачи со многими неизвестными, разгадывать иной раз такие шарады, которые под стать работникам уголовного розыска». А что стряслось? Боевые венерологи ищут некоего аспиранта, вступившего в половой контакт с проводницей Галиной. Возможно, молодой ученый болен триппером. По крайней мере, проводница Галина уже разоблачена (в здоровом смысле этого сомнительного слова) и проходит курс лечения по месту жительства.
Где искать приезжего аспиранта, если известно одно только его имя? Принято решение - обзванивать гостиницы.
«К чести работников столичных гостиниц, следует отметить их благожелательность и оперативную помощь в подобных ситуациях». Ну, еще бы. Гостиничным ли работникам в семьдесят пятом году не знать, как стоять на страже морали. Вот маячит на разделительной полосе дежурная по этажу - ручками белыми никогда ничего не делала, только ножками стучала: «Что же это вы, товарищи, гостей после одиннадцати держите?! А еще голландцы!»; а вот мимо крадется еще какой-нибудь аспирант - совершеннейшая овца в вопросах моральной самозащиты. Пробирается к киоску с иностранной прессой либо в комнату к немолодой умной жилистой славистке / слависту. Не пройдет!
Но вернемся к нашему детективу. Наконец, веревочка ухвачена за кончик - кажется, аспирант отправился на морские купания.
«Отступать нельзя. Решили найти нашего подопечного в санатории и вызвать его в Москву. Снова телефонный звонок, и к нашей радости, адрес санатория установлен. Мы с Николаем Александровичем с удовлетворением переглянулись. Вызываем аспиранта на 11 часов утра следующего дня на центральный почтамт Сочи для междугороднего разговора и едем домой. Если смотреть формально, то все, что мы проделали, является работой отнюдь не медицинской. Не так ли? - не без кокетства спрашивает у читателя Борис Яковлевич, и тотчас сам себе отвечает: - нет, не так!» Интрига закручивается.
«Утром следующего дня аспирант на переговорный пункт не пришел… Новая загадка - почему? Не получил вызова? Маловероятно! Сознательно не пришел? Предпринимаем последнюю попытку: телеграммой на имя главного врача санатория вызываем аспиранта в Москву. И уже в 20 часов вечера того же дня аспирант звонил нам из аэропорта Внуково. Дальше все пошло гораздо проще. Он, к счастью, после связи с Галиной не был близок с другими женщинами. Активных проявлений болезни у него мы не обнаружили. Здоров!»
Какой же должен воспоследовать вывод? Ну, как минимум, легкое сожаление, что бедняга лишился отпуска. Вот уж нет! «Это значит, - пишет Борис Яковлевич, - что мы не зря старались и не напрасно вложили столько труда, энергии, изобретательности в эти поиски. Здоровье аспиранта теперь было вне опасности. Мы с Николаем Александровичем испытывали одновременно чувство радости за сохранение здоровья человека и гордость за то, что наша работа принесла людям пользу».
Что- то потрясающее. Все, что можно, поставлено с ног на голову. Смели несчастного с пляжного лежака, напугали до смерти. Опозорили. Так и видишь аспиранта-потеряшку в криво одетых очках, да с дрожащими руками -и что-то подсказывает мне, что в ближайшее время любая близость аспиранта с «другими женщинами» будет проблематична.
Перед нами книжка человека совершенно безнравственного, который успешнейшим образом борется за чистоту морали. Всякий моралист - безнравственен, потому что безжалостен.
Конечно, наш доктор (возможно) воин поневоле, вынужденно разделяет воинствующий морализм своего времени, хотя трудно представить себе, что до такой степени можно не понимать, чем именно ты занимаешься.
Советское государство, безусловно, к восьмидесятым годам прошлого века имело морально-нравственный климат поистине уникальный: то было общество победившей морали. Морали, победившей нравственность.
II.
А в чем же разница между моралью и нравственностью? Принято считать, что нравственное чувство - это индивидуальное усилие, а формирование морали и ее охрана - коллективный труд. Нравственность интимнее морали; мораль древнее нравственности. Мораль родом из Ветхого Завета; нравственность из Нового. Мораль служит делу самосохранения общества и меняется вместе с общественными нуждами и установками; нравственные законы неподвижны.
Мораль оперирует понятиями «хорошего» и «плохого», пользы и вреда; нравственность - категориями добра и зла.
Мораль зиждется на талионе, на страшной и великой идее справедливости («Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» (Книга Исхода, 21:24-26), а нравственность невозможна без того, что выше справедливости, - без милосердия. Жалости.
У моралиста внутренняя сила растет из осознания чужих слабостей. А у человека, живущего нравственной работой - из осознания своих.
Этот самый милосердный подвижник, он же профессиональный праведник, он же стержень добродетели, он же нравственный столп - фигура, безусловно, гораздо более симпатичная, чем моралист.
Но со своими особенностями. Не без гордого смирения (обыкновенно) несет свои нарядные грехи и слабости. Профессиональный праведник никого никогда не осудит, кроме сильного; но уж сильного - не пожалеет. Ибо силу не понимает, силе не доверяет.
Моралист, напротив того, силу поймет, а вот слабости не простит.
Моралист - он ведь борец, у морали есть четкие границы, которые нужно защищать.
Вот поглядите - Моральный кодекс строителя коммунизма (принят XXII съездом КПСС в 1961 году) состоит из двенадцати заповедей. И пять заповедей (почти половина) - самые что ни на есть воинственные. Четыре нетерпимости (строитель коммунизма нетерпим к…) и одна непримиримость (непримиримо борется с…).
Есть ли сейчас на карте мира страна победившей морали? Как не быть. Присутствовала я не так давно на женской конференции («Гендерные проблемы и свобода воли»), на которой главным угощением числилась американская правозащитница и феминистка Берта Атткинсон. На одном из семинаров дамы спорили до хрипоты, обсуждая некую коллизию - невеселые калифорнийские приключения молодой семьи из России. Он и она. Программисты. Семимесячный сын. Ехали из серого опасненького Свиблова, приехали в солнце, в счастье, в объятия мягких интеллигентных соседей. Как в фильмах показывают - стоило им въехать в сливочный дом, тотчас у стеклянной входной двери (стеклянной, а не железной, господа хорошие) нарисовалась соседка с блюдечком печенья: разрешите познакомиться. Ах, какой прелестный малыш. Сколько нам? Вау!
Вся новехонькая улица с новехонькими домами набита была новехонькими семьями (у всех маленькие детки), и целая улица пришла к нашему счастливому семейству справлять новоселье. А на камине стояла первая фотография сынишки (еще отечественная, русская, послероддомовская); лежал на ней двухнедельный Андрюша по старой советской традиции в чем, собственно говоря, мать его и родила. Эдаким цыпленком табака. Глупые наши эвакуанты фотографию показывали новым друзьям, давясь сладкой сюсюкой. Не прошло после вечеринки и дня, как приехали социальные работники с полицией, Андрюшу увезли с собой в приемную семью, а наивной чете предъявили обвинение в производстве и демонстрации детской порнографии. Соседи настучали. Год отбивали ребята своего Андрюшу у американской фемиды, и сердца их были навсегда разбиты.
Обсуждаем мы этот странноватый случай на семинаре: «Ну, Берта, это же казус. Это же смешно, наконец. И потом, отбирать грудного ребенка у кормящей матери - к чему такая безжалостность?» «Жалость, - сказала Берта, - конструктивна только в том случае, если ты жалеешь потерпевшего. Потерпевший - ребенок. Родители сняли его обнаженным, не спросив у него позволения, чем грубо попрали его личную свободу и чувство собственного достоинства. А вторая потерпевшая сторона - общество, жестоко травмированное аморальным поступком ваших соотечественников. Вот общество, - говорила Берта, - я жалею. За его здоровье - готова бороться».
Они пожали бы друг другу руки - Берта и Борис Яковлевич. Они поняли бы друг друга.
III.
А есть ли нынче моральный кодекс строителя новой России (еслибыкризиснепомешал)? Что-нибудь общее для всех?
Я бы сказала, одновременно действуют три бытовых, невнятно сформулированных, но более или менее общепонятных моральных кодекса: «дурной тон», «западло» и «перед соседями стыдно».
«Перед соседями стыдно» - этический свод давно описанный и обдуманный. Он вовсе не только народный - с теми же соображениями «что хорошо и что плохо» живут и в Новокосино, и на Рублевке. Это моральный кодекс общественных кругов, ищущих и находящих цель и радость жизни в довольстве, процессе достижения довольства или мечтах о довольстве. Мягкий и уютный моральный кодекс строителя собственной дачи.
Монтескье писал, что «… где смягчаются нравы, там расцветает торговля, а где расцветает торговля, там смягчаются нравы; путь к спасению проходит через лавку и кошелек». Мед и масло относительного благосостояния (неважно количество и качество покупок, важен принцип и уклад) льются сверху вниз, смягчая противоречия и налаживая «нравственные связи между противоположными друг другу сословиями».
«Западло», или «жизнь по понятиям» - свод жестких моральных правил, подразумевающих обязательную ответственность за свои поступки: «за базар ответишь», «мужик сказал - мужик сделал» и прочее в том же духе. Истоки «западла» обнаружатся, конечно же, в лагерной этике, и потому распространено это учение и «на районе», где подрастают реальные пацаны, и среди силовиков, и в политических кругах, и в недрах мелкой и средней буржуазии.
Я бы сказала, «западло» родом из девяностых. Из времени понтов. Понты тогда являлись этической необходимостью, заменяя собой сословный этикет. Чему нас учили? Приличные люди узнают «своего» по нескольким приметам. По тому, как человек входит в гостиную, сидит за столом и ведет светский разговор. Гостиные были отменены. Иерархическая лестница разрушена. А жить-то было надо. Надо было делать дела. Надо было пользоваться недолгим временем относительного равенства. Культура понтов определяла, как правильно войти и в камеру, и в чиновничий кабинет, как вести себя в бане и за бильярдным столом; как просить, предлагать и давать. Как быть правильно понятым. Понт ведь, я уверена, он от слова «понять».
Так сложился поведенческий комплекс «западла». Он очень жесткий, неподвижный - всегда есть страх ошибиться в каком-либо простейшем бытовом действии и «зашквариться». Правила этикета до сих пор активнейшим образом обсуждаются; множатся «пацанские» форумы, на которых форумчане могут задать друг другу важные вопросы: «А по понятиям ли пацану работать в автосервисе, где хозяин - армянин»; «А по понятиям ли пацану получать профессию парикмахера?»
А вот нравственная составляющая «западла» подвижна, мерцающа и обладает гибкостью и жизнеспособностью. Вспоминается Воркута. 1991 год. Коммерческий киоск похож на дзот. Для разговора используются три рваные дырки в металле, похожие на пулевые отверстия. Для выдачи товара приспособлен железный ящик, как в вокзальных обменных пунктах. Масляной краской по металлу перечислен ассортимент: «Одна сигарета - сто рублей. Водка. Пиво».
«А какая у вас водка?» - брюзгливо спрашивает фотограф, столичная штучка, богач (уже две выставки в Германии). Голос из ларька: «А какая тебе нужна?» Фотохудожник с ужасным сарказмом: «Мне нужна водка «Чивас Ригал». Молчание. В клепаной коробке выезжает заказанная бутылка дорогущего вискаря, и раздается осторожный вопрос: «Петюня, ты?»
А Петюня, между прочим, мятежный шахтер, профсоюзный лидер из крупнейших (чуть ли не нравственный столп по нашим тогдашним понятиям), с утра нам рассказывал, что вместо чая ягель заваривает. Так-с…
Догоняем мы Петюню и говорим: а не западло ли тебе обманывать дружественную прессу? А Петюня отвечает: «Не, ребята. Все по понятиям. Ну, конечно, есть у нас кое-какие деньги для революционной работы. Но народ-то, народ и в самом деле ягель заваривает!» «Эх, - говорим мы, - Петюня, и не стыдно тебе?» «Стыд, - отвечает грамотный активист, - внеклассовое понятие. А „западло“ - классовая мораль». Пожалуй, стыд - действительно, понятие скорее нравственное, чем моральное. Самурай кончает жизнь из стыда перед собой, банкир из стыда перед соседями.
А майор Евсюков в припадке стыда перед собой и соседями кончает с девятью встречными (я понятия не имею, какие именно эмоции руководили этим сытым и пьяным милиционером; это адвокаты - по слухам - в качестве одной из версий защиты обдумывают, не сыграть ли на глубоком личностном кризисе, будто бы переживаемом г-ном Евсюковым в тот жизненный период и приведшем его к суицидальным настроениям). Ну, а «по понятиям» - никакого стыда Евсюков испытывать не мог и не может, и действия его не самоубийственные, а банально - убийственные.
Он вроде бы и не планировал такого душегубства, просто поделать с собой уже ничего не мог. Как говорят в кругах силовиков: «Без главного жил - рано стесал тормозные колодки». Я было подумала, что ГЛАВНОЕ - это что-то важное, что я сейчас узнаю милицейскую тайну. А мне объяснили: «Не-а. Просто высоко занесся. Жил без начальника. Без авторитета».
Наконец «дурной тон» - моральный кодекс интеллигента либерального толка. Принцип дурного тона в том, что можно делать все что угодно, кроме того, чего делать ни в коем случае нельзя. Потому что это - дурной тон.
Вот скромный пример этики «дурного тона» в действии. Из Гандлевского: «Можно было быть кандидатом или доктором наук, сторожем, лифтером, архитектором, бойлерщиком, тунеядцем, разнорабочим, альфонсом, можно было врезать замки и глазки, пить эфедрин, курить анашу, колоться морфием, переводить с любого на любой, выдавать книги в библиотеке, но обивать редакционные пороги было нельзя. Нытье, причиты, голошенье по печатному станку считались похабным жанром. Похабней могло быть только сотрудничество с госбезопасностью. Такой был монастырь, такой, что б ты знал, устав. Я этого круга не идеализирую. Я его слишком хорошо знаю и глаз никому не колю. Просто я оттуда родом и рассказываю о диковинных нравах и обычаях своей родины».
«Дурной тон» - совершеннейшее табу; я видела самые забавные примеры страха русского интеллигента перед «дурным тоном».
Доходит до смешного. Например, группа средневозрастных литературных шутников наняла довольно дорогую эскорт-девицу - в подарок общему другу на день рожденья. Таскали за собой девушку на пятнадцатисантиметровых каблуках по шашлычным и маякам; преизрядно ее подначивали, довели до белого каления непонятными глумливыми речами. Именинник между тем решал важный для себя вопрос: на кого потратить таблетку «виагры» в праздничный день - на постоянную подругу или на блестящий подарок. Ибо литератор знал - второй раз нипочем не встанет. Наконец, решился - на девицу. Не пропадать же такой красоте и таким деньгам.
И вот дружеская квартира, альков, уединение - гопа собутыльников сидит на кухне, чтобы после обсудить СМЕШНОЕ. Каковы они, утехи для богачей?
Герой дня неожиданно вылетает на кухню с искаженным отчаянием лицом: «Все пропало, таблетка принята впустую, я с ней спать не могу!» «Отчего?» «Как?» «Вы не представляете, ЧТО она мне сказала! Это конец всему. Всему!» Общий вздох: «Что?» «Она спросила меня: ты телебоньку-то помыл? И как я после этого могу с ней спать?»
И все, все собравшиеся на кухне согласились - никак. Дурной тон. А что «дурной тон» для среднестатистического человека? Какие поступки в России считаются однозначно безнравственными? Что аморальнее всего? Как обычно, залезла я в опросники ВЦИОМа. Как обычно, была потрясена. Самым безнравственным поступком участники опроса (1,6 тыс. человек в 100 населенных пунктах в 40 областях, краях и республиках России, статистическая погрешность 3,4 %.) считают курение. Потом - алкоголизм и просмотр телевизора. Далее идет - безразличие людей друг к другу. Существенно реже опрошенные называли безнравственным безразличие власти к людям, коррупцию, агрессию, жестокость и издевательство над людьми. Существенно реже.
У всякой басни должна быть мораль. Какая в данном случае - лучше не думать.
Наталья Толстая Асенька
Поздний брак
Асенька и Матвей познакомились на первом курсе Института холодильной промышленности. Он увидел ее на общей лекции и был сражен. Сероглазая белокурая красавица окончила школу в провинции. Она ничего не читала помимо школьной программы, шуток не понимала, была пуглива и простодушна. Асенька была очаровательна. От нее пахло сладкими духами. Пять студенческих лет Матвей следовал за ней, как тень.
Он был умный еврейский мальчик небольшого роста, уже начинавший лысеть в свои восемнадцать лет. Он ничем не мог привлечь внимание юной красавицы: таких молодых людей в тридцатые годы было полным-полно в технических вузах Ленинграда. У Асеньки не было отбоя от женихов. Один носил за ней сумку с книгами, другой доставал билеты в кино, третий всю ночь стоял под окном общежития, ожидая, пока она выглянет. Никто ей не нравился. Ей тогда вообще не нравились мужчины.
Но Матвей продолжал садиться на занятиях рядом с Асенькой. Он знал, что его время придет.
Матвей жил с мамой. Про отца она ему ничего не рассказывала. Они жили в большой коммуналке на улице Восстания. Комната была завалена книгами, журналами и посудой, которую Ревекка Михайловна боялась оставить на коллективной кухне. Больше всего Ревекка Михайловна беспокоилась, что сын женится и уйдет жить к жене. О том, чтобы жена поселилась у Матвея, и речи быть не могло. Мать была уверена, что всякая невестка ее невзлюбит и сживет со свету.
Однажды, заглянув в библиотеку, Матвей увидел, что Асенька сидит над книгой заплаканная. Оказалось, что она ничего не понимает: не умеет ни чертить, ни запоминать формулы, боится, что провалит экзамены и ее отчислят. Сердце у Матвея забилось. Он понял, чем он завоюет ее. С тех пор они выполняли задания вместе. Вернее, он делал за нее все.
То, что она закончила институт, было заслугой Матвея. Она была благодарна ему, но полюбить его не смогла. После института жизнь Асеньки устраивалась: получила направление на завод, дали комнату. Она стала еще красивее, и на заводе опять оказалась в центре внимания мужчин, которые сразу предложили ей помощь и покровительство. Привыкнув к бескорыстной помощи Матвея, она не ожидала, что за покровительство надо расплачиваться. Поняв, чего от нее хотят, она сжалась, ушла в себя и постаралась стать незаметной. Какое-то время ей это удавалось.
Особенно преследовал ее своими домогательствами главный инженер Петровский. Это был толстый энергичный мужик, выдвиженец. В Ленинграде он жил один, жену и детей оставил в деревне. Петровский носил галифе и хромовые сапоги, ночевал в своем кабинете на заводе. Говорили, что пил не просыхая. Он не давал Асеньке прохода. Уйти с завода Асенька не могла: ведь она работала по распределению, а жилье было ведомственным. Родителей ее в это время уже не было в живых, и податься было некуда. Ей хватало ума понять, что куда бы она ни устроилась на работу, везде будет одно и то же.
Матвей был далеко: его послали работать в Сибирь. В каждом письме он объяснялся Асеньке в любви. Однажды он попросил ее сходить на улицу Восстания, навестить Ревекку Михайловну и узнать, не нужна ли ей помощь. Ревекка встретила хорошенькую девушку настороженно, от всякой помощи отказалась, просила больше не беспокоить.
Началась война. Завод, на котором Асенька работала младшим технологом, стали готовить к эвакуации. Эвакуироваться хотели все: это был шанс не умереть от голода. Асеньку в список эвакуируемых не включили. И она сама пошла к главному инженеру. Ее эвакуировали со вторым эшелоном в Ярославскую область, там она и родила Ваню Петровского.
Матвей Орландович всю войну был на фронте, служил в химических войсках, вступил в партию. Вернулся с войны с наградами, быстро защитил кандидатскую диссертацию, стал продвигаться и по партийной линии. Он так и не женился: кроме Асеньки - Анны Петровны - никто ему был не нужен.
Анна Петровна была рада, что Матвей вернулся живым и здоровым, но ей было не до него: она без памяти влюбилась в красавца Давида, инженера из Грузии. Они встретились на курорте и вместе провели месяц, который она не могла забыть. У Давида уже были внуки. Оба понимали, что им не суждено соединиться, но Анна Петровна на что-то надеялась, ждала. Они писали друг другу письма, а виделись редко. Когда его вызывали в Москву, она брала отгул и мчалась к нему. С билетами на поезд было трудно, приходилось иногда всю ночь сидеть в тамбуре на стуле. За час свидания она готова была на все. Это была ее первая и последняя любовь.
О жизни Асеньки Матвей все знал. Да она ничего и не скрывала: он ведь был почти членом семьи. Сына Анны Петровны он любил, как своего: брал его с собой в отпуск, водил в театры и музеи, покупал дорогие подарки. Он написал Анне Петровне диссертацию, и она успешно ее защитила. В начале пятидесятых Матвею Орландовичу предложили поехать на три года в Китайскую Народную Республику - помочь китайским товарищам овладеть химической наукой. «Выходи за меня, Асенька. Вместе поедем заграницу, возьмем Ваню с собой. Нам дадут пятикомнатную квартиру, прислугу. Тебе ничего не придется делать, ты будешь отдыхать! Ванюша пойдет в школу при посольстве. Соглашайся, больше такого случая не будет». Ваня тоже просил маму сделать так, как просит дядя Матвей: ему очень хотелось поехать в Китай. Но мама не согласилась, она боялась, что за три года Давид ее забудет.
Анна Петровна вышла за Матвея Орландовича в середине семидесятых, когда им было за шестьдесят. После смерти Давида ей было все равно, кто будет рядом, и она выбрала старого, верного друга. Парализованная, ослепшая Ревекка Михайловна благословила молодоженов. Теперь она могла спокойно умереть. Они купили трехкомнатную кооперативную квартиру в хрущевке, и с этой поры их совместная жизнь протекала у меня перед глазами: ведь Ваня Петровский стал моим мужем, а Анна Петровна, соответственно, свекровью. Однажды в минуту откровенности она мне рассказала, что поставила Матвею Орландовичу условие: замуж за тебя выйду, но близости между нами не будет… не могу.
В гостиной на шкафу, на полках, в серванте - всюду стояли сувениры из Китая: Будды всех размеров, невесомые чайные чашки, резные драконы, десять шаров один в другом - никто не знал, как они туда попали. Матвей Орландович работал и спал в своем кабинете, Анна Петровна спала в своей комнате, где круглый год стояли букеты цветов и душно пахло духами. На столике у кровати лежала шкатулка, облепленная ракушками, над изголовьем висела фотография: смеющаяся Асенька рядом с высоким черноусым мужчиной. Переступать порог этой комнаты мужу было запрещено. Можно было разговаривать с Анной Петровной, стоя в дверном проеме. Дальше ни шагу. Во всем остальном их отношения были безоблачными. Она строго следила за тем, чтобы он принимал пищу по часам, не ел жирного и мучного, терла ему сырую морковку, измеряла давление, заставляла делать приседания перед открытой балконной дверью.
Он смотрел на нее с обожанием и слушался беспрекословно. Иногда она уезжала в однодневные туристские поездки в Новгород, Нарву, Старую Руссу. Матвей Орландович провожал ее с букетом и встречал с букетом.
Когда они ездили к кому-нибудь на дачу, Анна Петровна места себе не находила: ведь Матвей может съесть немытую ягоду или выкупаться в непроверенном водоеме. Свой мокрый купальник она любила сушить на его лысой голове: оберегала от солнечного удара. Так, в согласии, они прожили десять лет, в Ленинграде о них ходили легенды.
Летней ночью с ним случился инсульт. В Институте скорой помощи его поместили в отдельный бокс: Матвей Орландович громко и часто матерился. Причем материл советский государственный и общественный строй, а также членов Политбюро. И еще выкрикивал, что его отец - итальянец, и поэтому он скоро уедет в Италию на ПМЖ.
Проводить Матвея Орландовича в последний путь пришло много народа, его любили. Сотрудники, ученики, однополчане говорили о его заслугах, научных трудах и о единственной любви, которую он пронес через всю жизнь.
Как- то раз я спросила свекровь: «Правда, что отец Матвея был итальянцем?» -«Да, правда. Ревекка в четырнадцатом году съездила с подругой в Италию. Ну и привезла в подоле мальчика. Придумала историю, что отец Матвея пал героем в Первую мировую, а потом, перед смертью, рассказала все, как было. Чего уж теперь».
Еще Асенька поведала мне, что ей сорок два раза делали предложения. Ни разу со счету не сбилась. Помнила.
Михаил Харитонов Виноватые
Честь как проблема
Они смотрели на меня ненавидяще, обе-две - и Наташенька-солнышко, и Настенька-умница.
- Пошли, Наташа, - наконец, сказала Настя, насладившись моим жалким, растерзанным состоянием, и устремила взгляд куда-то туда, где столовка и девчачий тубзик.
- Пошли, - сказала Наташа, не двигаясь с места. Ей было мало, она хотела стоять и стоять, смотреть и смотреть.
Я это понимал, я даже знал, как это называется - умный октябренок Миша дружил с книжкой и как раз добрался до синеньких томиков Гоголя Николая Васильевича, до «Страшной мести». Да, тот самый взгляд, которым всадник на вечном коне смотрел в бездну, где мертвецы грызут мертвеца. Я и был тем мертвецом, я не стоял в школьном коридоре, а лежал в бездне, и меня грызли мертвецы огромными черными зубами.
- Пойдем, правда, - умница взяла солнышко за руку, это был жест прощения и примирения перед лицом общего, сближающего горя.
- Наташа, - пролепетал я, - Наташа.
- Что Наташа? - солнышко отвернулось. - Я знаю, как меня зовут.
- Дурак какой-то, - с отвращением сказала умница.
- Смотри, рожа дурацкая. Можешь пойти нажаловаться, - добило солнышко, специально выискав что сказать поподлее, понесправедливее, чтобы окончательно и бесповоротно лишить меня всех и всяческих прав.
Мне хотелось одного - залепить Наташке по кукольному личику, сильно, чтоб голова мотнулась на тоненькой шейке, а потом взять Настю за косу и таскать по полу, чтобы она выла и царапалась. Я не боялся скандала, слез, любого наказания, да пусть хоть из дому выгонят, только чтобы сделать больно этим двум сучкам, которые бросили меня в эту бездну, а сами стояли, обнявшись, над ней, торжествующие и победительные. Но нет, конечно, я не мог ударить, я не мог и пальцем пошевельнуть, ведь я их любил - и был причиной их общей беды, виноватый без вины, и от этого вдвойне, втройне виноватый.
- Вы тут чего? - откуда-то просунулась Светка. Толстая, глупая, с криво приколотой октябрятской звездочкой на фартучке, она всегда во все совала нос, причем, как правило, в самый неподходящий момент.
- Ничего, - предсказуемо отбрила солнышко. - Болтаем.
- Вы с Мишкой поругались? - не отставала Светка.
- Из-за твоего Мишки, - умница процедила мое имя сквозь зубы и выплюнула на пол, как случайно попавшую в рот дрянь, - папка Наташу избил.
- Больно? - в белобрысой светкиной головенке редко помещалось больше одной мысли, и сейчас она отреагировала на слово «избил».
- Ремнем дрался, до синяков, - в голосе Наташи была боль, и презрение к боли, и к тому, кто был причиной боли, и это был я.
Черные зубы мертвецов вцепились в мою истрепанную душу с новой силой.
- А меня бабушка… - умница вовремя сделала паузу, чтобы не уточнять, что такое ужасное сделала с ней бабушка.
- Из-за Мишки? - на этот раз Светка вспомнила про причину трагедии.
- Из-за кого же еще, - в голосе Насти было искреннее удивление: ну из-за кого же еще хорошеньких девочек истязают родители?
Настя- умница и Наташа-солнышко были первыми звездами второго «бэ» класса двестисорокнадцатой московской средней школы города Москвы. Настя, голубоокая златовласка, круглая отличница, пианино, хор, -и Наташа, смуглянка-молдаванка с гривкой цвета воронова крыла, тоже круглая отличница, гимнастика и кружок рисования. Обе, как сейчас принято выражаться, обладали ярко выраженными лидерскими качествами, могли увлечь, заинтересовать и повести. Неудивительно, что класс был расколот их усилиями напополам, а друг друга они не выносили на дух. Неудивительно и то, что я, как и все прочие мальчишки, безнадежно мечтал об их расположении. Что там - я набивался в общество, вился вокруг, и даже несколько втерся в доверие к этим ангелическим созданиям. У Насти я бывал дома, а Наташу даже целовал в щечку.
Все рухнуло из-за того, что я приволок в школу коробку цветных карандашей.
Плоская черная жестяная коробка, в которой лежало двадцать четыре цветных карандаша какой-то неимоверной красоты - они были как из другого мира. Они и были из другого мира, чехословацкие, маме их подарила подруга, поднявшаяся по профсоюзной линии и регулярно посещавшая зажиточную часть соцлагеря. Мама мне не советовала брать это в школу, но мне отчаянно хотелось похвастаться хоть чем-то.
Коробку украла Настя - то есть не то чтобы украла, а утащила и спрятала. Могла бы и отпереться, отвертеться, но Наташа увидела и наябедничала классной.
Классная, та еще стервь, в тот день была как-то особенно не в духе, и по такому случаю вызвала в школу настиных родителей. Точнее, бабушку, Настя жила с ней: мама и папа гробились на северах, собирали деньги на кооператив и машину.
Настина бабушка была хрупкой интеллигентной старушкой, знавшей три языка и очень четко произносившая букву «ч» в слове «что». Внучку она обожала, хотя и держала в черном теле - любая четверка становилась драмой шекспировой. Однако репертуар репрессивных мер в ее распоряжении был невеликий - в основном ворчанье, бухтенье, взгляды, полные укоризны, ну и в крайнем случае удержание девятадцати копеек, вручаемых Настеньке на мороженое с розочкой, со строгим наказом «на улице не ешь». Но на такую жестокость бабушка шла все-таки редко.
Тут, однако, дело повернулось по-другому. Бабушка на дух не выносила воровство, даже самое мелкое. Настя как-то говорила, что у бабушки в войну украли карточки, и поэтому у нее остались не две дочки, а одна. Скорее всего, то была семейная легенда, но в данном вопросе бабуся и в самом деле была щепетильна до мелочей. Настя же, как на грех, росла немножечко сорокой - могла стащить цветной мелок, забытый у доски, или какой-нибудь фантик от жевы. Бабушку это очень беспокоило.
По случаю серьезного корыстного воровства внучки, бабушка пошла на экстраординарные меры - объявила Насте бойкот на неделю, перестав с ней разговаривать совсем. Настя каждый вечер рыдала в подушку, но бабушка держала характер.
С Наташей получилось и вовсе нехорошо.
Уж и не знаю, как и от кого ее папа прознал, что дочка проявила гражданскую активность. В словаре папы это называлось «настучала». На папу в свое время кто-то тоже настучал, что стоило ему восьми лет. Ему повезло - Сталин умер вовремя. Другим повезло меньше - например, священнику, который наташиного папу в лагере крестил и который, в частности, объяснил, что грех Иуды состоял не просто в каком-то предательстве, а именно в доносе и выдаче Сына Божьего государственным властям. Сильно верующим наташин папа не стал, диссидентом тоже, но вот насчет доносительства имел представление твердое и однозначное.
Так что дочке и в самом деле досталось: бывший зэка достал ремень и впервые в жизни отходил любимое чадо по живому. Наташе было больно, а еще того хуже - обидно. Она тоже каждый вечер рыдала в подушку, не в силах пережить оскорбленья.
Самым же неожиданным сюрпризом для меня стало то, что обе девочки - друг друга, повторяю, не выносившие на дух, и к тому же насвинячившие друг дружке по самое не могу, - на следующий же день уже плакались друг дружке на свою горькую долю. Случившееся их неожиданно сблизило.
А, поныв и пожалившись друг другу, они как-то спелись на том, что в их беде виноват не кто иной, как мальчик Миша с его карандашиками. Я то есть.
Потому что наказали-то их не из-за кого-нибудь, а из-за меня.
***
Не помню кто - кажется, Герцен - сформулировал «три вопроса русской интеллигенции». Первым шло - «кто виноват?», вторым - «что делать?». Впрочем, что делать - это уже Чернышевский. До таких высот и глубин нам сегодня не добраться, а вот вопрос о виноватости, пожалуй, интересен.
Начать с самого слова «вина». В большинстве европейских языков, включая старорусский, оно означает всего-навсего «причину». Толчок виновен в движении того, что толкнули. В русских переводах Паламы и Григория Богослова можно найти выражения навроде «всевиновная Премудрость Божия». Звучит странновато, а что поделаешь, классика.
В правовых системах вина определяется как внутреннее отношение лица к совершаемому действию. Внутреннее - не в смысле субъективное, типа «что ты там думаешь о том, что делаешь». Скорее, речь идет о намерении или его отсутствии. В связи с этим различают два типа вины: умысел и неосторожность. Умысел - когда человек намеренно совершает нечто, либо само по себе скверное, либо имеющее скверные последствия, ради какой-то своей выгоды. Неосторожность, она же беспечность, - когда человек не то чтобы сознательно совершает гадость, а просто позволяет себе не думать о том, что она может в результате его действий случиться, «не ведает, что творит», хотя должен ведать. Классический пример: взорвать пороховой склад - умысел, курить на бочке с порохом - неосторожность. В обоих случаях человек виновен в том, что он делает.
И наконец, есть третья сторона вины, чисто психологическая. Русский язык, очень чуткий, тут пользуется не торжественным «виновен», а бытовым и стыдным «виноват». Тут речь идет о чувстве вины, то есть о боязни оказаться плохим.
Это самое - «оказаться плохим» и чувствовать это - штука довольно сложно устроенная. С одной стороны, виноватым можно быть только в чьих-то глазах. Однако люди умудряются чувствовать себя виноватыми даже тогда, когда их никто не видит. Более того, бывают ситуации, когда человек никому конкретно ничего плохого не делает, и все же чувствует вину. Опять же классический пример, некто в случайном разговоре плохо отзывается о покойном отце и тут же ощущает укол вины и раскаяния. Хотя отец умер и ему все равно.
Фрейд на этом месте развил теорию «супер-Эго» - этакой виноватящей субстанции в голове у каждого добропорядочного человека, которая постоянно за ним следит и в случае чего начинает ворчать и зудеть, как настина бабушка. За каким хреном эта внутренняя бабушка в голове заводится, Фрейд не объяснил, но предположил, что ее туда ребенку подсаживает общество, прежде всего родители, в целях контроля и подавления.
Это было бы, в общем, логично, ежели внутренняя бабушка всегда говорила бы то, что нужно обществу. Однако сплошь и рядом это не так. Скажу даже больше: люди, склонные к особенно острому ощущению своей виновности и греховности, довольно часто имеют какие-то свои представления о том, что такое вина и грех, иной раз очень странные и с общественными потребностями не совпадающие. Скорее наоборот - создающие множество проблем и неприятностей как человеку, так и окружающим.
Чтобы не ходить далеко за примерами. Я, например, рос в спокойной интеллигентной семье, абсолютно не склонной к насилию. Никто меня не лупил - ни по попе, ни по башке: все воспитательные меры, применяемые ко мне, были сугубо словесные. Культ ненависти и мести никто не отправлял даже на словах. Напротив, все мои домашние были решительными сторонниками мирного разрешения любых конфликтов. И так далее - думаю, описание знакомое.
Первая школьная драка у меня случилась третьего сентября: какой-то пацан отпустил в мой адрес шуточку, вполне невинную. Я, не задумываясь, подошел и треснул его по голове портфелем. Потому что я внезапно и навсегда решил, что на оскорбление нужно отвечать насилием, и неважно, кто оскорбил.
Это было, как я сказал бы сейчас, острое переживание морального долга. В маленькой душонке первоклашки проснулся какой-то категорический императив, который туда, ей-Богу, никто не запихивал, и уж тем более общество.
Неудивительно, что в пятом классе меня пришлось переводить из двестисорокнадцатой школы в стопятьдесятцатую, в другом районе. Это не очень помогло: в первой четверти я мог похвастаться удивительно красивым дневником, со сплошными пятерками по всем предметам и неудом по поведению.
Повторяю, я не был злобным уродом, психом ненормальным или еще чем-то в том же духе. Нет, речь шла именно о морали. Я чувствовал себя правым только в том случае, если мог дать сдачи, или хотя бы пытался.
Я перестал задираться и нарываться в старших классах, и причиной столь своевременной социализации стало то, что я стал хуже, в моральном опять же смысле - выработал более цинический взгляд на жизнь, и, в частности, научился презирать людей вообще и соучеников в особенности. Вот тут-то оно и отпустило: я больше не чувствовал потребности все время отстаивать свою честь, так как окружающие были (как я себе внушил) такой поганью, что задеть ее не могли по определению. При этом ухудшение моего к ним отношения странным образом привело к улучшению моих с ними отношений: оказалось, что я окружен вполне так ничего ребятами. Которые, в общем, не виноваты в том, что они такие.
И это я еще дешево отделался. Вообще-то люди с автономной моралью приносят себе и окружающим целый вагон неприятностей. Я, например, был знаком с человеком, которого можно было назвать «болезненно честным». Не то чтобы у него не хватало ума соврать, когда это нужно, но после каждой, даже мелкой лжи он чувствовал себя, по его выражению, «как дерьма поевши». Врать ему все же приходилось - хотя бы из-за сложных семейных и рабочих обстоятельств - но делал он это с мукой и отвращением. Не знаю, как он сейчас прокручивается, наверное, тоже себе что-то такое объяснил.
Я мог бы приводить и другие примеры, но обобщу. Как правило, моральные люди, способные ощущать свою вину (и, соответственно, правоту - это оборотная сторона чувства вины), ощущают ее по-своему. С подавительно-контролирующими потребностями общества их ощущения редко согласуются, с личными - тоже. Иногда это объясняется воспитанием и образованием, но чаще - нет.
Своеобразным вариантом личного морального кодекса является полная аморальность, оно же «крайнее бесстыдство». Это такой нулевой вариант - когда человек не способен ощущать чувство вины вообще. Из этого не следует, кстати, что подобный товарищ непременно станет негодяем. Негодяйство может показаться ему слишком опасным, или эстетически неприемлемым, или просто неинтересным занятием. Такой человек может быть идейно ангажированным, набожным, наконец, просто трусливым. Но чувство личной вины ему незнакомо - он на это ухо глух. Избавьте меня от примеров…
Но и это - не самое противное. Самое-пресамое - это когда человек в общем-то способен ощущать вину, но у него в душе есть такой специальный трансформатор, который позволяет эту вину переписать на другого.
Выражается это всегда одними и теми же словами: «а все из-за тебя». Эти волшебные слова открывают неограниченные возможности для моральной спекуляции.
На этом основана, например, так называемая женская логика. Настоящая женщина, как известно, никогда ни в чем не бывает виновата - виноват всегда мужчина или «отсутствие мужчины» (то есть все мужчины вместе, в целом). Если такая женщина изменила мужу - муж виноват в том, что не привлек, не удержал и не обеспечил, ведь он должен каждый миг ее завоевывать вновь, так написано в журнале «Космо». Если она растратила мужнюю зарплату на поганые тряпки - муж мало приносит в семью, лучше бы устроился на вторую работу, заодно не нервируя ее своим присутствием. Но если его нет дома - он невнимателен, да еще и неизвестно где шляется. И так далее - мужчина виноват во всем, даже в дурном климате, старости и смерти.
Если кто- нибудь принял это за проявление банальной мизогинии, прошу стойку не делать: мужики владеют такими приемами не хуже баб-с. Они даже сочиняют на эту тему теории. Например, известная некогда попевка по поводу того, что преступность оправдывается «несправедливостью капиталистического общества», -явно из той же серии. Хотя бы потому, что вопрос, уменьшает ли преступность общую несправедливость этого самого общества или все-таки увеличивает, теория эта сознательно замыливает… Впрочем, воевать сейчас с разложившимися останками левой мысли смысла нет. Равно как и демонстрировать, что «правая» идея о том, что каждый, не сделавший миллиона, виноват в этом исключительно сам, и не получил «всего самого лучшего» только из-за собственной бездарности и лени - неприглядна еще более.
Впрочем, можно и не подниматься до вершин теории. Достаточно послушать рассуждения на тему того, что девушки, прогуливаясь вечером по улице, «жопками крутят, сами провоцируют», а потом «из-за этих шалав ребята зону топчут». Или что в закручивании гаек властями виновата, оказывается, оппозиция, которую «на улицу выпускать нельзя, сразу революцию сделают, гады, все им потрясений мало». Или что в нищете народа виноват народ, которому «ну просто нравится нищебродствовать». Или… да что там продолжать, сами знаете.
И, разумеется, виноватым всегда оказывается самый затюканный, затравленный, бессильный, оболганный. Или просто самый лучший, самый честный и самый добрый, потому что честность и доброта - это тоже слабость, которой грех не попользоваться.
***
Она смотрела на меня с усталым безразличием - Анастасия Вячеславовна, бывший менеджер по продажам в конторе с труднопроизносимым названием.
- В общем, я швырнула заяву ему в морду, - закончила она рассказ о недавнем прошлом и перешла к основной части. - Ты говорил, что устроишь меня в банк…
- Стоп, - я уже знал, что будет дальше, но решил прослушать пластинку до конца, мне было любопытно, - стоп, стоп. Мы разговаривали полгода назад, и я сказал, что отнесу твое резюме своему знакомому. Я не могу устроить тебя в банк, хотя бы потому, что я там не работаю и он мне ничем не обязан. Кроме того, сейчас кризис, и там идут такие сокращения…
- Когда я уходила, я рассчитывала на эту работу, - Настя наклонилась ближе, и стало как-то особенно заметно, что волосы прожжены химией, а глаза не то чтобы выцвели, но уже не такие. Не говоря про все остальное.
- Ты хочешь сказать, что это я тебя уволил? - уточнил я.
- Не надо вот этого, - поморщилась Настя. - Я просто сказала: когда я бросала заявление, я думала, что у меня есть друзья и они меня не кинут. Извини, я ошиблась.
- Чему вас там учат? - вздохнул я. - Это даже не разводка, это какая-то херакала.
- Там - это что? - Настя, как всегда, сделала вид, что не понимает.
Мой интерес иссяк. Анастасия Вячеславовна за все эти годы так и не продвинулась в тонком и сложном искусстве садиться на чужую шею дальше школьного уровня. Некоторым, впрочем, оказалось и этого достаточно.
- Как там Вадим? - предсказуемо повернул я.
- Вадим? Прекрасно, - Настя скорбно поджала губы. - Ездит на своем мотоцикле. С друзьями. Недавно пригласил меня. В боулинг, - каждая фраза была напоена выдержанным ядом, настоянном на многолетних обидах. - У него хорошая работа. И широкий круг знакомств, - добавила она, чтобы я не сомневался, в чем именно она его винит и почему она ему ничем не обязана.
- Ты выглядишь усталой, - продавил я последнюю реперную точку.
Настя пожала тощенькими плечиками.
- Такая хорошая жизнь. Такие замечательные люди.
Дмитрий Данилов Богиня нормы
Учительница первая моя
Когда я слышу слово «мораль», я не хватаюсь за пистолет или за еще какое-нибудь оружие, тем более, что у меня его нет. Я вспоминаю Надежду Васильевну, мою первую школьную учительницу.
Если бы в индуистском пантеоне была бы специальная богиня морали (может быть, она там и на самом деле есть), то ее следовало бы изображать в облике «доброй учительницы» Надежды Васильевны, с ожерельем из тридцати черепов младших школьников (по числу учеников в 1 «б» классе), танцующей свой страшноватый педагогический танец.
Надежда Васильевна времен моего обучения в 1-3 классах французской спецшколы в центре Москвы была дамой лет пятидесяти пяти или шестидесяти с внешностью, чрезвычайно характерной для советских школьных учительниц сталинской закалки - строгий костюм, волосы, собранные в большой, идеально аккуратный пучок (скорее даже шар, я не знаю, как эта прическа называется, сейчас такую не встретишь вообще нигде), и не сходящая с лица укоряющая и слегка угрожающая улыбка.
Ничего особенно ужасного Надежда Васильевна с нами не делала - не била, не подвергала каким-то выходящим за рамки рутинного школьного обихода наказаниям, если оскорбляла, то не слишком тяжело, если кричала, то нечасто и не особенно громко. Надежда Васильевна всего-навсего подвергала всех нас вместе и каждого по отдельности постоянному, изо дня в день, моральному давлению.
Получив нас, тридцать первоклашек, в свое распоряжение на ближайшие три года, Надежда Васильевна первым делом накрепко внушила нам три идеи.
Идея первая. Нам сказочно повезло, что у нас такая выдающаяся, прекрасная, чудесная, высококвалифицированная, уникальная учительница. Надежда Васильевна постоянно, особенно первое время, занималась самовосхвалением, рассказывала о своем колоссальном опыте работы, о том, сколько классов прошло через ее добрые учительские руки, какое невообразимое количество благодарностей, письменных и устных, ей поступает от бывших учеников, которые учились у нее пятьсот лет назад и до сих пор помнят, до сих пор благодарят и благодарят. Не раз и не два, и даже не двадцать и не пятьдесят раз Надежда Васильевна напоминала нам, что она носит звание Заслуженного учителя РСФСР. Она говорила все это своим задушевно-угрожающим голосом, совершенно открытым текстом, без всякого вуалирования, если бы она говорила это взрослым людям, это было бы смешно и нелепо, но мы, советские дети семи лет от роду, слушали ее, если можно так выразиться, затаив дыхание. Впрочем, наших родителей она каким-то образом тоже приобщила к культу своего имени - в основном, через давно установившуюся у нее в масштабах школы репутацию супер-учительницы. Интересно, что Надежда Васильевна то и дело, уже, конечно, в скрытой форме противопоставляла себя учительнице параллельного класса, 1 «а», Лидии Николаевне, гораздо более молодой и в разы более либеральной. Мол, вам, ребята, повезло гораздо больше, чем первому «а».
Идея вторая. Наша школа настолько превосходная и исключительная (слово «элитная» тогда хождения не имело), что каждого из нас в любой момент могут из нее исключить. Слово «исключить» постоянно присутствовало в лексиконе Надежды Васильевны, выполняя функцию словесного дамоклова меча. (Надо сказать, частично Надежда Васильевна была права - школа наша и впрямь была хорошей, по тем временам одной из лучших в Москве среди французских спецшкол. Правда, я не помню ни одного случая, чтобы кого-нибудь действительно из нее исключили.)
Идея третья. Если мы в полной мере не осознаем первой идеи и не будем вести себя соответствующим образом, то вторая идея станет реальностью.
Инсталлировав в наши глупые головы эту идейную конструкцию, Надежда Васильевна принялась дубасить нас двумя дубинками, на ударах которых и держится всякая мораль - чувством вины и страхом.
Со страхом понятно - она в разных формах грозила нам исключением из нашей прекрасной школы, одновременно расписывая ужасы обучения в обычной школе, где учителя - изверги, а ученики - дебилы и малолетние преступники.
Чувство вины генерировалось в нас тоже довольно простым и при этом эффективным способом. Надежда Васильевна, дождавшись подходящей ситуации, придавала своему лицу добро-скорбное выражение и говорила (всему классу или кому-то в отдельности) что-нибудь такое, из чего следовало, что вот она к нам (к нему, к ней) со всем сердцем, всю душу вкладывает, всю себя отдает без остатка, а мы (он, она), черствые, неблагодарные, не ценим, не понимаем, не соответствуем, etc. Далее лицу придавалось еще более скорбно-стоическое выражение, и урок продолжался. Семью восемь - пятьдесят шесть. Подлежащее и сказуемое. Ласточка с весною в сени к нам летит.
Были и более тонкие способы. Как-то раз после родительского собрания Надежда Васильевна сказала моей маме: сын ваш, конечно, хорошо учится, но не горит он, а тлеет.
Не горит, а тлеет. Не горит, а тлеет. Не горит, а тлеет.
Мама тем же вечером сообщила мне, что я не горю, а тлею. Мне оставалось только глупо и виновато хлопать глазами. Надо, значит, гореть. А как гореть - непонятно. Но как-то надо. Надо как-то постараться гореть.
В связи с этим противопоставлением тления горению надо сказать, что у Надежды Васильевны был свой идеал ученика, некий эйдос первоклашки, которому нельзя было в точности соответствовать, но к которому следовало всячески стремиться приблизиться.
Идеальный первоклассник, чаемый Надеждой Васильевной, - не обязательно отличник, хотя хорошая учеба была непременным компонентом этого светлого образа. Он должен был беззаветно любить Надежду Васильевну и вот именно «гореть» - то есть прилагать к учебному процессу усилия, едва ли не превышающие человеческие возможности. Учить, зубрить, на уроке ловить каждое слово, иметь на лице выражения крайней заинтересованности и щенячьего восторга, буквы разные писать тонким перышком (шариковой ручкой) в тетрадь, высунув кончик языка от усердия. У доски отвечать громким, звонким голосом, как актрисы, озвучивавшие детские роли в старых советских фильмах.
Надежда Васильевна не то чтобы требовала от нас соответствовать этому недостижимому прообразу, нет. Она, скорее, всячески корила нас за то, что мы ему не соответствуем и соответствовать, судя по всему, не будем, чем причиняем ей, идеальной учительнице, неизъяснимые моральные страдания.
Да, вот именно так. Ей, идеальной учительнице, приходится иметь дело с катастрофически неидеальными учениками, она страдает от этого, но продолжает стоически, с достоинством нести свою высокую муку.
Впрочем, Надежда Васильевна имела в своем арсенале и пряники - она иногда любила кого-нибудь вдруг выделить. С лучшей стороны. Обычно эти пряники доставались девочке Оле - она в наибольшей степени соответствовала начертанному на педагогических небесах идеальному образу ученика - зубрила-энтузиастка с экстатически преданным взглядом и звонким голосом, до невозможности старательная и дисциплинированная. (По странной иронии судьбы к концу школы Оля постепенно превратилась в очень красивую, веселую, классную девушку, всеобщую любимицу, ничего общего не имеющую с занудно-задорной зубрилой десятилетней давности.)
Мне тоже периодически перепадали кое-какие пряники - я был практически круглым отличником, и Надежда Васильевна не могла этого не отмечать (хотя ей явно не нравилось отсутствие у меня учебного энтузиазма - того самого «горения», а также то, что учеба давалась мне практически без усилий). Однажды, например, Надежда Васильевна на уроке русского языка объявила, что у меня на данный момент - лучший почерк в классе. И назвала еще несколько учеников, которые по степени красивости почерка занимают второе, третье, четвертое и так далее места. Потом назвала аутсайдеров, которым, разумеется, грозит изгнание из школы-эдема.
Я, помню, страшно гордился. Пряник - это приятно. Я еще больше проникся осознанием человеческого и педагогического величия Надежды Васильевны, которая разглядела мой каллиграфический талант.
Вообще, Надежда Васильевна любила всякие рейтинги и списки, они были для нее дополнительными инструментами морального воздействия. Когда мы учились во втором классе, нам объявили, что мы скоро должны будем стать октябрятами. Надежда Васильевна устроила на этой пустяшной почве целое соревнование. Каждый день она объявляла нам, какое количество нас по своим учебным и, главное, моральным качествам достойно полубожественного статуса октябренка. Причем, она не говорила нам, кто именно достоин и не достоин. Называлось только число, а мы должны были терзаться в догадках. Достоин я или не достоин? Тварь я дрожащая или октябренок сияющий? Число неизвестных достойных постепенно росло, но очень постепенно. Все это сопровождалось многословными рассказами о том, каким должен быть истинный октябренок. Ну да, все тот же светлый образ - хорошо учиться, «гореть, а не тлеть», любить учительницу и школу, титанически трудиться на ниве собственного обучения и воспитания, не щадя живота своего.
Однажды, в разгар этой предоктябрятской вакханалии, Надежда Васильевна объявила нам: «Вчера я разговаривала с Лидией Николаевной и спросила, сколько во втором „а“ ребят, готовых стать октябрятами. Вот у нас в классе пока только тринадцать таких ребят. А у них знаете сколько? - трагическая, напряженная пауза. - Двадцать семь».
Скорбное лицо, стоическая улыбка. Итак, продолжим урок. Трижды восемь - двадцать четыре. Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей.
Мы еще не были в состоянии как-то это отрефлексировать, у нас не хватало ни ума, ни цинизма как-то посмеяться, поиронизировать над этим безумием в своем кругу, мы просто ходили, слегка потрясенные этими числами - у нас тринадцать, а у них двадцать семь, - и ощущали чувство вины.
Потом наступил «праздник» 7 ноября, нас построили в шеренгу, заставили прочитать хором какое-то богомерзкое «торжественное обещание» и нацепили красные звездочки с детской версией Ленина - всем подряд, естественно. Все оказались достойны.
Случался и жесткач. Один мальчик, чуть менее терпеливый и пофигистичный, чем все мы, однажды в ответ на замечание Надежды Васильевны выдал какую-то сопротивленческую реплику. Что-то сказал с места. Надежда Васильевна прервала урок, приказала ему встать и в течение десяти минут при всем классе говорила ему такие вещи, что у него случился нервный срыв, и родители даже хотели перевести его в другую школу, но потом все это как-то замялось.
Во втором классе у нас начался французский, который вела не Надежда Васильевна, а другая учительница, и мы стали на некоторое время выпархивать из-под морального колпака нашей заслуженной учительницы РСФСР. «Француженка» была довольно молодой, симпатичной и веселой, на ее уроках часто звучал смех (Надежда Васильевна была начисто, абсолютно лишена даже намека на чувство юмора). Другая атмосфера, вообще все другое. Легко. Выяснилось, что учителя бывают и вот такие, не все они такие, как Надежда Васильевна, и можно учиться без давиловки, вины и страха.
Это, конечно, основательно подточило основы власти Надежды Васильевны над нами. К концу третьего класса было понятно, что нужно просто еще немного потерпеть.
В четвертом классе у нас появилось сразу много учителей, они были разные, но в целом хорошие, а некоторые даже очень хорошие. Надежда Васильевна стала для нас просто одним из учителей школы, одним из. Иногда мы случайно сталкивались в коридоре на перемене. «Здравствуй, Дима. Ну, как учишься?» Скорбно-стоическая улыбка и взгляд, от которого как-то холодновато становилось в области позвоночника.
Не следует рассматривать все выше написанное как какое-то обвинение. Лично мне, в общем-то, не в чем упрекнуть Надежду Васильевну, мне от нее доставалось довольно мало кнутов и довольно много пряников, я был у нее в целом на хорошем счету. Так что все нормально. Просто я никогда больше не испытывал настолько сильного морального давления (за исключением срочной службы в Советской армии, но это, как вы понимаете, совсем особое дело).
Удивительно - никак не могу вспомнить фамилию Надежды Васильевны. Может, оно и к лучшему.
* ЛИЦА * Олег Кашин Первый неподпольный
Советский миллионер Артем Тарасов
I.
Статья на двенадцатой полосе номера «Московских новостей» за 26 февраля 1989 года называлась «Процесс о миллионах, или Исповедь советского миллионера». «Пришел в редакцию, поздоровался и сказал: „Я - миллионер“. Сказал обыденно, не гордясь и не пугаясь, как сказал бы, что он член профсоюза», - так описывал своего героя обозреватель главной газеты перестройки Геннадий Жаворонков, и далее, почти оправдываясь: «Нет, он не из тех подпольных бизнесменов эпохи застоя, разворовывавших все, что лежит плохо и даже хорошо. Миллионер - из нашей эпохи. Кандидат наук, кооператор. Абсолютно честный, на мой взгляд, человек, брезгливо относящийся ко всякого рода махинациям». Ни русской версии журнала «Форбс», ни даже газеты «Коммерсантъ» тогда еще не было, а советские журналисты о миллионерах писать не умели, и это сквозило из каждой строки: «Опубликованные выше разъяснения позволяют многое понять в причинах появления советского миллионера, в механизме его функционирования». В наше время, конечно, все проще, и принимающий нас в корпоративной столовой обычного московского бизнес-центра герой «Исповеди советского миллионера» едва ли нуждается в разъяснении «механизма функционирования». Достаточно того, что он дожил до наших дней и работает сегодня советником гендиректора финансовой компании «Метрополь» - и это уже, прямо скажем, неплохо.
О той заметке в «Московских новостях» Артем Тарасов, конечно, вспоминает до сих пор - говорит, что она спасла ему жизнь, потому что, не заяви он сам о своих тогдашних сверхдоходах, очередная кампания по борьбе с хищениями социалистической собственности вполне могла подвести его под расстрельную статью 93 часть 3 Уголовного кодекса СССР. По словам Тарасова, на уголовном деле в отношении руководителей кооператива «Техника» всерьез настаивал министр финансов СССР Борис Гостев; в интервью телепередаче «Взгляд» Тарасов даже заявил, что готов пойти под суд при условии открытого процесса, и если его вина будет доказана, то он готов быть расстрелянным, но если его оправдают - пускай Гостев уходит в отставку с формулировкой «несоответствие занимаемой должности».
- Гостев, кстати, и ушел вскоре, хоть и не из-за меня, - поясняет самый знаменитый миллионер восьмидесятых, о котором двадцать лет назад даже дети знали, что он однажды заплатил партийные взносы с зарплаты в три миллиона рублей. Членом КПСС завлаб Института молекулярной биологии Академии наук СССР Тарасов, однако, не был, партвзносы в размере 90 тысяч рублей заплатил состоявший в партии заместитель Тарасова по кооперативу, который медиаперсоной так и не стал, тихо уехав в Австрию несколько лет спустя.
- Но все почему-то решили, что взносы платил я. Я поначалу это опровергал, а потом понял, что бесполезно, история живет собственной жизнью, уже без меня.
II.
В пересказе 59-летнего Артема Тарасова начало его бизнес-карьеры выглядит так: весной 1987 года к нему пришел некий знакомый, торговавший на черном рынке видеомагнитофонами, и сказал, что пора начинать новую жизнь.
- Он говорил: «Ты себе не представляешь, чего разрешили. Господи, нам же дадут печать и счет в банке, вот ты увидишь, мы миллионерами будем». Убедил меня, и я написал первый в жизни устав кооператива «Прогресс».
Кооператив «Прогресс» просуществовал всего неделю, но о нем у Тарасова едва ли не более нежные воспоминания, чем о знаменитой «Технике», которая придет ему на смену. «Прогресс» - это было брачное агентство. Тарасов говорит, что ни до него, ни после таких брачных агентств ни у кого и нигде не было.
- Это был потрясающий кооператив, который гарантировал браки. У нас была научная методика, как из ста знакомств сделать 80 браков. Была выстроена целая психологическая система, которая базировалась на том, что все брачные бюро сегодня во всем мире работают абсолютно неверно. - до сих пор ничего не изменилось, даже с появлением интернета. Дело в том, что когда ты заранее видишь фотографию человека, а еще хуже - переписываешься с ним, ты уже создал для себя его образ. И когда вы встречаетесь, этот образ рушится. Может быть, человек оказывается даже лучше, чем представлялось, но не тот. Вы пришли не на то свидание. И этот психологический барьер - он не ломается. Люди встречаются, кушают, могут даже куда-то пару раз сходить - и все.
Клиенты «Прогресса» заполняли анкету, в которой рассказывали только о себе, не высказывая никаких пожеланий по поводу партнера. Сотрудники кооператива сравнивали анкеты и выбирали сразу сорок человек - двадцать мужчин и двадцать женщин, которых на двое суток запирали в специально снятой квартире без права выйти из нее в течение всего эксперимента - эдакий «Дом-2». Тарасов называет такую методику «марафоном» - в результате этого марафона, по словам Тарасова, восемьдесят процентов участников игры расходились по домам парами.
- В эти 48 часов они общались, отдыхали, смотрели телевизор, пели песни, и в конце концов понимали, ради кого именно они сюда пришли. Очень хорошая методика. Но на седьмой день кооператив закрыли - Моссовет решил, что мы занимаемся сводничеством.
III.
Кооператив «Техника», в отличие от «Прогресса», занимался гораздо менее легкомысленными вещами, - перечисляя достижения «Техники», Тарасов вспоминает знаменитый текстовый редактор «Лексикон», созданный программистом этого кооператива Евгением Веселовым - тот работал в вычислительном центре Академии наук, получая там 135 рублей, а в «Технике» подрабатывал - вначале у Веселова была зарплата 12 тысяч, потом - 36 тысяч рублей. Я спросил Тарасова, сколько народу работало в «Технике», он ответил - 1 800 человек в десятках разных городов СССР. Когда я понимающе кивнул - мол, программисты на аутсорсинге, - Тарасов даже удивился - при чем здесь программисты?
- Программами - своими и русификацией импортных, - мы занимались в самом начале, а потом ребята мне говорят: чего мы только программы делаем, надо компьютеры завозить, их в стране нет совсем. И мы первыми повезли персональные компьютеры в Россию. А как их везти, когда у нас валюты нет? Тогда создали сеть, которая искала все, что только можно продать за границу или обменять по бартеру. Свои грузчики в портах, свои супервайзеры. Ничего серьезного нам никто не давал - ни лес, ни оружие. Только отходы. Например, Воскресенский химкомбинат поставил нам так называемые кормовые фосфаты, в которых мышьяка было до четырех процентов - если бы корова эти фосфаты съела, ей бы кранты были. Но эти фосфаты у нас купила Австралия, потому что там умели добывать из них фосфор. Потом завод в Рустави поставил нам селитру, которой тогда все было затоварено. Мы ее тоже продавали за границу. Витя Вексельберг у нас в кооперативе работал, он утилизировал кабели, вычищал из них сердцевину медную, которую мы потом переплавляли - Витя даже сам специальный станок для этого изобрел, он очень талантливый человек. Все, что могли, все продавали за границу. На выручку или по бартеру покупали компьютеры, сами их русифицировали и потом продавали здесь.
Тарасов описывает типичную внешнеэкономическую схему из практики своего кооператива: «По три рубля за доллар можно было купить, - ну, не знаю, у проститутки, - 500 долларов. Потом берете эти 500 долларов и покупаете за границей на них один факс. Привозите сюда и продаете за 50 тысяч рублей какому-нибудь предприятию - они покупают с удовольствием, потому что факсы уже в моде, но в стране их при этом нет. Это первая итерация, а потом на 50 тысяч рублей покупаете 50 тонн вторичного алюминия, который потом продаете по 1 200 долларов за тонну. У вас уже 60 тысяч долларов, и на них вы покупаете много факсов и повторяете операцию еще раз», - романтическая история из эпохи первоначального накопления капитала звучит так пасторально, что как бы ни был ты расположен к Тарасову - вряд ли поверишь. Его рассказ выглядит так, будто «Техника» существовала в вакууме, в котором не было ни рэкетиров, ни КГБ.
- Но нам действительно никто не мешал! - говорит Тарасов. - Рэкет только начинался, и рэкетиры занимались в основном спекулянтами и теми кооператорами, которые каким-нибудь шашлыком торговали. А КГБ вначале упустил нас из виду, а потом они с нами начали сотрудничать. Просили, например, перегнать за границу какой-нибудь мазут, и часть выручки оставить там каким-то доверенным людям. Мы это делали.
Весной 1991 года, когда Артема Тарасова вызовут на допрос в изолятор «Лефортово» (но не арестуют, потому что Тарасов уже будет народным депутатом РСФСР от Тимирязевского округа Москвы, а снять с него неприкосновенность депутаты не согласятся) по уголовному делу о контрабанде мазута, он (по крайней мере, так его слова звучат в сегодняшнем пересказе) спасется именно благодаря намекам на причастность к этой контрабанде структур Комитета госбезопасности:
- Контрабанда мазута! Я говорю - ну расскажите хоть приблизительно, как вы себе это представляете. Что я сам ночью подогнал танкер и протащил через границу 30 тысяч тонн? Если не сам - тогда понятно, что порт участвует, пограничники, таможня - это все контрабандисты, что ли? Тогда меня спросили, какая компания нам поставляла мазут. Я говорю - «Совбункер», а это была полностью кагэбэшная структура. Когда они прочухали, с кем мы работали, уголовное дело спустили на тормозах.
IV.
Артем Тарасов говорит, что уголовное дело о контрабанде мазута было заведено по политическим мотивам - в самом деле, весной 1991 года много шуму наделало заявление Тарасова о том, что посетивший с визитом Японию президент СССР Михаил Горбачев пообещал японской стороне признать японский суверенитет над Курильскими островами. Сейчас Тарасов говорит, что это было «чистое предположение».
- Я дружил с экономическим советником посольства Японии - был такой господин Агава-сан. Он ко мне часто приезжал, забирал меня в хороший валютный ресторан, в «Сакуру», мы с ним сидели, ели, и рядом два человека записывали все, что мы говорили. Я говорил: «Агава-сан, я вот хочу по бизнесу выстроить отношения», - а он отвечал: «Я экономический советник, я ничем не занимаюсь, я слушаю мнения людей». Ну, разведчик. И я ему мнение высказывал. И спрашиваю: «А ваше-то мнение как?» И Агава-сан выдал мне такую тираду японскую: «Нельзя дружить с соседом, пока его солдаты в твоем саду». Я тут сразу все сопоставил - вот такое официальное мнение Японии с тем, что Горбачев в заднице и собирается туда ехать. Вот на этом основании я сделал свое предположение.
Выступая с заявлением о том, что Горбачев хочет отдать острова Японии, Тарасов, однако, не имел в виду чего-то вроде «Отчество в опасности», - нет, просто в условиях противостояния российских и союзных властей ему, тогда уже члену «Демократической России», казалось, что президент СССР не имеет права распоряжаться территорией РСФСР без участия ее властей.
Сразу после скандала с Курилами Тарасов стал фигурантом уголовного дела, причем одно из подразделений тарасовской империи (кооператив, предоставлявший пассажирам в аэропорту «Шереметьево-2» знаменитые багажные тележки за любую купюру с цифрой «1» - будь то один рубль или один доллар) стало жертвой первых в истории российского бизнеса «маски-шоу» - автоматчики в камуфляже обыскивали офис этого кооператива, положив всех сотрудников лицом на пол; тогда это было еще в новинку.
- Мы вообще во всем были первыми, - говорит Тарасов. - Все за нами следовали, и им проще было. Только во внешнеэкономических ассоциациях (наша называлась «Исток») мы были вторыми, первым был покойный бедный Юлиан Семенов.
Монополия внешней торговли, в 1989 году еще существовавшая, не позволяла государственным предприятиям напрямую торговать с заграницей - такое право имели только внешнеторговые объединения, и автор «Бриллиантов для диктатуры пролетариата», имевший, по словам Тарасова, прямой выход на Михаила Горбачева, пролоббировал разрешение на создание кооперативных внешнеторговых ассоциаций.
- Семенов сам этим занимался, и одна из самых крутых фирм таких, созданных Юлианом Семеновым, была «Бурда моден» - потому что Раиса Максимовна читала «Бурду». «Бурда» вывозила больше меди, чем любое другое предприятие в СССР. Вот здесь мы первыми не были, последовали за Семеновым, и к нам кто только не вступил - Роснефтепродукт и Министерство минеральных удобрений СССР. Выгодно было и им, и нам. Например, к нам обращалось Министерство минеральных удобрений, и говорило: «Ребята, валюты просто невероятное количество, пожалуйста, купите у нас ее на рубли, нам нечем платить зарплату». Мы покупали валюту у министерства, чтобы они могли выплатить зарплату. Естественно, 60 копеек за доллар. Они не могли продать дороже, не имели права.
V.
Если в начале 1989 года человек, пришедший в редакцию популярной газеты со словами «Я миллионер», мог произвести сенсацию, то уже полгода спустя все изменилось - кооператив «АНТ», возглавляемый Владимиром Ряшенцевым (потом его убьют в Венгрии), пытался продавать за границу даже советские танки.
- Ряшенцева с танками затормозили в Краснодарском крае, в порту при погрузке. Там тогда первым секретарем был Иван Кузьмич Полозков, он по триста кооперативов в день закрывал, жесткий был большевик. Ряшенцев - очень интересный был человек, но с ним я не работал, военной техникой мы не занимались.
Зато Артем Тарасов успел поработать с Германом Стерлиговым - к 1991 году этот человек стал, пожалуй, еще более знаменитым советским миллионером, чем сам Тарасов.
- Он просто меня купил очень смешно. Он был совсем мальчишка, молодой - позвонил мне по телефону и говорит: «Артем Михалыч, на вас готовится покушение. А наша бригада, наш кооператив охранный может вас защитить». Я говорю: «Да ты что», а он: «Вы можете мне не верить, но у меня есть документы, приезжайте, покажу». Я приезжаю, а он мне показывает выписки банковских счетов по нашему кооперативу. Откуда? Он говорит: «Вот мы это выясним, если вы меня наймете». И я его нанял на 5 тысяч рублей, огромные деньги. Дал ему денег, а потом оказалось, что он просто пришел в банк и сказал: «Я из кооператива „Техника“, выдайте мне выписки», и ему выдали. Бред такой был, но ведь время было бредовое. Но он ко мне регулярно приезжал, искал у меня жучки, и даже находил - то там, то там, и я опять ему за это платил. Ну, не жулик - авантюрист по-хорошему. Потом он исчез, занял у меня денег и исчез. Появился через полгода и говорит: «Хочу открыть биржу, помоги». И я позвонил Смоленскому, и тот два с половиной миллиона рублей дал ему, потому что сам давно хотел организовать биржу. И Стерлигов два с половиной миллиона истратил мудро на рекламу на Центральном телевидении, все деньги. И к нему повалил народ, он два с половиной миллиона рублей заработал за первые десять дней.
Когда Герман Стерлигов стал самым знаменитым советским биржевиком, Артема Тарасова в Москве уже не было - уголовные дела против его кооперативов продолжали расследоваться, и Тарасов - опять первым в постсоветской истории, - бежал из Москвы в Лондон. В Лондоне он прожил два с половиной года - в Москву вернулся только в конце 1993 года, заочно победив на выборах в первую Госдуму по Центральному одномандатному округу Москвы.
- Еще когда в Лондоне жил, ко мне приезжали чеченцы, которые работали с Германом Стерлиговым, но хотели от него отсоединиться. Они меня просили - придумай нам какую-нибудь историю. И я придумал «Русское лото», которое стало большим бизнесом практически сразу. Его мы делали вместе с чеченцами, я был гендиректором, чеченцы меня охраняли и помогали мне во всем. Но когда я второй раз уехал в Лондон, чеченцы у меня все отобрали, и я все потерял.
VI.
Второй раз бежать из России Артему Тарасову пришлось в 1997 году - он рассказывает, что однажды ему позвонили какие-то влиятельные милиционеры, которые предложили ему за шесть миллионов долларов выкупить у них его уголовное дело, которое, если Тарасов не заплатит, будет немедленно возбуждено. Сейчас об этой истории Тарасов говорит неохотно: «Все осталось в двадцатом веке»; в Лондоне он тоже пытался заниматься каким-то бизнесом, но ни в чем не преуспел. В Россию вернулся в 2003 году.
- Работал вначале у Вексельберга, пытался устроиться к Ходорковскому. Спасибо Невзлину и Ходорковскому, что спасли мне жизнь, - мы вели переговоры, я должен был стать вице-президентом ЮКОСа, но не сложилось, и слава Богу, а то бы уже был в тюрьме.
VII.
Сейчас Артем Тарасов работает советником гендиректора финансовой компании «Метрополь» Михаила Слипенчука; Слипенчук питает слабость к разного рода экзотическим пиар-проектам (запускал к Северному полюсу воздушный шар «Святая Русь», открывал в Шотландии памятник крейсеру «Варяг» и т. п.), и его советник Тарасов занимается одним из таких проектов - хочет поднять со дна Балтийского моря затонувший в 1771 году корабль Vrouw Maria с грузом картин, которые на этом судне везли в Петербург.
- Все картины в свинцовых ящиках, по швам пропитаны воском - все сохранилось! Финны нашли, где он затонул, стоит корабль на киле и две мачты торчат. Мы готовы его поднять, но это территориальные воды Финляндии, а Финляндия пока не разрешает ничего поднимать. Но мы очень далеко продвинулись - скоро Путин с Тарьей Халонен третий раз будет этот вопрос обсуждать. Сейчас финны выделили денег на исследование корабля под водой, но поднимать не хотят. Зато нам они уже разрешили принять участие в этом исследовании. Ну хоть первый шаг.
Еще у Артема Тарасова есть ООО «Ассоциация национальных викторин» и кабельный телеканал «Где и кто» с круглосуточными викторинами, в которые зрители играют на деньги. То есть хорошо, конечно, но олигархом - как тот же Вексельберг - не стал.
- Но еще собираюсь стать олигархом, и именно сейчас. Кризис - для роста полно условий, если знаешь, что делать. Сегодня я ощущаю себя очень ценным человеком, ко мне тянутся олигархи, спрашивают, что делать, - много лет они со мной не разговаривали, а сейчас поняли, что без меня не обойтись.
Словно в подтверждение его словам, Тарасову в этот момент звонят из приемной Александра Любимова - первый заместитель гендиректора ВГТРК хочет поговорить с Артемом Тарасовым о совместном проекте - какой-то лотерее. Тарасов разговаривает с секретаршей, выясняя, как проехать в офис телерадиокомпании на 5-й улице Ямского поля.
- Старый офис на Ленинградке знаю, а новый нет, - говорит он об офисе, в котором компания сидит уже лет пятнадцать, если не больше. 59 лет, сверхбогатство в прошлом и среднеклассная жизнь в настоящем. Голос на другом конце телефонной линии объясняет дорогу, и черт его знает, куда эта дорога приведет бывшего советского миллионера.
* ГРАЖДАНСТВО * Евгения Долгинова После травмы
Город и похабники
I.
Не говорят «оболгали» или, к примеру, «оклеветали». Говорят - «опохабили». «А город-то наш знаете как опохабили?» Так спрашивала официантка, и семислойная шерстяная старуха, продающая на главной площади сигареты «Перекур» из армейского пайка, и молодые призрачные милиционеры, выходящие из мглы и так же тихо в ней исчезающие, и монахини женского монастыря, и детский библиотекарь из поселка Зима, и - само собой - музейные работники, и конный тренер Рома, воспитатель владимирских тяжеловозов, и директор конезавода Лена - прекрасная тонкая женщина, и молодые финансистки Ольга и Ольга, и другие люди в магазинах и на площадях. Говорят - что интересно - кротко и весело, с любопытством и без малейшего негодования, приглашают разделить не возмущение, но удивление, оценить замечательное разнообразие человеческой глупости. Вот приехали, значит, молодые столичные люди кино снимать «про то, как одна женщина сына потеряла», - а в результате вышла чушь собачья, такой, понимаете, срам и порнография, такая жалость и беспомощность, и что за жизнь у этих художников, киноартистов этих, которые почему-то так не берегут себя, тратят деньги, силы, технику на такое, вот понимаете, гэ.
Главное, что похабство вышло бессмысленным, бесцельным, каким-то мучительно неточным, и я вспоминаю, что по Далю «похаб» - не только бесстыжий наглец, но и дурак, несчастный юродивый. К фильму Кирилла Серебренникова «Юрьев день» жители относятся как к темным речениям юродивого.
Химически чистую обиду, впрочем, мы тоже наблюдали, но только однажды. Ночью нас остановили гаишники: не горели фары и проезд под кирпич. Один был довольно пухл, а другой довольно тонок, но оба строги, важны и молоды. Московские номера вызвали у них что-то вроде ядовитой улыбки.
- Тут вот тоже приезжали, - услышали мы традиционный зачин, - снимали кино такое, «Юрьев день» называется…
- Опохабили? - участливо спросили мы.
- Да не то слово… Я в Москве купил диск, посмотрел, плюнул… - и сержант сморщился, будто только что вышел от пьяного дурака-стоматолога.
Тут я догадалась, что только сложное, тонкое чувство нравственного превосходства удерживает молодых ДПС-ников от недорогой, но такой легкой мести. Они вертели в руках водительские права, думали, что делать с нами, идиотами, - и очень белый, известковый свет свежей, только-только восстановленной церкви, около которой мы стояли, заменял уличные фонари.
- Послушайте, ну как же так можно?! - вдруг пылко, взволнованно заговорил старший, почти взорвался, - ну это же невозможно просто, немыслимо, Юрьев наш всего на пять лет моложе Москвы…
- И основан тем же человеком! - добавил второй. - Понимаете?
- Одним и тем же человеком основан, да. И как же так, нет, ну вы скажите, можно такое про нас придумывать? Такую грязь про нас зачем было сочинять?
Они взывали к общему родовому сопереживанию, к солидарности родства и вольного соседства, к общему родителю, наконец.
«Провинций нет, - вспомнился вдруг очень старый, дурацкий стишок Евтушенко, - написан свет на лицах… Есть личности, подобные столицам… Провинция - все то, что жрет и лжет…»
А что. Не такой уж и дурацкий стишок.
II.
Город Юрьев - в 65 км от Владимира, населения в нем всего 15 тысяч, застройка низкая, подворья и хрущевки. Как и многие города-памятники, входящие в Малое Золотое кольцо, он пребывает в трогательной, щемящей ветхости, эта осыпь, эта руинизация всегда входила в пакет некротического обаяния. Главная достопримечательность города - Георгиевский собор, построенный князем Святославом в ХIII веке, - красоты волшебной, умирающей, в белокаменной владимиро-суздальской резьбе; хранитель Сережа, отпирающий его для посетителей, каждый раз, кажется, физически страдает от туристического невежества, тупых фотовспышек, общего нашего щелкоперского уровня - и, благоговейно понизив голос, рассказывает историю собора, камен, росписей.
Сейчас в городе новый мэр, и жители хвалят его: многое изменилось, улицы ремонтируют, летом так вообще красота. («Раньше, знаете, как говорили? „Юрьев-Польский - грязный и скользкий“, - сказала мне благочинная Свято-Никольского монастыря матушка Елисея, - а сейчас уже не говорят - совсем другой город стал». В монастыре не смотрели фильм, но в курсе происходящего, и переживания горожан в общем-то хорошо понимают.)
III.
Сюжет «Юрьева дня» хладнокровен и прям. Оперная прима Любовь приезжает с 20-летним сыном на побывку в Юрьев, где не была много лет, - Любовь намерена переехать то ли в Германию, то ли в Австрию - и устраивает символическое прощание (оно же знакомство) с малой родиной. Любовь поет на колокольне, просит брюзгливого, трогательно-беспомощного в мажорной своей хамоватости сына впитывать воздух родины, - мальчик впитывает, и тут-то поганая гугнивая родимая матушка Россия слопала его, как чушка своего поросенка, - пропадает мальчик, и все. Мать начинает судорожные поиски, опрощается до предела и самоумаляется до Люськи, ищет отрока в других отроках - послушнике и уголовнике, сношается с хрипатым ментом, который тоже уголовник, сквозь богатое пламя горящих помоек видит самое себя на телеэкране (так горит ее европейское прошлое) и завершает цикл в церковном хоре, где ее сварливо отчитывают за плохой слух. «Юрьев день» - обыкновенный (уже обыкновенный) постмодернистский пир, в нем есть игра цитат (временами остроумная), жонглирование клише категории «рашен соул», не очень свежая идея духовного обнажения и «прорыва к себе» через социальное самоуничижение. Кинематографический Юрьев - концентрированная русская терра, средоточие травестированной русской онтологии, чередующее приметы низости и душевной высоты, пятна брутальной чернухи и мотивы простенькой надрывной «духовки». Символика монастыря, кабака, тюряги, вся эта технологичная чересполосица тюремно-чахоточной харкотины, светлой алкогольной слезы и купольного злата должны - вероятно, по замыслу авторов - создавать многомерный, рельефный, разноплановый образ Родины. Се вид Отечества, гравюра, - мурло провинции, жадное и жалкое, опасное и беззащитное, крепость девяносто градусов, в кальсонах желтая влага, а сквозь блев и рыгания прорастает Псалом 33.
IV.
О «Юрьеве дне» не стоило бы говорить как о художественном событии, - но этическим потрясением для жителей города он cтал безусловно. И проблема вовсе не в «неблагодарности москвичей за хлеб-соль» да в «мы к гостям с открытым сердцем, а они нам в рот плюнули». (Конечно, как всякая девушка хочет выглядеть хотя бы на фотографии «красивенько» - свежо и большеглазо, и чтоб ясная родинка была крупным планом, а бородавки ли, прыщика не было совсем, - так и каждый город хочет повернуться к нуждающемуся в нем заезжему искусству приятной стороной лица. Но дело не в этом.) Юрьеву делегировали мрак, безысходность, безнадежность, полускотский уклад.
Город к премьере готовился, планировал торжественный показ, но после просмотра городские власти решили: никакого большого экрана. Шепчут, что «власти запретили», - но как это можно запретить? - на DVD все посмотрели, - и узнали о себе всю подноготную: весь город красит волосы «интимным суриком» (денег на краску типа нет), по улицам города ходят угрюмые немые бабы с пивом в руках, живописно, в колористике последнего дня Помпеи, горят небывалые помойки, в музее работает заполошное дебиловатое бабье.
Разумеется, Юрьев можно было остранить и отстранить как угодно, но вероятно, ономастический и омонимический соблазны оказались непреодолимыми: тут и собственно имя города, и Юрьев день как метафора «перемены участи», и имя сценариста (у Юрия Арабова дача под соседним городком - Кольчугиным, собственно, исключительно поэтому - а не в силу каких-то инфернальных достоинств Юрьев и попал под раздачу). Так или иначе, но город Юрьев - не фон, а один из главных персонажей картины.
Юрьев уже работал киногородом - Арбатовым в «Золотом теленке», и это - гордость, веха и главная легенда; самый приличный городской ресторан называется «Золотым теленком», кормят, правда, невкусно, зато по-европейски не разрешают курить, а со стены смотрит Юрский-Бендер во всех ракурсах, и струится на нем полосатый шарф.
Но Арбатовым работать не стыдно. Его нет на карте, как нет ни города Глупова, ни города Тьфуславля, ни бесчисленных городов N русской литературы.
V.
- Мы родина Никона Радонежского, а не родина помоек! - почти кричит директор музейного комплекса Надежда Анатольевна Егорова (вход в ее кабинет - из музея Багратиона, где героиня фильма искала сына под аутентичной каретой из имения Голицыных).
А было так. Приехали осенью позапрошлого года красивые, очень такие культурные московские мальчики, «они же хорошо воспитанные, образованные», ну, понятно, произвели впечатление. Сценарий Юрия Арабова - да, дали почитать. Сценарий как сценарий, история про горе матери, вот она потеряла сына, и вот ищет его, все ищет, бедненькая, блуждает, не находит. Ну что ж, дело-то хорошее. Музею заплатили 50 тысяч рублей за съемки, киногруппа поселилась в Суздале, за 65 км (это сейчас в Юрьеве как минимум две отличные гостиницы, а тогда было неважно), и каждый день ездили туда-обратно. Надежде Анатольевне напрячься бы тогда, но она-то со всем уважением к художественному видению, надо так надо. Думалось, они - деятели культуры - коллеги. Претерпевали, конечно, неудобства. Вот однажды закрыли Надежду Анатольевну в собственном кабинете, а ее машина ждет, надо с бумагами ехать во Владимир, в область, - так вот заперли, потому что у них видите ли не получался дубль (у Ксении Раппопорт - «хорошая очень женщина, воспитанная, доброжелательная, без этого вот всего» - он не получался, роль шла с трудом, уж она очень мучилась; теперь-то Надежда Анатольевна понимает, почему, - в такой грязи участвовать непросто, все в художнике сопротивляется). Город во всем шел навстречу, вот приличная заводская столовая, стену которой разобрали, чтобы построить смрадную рюмочную; большой «автобус с чипсами» ездил за киногруппой, потом музейщики убирали мусор, обертки всякие. Терпели, можно сказать, все.
- Я не поехала к Гордону на «Закрытый показ», потому что не понимаю, кому, кому еще надо доказывать, что это очень плохой фильм, - говорит, почти поет Надежда Анатольевна (здесь, в Юрьеве, уже отчетливо «окают»). - Разве надо доказывать? Разве это каждому не очевидно? Это русофобный фильм, неумный, не имеющий отношения к действительности!
И недоумевает: не каждому очевидно, нет?
Нет, они, конечно, не будут писать никаких писем, протестовать и все такое. Есть некоторая досада, что не распознали гадство, что поспособствовали.
Теперь они будут бдительнее.
VI.
И в самом деле: жители Юрьева проглотили бы, наверное, нелицеприятную правду о себе. Поморщились бы, но приняли, - благо материала, как и в любом российском отходническом городе, хватает, здешнее неблагополучие - не кричащее, но устойчивое. Показали бы юрьевские помойки - ладно, они есть, да и где их нет, но помойки именно что понастроили, инсталлировали, городу были атрибутированы чужие язвы и трупные пятна - зачем, зачем? Разве ему не хватает собственных?
Но этическая реакция горожан - вовсе не простодушный протест «мы не такие».
Речь, в конце концов, не о них.
Речь о смыслах, которые у них пытаются отнять.
Наша родина - не такая, говорят юрьевцы, и наша душа не о том, и смысл жизни наш не такой.
Но другая - нравственно здоровая провинция столицам не нужна, потому что не интересна, а значит, не рентабельна. Это народническая традиция находила, наряду с «четвертью лошади», учительницу-подвижницу Абрикосову, которая, в свою очередь будила от животной жизни совсем оскотинившуюся окрестность, - нынче ж, напротив, провинции рисуют особенное скотство.
Мы останавливаемся у полумертвого дома - в Юрьеве на удивление много живописных деревянных руин, заброшенных деревянных домов, и видим на крыше голову деревянной лошадки.
Этим летом, говорят, в Юрьеве ожидают наплыва туристов.
Они приедут смотреть на «русскую духовность» по-серебренниковски - грязненькую, паскудненькую, глумливую, фальшивую, как соевый творог.
Другой им никто не предложил.
Другая - не фестивальная, не артхаусная, не экспортная - инвестиций не заслуживает.
- А Ксению-то Раппопорт, бедную, - говорит Надежда Анатольевна, - наверное, не возьмут никуда больше сниматься. Очень хорошая женщина, актриса хорошая - и так попала.
* ВОИНСТВО * Александр Храмчихин Притча о Меркуриях
Два капитана
180 лет назад Россия вела очередную войну с Турцией, обидевшейся на то, что Петербург, Париж и Лондон поддержали антитурецкое восстание в Греции. Войну при этом Стамбул объявил только нам.
Черноморский флот развернул активные действия против береговых крепостей и торговых коммуникаций Турции. В конце концов султан приказал своим морякам пресечь действия русских.
8 мая 1829 года из Босфора вышла турецкая эскадра в составе шести линейных кораблей, двух фрегатов и шести малых кораблей. Через три дня в районе Синопа она встретилась с русским 44-пушечным фрегатом «Рафаил», который занимался каперством на турецких коммуникациях (захватывал торговые суда). Командовал фрегатом капитан 2-го ранга Семен Стройников.
Разумеется, фрегат не имел возможности на равных вести бой с вражеской эскадрой, но он мог хотя бы попытаться от нее уйти. Фрегат был заведомо быстроходнее линейных кораблей, а с остальными можно было и сразиться. Но «Рафаил» сдался без малейшего сопротивления.
Раньше Стройников был командиром брига «Меркурий», на нем он в мае 1828 года захватил в районе Анапы турецкий транспорт с десантом 300 человек и тремя знаменами. За это он был награжден орденом Св. Анны 2-й степени и получил под командование фрегат. За сдачу же туркам этого самого фрегата Николай I лишил Стройникова (и всех остальных офицеров «Рафаила», вернувшихся из турецкого плена после окончания войны) чинов, орденов и дворянства. Все офицеры были разжалованы в матросы, а Стройникову царь специально запретил жениться, «дабы не иметь в России потомства труса и изменника».
Тем временем, турецкая эскадра, возвращавшаяся от Синопа, подошла к Босфору. И 14 мая наткнулась на группу из трех русских кораблей: фрегата «Штандарт» и бригов «Орфей» и «Меркурий». «Меркурий» был тот самый, коим два года назад командовал Стройников. Теперь командиром корабля являлся капитан-лейтенант Александр Казарский.
Турки, вдохновленные победой над «Рафаилом» и своим огромным преимуществом в силах, естественно, решили повторить успех. А «Штандарт» и «Орфей» сделали то, чего тремя днями раньше не смог (или не захотел) совершить «Рафаил» - бежали, пользуясь своей быстроходностью. «Меркурий» же стал от них отставать. Его догоняли флагман турецкой эскадры 110-пушечный линейный корабль «Селимие» и 74-пушечный линейный корабль «Реал-бей». Итого - 184 пушки. У «Меркурия» пушек было 18, исключительно мелких. То есть превосходство турок в артиллерии было десятикратным, а с учетом мощи орудий - и еще большим.
Разумеется, на парусных кораблях задействовать сразу всю артиллерию, как правило, было невозможно, поскольку пушки находились на нескольких палубах внутри корабля, были жестко закреплены, вследствие чего имели малый угол наведения. То есть стреляли, по сути, только перпендикулярно борту своего корабля. Поэтому турки, взявшие «Меркурий» «в два огня» (один корабль подошел к бригу справа, другой - слева), могли использовать лишь половину своих пушек (а вот «Меркурий» как раз все, поскольку стрелял на оба борта). А еще часть турецкой артиллерии выпадала из игры, поскольку «Меркурий» был совсем маленьким, некоторые турецкие пушки (в первую очередь - кормовые) просто нельзя было на него довернуть. Однако это принципиально дела не меняло, превосходство турок было таким, что исход боя для «Меркурия» был очевиден - гибель или сдача.
Казарский собрал офицерский совет и спросил, что именно выбирают господа офицеры - гибель или сдачу? По традиции первым высказывался младший по чину, в данном случае поручик Прокофьев. Он предложил драться до конца, а потом взорвать бриг. Возражений не было. Казарский приказал положить у входа в крюйт-камеру заряженный пистолет, чтобы последний оставшийся в живых офицер взорвал корабль, выстрелив в бочку с порохом.
Маленький «Меркурий» кроме парусов имел еще и весла, которые позволяли ему идти даже в полный штиль, а также повышали его маневренность. Используя паруса и весла, бриг старался уйти от противника, а также сбить ему прицел. Сам же он стрелял по парусам турецких кораблей (по корпусам стрелять было бесполезно, эффекта от маленьких ядер не было бы никакого).
Турки вели по «Меркурию» яростный огонь из носовых пушек на протяжении четырех часов. На бриге было убито четверо и ранено восемь человек, в корпусе и парусах корабля оказалось свыше трехсот пробоин.
Тем не менее, русский корабль добился нескольких попаданий в паруса и такелаж турецких кораблей. При слабом ветре этого оказалось достаточно, чтобы лишить их хода. Сначала лег в дрейф флагманский «Селимие», затем стал отставать и наконец прекратил преследование «Реал-бей». «Меркурий», пользуясь наличием весел, ушел. Нанеся тем самым турецкому флоту унизительнейшее поражение.
Формально турки не понесли в этом бою никаких потерь (не считать же таковыми поврежденные паруса), но они были обязаны захватить или уничтожить «Меркурий», другой исход боя при имевшемся соотношении сил был просто немыслим. Однако именно другой исход и случился, из-за чего морально-психологическое поражение турок оказалось хуже, чем многие реальные поражения с серьезными потерями.
Николай I произвел Казарского в капитаны 2-го ранга и наградил орденом Св. Георгия 4-й степени («Георгий» был высшей воинской наградой Российской империи). Следующие чины и ордена получили все офицеры брига, на их дворянских гербах по указанию императора появилось изображение пистолета (того, с помощью которого предполагалось взорвать «Меркурий»). Бриг получил Георгиевский флаг, Николай приказал всегда иметь в составе Черноморского флота корабль с названием «Меркурий» или «Память Меркурия». Разумеется, после 1917 года этот приказ действовать перестал, и лишь в середине 60-х на ЧФ вновь появилась «Память Меркурия», правда, досталось это название не боевому кораблю, а вспомогательному (гидрографическому) судну. Тогда же имя «Александр Казарский» получил один из тральщиков. Сейчас они оба уже списаны.
В 1834 году в Севастополе на средства, собранные черноморскими моряками, был поставлен памятник с надписью «Казарскому. Потомству в пример». К тому времени Александра Ивановича Казарского уже год, как не было на свете, он прожил всего 36 лет, причины его смерти до сих пор непонятны. Как раз в этом же 1834 году вышел из заключения и был зачислен матросом на ЧФ предыдущий командир «Меркурия» Стройников. Интересно, что сданный им «Рафаил» стал единственной потерей русского флота в той войне.
Поставленный в пример потомству, собственного потомства Казарский не оставил (как и Стройников). До своей такой ранней смерти Казарский успел стать капитаном 1-го ранга, командиром линейного корабля, офицером свиты императора.
В этой поучительной истории двух командиров «Меркурия» есть еще один интересный момент - поведение «Штандарта» и «Орфея». Конечно, при подавляющем превосходстве противника бегство было единственно правильным вариантом. Если не учитывать того обстоятельства, что они бросили на растерзание туркам «Меркурий», не вспомнив суворовского «сам погибай, а товарища выручай». Впрочем, в пример потомству их ведь и не поставили.
* МЕЩАНСТВО * Эдуард Дорожкин Не нра…
Нравственность как предмет личного пользования
Жанр пресс-трипа - халявной журналистской поездки за туристической «фактурой» - уныл и бесцветен. Лишь иногда приносит он наблюдения существеннее, чем количество «мишленовских» звезд на ресторане да число мест багажа Louis Vuitton в бизнес-лаунже аэропорта. Так что мне с Татьяной, участвовавшей в нашей недавней поездке по маленькой необъятной стране Эстонии, считаю, просто повезло. Уже в первый вечер она совершенно потрясла мой слух рассказом о «шикарном монастыре», увиденном в одной из областей, сопредельных с Московской. «Там русский дух, там Русью пахнет», - примерно к этому сводился смысл ее восторженных наблюдений. «Ты что, с ума сошел, - Татьяна вырвала из моих рук вилку, уже готовую вонзиться в карпаччо из тунца, - я еще его не сфотографировала». Постепенно выяснилось, что Татьяне не нравится не только то, что я не фотографирую блюда, но и то, что заказываю вино, выбегаю курить, читаю газеты на английском языке и даю чаевые. Час «икс» пробил на побережье, на отреставрированной до состояния пятизвездочной гостиницы традиционной эстонской мызе, где Татьяне достался президентский номер. «Не понимаю, зачем все это, - произнесла она, пригубливая, как на кустодиевской картине, чай. - По мне уж лучше взять палатку, отъехать километров на сто от Москвы, порубить колбаски и заночевать, хорошенько помолившись. А это все для безнравственных людей, погрязших в роскоши. Ну типа вас, Эдуард». Эдуард в тот момент как раз думал, чем вносить в банк очередной ипотечный платеж: зарплаты на его основном месте работы почти не стало, мама, проработавшая всю жизнь на государство, получила 4 400 рублей пенсии, и впереди был абсолютный мрак с возможным исходом в бегство, в эмиграцию. Еще за ним охотились бандиты - они, точь-в-точь как Татьяна, считали, что он опасно погряз в роскоши, и в этой ситуации человеку, конечно, надо помочь. Иначе безнравственно.
На следующий день безнравственный человек восхищенно наблюдал на ресепшн другой пятизвездочной гостиницы, в небольшом курортном городке на берегу Балтийского моря, сцену, совершенно восхитившую его. Татьяна вручала портье бутылку «Столичной» - отчего-то совсем крохотную, на полвздоха. Крохотную-то крохотную, однако, безнравственному человеку уже давно не приходило в голову возить с собой подарки, и ему даже стало бы неловко, и справедливо неловко, если бы у сюжета не случилось продолжения. За «Столичной» последовала бутылка - такая же миниатюрная - «Курвуазье», за «Курвуазье» - «Бомбей Сапфир», за джином - «Джонни Прогульщик», как называют этот виски безнравственные люди с Рублевки, и только явление «Ягермайстера», совсем уж не походившего на дар из России, сорвало пелену с глаз зачарованного наблюдателя. Пользуясь удобным случаем, Татьяна опустошила мини-бар, сложив содержимое в необъятную сумку свою, - и только случайный заход в номер горничной, принесшей свежие фрукты и новый букет, воспрепятствовал вывозу алкогольной компоненты за пределы ажурной ограды гостиничного сада.
Эта история, и трогательная, и безобразная одновременно, не стоила бы внимания, если бы в ней, как в капле воды, будь неладна эта капля, не отразилось весьма распространенное в наших краях отношение к нравственности как к предмету личного пользования, зубочистке там, или клизме, или раствору для линз. В терминах нравственности и безнравственности у нас любят описывать явления, к которым значительно лучше подошли бы антонимические пары «выгодно-безрассудно», «художественно оправданно - безвкусно», «социально опасно - общественно-полезно» и так далее.
Неслучайно Галина Вишневская, ни с того ни с сего обругавшая фатально аскетичного «Евгения Онегина» в Большом, рассуждала о нем именно с точки зрения нравственности - к авторскому произведению искусства вообще применимой с огромной, почти на разрыв, натяжкой. Я спросил, нравится ли ему новая версии «Онегина», у буфетчика Дениса, что работает в большетеатровском «зимнем саду», и он ответил «Нет. Снег не падает». И в этом наивном «Снег не падает», отсылающем нас к одной из самых выдающихся сцен предыдущей постановки, значительно больше вкуса, наблюдательности, ума, чем в морально-этических эскападах Вишневской. Между НРАВится и НРАВственностью значительно больше связи, чем может показаться.
«Мне хочется взять автомат и стрелять, стрелять, стрелять без остановки», - говорит моя тишайшая соседка Маша со второго этажа. Все окна ее грандиозной квартиры выходят на Тверскую - и Маше, с ее непрекращающейся гипертонией, победа российской сборной по хоккею аукнулась бессонной ночью под аккомпанемент клаксонов, петард и прочих шумных проявлений народного восторга. «Это абсолютно безнравственные люди, - продолжает Маша. - Я не виновата в том, что мой дед был академиком, а их - мел говно». Аморальные или просто невоспитанные?
С одним из тех, кто жал на клаксон в ту ночь, я сейчас в очередном пресс-трипе. Он с удовольствием рассказывает о часах ликования, резюмирует: «Оторвались - супер». Я киваю: «Замечательно», - считаю безнравственным затевать ссору на чужой земле, да еще и при исполнении. Он тоже занят. У него есть жертва - несчастная практикантка Джессика, приехавшая из 8-го округа Парижа работать под палящим испанским солнцем. Она, как персонаж Ахмадулиной, «упряма, юна и толста». Особенно толста. Его это невероятно забавляет, невероятно. Он похлопывает Джессику по ягодицам, приторно обнимает ее, нараспев, чтобы услышала, говорит: «Ей бы на ДИ-Е-ТУ и была бы персик». Тут я все-таки не выдерживаю, говорю что-то вежливое, но довольно жесткое. «Да ладно, ты че паришься-то, а?» Проблема ведь в том, что она, жительница авеню Ваграм, ему ответить не может: во-первых, на службе, во-вторых, - не владеет соответствующим инструментарием. И тут уже, конечно, для меня не время разбираться в терминологии.
Меж тем борьба с безнравственностью, благодаря усилиям Госдумы, давно считается у нас делом первостепенной важности, государственным. С завидной периодичностью возобновляется инициатива по созданию некого ареопага, который будет контролировать нравственность на телевидении - при этом речь, разумеется, не идет о запрете «Евровидения» и «Скандалов недели», о нет. Вот только что приняли в первом чтении закон о защите детей и подростков от насилия и сексуальной агитации. Из сводки запомнилось что-то совершенно абсурдное: «Защитить подрастающее поколение от пропаганды порнографии» - будто порнография, самая человеческая из всех человеческих сфер деятельности, нуждается хоть в какой-то дополнительной агитации. В Амстердаме, совсем наоборот, порнографию защищают от подростков, да и от более взрослых граждан тоже, в общедоступных брошюрах объясняя, что нельзя показывать на проституток пальцем, гасить о них окурки, смеяться над ними и обзывать их бранными словами. И ведь работает: в Голландии почти нет преступлений на сексуальной почве, в отличие, скажем, от соседней Бельгии, где педофилия едва ли не стала национальным увлечением.
Забота о духовном здоровье нации, которое, в силу известных исторических и географических особенностей, вполне могло бы покоиться на невеликом наборе христианских заповедей, сведена в России к какой-то странной борьбе за чистоту сексуальных рядов. Вернее, за то, чтобы, если уж говорить по-простому, все было шито-крыто. Впечатление такое, что войну за нравственность ведут не вполне полноценные люди. Полноценный человек же не может быть уверен в том, что, если процесс соития назвать «этим делом» и перестать печатать картинки, на которых, по меткому наблюдению одного моего знакомого, «палочка тычет в кружочек», желающих потыкать станет меньше? Нет, полноценный человек скорее уверен в обратном. Он знает, что запретный плод сладок, сам проходил, и что в результате страусиной политики страна наполнится сюжетами из «Ворошиловского стрелка», и ведь уже наполняется.
Наши борцы за нравственность больше всего похожи на борцов с выпивкой. Многократно проверено: если человек воротит нос от рюмки и уж тем более позволяет себе недружелюбно высказываться о людях, умеющих пропустить бокальчик-другой, значит, дело плохо. Значит, в прошлом - белая горячка, пьяная драка, заваленный «диплом», слезы матери, кулаки брата, ужас, низость, упадок, «привод». И значит, не стоит удивляться, если на следующий день нравственник окажется на ресепшен с тележкой из мини-бара и будет истошно кричать, что он не станет платить за выпитый джин-тоник, потому что «безнравственно тянуть деньги из русского журналиста».
* ХУДОЖЕСТВО * Аркадий Ипполитов Семейный портрет в интерьере
Федор Толстой в Русском музее
Кто был элегантнее молодых людей восьмисотых годов? Никто и никогда. Только денди восьмисотых и были настоящими денди, все остальные - жалкие подражатели. Сквозь века молодой человек магнетизирует зрителя взглядом. Двубортный фрак, короткий спереди настолько, что между фраком и брюками с высокой талией вылезает узкая полоска белоснежного белья, но с длинными фалдами, скорее облегающими, чем прикрывающими зад, с широким вырезом на груди, демонстрирующим водопад тонких и легких складок рубашки, панталоны, обволакивающие бедра, сапоги тонкой кожи по колено, подчеркивающие форму ног, черный галстук по самый подбородок, делающий шею удивительно длинной, с острыми кончиками воротника, выпущенными поверх него так, чтобы искусно обрамить лицо, растрепанная завитость прически, скрещенные на груди руки и взгляд задумчиво-меланхоличный, безразлично-уверенный в своей неотразимости. Круто: продуманная небрежность во всем, в каждой детали, от кончика сапога до локона над ухом.
А еще - нейтральный бежевый фон для изощренной линии, обрисовывающей силуэт, темный на светлом, ритм квадратов паркета, функциональный геометризм легкой мебели и брошенные на письменный стол приметы войны, кортик на толстой кожаной перевязи и бонапартовская шляпа, намекающие на героичность этой элегантности, на ее близость к битве и к смерти. Замечательное время, 1804 год, непринужденное ожидание и запах свободы во всем: еще недавно за прическу а ля Титус и круглую шляпу в Сибирь можно было угодить, а теперь, после 1801 года, все молодо и ново, как молоды новые императоры, русский и французский, испытывающие друг к другу симпатию; императоры готовы дружить, все идет к Тильзиту, поэтому и бонапартовская шляпа, как знак перемен, на столе. Европа помолодела вместе с императорами, заодно с крохотными итальянскими и немецкими княжествами из нее исчезли кюлоты, шитье, парики и пудра, и ощущение нового столетия объяло молодежь, везде и во всем веет легкое дыхание. Автопортрет Федора Толстого 1804 года, образ самого элегантного, самого эффектного мужчины во всей русской живописи, более эффектный, чем даже серовский Феликс Юсупов.
Что может быть лучше русского ампира? «Везде показались алебастровые вазы с иссеченными мифологическими изображениями, курильницы и столики в виде треножников, курильские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов. Позолоченное или крашеное и лакированное дерево давно уже забыто, гладкая латунь тоже брошена; а красное дерево, вошедшее во всеобщее употребление, начало украшаться вызолоченными бронзовыми фигурами прекрасной обработки, лирами, головками: медузиными, львиными и даже бараньими. Все это пришло к нам не ранее 1805 года, и, по-моему, в этом роде ничего лучше придумать невозможно. Могли ли жители окрестностей Везувия вообразить себе, что через полторы тысячи лет из их могил весь житейский быт вдруг перейдет в гиперборейские страны? Одно было в этом несколько смешно: все те вещи, кои у древних были для обыкновенного домашнего употребления, у французов и у нас служили одним украшением; например, вазы не сохраняли у нас никаких жидкостей, треножники не курились и лампы в древнем вкусе, со своими длинными носиками, никогда не зажигались». Так описал барон Филипп Филиппович Вигель в своих «Записках» русский ампир, стиль, протагонистом которого стал Федор Толстой, элегантный молодой человек с бонапартовской шляпой на столе. Филипп Филиппович писал свои воспоминания в 1840-е годы, когда вкус и мода сильно изменились, так что в его словах ощущается легкая и добродушная ирония. Однако вигелевское описание стиля очень точно и, в общем-то, прибавить к нему что-либо новое довольно трудно.
Сегодня под словами барона «в этом роде ничего лучше придумать невозможно» распишется каждый. Первая треть XIX века представляется нам окруженной ровным и ясным светом, недаром это время значится в истории искусства под определением русский «золотой век». Образ русского ампира, возникающий в нашей памяти, излучает внутреннее свечение. Упоительное время «Войны и Мiра», семьи Ростовых, семьи Болконских, салона Анны Павловны Шерер и роскошных плеч Элен Безуховой. Лучшая архитектура, лучшие парки, лучшая мебель, балы и обеды, приемы и дуэли, красавицы и кавалергарды. Императоры, правда, рассорились, был Аустерлиц, да и Москва сгорела, но только для того, чтобы краше стать, ибо какой же Мiръ без Войны, бал без гусаров и уланов, русская история без героизма Бородина, без сражения при Березине, и без толпы оборванных, опозоренных французов; а вот и первый шаг Александра за пределы России, вскоре русские освободят Берлин, Амстердам, дойдут до Парижа и установят рекорд глубины своего проникновения в Европу. Нет в российской истории более славного времени, и первые десять лет царствования императора Александра I окружены ровным и ясным светом, и нет пока ни Аракчеева, ни декабристов.
Каждый образ русского ампира, возникающий в нашей памяти, излучает внутренний блеск, будь то парадный дворцовый прием в огромной зале, белые платья, белые лосины, бриллианты и золото эполет, грандиозные люстры сияют, шуршит светский шепот, и император в блеске своего величия милостиво улыбается всей стране, или будь это скромный кабинет усадебного дома, освещенный лишь мерцающим на письменном столе светильником с фигурой весталки, поэт склонился над столом, за окном осень, непременно болдинская, просторы и дали, поля, леса, народ, золотые маковки церквей, все так изыскано и героично, все красиво и немного искусственно, как барельефы Федора Толстого, воспевающие подвиги Отечественной войны 1812 года. Привкус военного героизма в них столь сладок, что только оттеняет сияние Мiра.
Вот он, истинно гламурный патриотизм Войны, куда там до него премии Кандинского! Воск на грифельной доске, белые фигурки на голубом фоне, ювелирная кукольность величия. Трое мужчин трех возрастов с голыми ногами, обняв друг друга нежно и решительно, тянут руки к матроне в диадеме-кокошнике, в тоге-сарафане, за тремя мечами, которые она сжала в кулаке как букет сухих цветов; мечи небольшие, немного игрушечные, и во всей сцене, символически изображающей народное ополчение 1812 года и единство трех русских сословий, ощутима прелестная хрупкость фарфоровых бисквитов, заставляющая Геракла Фарнезе и Аполлона Бельведерского украшать туалетные столики. Бородинская битва, представленная в виде па-де-труа воинов, кружащихся над трупом четвертого. Парень в развевающемся плаще, перепрыгивающий через сонного голого старика, раздвинувшего ноги и между ног просунувшего густую бороду, - бегство Наполеона за Неман. Босоногий стройный мужчина в обтягивающей водолазке и юбочке выше колена, одной рукой опирающийся на фашину, а на второй руке, воздетой вверх, в жесте всем известного победного древнеримского приветствия, держащий двуглавого орла так, как будто он собрался с ним на охоту, - битва при Лейпциге, 1813 год. Прелесть прото-национал-социализма, ласкающая и взгляд, и сердце.
Все это сделал элегантный денди с бежево-черного рисунка 1804 года двадцать лет спустя. Эти рельефы с их неоклассической нежностью до сих пор определяют стиль восприятия великой народной победы над Наполеоном, придавая ей балетное изящество, заставляющее забыть гарь пожаров и отмороженные уши. Федор Толстой был очень талантлив, хотя и тщателен до мелочности. Но в этой мелочности всегда было нечто большее, чем точность и аккуратность: вазы не сохраняли никаких жидкостей, треножники не курились, и лампы никогда не зажигались, но был во всей этой декоративной мишуре тайный смысл, придававший ей смертельное обаяние, ощутимое и сегодня, два века спустя.
Вот, например, толстовские птички, цветочки и землянички. Вроде бы обыкновенные обманки, но есть в них что-то гипнотизирующее, подсказывающее зрителю, что цветок, изображенный на этих акварелях больше чем цветок, и виноградины - больше чем просто фрукты. «Ветка винограда» 1817 года отнюдь не ботаническая зарисовка. Античные авторы рассказывают, что Зевксис, знаменитый художник Древней Греции, изобразил гроздь винограда столь правдиво, что птицы, обманутые изображением, слетелись его клевать. Эта история приводилась в качестве примера торжества искусства, посрамившего саму природу. Все картины Зевксиса пропали еще во времена античности, но рассказ остался, и со времени Возрождения его повторяли и повторяли все любители искусств в назидание творцам: то-то, мол, были художники, как рисовать умели, не то, что нынешнее племя. На творцов история производила впечатление, и, время от времени вспоминая ее, они пытались Зевксису подражать, как это сделал, например, Караваджо в своей «Корзине фруктов» с вываливающимися из нее зрелыми, слегка даже тронутыми гнилью, гроздьями винограда. То есть, собственно, подражать было нечему, так как виноград Зевксиса исчез, как и вообще весь виноград античности, превратившись в тлен и прах, и Караваджиева «Корзина с фруктами» не простой натюрморт, не «мертвая природа», обманка, но историческая картина. Караваджо не воспроизводит фрукты с рынка в надежде, что, подобно толпе профанов, слетится стая уличных голубей и примется долбать своими клювами. Он не делает муляж реальности для тупиц, но создает произведение для интеллектуалов, воссоздавая сцену из древней жизни: на залитой солнцем агоре собрались мудрецы в белых тогах, запустили пятерни в бороды и ахают, - а перед ними стоит картина с виноградной кистью, над ней кружится стая птиц, верещит, роняя кал и перья. Хичкок третьего века до Рождества Христова. Виноградная же кисть Зевксиса незыблема и прекрасна, доказывает превосходство искусства над жизнью, никакой она не натурализм, а большое концептуальное произведение, так же, как и «Корзина фруктов», и вслед за Зевксисом и Караваджо Федор Толстой вполне себе Кабаков, только рисует тоньше. Не будем говорить, что лучше, это не имеет никакого значения.
Или, может быть, кто-то думает, что «Букет цветов, бабочка и птичка» салонная картинка, сделанная для императрицы Елизаветы Алексеевны? Как бы не так - это повесть о душе и ее воскресении. Недаром в том же 1820 году, в котором Толстой ее нарисовал, он начал создавать свои иллюстрации к «Душеньке» Богдановича, этакую парадигму русского ампира. Композиция «Букета цветов», внешне столь простая и непосредственная, полна скрытых, неявных аллюзий. Неужели вы думаете, что Толстому было неизвестно, что бабочка, любимица Психеи, уподоблялась в христианской иконографии душе человеческой, а гусеница - бренному человеческому телу, заключающему в своем уродстве, обреченном ползать во прахе мира, божественную свободу прекрасного полета бессмертия, освобождающегося из плена тленной оболочки только после конца земного существования? И что в рисунке Толстого гусеница случайно изгибается внизу, а бабочка случайно воспарила вверх, к прекрасному анемону, венчающему композицию, к цветку, символизирующему смерть и воскрешение, выросшему из крови погибшего Адониса, возлюбленного Афродиты? Что Толстой не знал, что анемонами были усыпаны поля Элизиума? И что щегленок, птичка, чье возвращение к жизни стало первым чудом Младенца Иисуса, наградившего его красной отметиной на головке и способностью воплощать собой «смертью смерть поправ», случайно балансирует на карандаше, символе изобразительного искусства? И что собрать в одно целое гусеницу, бабочку, птичку и цветы, цветущие в разное время года, в реальности невозможно?
Как каждый приличный человек того времени, Федор Толстой был, конечно же, масоном, поэтому все его произведения полны двойственности: героичность триумфальных рельефов, посвященных победе 1812 года, легка, как пух из уст Эола, а птички с цветочками намекают на сакральные тайны. Чуть ли не единственное его живописное полотно, дошедшее до нас, «В комнатах», несмотря на внешнюю простоту, не менее увлекательно, чем «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти. Вроде бы комнаты и комнаты, ничего особенного, но есть в этой сцене странная притягательность. Еще бы - вся картина построена по закону золотого сечения, четко делясь на квадрат и прямоугольник. Две трети композиции - квадрат земной и темной реальности, а одна треть - раскрытый проем дверей, ведущий в залитую золотистым светом олимпийскую невесомость, населенную богами. В земной части - семья, ночной вид, зелень и тени, в божественной - легкий золотистый свет, лира, Аполлон, Венера и бог сна Морфей у зеркала, отражающего бесконечность. Сквозь зеркало, как известно, входит и уходит Смерть, родная сестра Сна-Морфея, зеркало является границей времени и вечности, и художник близок к вратам, раскрытым в мир олимпийского блаженства, он готов встать, чтобы в него отправиться, но его задерживают какие-то семейственные разбирательства. Жена, настойчивая, как Креуза, что шла за Энеем, на одной руке перчатка, вторая зажата в руке, прямо Ахматова времени ранних песен, чего-то вопросительно ждет с видом, как будто сняла решительно пиджак наброшенный, а он прощения не попросил. Творец недоуменно оправдывается, стило себе прямо в грудь воткнул, а старушка около зеркала и Морфея сидит и вяжет, как Парка нить судьбы, воплощенное ожидание. В ампирных комнатах все не просто.
Расположенная в двух залах дворца графа Строганова, одного из главных русских масонов и близкого друга Толстого, выставка столь замечательна, что вспоминается лопотание герцогини Германтской, образец обаятельного снобизма, без которого хороший вкус немыслим. В первом томе «В поисках утраченного времени» эта дама замечает: «Можете себе представить: вся мебель у них в стиле „ампир“!… Я же не говорю, что у всех непременно должны быть красивые вещи, но это не значит, что нужно держать в доме всякую дрянь. Как хотите, но я не знаю ничего более пошлого, более мещанского, чем этот ужасный стиль, чем эти комоды с лебедями, как на ванных». Через пару десятков лет та же героиня восклицает: «Признаюсь, я всегда обожала стиль ампир, даже когда он был не в моде. Помню, как возмущена была в Германте моя свекровь, когда я велела спустить с чердака весь дивный ампир…»
Дмитрий Быков Выход Слуцкого
Поэт, который не стремился к гармонии
Девяностолетие Слуцкого (7 мая) прошло практически незамеченным, но я уже так привык начинать подобным образом статьи о российских литераторах, приуроченные к календарному поводу (другого повода высказаться о них в прессе почти не представляется), что обязательный этот зачин можно было бы вовсе миновать, кабы не особая значимость даты. Окуджаве, например, повезло родиться 9 мая - и сразу тебе символ. В дне рождения Слуцкого тоже есть символ. Свое 26-летие он отмечал накануне победы, и я рискнул бы сказать, что накануне победы в каком-то смысле прошла вся его жизнь, но до самой этой победы он по разным причинам не дожил. Истинная его слава настала почти сразу после смерти, когда подвижник, литературный секретарь и младший друг Юрий Болдырев опубликовал лежавшее в столе. Сначала вышли «Неоконченные споры», потом трехтомник - ныне, кстати, совершенно недоставаемый. Есть важный критерий для оценки поэта - стоимость его книги в наше время, когда и живой поэт нужен главным образом родне: скажем, восьмитомный Блок в букинистическом отделе того или иного дома книги стоит от полутора до двух тысяч, а трехтомный Слуцкий 1991 года - от трех до четырех. Это не значит, разумеется, что Слуцкий лучше Блока, но он нужнее. Умер он в 1986 году, как раз накануне того времени, когда стал по-настоящему нужен. Замолчал за 9 лет до того. А ведь Слуцкий - даже больной, даже отказывающийся видеть людей, но сохранивший всю ясность ума и весь тютчевский интерес к «последним политическим известиям», - мог стать одной из ключевых фигур эпохи. Как знать, может быть, потрясение и вывело бы его из затворничества, из бездны отчаяния, - хотя могло и добить; но вообще у него был характер бойца, вызовы его не пугали и не расслабляли, а отмобилизовывали, так что мог и воспрянуть. Годы его были по нынешним временам не мафусаиловы - 58, когда замолчал, 67, когда умер.
Однако до победы своей Слуцкий не дожил - разумею под победой не только и не столько свободу образца 1986 года (за которой он, думаю, одним из первых разглядел бы энтропию), сколько торжество своей литературной манеры. Это, разумеется, не значит, что в этой манере стали писать все, - значит лишь, что в литературе восторжествовала сама идея поэтического языка, самоценного, не зависящего от темы. Наиболее упорно эту идею артикулировал Бродский. Бродский - тот, кому посчастливилось до победы дожить (он и родился 24 мая - всюду символы); и характером, и манерами, и даже ашкеназской бледностью, синеглазостью, рыжиной он Слуцкого весьма напоминал, и любил его, и охотно цитировал. Бродскому было присуще редкое благородство по части отношения к учителям, лишний раз доказывающее, что большой поэт без крепкого нравственного стержня немыслим: он производил в наставники даже тех, от кого в молодости попросту услышал ободряющее слово. Но относительно прямого влияния Слуцкого все понятно: это влияние и человеческое, и поэтическое (главным образом на уровне просодии - Бродский сделал следующий шаг в направлении, указанном Маяковским, конкретизированном Слуцким, и обозначил, вероятно, предел, повесив за собой «кирпич»). Но в особо значительной степени это влияние стратегическое - я часто употребляю этот термин, и пора бы его объяснить.
Выступая давеча в Лондоне, Умберто Эко сказал, что долго размышлял над фундаментальной проблемой, которую никак не получается строго формализовать: что, собственно, заставляет писателя писать? В конце концов он не придумал ничего лучшего, чем своеобразный аналог гумилевской «пассионарности»: писателем движет то, что он предложил назвать «нарративным импульсом». Хочется рассказать, приятно рассказывать. Или, наоборот, надо как-то выкинуть из памяти, избыть. Но чаще это все-таки удовольствие, разговор о вещах, приятных, так сказать, на язык. С поэзией в этом смысле сложней, потому что усилие требуется большее - и для генерирования известного пафоса, без которого лирики не бывает (а поди ты в повседневности его сгенерируй), и просто для формального совершенства: рифмы всякие, размер, звукопись… То есть поэту нужен нарративный импульс, который сильнее в разы. Поэзия трудно сосуществует с особо жестокой реальностью, потому что эта реальность ее как бы отменяет: хрупкая вещь, непонятно, как ее соположить в уме с кошмарами ХХ века. Когда Адорно сказал, что после Освенцима нельзя писать стихи, он, должно быть, погорячился: иное дело, что этим стихам как-то меньше веришь. Стихи ведь в идеале - высказывание как бы от лица всего человечества. Они потому и расходятся на цитаты: проза - дело более личное, стихи - уже почти фольклор. И вот после того, как это самое человечество такого натворило, - как-то трудно себе представить, как оно будет признаваться в любви, мило острить, любоваться пейзажем. Фразу Адорно следует, конечно, воспринимать в том смысле, что после Освенцима нельзя писать ПРЕЖНИЕ стихи: поэзия - сильная вещь, ни один кошмар ее пока не перекошмарил, ни один ужас не отменил, но несколько переменился сам ее raison d? etre. Она должна научиться разговаривать с миром с позиций силы; и вот для этого Слуцкий сделал много.
Собственно, raison d’etre поэтического высказывания - «почему это вообще должно быть сказано, и почему в рифму» - в каждом случае индивидуален; он-то и называется стратегией поэта. Главная пропасть между Пушкиным и Лермонтовым, скажем, лежит как раз в этой области: в силу исключительного формального совершенства - «на вершине все тропы сходятся» - они кажутся ближе, сходственней, чем в реальности. На самом деле вот где две противоположные стратегии - пушкинское жизнеприятие, описанный Синявским нейтралитет, всевместимость, равная готовность всем сопереживать и все описать (на враждебный взгляд это кажется пустотой) - и лермонтовская явная агрессия, деятельное, воинственное, субъективное начало, интонация «власть имеющего», о чем так гениально сказал Лев Толстой Русанову. Это и есть разговор с позиций силы, и эту интонацию надо было найти. «Кастетом кроиться миру в черепе». Применительно к двадцатым ее нашел Маяковский, применительно к послевоенной эпохе - Слуцкий.
Задача заключалась в том, чтобы найти язык, на котором можно сказать вообще что угодно - и это будет не просто поэзией, но поэзией агрессивной, наступательной, интонационно-заразительной. Слуцкий этот язык нашел, нащупал его основные черты, дискурсом его с тех пор в той или иной степени пользовались все большие поэты следующего поколения. Единственную альтернативу ему предложил вечный друг-соперник Самойлов, которым Слуцкий нередко любовался - и которого все-таки недолюбливал. Тут тема не для одного исследования. Самойлов воевал не хуже, хоть и не дослужился до майора и не устанавливал советскую власть в Венгрии. Самойлов не был либералом - дневники рисуют его скорее имперцем, да и в стихах чувствуется никак не эскепизм, не эстетизм и не дистанцированность от вопросов времени. Никакого релятивизма, опять-таки. Просто где у Слуцкого пафос прямого высказывания - там у Самойлова глубокий и могучий подтекст: это не страх расшифровки, не обход цензуры, а просто поэтика такая. Самойлов, грубо говоря, приложим к большему числу ситуаций - может, поэтому он сегодня даже востребованней Слуцкого: многое из того, о чем говорил Слуцкий, ушло и сегодня уже непонятно. А Самойлов высказывается на поверхностный взгляд общо и расплывчато: «Эта плоская равнина, лес, раздетый догола… Только облачная мнимо возвышается гора. Гладко небо, воздух гладок, гладки травы на лугах - и какой-то беспорядок только в вышних облаках». Это про все, в том числе и про эпоху, но во времена, когда Самойлов «выбрал залив», - Слуцкий остается в Москве, он конкретен и пристален, его тексты насыщены сиюминутными реалиями. Это не мешает им оставаться поэзией, поскольку найденная Слуцким литературная манера позволяет говорить о чем угодно - с абсолютной прямотой и естественностью. Таким манером можно прогноз погоды излагать - и будет поэзия.
Вот здесь и есть их главное сходство с Бродским, стратегическое: нащупать манеру, интонацию, стилистику, в которой смысл высказывания перестает быть принципиальным. Важен активный, наступательный стих. Ведь, что греха таить, повод для высказывания у Слуцкого бывает совершенно ничтожным, а у Бродского иногда вовсе отсутствует, что и декларируется, - но напор речи сам по себе таков, что слушаешь и повторяешь. У Слуцкого есть гениальные стихи, но есть и ровный фон обычных очень хороших, когда он говорит о чем попало, лишь бы говорить. И в этом заключается главное поэтическое открытие второй половины ХХ века, известное в разных формулировках (чаще всего их, в силу публичной профессии национального поэта, озвучивал опять же Бродский), но сейчас мы попробуем высказаться с наибольшей откровенностью. Во второй половине ХХ века стало окончательно ясно: неважно, о чем говорить. Любая идея может на практике обернуться своей противоположностью. Строго говоря, идей вообще нет. Есть способ изложения, - и поэтическая речь есть абсолютная самоценность, поскольку она сложно организована и в этом качестве противостоит мировой энтропии. А энтропия есть единственное бесспорное и абсолютное зло. Поэтому любой, кто хорошо, энергично, точно, мнемонически-привлекательно пишет в рифму, уже делает благое дело; и это, может быть, единственное доступное благо. Найти тему не составляет труда, конечно, призывать в стихах к убийству не следует; но симоновское «Убей его!» не стало ведь хуже, хотя это квинтэссенция ненависти и в известном смысле отказ от любых гуманистических ограничений. Но и Маяковский не стал хуже от того, что сказал: «Стар - убивать. На пепельницы черепа!» Сам способ поэтического высказывания отрицает бесчеловечную сущность этих стихов. Поскольку лучшее, что может делать человек, - это гармонизировать мир, то есть писать в рифму.
Слуцкий сделал для этой гармонизации очень много, потому что писал по три-четыре стихотворения в день в лучшие времена и по одному - в непродуктивные. Раз наработав приемы и способ высказывания, он уже никогда с этой дороги не сходил, хотя и оттачивал метод, доводил до блеска, расширял сферу приложимости и т. д. Задача изначально заключалась в нахождении и апробировании таких приемов, с помощью которых можно рассказать про все - в том числе про то, как человек от голода выедает мясо с собственной ладони. Вот почему зрелый Слуцкий начинается с «Кельнской ямы»: если можно в стихах рассказать про такое, дальше можно все. В этой же стилистике можно рассказывать про «Лошадей в океане», а можно про смерть жены, про такие вещи, о которых думать страшно, не то что говорить:
Я был кругом виноват, а Таня мне все же нежно сказала: Прости! - почти в последней точке скитания по долгому мучающему пути. Преодолевая страшную связь больничной койки и бедного тела, она мучительно приподнялась - прощенья попросить захотела. А я ничего не видел кругом - слеза горела, не перегорала, поскольку был виноват кругом, и я был жив, а она умирала.Правда, в этой же стилистике можно писать и о вещах совершенно повседневных, особого интереса не представляющих, можно хоть газету пересказывать, - но все равно это будет захватывающе, убедительно и победительно. Что, у позднего Бродского мало трюизмов и самоповторов? Да полно. Человеческого содержания жизни, на глазах иссякающей, уже не хватает на новые темы и отважные обобщения: триста метров вдоль фасада пройти трудно. Но поэтический дискурс, механизм преобразования прозы в поэзию, - работает: ну так надо писать, чтобы бороться с распадом - мировым ли, своим ли собственным… В случае Слуцкого речь шла прежде всего о преодолении собственной болезни, личного глубинного неблагополучия - поэзия была тем способом самоорганизации, приведения себя в чувство, которым он пользовался многие годы для борьбы с депрессиями, с ужасом мира, это была единственная опора, с помощью которой он умудрялся, столько натерпевшись и навидавшись, сохранять рассудок. Когда это отказало, безумие подступило вплотную - ум остался, исчезло желание и сила жить, потом начались фобии - страх нищеты, страх голода… То есть причинная связь выглядела не так, как иногда пишут, - не стихи перестал писать оттого, что сошел с ума, а сошел с ума, когда не смог больше заслоняться стихами. Думаю, с Бродским случилось бы то же, но у него крепче были нервы, и все-таки он не воевал, не был так тяжело контужен: способность сочинять сохранялась, и за ее счет он прожил дольше, чем мог при своей сердечной болезни, состарившей и разрушившей его в какие-то пять лет.
Из чего складывается эта спасительная манера Слуцкого, как, строго говоря, организована его поэтическая речь, универсальная, как философский камень, превращающая в факт поэзии и самую жуткую реальность, и любую газетную белиберду, - вопрос отдельный, сложный и скорее профессиональный; назовем некоторые приметы, самые общие. Прежде всего - пристрастие к размыванию, расшатыванию традиционного стихотворного размера: начавши в этих рамках, в следующих строфах Слуцкий меняет стопность, синкопирует стих. Это в каком-то смысле метафора самой жизни, постепенно и временами грубо расширяющей наши представления о возможном и допустимом. Музыкальные повторы - Слуцкий ведь очень музыкален, просто это музыка не моцартовская, а прокофьевская, «пожарный оркестр» Шостаковича, грубые марши. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне» - вполне музыкально, но это музыка ударных и духовых, а не скрипок и мандолин. Внезапная, обрубленная концовка - та же установка на прямое высказывание, сознательный и эффектный отказ от внешнего эффекта, простите за тавтологию. Небывалая прямота, отсутствие экивоков - именно позиция «власть имеющего», - отказ от метафоры, декларативность, иногда снижаемая иронией. Предельно упрощенная, иногда до полной тавтологичности, рифма. «Скоро мне или нескоро отправляться в мир иной - неоконченные споры не окончатся со мной. Начались они задолго, лет за триста до меня, и окончатся нескоро - много лет после меня». Это просто до примитива, но это врезается; обосновывая эту манеру, Новелла Матвеева писала когда-то, что слово «караул» не будешь выкладывать из ромбиков, из мозаичных восьмигранничков - его закричишь. Слуцкий так говорит обо всем, всему сообщая масштаб: прижизненные публикации иногда смущали необязательностью повода. В посмертных обнаружилось: все-таки чаще всего он старался высказываться о главном, а второстепенное - так, чтобы не сойти с ума, не утерять навыка. Но это-то и проходило. А Мартынов, например, почти весь из этого состоял, хотя манеру выработал тоже обаятельную, наступательную - и рассматривался одно время со Слуцким в одной обойме, в эпоху ранней оттепели. Мартынов там и остался, а Слуцкий пошел дальше.
Разумеется, сводить Слуцкого к одной форме, интонации, стратегии - было бы неверно, хотя, пользуясь его стихом, и самый мелкий поэт может при желании успешно закосить под крупного. Слуцкий касался самых больных тем, и делал это опять-таки с прямотой и отвагой власть имеющего, Главной из этих тем оставалась, я думаю, неспособность угодить Богу - тема не еврейская, а глубоко человеческая, одна из самых онтологичных и неизбежных. Сюда вписывается и «А мой хозяин не любил меня» - это ведь не только о Сталине, - и одно из самых откровенных его стихотворений поздних лет:
Как ни посмотришь, сказано умно - Ошибок мало, а достоинств много. А с точки зренья господа-то бога? Господь, он скажет: «Все равно говно!» Господ не любит умных и ученых, Предпочитает тихих дураков, Не уважает новообращенных И с любопытством чтит еретиков.Вот в чем проблема: угодить невозможно. «Таких, как я, хозяева не любят». Это может быть уродливый бог, вроде Сталина, а может - всеблагой и всемудрый, но Слуцкого он не полюбит ни при каких обстоятельствах. А почему? А установка такая. Только при этой установке Слуцкий может жить и работать. Она, так сказать, его собственный raison d'etre, поэтическая маска: одному поэту, чтобы писать, нужно представлять себя безвестным и обижаемым, другому - счастливым и удачно влюбленным, а третьему нужна такая вот позиция нелюбимого подданного, старательного и трудолюбивого исполнителя, обреченного на изгойство. Из этой позиции ему легче понимать, оправдывать и утешать других труждающихся и обремененных; да они просто не поверят другому. Чтобы страдальцы верили поэту-утешителю, он должен им прежде доказать, что он - один из них.
Это носится в воздухе вместе с чадом и дымом, это кажется важным и необходимым, ну а я не желаю его воплощать, не хочу, чтобы одобренье поэта получило оно, это самое «это», не хочу ставить подпись и дуть на печать. Без меня это все утвердят и одобрят, бессловесных простят, несогласных одернут, до конца доведут или в жизнь проведут. Но зарплаты за это я не получаю, отвечаете вы, а не я отвечаю. ведь не я продуцировал этот продукт.Это что, про советскую власть? Да помилуйте.
Тут, кстати, причина его враждебности к Пастернаку - враждебности изначальной, до всякого выступления на пресловутом и злосчастном собрании 31 октября 1958 года. Пастернак в мире - на месте. Его пафос - молитвенный, благодарственный. Слуцкий мира не принимает, пейзажами утешаться не способен (вообще почти не видит их), его мир дисгармоничен, его психика хрупка и уязвима, он не желает мириться с повседневным ужасом, а только на нем и фиксируется. Вселенная Пастернака гармонична, зло в ней - досадное и преодолимое упущение. Вселенная Слуцкого есть сплошной дисгармоничный хаос, дыры в ней надо латать непрерывно, стихи писать - ежедневно, иначе все развалится. Пастернак в мире - благодарный гость, Слуцкий - незаслуженно обижаемый первый ученик, да и все в мире страдают незаслуженно. В мире, каков он есть, Слуцкий не нужен; и все-таки Бог его зачем-то терпит, все-таки в какой-то момент Слуцкий Богу пригодится. А когда? А когда Богу станет плохо; и об этом - одно из лучших его стихотворений:
Завяжи меня узелком на платке, Подержи меня в крепкой руке. Положи меня в темь, в тишину и в тень, На худой конец и про черный день. Я - ржавый гвоздь, что идет на гроба. Я сгожусь судьбине, а не судьбе. Покуда обильны твои хлеба, Зачем я тебе?
Ведь когда-нибудь мироздание покосится, и Бог не сможет с ним сладить. Вот тогда и потребуются такие, как Слуцкий, - дисциплинированные, последовательные, милосердные, не надеющиеся на благодать. Тогда - на их плечах - все и выстоит. А пока в мире нормальный порядок, иерархический, с Богом-хозяином во главе, они не будут востребованы, вообще не будут нужны, будут мучимы. Будут повторять свое вечное «Слово никогда и слово нет», из самого лучшего, по-моему, и самого страшного его стихотворения «Капитан приехал за женой». Оно загадочно, не совсем понятно, и цитировать его здесь я не буду - оно большое. Но повторять про себя люблю. Так же, как повторять в ином состоянии слово «никогда» и слово «нет».
Когда- нибудь, когда мир слетит с катушек, именно на нелюбимчиках вроде Слуцкого все удержится. Тогда сам Бог скажет им спасибо. Но до этого они, как правило, не доживают. Рискну сказать, что весь съехавший с катушек русско-советский мир удержался на таких, как Слуцкий, -не вписывавшихся в нормальный советский социум; и повторяется эта модель из года в год, из рода в род. Русская поэзия не уцелела бы, если бы с сороковых по семидесятые в ней не работал этот рыжеусый плотный человек с хроническими мигренями. Сейчас это, кажется, ясно. Но сказать ему об этом уже нельзя.
Остается надеяться, что он и так знал.


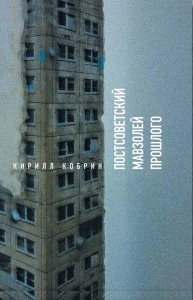
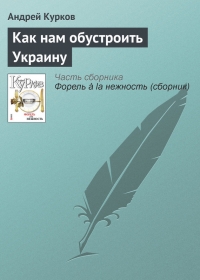
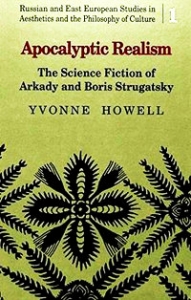


Комментарии к книге «Мораль (май 2009)», Журнал «Русская жизнь»
Всего 0 комментариев