Авторы книги выбрали из огромного числа телевизионных передач десять таких, которые явились в свое время подлинными открытиями, обогатили наше искусство. Они не только рассказали об их передачах, но и предложили тем, кто их сделал, раскрыть «как это делается». В книге читатель найдет статьи о телеспектакле «Кюхля», передаче «Тагильская находка», документальном фильме «Год 46-й» из широко известной серии «Летопись полувека», о многосерийном историческом фильме «Операция „Трест“», теледетективе «31-й отдел», о передаче в жанре фантастики — «Солярис», телебалете «Ромео и Джульетта» и др.
Диспуты о природе телевидения позади. Стало очевидным, что оно не только средство распространения информации, но и первоисточник культуры, создающий ценности, присущие только ему. Видимый эфир оказался эфиром плодоносящим. Телевидение стало великим продолжением культуры, современным хранилищем человеческого гения, всего лучшего, что создано им за тысячелетия развития.
Природа контакта, характерная для телевидения, его обращение к каждому человеку на наиболее интимных волнах общения предложили культуре в разных ее проявлениях качественно новые возможности, о которых ранее не подозревали. Это закономерно, как закономерны были непредвиденные возможности кинематографа, по началу своему казавшегося лишь техническим аттракционом.
Новые возможности телевидения как первоисточника культуры раскрываются и демонстрируются ежедневно, и можно сказать, что мы находимся в начале культурной эры телевидения. Потенциальные возможности его кажутся неограниченными. В то же время современное телевидение универсально впитывает в себя все культурные накопления. Предоставляя свои услуги для тиражирования любого произведения любого жанра искусства, для транспортировки его в наши квартиры, оно одновременно предлагает и новые познавательно-образные возможности. В одном случае — популяризируя и разъясняя, в другом, напротив, — усложняя.
Собственное необратимое воздействие телевидения привело к тому, что уже на ранней стадии создания того или иного произведения, будь то спектакль, фильм, музыкальное творение, хроника, балет, научная популяризация и так далее, художники, деятели культуры стали вначале делать поправку на телевидение, а затем и программировать в соответствии с его возможностями форму и характер своего творения. Сегодня можно говорить о телевизионном творческом акте.
Но телевидение не только продолжение культуры, оно, разумеется, плоть от плоти общества и осуществляет его социальные, политические и культурные установки. Наше телевидение — часть советской культуры, и принципиальные особенности последней присущи ему в полной мере.
На Западе пишут, что телевидение — принадлежность «массовой культуры». Понятие это собирательно, все еще достаточно расплывчато и включает в себя как идеологию, так и технологию. Если под «массовой культурой» априорно понимать «культуру второго сорта», предназначенную к употреблению не в качестве духовной пищи, совершенствующей человека, а в качестве стандартизированной порции духовного наркотика, паразитирующего на наиболее некультивированных и неуправляемых инстинктах, то вряд ли такая «массовая культура» может вызвать симпатии.
Являясь принадлежностью «общества потребления», обладая уже детально разработанными приемами и теорией, такая «массовая культура» — плоть от плоти исторически бесперспективного «общества частной инициативы». Если же понимать под «массовой культурой» собственно культуру для масс (легко заметить, как кардинально меняется содержание от одного лишь превращения прилагательного в существительное!), требующую учета специфики одновременного обращения к многомиллионной аудитории, обладающей колоссальным разнообразием культурных уровней и запросов, социально экономическими и географическими особенностями — аудитории, разбитой в то же время на семейные ячейки, то такая культура с появлением телевидения действительно требует особого внимания и нового подхода.
В западной специальной и общей прессе, в работах социологов и теоретиков «массовой культуры» исходная формула нередко выглядит так: телевидение создает современного человека. Эта формула кажется нам скорее эффектным публицистическим преувеличением, нежели истиной, хотя, несомненно, телевидение в огромной степени участвует в создании духовного мира современного человека.
Создание современного человека в его лучших, исторически прогрессивных нравственных и социальных чертах начато не сегодня и не телевидением. Духовный мир человека образуется социальным и нравственным климатом общества, частью которого человек является. Человек — результат развития мировой культуры, реализации всех тех культурных богатств, которые выработаны человечеством. Роль самого телевидения, его судьба и место в нашей повседневности зависят, на наш взгляд, в первую очередь оттого, насколько эффективно оно включится в этот процесс (не начнет его заново «с нуля», а именно включится!), насколько ему самому будет присущ пафос преемственности, в какой степени его ценности окажутся сопоставимыми с бесспорными ценностями в разных областях культуры, являющимися эталоном.
Сопоставимость, слитность с культурным процессом, который при всех кажущихся катаклизмах с их непрерывной «отменой» предшествующих ценностей неделим, — в этой сфере лежат критерии истинности и ценности того, что создает сегодня собственно телевидение. Итак, средство коммуникации становится первоисточником культуры. Один из решающих показателей освоения человеком культуры — его способность и стремление к выбору. Технический феномен, все еще шокирующий впервые включающего телевизор, обязан стать и становится на наших глазах тактичным воспитателем личности, оберегающим ее неповторимость, ее автономность. Формуле теоретиков «массовой культуры»: «Все смотрят всё» — необходимо противопоставить принципиально иное. Каждый смотрит то, что необходимо для совершенствования его духовного потенциала. Итак, не поверхностное, но глубокое и творческое участие телевидения в развитии культуры. На основе выработанного до него и помимо него создание своих ценностей, которые могут быть получены только на телевидении, — вот высшая цель!
Телевидение сегодня — один из ведущих инструментов в сложном оркестре культурного воздействия на человека. Телевидение становится глобальным. Земной шар мал. Но земля людей — безгранична! При всем нынешнем своем размахе наше телевидение молодо. Завоевывая новые пространства и зрительские контингенты, экспериментируя, совершенствуясь, имея уже бесспорные достижения, оказавшие влияние не только на миллионы зрителей, но и на более «взрослые» искусства — театр и кинематограф, — телевидение, как это и происходит обычно с молодым бурно развивающимся культурным организмом, только начинает создавать свою историю. Многое оказалось незафиксированным, неописанным. Если же учесть, что видеозапись и широкое использование кинотехники пришли на телевидение не сразу, если вспомнить, сколько прямых передач безвозвратно ушло, то станет очевидной важность обширной историкокритической и теоретической библиотеки, посвященной советскому телевидению.
Предлагаемую читателю книгу можно назвать историческим сборником. Хотя некоторые передачи, здесь описанные, время от времени и появляются в сегодняшних телевизионных программах, созданы они уже сравнительно давно — для телевидения ведь и десять лет большой срок. Все эти передачи характерны одним общим признаком: в своем жанре они показательны. Их отличает не только высокий уровень, но и присутствие того нового, что внесло телевидение, они являются теми культурными ценностями телевидения, о которых шла речь. Конечно, читатель в каждом из взятых нами жанров назовет много других передач, показанных в последующие годы и в самое последнее время. Мы могли бы назвать здесь множество многосерийных фильмов, фильмов-балетов, фильмов-расследований, фильмов-концертов, фильмов-спектаклей, возможных только на телевидении, сделанных с учетом специфически телевизионных принципов и обнародованных телевидением. Мы сознательно не делаем этого, представляя здесь их предшественников, прародителей, собратьев. Надо надеяться, что появятся другие сборники или даже отдельные книги, посвященные этим передачам, по аналогии со сборниками и книгами, год за годом фиксирующими лучшие достижения театра и кинематографа. Думается, приходит время специальных телевизионных «ежегодников».
При выборе передач составители книги руководствовались двумя соображениями. Передача являет собой нечто новое, в известной степени открытие, «откровение», продвигает дальше жанр, в котором сделана, расширяет его возможности, раздвигает горизонты. Передача предполагает свободные выходы в различные сферы культуры, литературы, науки, искусства. Она — повод для раздумий, исследований и дает зрителям высокую степень чувственного и умственного потрясения.
Передача стала явлением, она сама по себе — культурная ценность. Если это передача о жизни Пушкина («Тагильская находка» И.Андроникова), то такая, из которой миллионы людей узнали о судьбе национального гения новое и важное. Если это телевизионный балет на музыку Чайковского, то такой, который раскрывает по-новому и саму музыку и творчество великого композитора и дает возможность обдумать новые формы этого старинного искусства. Если это документальный фильм (такой, например, как «Год 46-й» из «Летописи полувека»), то такой, который можно считать образцом документального телевизионного фильма.
Думается, общие принципы книги ясны. Авторы отдельных глав ее стремятся выйти за рамки передачи, связать ее с проблемами искусства, истории, литературы, с нравственными, общественными вопросами. С другой стороны, они рассказывают читателю, «как это сделано». В последнем им помогают те, кто это сделал, — авторы передач, сценаристы, актеры, режиссеры. Телевидение, как и театр, и кинематограф, необычайно интересно, увлекательно своей технологией, которую мы только начинаем познавать. Вот почему в книгу включены беседы с людьми, работа которых получила признание. Их опыт важен и поучителен.
Такой исторический подход, на наш взгляд, чрезвычайно важен и для современной практики работников телевидения. Известно, что на заре всякого искусства в нем образуется ядро, сердцевина, составляющие его непреходящую ценность. Потом начинается бурное развитие, возникает новое качество, изумляет количество. Там же, где речь идет об искусствах, связанных со средствами массовой коммуникации, процесс этот особенно интенсивен. Появляются десятки тысяч произведений. Сделанное на заре кажется детством, временем счастливой наивности, вызывающим добрую, но снисходительную улыбку умудренной зрелости. Но наступает момент, — он-то и характеризует истинную зрелость, — когда то или иное искусство начинает пристально вглядываться в свои первые опыты, с удивлением обнаруживая в них собственные первородные законы.
Истоки телевидения на нашей живой памяти. Думается, в потоке нынешних передач, спектаклей, фильмов телевидению очень важно всмотреться в свое начало. В какой-то мере этот сборник пытается выполнить именно эту функцию.
ВРЕМЯ И ЕГО ОБРАЗ А.Свободин
Наша документалистика — кинематографическая и телевизионная, кажется, уже научилась делать все. Инсценировка стала признаком дурного тона, наблюдающая и скрытая камера, перестав быть модой, превратилась в непременную принадлежность большинства репортажных лент, бесконечные прямые синхронные интервью, возможно, даже надоели и авторам и зрителям, ассоциативный монтаж в своей изощренности приобретает уже некую инфернальность. И после периода ученичества, увлечения модными приемами, когда казалось, только поставь скрытую камеру, найди неожиданный контрапункт изображения и звука — и волшебная птица удачи в твоих руках, наступил период сначала разочарования, а затем трезвого размышления. Стало ясно, что новые штампы ничуть не лучше старых; что банальности — произносит ли их герой, смущенно улыбаясь и запинаясь или заученно, по шпаргалке — все равно остаются банальностями; что прием сам по себе еще ничего не решает, будь то бесхитростная съемка официальной встречи или хитроумное провокативное интервью.
А решает талант, оригинальность видения, яркость индивидуальности художника, уровень его мышления. И те самые интервью, которые невыносимы во многих документальных фильмах, оказались интересны в картине «Все мои сыновья». И съемки футбола, бывшие хроникальными, безликими во множестве спортивных фильмов и телевизионных репортажей, вдруг обрели тему и формальную законченность последовательно проведенного приема в фильме «Футбол без мяча».
Но что это такое «индивидуальность» применительно к монтажному фильму, где режиссер имеет дело с пленкой, отснятой не им, с явлениями, по поводу которых история уже сказала свое слово? Тем не менее, факт, что в наиболее значительных монтажных работах последнего десятилетия особенно ярко видна связь между документальным материалом и личностью художника, увидевшего и расшифровавшего этот материал. Процесс, конечно, начался давно. Пожалуй, после экспериментов Вертова, после гневной военной публицистики Довженко наиболее открыто, демонстративно выразил себя в документальном материале Ромм в фильме «Обыкновенный фашизм». Не только в монтаже, в отборе материала, но и в том, что сам он произносил текст фильма как бы «от себя», от имени пожилого, много видевшего, размышляющего о виденном человека. Личность художника стала в фильме нравственным эталоном для происходящих на экране событий.
К сожалению, многие кинематографисты увидели в этом комментарии, сделанном от имени автора, лишь прием. В ряде картин режиссеры начали сами читать дикторский текст — самобытности фильмам сие не прибавило, но профессиональный уровень снизило. Пожалуй, лишь в двух картинах последнего времени авторское режиссерское чтение не было эпигонством «Обыкновенного фашизма», а было оправдано самой биографией авторов. Фильм «Гренада, Гренада, Гренада моя» начинается с пролога, в котором два уже немолодых человека — Р.Кармен и К.Симонов — рассматривают кадры старой испанской хроники и вспоминают свою молодость — молодость хроникера испанских событий и молодость поэта, для которого, как и для всего поколения 30-х годов, война в Испании была частью его биографии. Рассказ об этом времени естествен в устах авторов, ибо это рассказ и о их жизни. И точно так же естествен авторский голос в другом фильме, посвященном испанской теме. На Киевской студии документальных и научно-популярных фильмов режиссер Фернандес сделал фильм «Иду к тебе, Испания». Это рассказ о судьбах испанских людей, эвакуированных во время войны из Испании и нашедших свою вторую родину в России. Сегодня эти люди поставлены перед выбором — вернуться в Испанию или остаться в России, выбором трудным, мучительным: слишком многое связывает их с Россией, и в то же время родина зовет властно к себе. Режиссер беседует с русскими испанцами, с их женами, он размышляет вслух — все время звучит его глуховатый с акцентом голос. В картине есть истинная авторская грусть, беспокойство, желание найти выход для своих друзей, для самого себя, есть драма людей, оказавшихся на разломе истории и не желающих идти на компромиссы.
Но вот фильм, в котором автор не выступает сам с комментарием, в картине вообще очень мало дикторского текста, а между тем личность автора, его творческая воля, его интеллект ясно видны, они проступают в каждой монтажной фразе, в каждом эпизоде. Это фильм «Год 1946-й» из «Летописи полувека», подготовленной телевидением к 50-летию Октября. Можно по-разному относиться к фильмам, составляющим эту летопись, — пожалуй, в них та же пропорция плохого, среднего и хорошего, которая существует среди любых 50 наудачу выбранных картин. Но историческое и эстетическое значение этой летописи несомненно. Чтобы воскресить полувековой путь нашего государства, надо было собрать, иногда заново, иногда в первый раз открыть для экрана массу кино- и фотоматериалов. И что еще важней — в процессе создания «Летописи» воспитывалась культура работы над документом и формировалось особое эстетическое качество, которое можно определить приблизительно как историзм мышления в том смысле, какой вкладывал в это слово Эйзенштейн, — историзм как ощущение включенности фрагмента действительности в большой исторический процесс, умение увидеть сегодняшний день как момент между вчера и завтра, умение увидеть время в его корнях и перспективах. Я думаю, что этот историзм в высшей степени свойствен фильму «Год 1946-й».
Картина эта бесспорно выделяется из ряда других. И не только в пределах «Летописи». Это явление принципиальное для всей нашей документалистики в ее монтажном разделе, явление, к сожалению, недооцененное и даже до сих пор подробно не разобранное. А работа Игоря Беляева и его соавтора по сценарию Юлии Толмачевой бесспорно такого разбора заслуживает.
Задача, поставленная перед автором «Летописи», была с точки зрения эстетической необычайно трудной: сделать фильм не о каком-то человеке, или событии, или явлении, а просто о годе жизни страны и мира. Игорь Беляев сумел решить эту задачу. Перед ним, как и перед другими авторами фильмов «Летописи», лежала груда хроникальных сюжетов, отразивших события года. Первые послевоенные выборы и праздник в Тушине, торжественные демонстрации и парады, возвращение демобилизованных солдат и восстановление разрушенных заводов, неурожай 1946 года и первый ток восстановленного Днепрогэса. Конференции в Париже и Лондоне, первая сессия Организации Объединенных Наций и речь Черчилля в Фултоне, испытание атомной бомбы на Бикини и создание первого атомного реактора в Советском Союзе.
Как можно было преодолеть разнородность, разноразрядность событий, найти единство, а не ограничиться перечнем? Беляев начинает свой фильм последними залпами войны Грохот разрывов, белесые, точно выцветшие кадры боя и… тишина. Черные поля, сквозь которые идет надпись: «Мирное время». И сразу праздничные ларьки на Манежной площади, елочный базар — Новый, 1946 год. Традиционный праздник в Колонном зале: клоун, подхватив ребят, несется вокруг елки в праздничном галопе, играя на губной гармошке, — стоп-кадр, и на жалобном звуке губной гармошки снова дети, но не праздничные, не в сиянии новогодних огней — оборванные, в лаптях, нищие дети войны. Набор ребят в ремесленные училища. Четырнадцатилетний мальчишка отвечает на вопросы корреспондента: «Отца немцы убили, мать с голоду умерла».
Уже в этих первых эпизодах резко заявляется основной принцип построения фильма — принцип контраста: счастье завоеванной победы и тяжесть первого послевоенного года. Праздничный, многократно запечатленный хроникой тех лет фасад времени и его с трудом разысканный в отдельных кадрах горестный тыл — разруха, нищета, неизжитая беда войны. Потом этот принцип будет сформулирован прямо в словах царя Федора — И.Москвина из спектакля МХАТа, еще шедшего в том, 1946 году: «Какой я царь? Меня во всех делах и с толку сбить и обмануть нетрудно. В одном лишь только я не обманусь: когда меж тем, что бело иль черно, избрать я должен». Свет и тени времени, белое и черное — они резко отбиты монтажными стыками, стоп-кадрами, тишиной музыкальных пауз. И в то же время они даны в своей причинной связи, в своей конфликтности, они комментируют друг друга без слов и исчерпывающе. Могущество монтажного сопоставления, понятое и освоенное Беляевым!
Была на исходе 1944 года сделана Иваном Пырьевым картина «В шесть часов вечера после войны». Режиссер запечатлел в ней мечту о мирном времени, о дне победы, как он виделся тогда из окопов, из военного голодного тыла. Девушки в белых платьях, мужчины в парадных мундирах, с цветами. Встреча на Каменном мосту под огнями праздничного салюта. Правду мечты режиссер предпочел обыденной реальности. И имел тогда на это право. Через 20 с лишним лет другой художник посмотрел на это время с иной исторической дистанции, и объективность историка заставила его после праздничной новогодней елки дать кадры ребят, приезжающих из разоренной Белоруссии в ремесленные училища. Всего несколько кадров, но эпоха предстает в ее объемности.
Был фильм «Суд народов». Хорошая картина Романа Кармена с гневным публицистическим текстом Б.Горбатова. У Беляева, показывающего суд в Нюрнберге, почти нет текста, лишь небольшой отрывок из речи Руденко. Но когда на репликах подсудимых — «Невиновен! Невиновен!» — идут хорошо известные кадры разбитого сталинградского фонтана, фотографии погибших и груды волос из Освенцима, то комментарий не нужен, монтажный контрапункт говорит сам за себя. И точно так же не нужен этот комментарий к речи Черчилля в Фултоне. Просто за синхронными кадрами речи режиссер дает фотографии Черчилля, выкадровки — холеная рука в перстнях, массивный затылок, улыбающийся Трумэн на заднем плане, а потом три свечи на могиле солдата и плачущая старуха. Две могилы, пять, десять — все поле в могильных памятниках, а Черчилль все говорит, говорит о том, что русские уважают только силу, провозглашает политику отбрасывания, смех и овации покрывают его слова, а на могилах солдат плачут матери.
Режиссер отлично владеет всем арсеналом приемов монтажного кинематографа: музыкальные паузы, лейтмотивы — таким лейтмотивом народного горя стал скорбный звук губной гармошки, заявленный в начале, — стоп-кадры, переосмысление привычных, известных кадров новым контекстом и т. д. Но нигде это не становится демонстрацией мастерства как такового, каждый прием рассчитан и осмыслен. Даже сочетание белых, светлых и темных, черных кадров не случайно. Оно работает на ту же формулу. «В одном лишь только я не обманусь: когда меж тем, что бело иль черно, избрать я должен». Черное и белое, ложь и правда, тьма фашизма и белизна победных, последних боев.
Монтажный ряд этого фильма достоин того, чтобы разбирать его детально, кадр за кадром, ведь именно в этих неслучайных сцеплениях раскрывается последовательная логика художественной мысли, приводящая к результату — цельному, точному образу фильма.
После кадров Нюрнбергского суда и лагерей смерти — ярмарка, пестрая, яркая — жизнь поднимается и вступает в свои права. С аппетитом жующие бабы, связки баранок, карусель — парафраз пырьевских «Кубанских казаков». И потом карусель переходит в такую же вертящуюся панораму по разрушенным заводам. Возвращение с фронта, бравый усатый офицер лихо дирижирует оркестром, улыбающиеся лица, смех и слезы встреч, и вдруг на паузе в музыке, на стоп-кадре, голос диктора. «В этой войне мы потеряли 20 миллионов человек!» Ни на секунду автор не дает нам успокоиться на конечном односложном выводе, на однолинейном взгляде в прошлое, но открывает его пропасти и вершины, его идущие рядом радость и трагедию.
И потому снова за траурной секундой воспоминания сразу, встык веселая свадьба в донской станице, все танцуют кадриль, веселая, проникнутая ожиданием счастья девушка. Но… и опять стоп-кадр — в каком мире она будет жить, и здесь начинается уже описанная выше речь в Фултоне.
И еще один штрих к неспокойному послевоенному миру. Парады союзных войск в Берлине, в Вене — демонстрация единства, мирная конференция в Париже, первая сессия Организации Объединенных Наций в Лондоне, выступление Трюгве Ли — обещание всеобщего вечного мира — и как финал всех этих прекраснодушных фраз гриб атомного взрыва над Бикини. Запад переходит к политике «с позиции силы». Сотрудник Курчатова рассказывает о том, как монтировался первый советский ядерный реактор, и счастливая улыбка Курчатова, когда приборы показывают, что реакция началась.
Не следует думать, однако, что авторы фильма идут только по историческим событиям первого плана. Беляев знает цену бытовым подробностям времени, тем деталям, которые определяют неповторимый колорит.
Многомерность и многоплановость времени, которые он стремится передать, требовали рядом с историей технического прогресса, экономического восстановления и политической борьбы дать историю быта, привычек, мод.
Режиссер прекрасно учел комедийный эффект сегодняшнего восприятия мод, технических новинок давно прошедшего времени, который всегда таится в старой хронике. И, конечно, он не мог пройти мимо таких по «собственному телевизионному ведомству» строчек в статье тогдашнего председателя радиокомитета: «Как известно, по радио можно передавать не только звук, но изображение». И не показать маленькую студию на Шаболовке и популярного в те годы певца Нечаева на сцене в широченных брюках, вызывающих улыбку, не дать выставку мод 1946 года — пиджаки с подложенными плечами, платья со шлейфами и буфами.
Картина Игоря Беляева возникла, конечно, не на пустом месте. За ней — большой опыт и открытия советского монтажного фильма, начиная от Эсфири Шуб. Заслуга Беляева не в изобретении новых приемов, а в применении уже известного к новым задачам, к новому материалу. Так переосмысливает он периодическую хронику первых послевоенных лет.
Он берет сюжет, посвященный передовой, лучшей в стране бригаде трактористок Дарьи Гармаш. Официальный дикторский текст, пересыпанный цифрами рекордов, парадные кадры напряженно улыбающихся трактористок. А потом к этому сюжету он прибавляет кадры из личного альбома Дарьи Гармаш и на фотографиях дает ее рассказ-воспоминание, записанный сегодня, о том, как работали женщины в ее бригаде: техника выдерживала, ее смазывали, ремонтировали, а люди работали на износ, засыпали прямо на пашне. Так через 20 лет нам становится известной и понятной цена рекордов. И на жалобном звуке губной гармошки перед нами проходит то, что редко показывала хроника тех лет, — старики идут за деревянной бороной, руками разбрасывают семена из лукошка.
И еще один кинематографический сюжет — уборка богатого урожая под бодрую маршевую песню, текст о добрых, умелых руках и белые листы писем — сигналы бедствия в Совет Министров на имя Андреева. Письмо Терентия Мальцева: «Довожу до вашего сведения, что во многих деревнях живут хуже, чем в довоенные годы». И как визуальный комментарий к этим строкам идут колхозники, таща телегу, на шахте вручную вертят ворот бадьи. В сочетании с этими документами сюжеты из старых киножурналов обретают новый, неожиданный смысл.
Беляев использовал опыт своих предшественников. Но разве его опыт пропал даром? И когда сейчас мы смотрим фильм «Без легенд», посвященный экскаваторщику Коваленко и построенный на ироническом столкновении сегодняшних интервью со старой хроникой, то нет ли у нас оснований предположить, что здесь были использованы находки «46-го года» …И снова смена цвета. От драматических кадров восстановления шахты — к торжественному описанию рекорда шахтера Голоколосова, выполнившего 400 % нормы. Дробь отбойного молотка, идущий на-гора уголь, и усталый шахтер выходит на шахтный двор, где его ожидают с поздравлениями и цветами. А за подъемом наверх — спуск вниз: военных преступников ведут по ступенькам Нюрнбергского суда в зал в день вынесения приговора. Так заканчивается один из сюжетов фильма, один из сюжетов истории.
За последнее время разгорелись теоретические споры об эстетической природе кино: копирует ли оно в своих кадрах мир или выражает его образную сущность? Наиболее последовательный защитник эстетической полноценности кинематографа А.Мачерет в своей интересной книге «Реальность мира на экране» утверждает, что каждое экранное изображение, каждый кадр «одновременно художественный образ и документ». Это верное для игрового кинематографа утверждение в применении к кино документальному требует определенных оговорок. Было бы слишком смело утверждать, что все кадры даже отличных документальных картин, а тем более хроникальных сюжетов уже несут в себе художественный образ.
Мачерет, очевидно, чувствует это. Он пишет об «обещании искусства», содержащемся в архивных фото- и киноматериалах. Но обещание искусства может превратиться в реальность или нет. Здесь все зависит от художника, от того, в какой монтажный ряд он этот кадр поставит и станет ли этот кадр в данной постройке художественного образа или не станет. Образа тем более пронзительного, что по отдельности эти документальные кадрики в образ не складывались и даже его не обещали.
Стадия соотнесения фактов жизни оказывается наиболее важной в эстетике документализма, будь то кино или литература. И в этом смысле документализм, — быть может, наиболее современное художественное течение. Ибо характерной чертой XX века является именно акцент на соотношении смысловых единиц.
Но обещание искусства превращается в факт обычно лишь в том случае, когда художник знает, что он ищет в документах, когда у него есть общий, пусть не до конца ясный план здания, которое он возводит, ощущение недостающих и необходимых деталей, частей конструкции. Именно это ощущение целого было, очевидно, у Беляева, и потому самый сильный финальный кусок картины родился на неожиданном, казалось бы, не содержащем никаких эстетических возможностей материале.
Последовательно и упорно вел режиссер через всю пестроту, разноплановость исторического материала одну тему, один конфликт: послевоенная разруха и возрождение, первые мирные радости и неисчезнувшая боль войны, но как противоборство двух тем в симфонии требует в итоге некоего высшего синтеза, так этот конфликт требовал от автора коды, в которой он мог бы показать неистребимую силу этой израненной, трудной, голодной и торжествующей жизни.
И этот образ режиссер нашел… в хронике футбольного матча. Трибуны стадиона, бурлящая толпа, хохот и свист на трибунах, «боление» за «своих». Обычный сюжет, какой можно найти в хронике каждого года, разве что толпа одета победнее, чем в спортивных сюжетах 60-х годов.
Но вот режиссер на момент гола дает свой излюбленный стоп-кадр, и на панораме по застывшим в улыбках, комической сокрушенности, радости и восторге лицам идет дикторский комментарий: «Мы остановим сейчас время, чтобы оказаться на трибунах прошлого. Здесь сидят люди, пережившие голод, войну, блокаду. Они еще стоят в очередях за хлебом, многим из них пришлось начинать жизнь заново», — и мы уже в самом деле иначе всматриваемся в лица этих людей, в их вытертые плащи, немодные платья — это уже не стадион для нас, а именно «трибуны прошлого», — и когда диктор говорит такие непривычно громкие для этого фильма слова: «Давайте же подивимся силе нашего народа во все времена», то мы полностью принимаем тон и пафос этих слов. Образ, возникающий здесь, подготавливался всем фильмом. Это эмоциональный процент с «затраченного капитала» мыслей, фактов, сопоставлений, накапливавшихся в течение часа экранного времени.
Так что же такое, — возвращаясь к вопросу, заданному в начале статьи, — «индивидуальность художника в монтажном фильме»? Художника, имеющего дело с грудой мертвого, инертного, не им снятого материала? Она может проявляться в оригинальном приеме, но этого оригинального приема может и не быть. Она может высказаться в авторском комментарии, но авторский голос может и отсутствовать. Есть лишь один обязательный ее симптом. В истинном художнике всегда живет жажда осмысления жизни, потребность в концепции или, как говорил Чехов, «тоска по общей идее».
Она была у Игоря Беляева. Она определила успех его фильма.
Драматизм жизни и взгляд документалиста И.Беляева
— В «Летописи полувека» пятьдесят фильмов. Ваша картина о годе сорок шестом. Вы сами выбрали этот год? — Выбрал сам. Мне предложили несколько «лет», но я остановился на сорок шестом.
Мне казалось, что я хорошо чувствую, понимаю именно этот год. Трудно объяснить… Мне в то время было всего четырнадцать лет, но, тем не менее, это так: я эмоционально помню этот первый послевоенный год.
По своей натуре я склонен к драме, к столкновению идей, характеров, социальных концепций. Год 46-й мне представляется одним из самых драматических. Весь итог четырехлетней войны обрушился на первые мирные дни, в них — как бы в чистом виде следствия гигантских потерь: человеческих, нравственных, материальных. Когда страна воевала, когда шла речь о жизни и смерти народа — тогда некогда было обращать внимание на лишения, на несбывшиеся надежды, на разрушенные судьбы отдельных людей. Но вот одержана победа. Победителями стали все вместе и каждый в отдельности.
Победа означает счастье, победитель должен быть счастлив, это естественно. Но в то же время победа досталась ценой такого горя, таких жертв и разрушений. И тут обнажается драматизм жизни: человек должен радоваться, потому что он одержал великую победу, а жизнь его самого разрушена, дом разрушен, семья уничтожена, родственники полуголодные, сам раздет…
И он вынужден начинать жизнь заново.
В дикторском тексте фильма так и говорится: «Многие в этом году начинали жить заново, хотя жили они на свете, быть может, уже не первый десяток лет».
— В своем фильме Вы использовали разнообразные монтажные приемы, о смысле их пишет Ю. Ханютин. Но как возникает решение использовать тот или иной прием?
— От точного понимания задачи. Дело было не в том, чтобы восстановить хроникально основные события года, а в том, чтобы на материале хроник действительно создать образ времени. Это был год противоречий, отсюда возникла мозаичная структура фильма. Я не искал мягких стыков, плавных переходов от сюжета к сюжету.
Нет! Черное и белое. Резкое сочетание различных явлений, сопоставление событий популярных в философском, нравственном, бытовом отношении. Я считал, что столкновение лоб в лоб людей, взглядов, чувств поможет создать объем в картине. Объем — это когда существует не только текст, но и подтекст, не только первый план, но и второй и третий, когда явление рассматривается с разных сторон, и всякий новый сюжет, который появляется в картине, может не иметь самостоятельного значения, но должен в какой-то степени влиять на впечатление от предыдущего сюжета и от последующего.
Ощущение радости победы и ощущение горя, которое принесла война, должно было воплотиться в чьем-то взгляде… Просматривая хронику, я нашел, например, небольшой кадр с клоуном, играющим на губной гармошке. Он мелькал в картине, посвященной встрече нового года в Колонном зале. Он был очень грустный, этот клоун. (Я вообще не знаю ничего более грустного на свете, чем грустный клоун.) А его губная гармошка — это трофей, который война занесла к нам наряду с прочими трофеями… Клоун сыграл свою грустную мелодию на губной гармошке. Потом время от времени, уж не появляясь, он продолжал играть в картине, и мне казалось, что такой рефрен создает тревожную драматическую ноту, которая и будет способствовать возникновению в фильме объема.
Просматривая на монтажном столе кадры старой хроники и, время от времени, останавливая их, я обнаруживал, что порой часть кадра значительней целого. В части есть смысл, который не был (и не мог быть) заметен человеку, непосредственно наблюдавшему событие. Пытаясь остановить время и вглядеться в него, я стал пользоваться так называемым «стоп-кадром». Например, для оператора, снимавшего в сорок шестом году футбол, главным были перипетии игры, а для меня самым интересным оказались короткие монтажные перебивки, которыми соединялись отдельные эпизоды матча. В этих перебивках были сняты люди того времени в удивительно непосредственной ситуации. Они были одеты так, как одевались в те годы, они реагировали на игру так, как могли реагировать только они, — ни до, ни после таких болельщиков не было. Вглядываясь сегодня в их лица, одежду, наблюдая их манеру вести себя, можно лучше понять время.
Если в одном случае я пользовался «стоп-кадром», в другом мне казался более правильным иной прием укрупнения событий.
Скажем, в сюжете — отдых в каком-то парке. Показана обычная танцплощадка. Но танцуют на ней одни женщины. Для того времени факт настолько обычный, что камера равнодушно скользит мимо танцующих. Через двадцать с лишним лет — это оказалось пронзительной, почти трагической краской времени.
Я не стал останавливать движение. Напротив — многократно повторил его, укрупнив кадр с помощью кинотехники. И вот под музыку «Синего платочка» довольно долго вращается одна пара — женщина с женщиной. Интересно и то, что танцуют они вальс, кружатся на одном месте. Сохранив движение, я рассчитывал на усиление эмоционального впечатления.
В этой картине, как и в других своих фильмах, я стремился к тому, чтобы эмоциональное воздействие на зрителя не уступало игровому кино или театру, потому что для меня документальный фильм — это, прежде всего, особая форма зрелища.
— Как Вы оцениваете другие работы цикла «Летопись полувека»?
— Среди пятидесяти фильмов «Летописи» есть много замечательных. Проделана огромная работа, в течение одного года на незначительной технической базе, которой в то время располагало телевидение, поставлено пятьдесят полнометражных картин. Была поднята в сущности вся советская хроника. Этот труд имел принципиальное значение для творческих работников телевидения. Это была школа мастерства и школа мышления.
— Каково, на ваш взгляд, соотношение игрового и документального кино сегодня?
— Есть люди, которые считают документальное кино второстепенным, а игровое — первостепенным, по-настоящему глубоким, художественным, интересным. Это неверно. Документальный кинематограф такой же первостепенный кинематограф, как игровой. Он должен, может быть таким, он уже такой в своих лучших образцах. Убежден: ближайшее будущее документального кино — огромно.
«СОЛЯРИС»: Проблемы на земле! Н.Жегин
«Всякий может придумать людей наизнанку, антигравитацию или миры вроде гантелей. Интерес возникает, когда все это переводится на язык повседневности и все прочие чудеса начисто отменяются. Тогда рассказ становится человечным. „Что бы вы почувствовали и что бы могло с вами случиться, — таков обычный вопрос, — если бы, к примеру, свиньи могли летать и одна полетела на вас ракетой через изгородь?..“ Но никто не будет раздумывать над ответом, если будут летать и изгороди и дома, или если бы люди обращались во львов, тигров, кошек и собак на каждом шагу, или если бы любой по желанию мог бы стать невидимым. Там, где все может случиться, ничто не вызовет к себе интереса. Читателю надо еще принять правила игры, и автор должен, насколько позволяет такт, употребить все усилия, чтобы тот „обжил“ его фантастическую гипотезу… Коль скоро читатель обманут и поверил в твою фантазию, остается одна забота: сделать остальное реальным и человечным. Подробности надо брать из повседневной действительности еще и для того, чтобы сохранить самую строгую верность первоначальной фантастической посылке, ибо всякая лишняя выдумка, выходящая за ее пределы, придает целому оттенок глупого сочинительства…» Герберт Уэллс.
В телеспектакле «Солярис» по одноименной фантастической повести Станислава Лема все начинается очень реально.
Кабина напоминает диспетчерский пункт аэропорта… Операторы заняты делом, их лица спокойны, пожалуй, будничны, — быть может, готовится дальний рейс, куда-нибудь на Хабаровск, а может быть, и близкий? Но вот так же спокойно сообщается готовность, старт, и начинаешь понимать, что это не самолет, и стало быть не Хабаровск… Перед нами — ракета, стало быть — космос и наверняка — фантастика… Впрочем, то, что это фантастика, мы узнали и раньше, но пока на экране нет еще ничего фантастического. О том, как выглядит в полете космонавт, мы уже знаем, и вид пилота (актер Василий Лановой) предстает вполне земным и знакомым. Сколько продолжается полет, мы не знаем, по экранному времени что-то очень недолго.
Но вот уже гаснет рев реактивных двигателей (впрочем, кажется, там должно быть как-то иначе…), итак:…уже гаснет рев гравитаторов… (или антигравитаторов?). «Что-то остановило контейнер, раздался пронзительный скрежет стали, упруго ударившейся о сталь, что-то открылось подомной, и с продолжительным пыхтящим вздохом металлическая скорлупа, в которой я торчал, выпрямившись, закончила свое стовосьмидесятикилометровое путешествие.
— Станция Солярис. Ноль-ноль. Посадка окончена. Конец, — услышал я мертвый голос контрольного автомата».
Космонавт идет по длинному полутемному коридору космической станции. Его никто не встречает… По-видимому не ждут, да и есть ли тут вообще кто-нибудь, на этой станции? Но вот Кельвин открывает одну из дверей — человек за столиком с недопитой бутылкой опасливо поднимает голову, всматривается блуждающим взглядом и в ужасе, заслоняясь руками, оседает назад… Этот грузный мужчина, забившийся в кресло, большой и беспомощный — Снаут, кибернетик станции. Сначала он кажется просто безумным или напившимся до белой горячки. Он подозрителен, раздавлен страхом, ответы его уклончивы и односложны.
Сарториус наверху, в лаборатории. Если увидишь кого-нибудь другого, понимаешь, не меня и не Сарториуса, понимаешь, то… не делай ничего…
— Кого я могу увидеть? Привидение?!
— Понимаю, думаешь, я сошел с ума. Еще нет…Владей собой…Будь готов ко всему…
— Галлюцинации?
— Нет, это реально. Не… нападай. Помни.
Кельвин идет к Сарториусу. Дверь в лабораторию заперта, но там слышны голоса… Слышен женский смех… На стук Сарториус не открывает. Кельвин угрожает высадить дверь, если ему не откроют тотчас же. Появляется Сарториус, с трудом прикрывает за собой дверь и придерживает ее руками — кто-то все время пытается открыть ее изнутри. Происходит бурное объяснение. Затем Сарториус скрывается. За дверью мечутся чьи-то руки, и слышится смех.
…Кельвин один в своем кабинете. Тихо и полутемно. Он пытается заснуть и не может. Наконец, кажется, задремал.
Из темноты у противоположной стены возникает девушка, красивая и печальная. Это его Хари, умершая десять лет назад.
Пришельцы иных миров бывают загадочны и прекрасны, иногда уродливы, иногда причудливы, как лиловые цветы в романе Саймака «Все живое», иной раз — ужасны… В неизбежности «ужасов», если не природа, то во всяком случае традиция старой фантастики. Но в высокой фантастике призраки, фантомы появляются не даром. Как заметил в одном из писем А. П. Чехов (правда, по другому поводу) «…у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая не даром приходила и тревожила воображение».
Зачем же возникают эти фантомы на станции Солярис? Зачем смущают покой и душу троих ученых, занятых благородным делом Контакта с иной цивилизацией? Зачем вызывают страх, угрызения совести?..
Среди множества мотивов современной фантастики тема встречи с будущим кажется самой естественной для этого жанра. Для писателя-фантаста, уносящегося в даль гипотез, туда, в надзвездные миры (так же, впрочем, как для писателя-историка, погруженного в глубины веков), заботы нашего времени, казалось бы, неизбежно отступают на второй план. А между тем интерес к делам земным и сегодняшним, интерес к человеку на Земле — в чем, разумеется, нет ничего фантастического, — то и дело дает знать о себе. То, что события происходят где-нибудь за тысячу световых лет от Земли, не имеет при этом никакого значения. И часто на страницах одной книги, где-нибудь в отдалении будущего, среди вселенского холода далеких миров повеет вдруг тревожным теплом земных предчувствий, ожиданий, заблуждений и надежд, и разговор пойдет о чем-то знакомом, о том, что человек уже испытал и хочет то ли закрепить в себе, то ли забыть.
«„Солярис“ должен был быть, — замечает в предисловии к русскому переводу Станислав Лем, — моделью встречи человечества на его дороге к звездам с явлением неизвестным и непонятным. Я хотел сказать этой повестью, что в космосе нас наверняка подстерегают неожиданности, что невозможно всего предвидеть и запланировать заранее, что этого „звездного пирога“ нельзя попробовать иначе, чем откусив от него. И совершенно неизвестно, что из всего этого получится».
Однако в этой «модели встречи» человек с его земными представлениями подвергается самым жестоким испытаниям: люди вынуждены заглянуть не только в космос, но и в микрокосм своей души, своего земного прошлого. Ситуация оказывается невозможно жестокой для человека, если судить о ней с земной, человеческой точки зрения. Но ведь «Космос — это не увеличенная до размеров Галактики Земля, — продолжает писатель. — Установление взаимопонимания предполагает существование сходства. А если этого сходства не будет? Обычно считается, что разница между земной и неземной цивилизациями должна быть только количественной (те опередили нас в науке, технике и т. п. либо, наоборот, мы их опередили). А если та цивилизация шла дорогой, отличной от нашей?»
Эти призраки, фантомы или «гости», таинственно возникающие на станции Солярис, эти посланцы «той цивилизации» олицетворяют собой несхожесть, бездну, разделяющую миры. С обитателями станции их связывает множество нитей прошлого, сложные интимные отношения, но для пославшего их мира — они всего лишь инструмент, способ, посредством которого иная цивилизация дает знать о себе.
По нормам человеческим — жестоко, преступно! Но у той цивилизации просто нет этих норм… И человек такого давления не выдерживает. В конце повести Кельвин как бы мимоходом и с горечью размышляет об автоматах, которые должны в этих условиях заменить людей и которые «настолько невинны, что выполняют каждый приказ. Вплоть до полного уничтожения себя или преграды, которая стоит у них на пути, если так была запрограммирована их кристаллическая память».
Герой повести Кельвин отступает и не осуждает себя за это, считая, что человек должен отступить, когда возникает для него необходимость переступить границы человечности.
Тема, как видим, не новая, столь же космическая, сколь и земная. Редко при инсценировании прозы обходятся без купюр, и телевизионный сценарий «Соляриса» в этом смысле не стал исключением. Вероятно, сказалось и то, что неторопливое эпическое повествование с отступлениями, с погружениями в историю вопроса, уместными и необходимыми в прозе, вряд ли могло получить адекватное выражение в сценарии, требующем большой динамики.
Быть может, и самая тема Контакта, представляющая столь живой интерес для писателей-фантастов, показалась создателям телеспектакля отчасти отвлеченной, далекой. Так или иначе, но, размывая интерес к отдаленным космическим горизонтам, авторы телепостановки приближают к нам область земную, сферу человеческих контактов, сомнений и страстей, к которой мы испытываем не менее (а в сущности — более) жгучий интерес, в которой мы ориентируемся увереннее…
Жертвы при этом, разумеется, неизбежны. От многого пришлось отказаться создателям телеспектакля… Тема Контакта выносится за пределы телеэкрана, интерес к ней приглушен. Возникает отчасти иная пьеса, с иным поворотом темы. В этой пьесе круг сужается, в поле зрения остаются трое ученых и Хари-«гость». Ее появление среди людей, решение ее судьбы и, наконец, исчезновение Хари — вот опорные пункты истории, рассказанной в телепостановке. На далекой межпланетной станции предлагается решить один из вечных земных вопросов — о человеке и человечности.
Да, эти «гости» — не люди (в телеспектакле мы встречаемся лишь с одним из них), и Хари — «не человек, и не копия определенного человека, а лишь материализованная проекция того, что относительно данного человека содержит наш мозг» — как, видимо, справедливо утверждает доктор Сарториус. Уничтожение Хари — уничтожение нейтринного поля, не больше, и в этом смысле необходимая акция в процессе познания вселенной, не противоречащая нормам гуманности…
Но дело в том, что, не обладая земной пропиской, Хари обладает земной душой, она так способна понимать другого, так сочувствовать и любить, что самопожертвование для нее становится естественным. Так любили и жертвовали собой лучшие из лучших на Земле…
Вот на чем останавливают наше внимание создатели телеспектакля, вот какие вопросы предстоит решать трем участникам экспедиции на Солярисе…
Не будем забывать, однако, что все эти проблемы возникают в фантастической телепьесе, а здесь свои требования, не учитывать которые нельзя, требования, достаточно жесткие и суровые. Принципы высокой фантастики, с такой ясностью и простотой изложенные Гербертом Уэллсом, вовсе не так уж просты и для писателя и для режиссера, хотя великий фантаст имел в виду, конечно, писателя. Но «игра», предложенная им, разумеется, стоит свеч — таким путем создается удивительная достоверность интонации, а вместе с ней и обаяние подлинного искусства, чуждого придуманности и сочинительства.
Точность, корректность в соблюдении строгих «правил игры» — вот первое достоинство режиссерской работы Б.Ниренбурга и исполнителей. Нетрудно заметить сходство, пожалуй — тождественность, только что приведенных размышлений Уэллса и известных положений Станиславского. И, кажется, что лишь актеры, внимательные к пульсу душевных движений, актеры, чуждые приемам внешнего изображения, могут уверенно входить в мир фантастического вымысла. Потому что здесь, как в хорошей психологической повести, все обусловлено изнутри, важен каждый шаг, каждая ступень развития отношений, важны не только настроения, но самые оттенки настроений. События здесь подготавливаются неприметно и загодя…
В самом деле, появление призрака у стены само по себе не произведет никакого впечатления, если мы не готовы его «принять», в него «поверить». Сцены «явлений», эти ударные сцены, нередко обставляются с особой фантазией, будто все дело в том, как они сами по себе поставлены.
В телеспектакле Хари возникает просто, как возникает на телеэкране любое изображение, — этого оказывается достаточно, если мы к этому готовы, если мы этого ждем, если мы подготовлены предыдущей сценой. Потому что именно там — экспозиция «условий игры», там, собственно, и решается, примем ли мы эти условия, и тогда все последующее станет интересным или нас неодолимо потянет взглянуть: а что там сегодня по другой программе?..
А предыдущая сцена сложная, пожалуй, запутанная. Поначалу Снаут принимает и Кельвина за призрак, за еще один призрак, появившийся на Солярисе… И актер Театра имени Евгения Вахтангова Владимир Этуш проводит ее с редкой, поразительной достоверностью. Дело не только в том неподдельном чувстве страха, подавленности, которое испытывает его герой. Его переживания показаны как результат сложных последовательных состояний, где первый страх сменяется желанием исчезнуть, испариться, а потом возникает крошечное сомнение, потом надежда, что, может быть, Кельвин — все же реальный, так сказать, свой… и медленный, постепенный выход из «шока»… Все это с точностью и полнотой психологического этюда — качества, которое мы как-то не привыкли связывать с жанром фантастики. И понимаешь, что достоверность психологической жизни в фантастике необходима так же, как в любом другом жанре. А может быть, даже больше: фантастика, как ее понимал Уэллс, без нее и шагу ступить не может…
Этот первый шаг повествования Владимир Этуш и Василий Лановой делают уверенно и мастерски… Мы еще не увидели ничего необычного, «гости» еще не появлялись, но мы уже поверили в их возможность на Солярисе. Это — много. Собственно говоря, большего пока и не требуется. Но кроме требования жанра есть еще и требование телевидения. Как это ни парадоксально, но телевидение, при всех его, казалось бы, колоссальных возможностях, оказывается бедным, скованным собственной природой, когда обращается к жанру фантастики… Свободный полет фантазии беллетриста здесь на каждом шагу сталкивается с жесткими требованиями телеэкрана: правдивость кадра, конкретность, документальность, достоверность… и при том, при том… фантастика…
«Со всех сторон одновременно взметались в пустое красное небо перепончатокрылые глыбы пены, распростертые горизонтально, совершенно непохожие на тучи, с шарообразными наростами по краям… и весь этот процесс продолжался, будто океан шелушился кровянистыми слоями, то показывая из-под них свою черную поверхность, то скрывая ее новым налетом пены».
Попробуйте представить себе эту картину на телеэкране — не получится. Телеэкран для этого слишком конкретен. Можно, разумеется, показать реальные морские волны — картина, конечно, захватывающая, но фантастика тут ни при чем… Нет, лучше и не пытаться перевести эту картину на телеэкран: получается что-то очень знакомое, и неожиданно для себя догадываешься, откуда… Да, круглый иллюминатор «Наутилуса», а за ним милая фантастика нашего детства, с ее наивной игрушечной бутафорией. Авторы телеспектакля идут принципиально другим путем, пожалуй, единственно возможным для телеэкрана, и, заметим, единственно приемлемым в жанре фантастики, где так важно «сделать остальное реальным и человечным. Подробности надо брать из повседневной действительности».
Не пытаясь придумать несуществующее, они обставляют станцию вещами обычными, теми, что нас окружают. Скажем, ученые переговариваются по видеотелефону, и в этом аппарате узнаешь обычный монитор, который встретишь на любой телестудии, здесь обычные столики и стулья, какие увидишь в кафе. Здесь есть аппаратура из реальной лаборатории, а удивительных конструкций, взятых напрокат из журнала «Техника — молодежи», нет, удивительных, кстати, тем, что таких никогда не встретишь.
Создателям телеспектакля важно заручиться доверием зрителя к тому, что они показывают на экране. Кроме того, они помнят, что перед ними зритель шестидесятых годов, которому «пронзительный скрежет стали, упруго ударившейся о сталь», может показаться игрушечно-театральным, ибо он уже видел на том же телеэкране мягкую стыковку космических кораблей. Достоверность обстановки на станции не вызывает сомнений. Возникает доверие к этой среде, этим людям и к самому чуду фантастики. Итак, «рассказ становится человечным…». В нашей телеповести это особенно важно, поскольку, как уже говорилось, не космические, а человеческие проблемы стали ее содержанием.
История отношений или рассказ о любви Кельвина и Хари, принадлежащий к лучшим страницам повести, здесь, в телеспектакле, прослежен внимательно, повествуется день за днем — история возникает, как со страничек дневника, во всех подробностях. Сначала Кельвин лишь поражен необычайным сходством призрака с той, «земной» Хари, которую он потерял десять лет назад и о которой помнил все эти годы. Вскоре он понимает, что перед ним таинственная копия, чудовищная подделка, и избавиться от страшного наваждения становится главной его целью. Но постепенно его начинает привлекать это странное существо, эта новая Хари — внимательная, чуткая, мучающаяся от ощущения собственной странности… Он проникается сначала сочувствием, потом человеческой жалостью к этому милому, и, должно быть, обреченному существу. И, наконец, он понимает, что любит ее. Любит уже не воспоминание о той, прежней, земной подруге, как думает Хари, но любит ее при всей непостижимой странности ее происхождения и бытия.
В.Лановой играет любовь-сочувствие, любовь-жалость, и этот мотив чрезвычайно важен здесь и должен быть нарисован точной рукой. Стоило актеру чуть огрубить и сыграть любовь, как говорится, «вообще» или, боже избави, нечто страстное, а это было вовсе не трудно, так как сюжетно история на Солярисе развивалась бы при этом без существенных изменений, — и все приобрело бы тотчас же иную окраску, зазвучал бы банальный мотив спасения возлюбленной. Но В.Лановой точен (если здесь уместно такое слово). Стараясь спасти Хари, уберечь ее, Кельвин старается спасти и уберечь человечность в себе, свою доброту, свое чувство красоты. Этот важный для спектакля мотив ясно слышен еще и потому, что роль Хари играет студентка Щукинского училища А.Пилюс, сохранившая на экране то, что можно увидеть лишь на студенческой сцене, в студии… — неопытность, неподдельное (первое!) доверие, и отзывчивость, и боязнь подделки, фальши… Из этих подлинных материалов и создается образ юной и странной женщины.
Странность сыграть трудно, как трудно сыграть загадку, не имея за душой ничего загадочного. Удачи в этом жанре припомнить нелегко, но можно: например Вертинская — женщина-феникс в давнем фильме «Садко», странная не сказочным «оперением», а удивительно проникающим и отчужденным взглядом, загадочной сутью своею. А.Пилюс странность удается, причем без всяких фокусов. Приходит на помощь сама ее актерская неопытность, когда нет еще профессионально деловитой конкретности, за которой не угадываешь ничего, кроме того, что видишь. И режиссер не стал преодолевать ее актерскую неуверенность, естественную для студентки, не стал скрывать душевную растерянность, проглядывающую временами, не стал учить неопытность секретам актерского ремесла. Бережно собрав все эти «недостатки», он извлек из них массу достоинств. Проведя, по-видимому, сложную работу, требующую и такта, и интуиции, и педагогического мастерства.
В статьях и рецензиях не принято касаться этой стороны режиссерской работы, вероятно, потому, что область эта наиболее интимная, скрытая от постороннего взгляда. Быть может, молчаливо считается, что актерские удачи — личное дело актера. Но надо же иногда хотя бы удивляться этим поразительным театральным метаморфозам, когда актер в одном спектакле беден и сер — в другом неожиданно обретает крылья. Редко приходилось видеть такую естественную чистоту и доброту на телеэкране. Это ценно и само по себе, но особенно ценно здесь, в этом именно замысле телеспектакля.
В повести во время эксперимента, когда ученые пытаются наладить Контакт с иным миром и поток мыслей Кельвина, многократно усиленный, посылают в пространство, Кельвин «думает» в общем-то в соответствии с программой.
В спектакле все обстоит иначе. Кельвин, обращаясь в неведомый мир, просит о помощи. Доктор Сарториус об этом, конечно, не знает, но мы-то явственно слышим этот внутренний монолог. «Оставь Хари!» — много кратно повторяет Кельвин. Человек ищет защиту у иной цивилизации… от людей, от доктора Сарториуса в первую очередь! Мотив для повести неожидан, для телеспектакля, пожалуй, естествен, потому что и сам доктор Сарториус на экране иной, нежели в повести.
Там это добросовестный и по-своему талантливый ученый-специалист, вызывающий у Кельвина неприязнь лишь своим педантизмом, некоторой демонстрацией своей бесстрастной преданности истине. В телеспектакле все эти качества сгущаются, вырастают. Здесь это, скорее, четко работающий механизм, перерабатывающий числа, формулы, стерильно чистый, как его белый халат, как гладко выбритое лицо и гладко выбритый череп. Он не самовлюблен, не эгоистичен, не великодушен и т. д. — он бесстрастен. Поглощен лишь манией сопоставлять, сравнивать. Есть в этом некоторая опасность схемы, но в телеспектакле осторожно приоткрывается его прошлое, так фантастически возникающее здесь, на Солярисе, — прошлое, которое лишь мелькнет за дверью его кабинета женскими руками, настойчивым хохотом, как лучом фонарика выхватив из минувшего какой-то шум пирушки, по-видимому, холодноватый разврат, куда, должно быть, время от времени погружал свой мозг молодой ученый. Это как вспышка. Коротко, недостаточно, чтобы угадать его прошлое, от которого сразу станет понятнее он сегодня.
О том, что происходит на Солярисе — научный эксперимент или убийство, — у Сарториуса нет двух мнений: Хари — лишь материализованная проекция… А для Кельвина это человек, самый близкий во всем мире.
В превосходно сыгранной сцене Снаут пытается оценить реально сложившуюся ситуацию. С редким человеческим тактом он ведет разговор с Кельвином. Он все понимает, этот уже немолодой ученый понимает Кельвина, понимает, что все против него, что Хари не принадлежит себе и каждую минуту может исчезнуть, что разрыв неизбежен. Однако доводы Снаута не способны убедить ни Кельвина, ни нас, телезрителей. Все логично в этих рассуждениях, но не хватает какого-то нравственного основания. Им так и не удается понять и убедить друг друга. Спор в конце концов решает сама Хари, которая давно уже смутно догадывалась о странности своего появления здесь, на станции, о своей невозможности быть всегда рядом с Кельвином. Ночью Хари идет в лабораторию, где мгновенной вспышкой завершается ее загадочная жизнь…
На этом собственно телеспектакль и кончается. А нас не покидает ощущение, что совершено преступление, и мы знаем виновных — это доктор Сарториус и это Снаут… да Снаут. Потому что здесь, на телеэкране, судьба Хари не связана с судьбой Контакта, с иным миром вообще, она подчинена ей, переплетена с нею, но имеет собственную ценность. Вот почему убедительность доводов Снаута не абсолютна для нас. История Хари воспринимается как частный, но человеческий случай на одной из космических станций.
Однако сам этот случай рассказан на уровне высокой фантастики, с тем гуманным отношением к теме, которое сделало живым и захватывающим весь телеспектакль, рассказан с тем мастерством, которое заставляет напряженно думать об особенностях этого странного жанра…
Через сюжет к мысли! Б.Ниренбург
— Несколько слов о фантастике. Чем она привлекает вас как режиссера?
— Да тем же, что и любого зрителя: захватывающим сюжетом. Он дает мне возможность в занимательной форме говорить о проблемах века. Самую светлую мысль можно не донести до зрителя, провалить, потерять по дороге, если выражать ее скучно. Тут-то, мне кажется, мы часто и не учитываем значения занимательного сюжета. Увлекая зрителя остротой сюжетных коллизий, резкими по воротами, динамикой столкновений, мы заставляем его следить за мыслью спектакля, впитывать ее…Я понимаю, что нарисовал довольно грубую и приблизительную схему, но сущность ее мне кажется верной.
— А что самое трудное для вас в телеспектакле в жанре фантастики?
— Актер. И самое трудное, и самое интересное, и… неожиданное. На маленьком экране телевизора как нигде проявляется дарование актера, его почти необъяснимая способность смотреть глазами другого человека, думать так, как думает тот, другой, слушать, чувствовать… короче говоря, жить жизнью другого человека.
Театр ведь не имеет крупных планов, он рассчитан на общение с большой аудиторией. В нем все-таки существует некий, я бы сказал, «иероглиф условности». Там каждая эмоция укрупнена, проявляется в жесте, мизансценой…Там можно нередко подменить его обозначением. А зритель, воспринимая это обозначение, сам по знакомому коду дофантазирует и состояние героев, и их взаимоотношения.
В кино, как известно, отдельные кадры и эпизоды снимаются в самой неожиданной последовательности, с большими интервалами во времени, и для актера исключена непрерывность жизни образа. А крупные планы требуют искренности переживаний. И, следовательно, мгновенного — что не обыкновенно трудно — возбуждения в себе нужного состояния. А если не получается? Ну, один из шести-восьми дублей обязательно получится. И все-таки?.. Тогда на помощь приходит искусство кино. Кинематограф накопил много способов «обмана» зрителя.
Вспомним хотя бы один из самых хрестоматийных примеров монтажа. Один кадр — человек ест, другой — смотрит ребенок. Достаточно дважды повторить эти кадры, чтобы возникло ощущение жестокости человека, который не делится едой с голодным ребенком. Человек этот понятия мог не иметь о ребенке, а ребенок мог смотреть, скажем, на игрушку.
Телеспектакль с его непрерывно развивающимся действием, с обилием крупных планов лишен условностей театра и кино — никакого обмана, все настоящее, неподдельное, искреннее. Лицо человека, глаза человека… Они перед нами, они на расстоянии вытянутой руки. Мы видим каждую морщинку, складочку, ощущаем пульсацию жилки на шее. По движению зрачков, бровей, желваков на скулах понимаем, о чем он думает, что его волнует, радует, бесит… Вот он прислушался — значит, кто-то появился рядом… чуть-чуть в улыбке дрогнули уголки губ — значит, визит приятный… вот собеседник что-то сказал — он слушает, оценивает сказанное, принимает решение, говорит…
И если на сцене мы чаще всего видим и слышим результат, то есть сам ответ, то на телеэкране огромное наслаждение может доставить молчание актера, его отношение к словам партнера, его реакция, его оценка. Я, например, да и многие мои коллеги, режиссеры телеспектаклей, редко без нужды снимаем крупный план говорящего персонажа. У нас же не репортаж о футбольном матче, где камера все время следит за мячом.
Вот при телетрансляции спектакля, скажем, какого-нибудь зарубежного театра, где невозможно заранее расписать передачу, приходится следить камерой за говорящим актером и получается репортаж о спектакле.
В настоящем телеспектакле характер съемки, объект съемки помогает раскрыть мысль пьесы, сущность ее образов. Скажем, сцена появления Хари у Кельвина. Она все время говорит, окружает его, обволакивает словами. А он смотрит и не может понять откуда она, настоящая или нет. Можно было снимать ее — я поступил иначе. Если помните, текст идет за кадром, а в кадре Лановой и только кисти рук Хари — камера как бы смотрит ее глазами. Это оправдано хотя бы тем, что нам гораздо интересней знать, что происходит с героем, ибо героиня пока еще — загадка. Вот он слышит, видит ее — мы почти физически ощущаем его растерянность, его незащищенность, как трудно ему, как мучительна мысль «Откуда она? Настоящая ли она?» Он следит руки, такие знакомые, со смешной родинкой под локтем, улыбка ее… похожа и в то же время нет, не похожа, а глаза, почему они такие неживые? Вроде бы все, как у той, на земле, но только это «как»… Не живая! И отсюда крик: «Нет!..» Я естественно упрощаю сейчас, но понимаете, как сложно должен мыслить и чувствовать актер, чтобы все, о чем думает его персонаж в данный момент стало понятно зрителю. Понимаете какие высокие требования предъявляет к нему телевидение.
— Чем вы руководствовались, приглашая на главные роли в «Солярисе» актеров В.Ланового, В.Этуша, А.Пилюс?
— Для меня выбор актера — момент чрезвычайно ответственный. Причем я почти отвергаю институт «проб», так сильно развитый в кинематографе. Уже читая сценарии, предполагаю, какой актер будет играть ту или иную роль. И исхожу при этом не только из его актерских возможностей, диапазона его дарования, но и из чисто человеческих качеств. Прекрасный актер Василии Лановой, скажем, привлек меня в данном случае некоторыми свойствами своего характера, существенными для этой роли своей некоторой замкнутостью, обособленностью отгороженностью своего внутреннего мира. А Владимир Этуш — уменьем «обживать» делать достоверными любые парадоксальные мысли и ситуации, которыми так богат роман Лемма.
Труднее всего пришлось с исполнительницей роли Хари. Ее пришлось искать, приглашать разных актрис. Ведь очень сложна была задача героиня должна проявлять, если так можно сказать, нормальные чувства, оставаясь чуждой этим самым чувствам. Говорит: «Люблю тебя», — а не ощущает потребности в любви, не может постичь чувственную природу любви. Любит, целует, изображает страсть, а женщины нет — есть девочка, ребенок. В проявлении ее чувств какая-то дистиллированность — от непонимания, от отсутствия чувственности. Сыграть такое для женщины-актрисы задача почти непосильная — обязательно вылезет на первый план инфантильность. А эта литовская девочка — студентка театрального училища — удивительно точно соответствовала характеру персонажа.
— Волнует ли вас сложность научной гипотезы при постановке телеспектакля?
— В какой-то мере… Но главное — точность и современность проблемы, поставленной в произведении. Обратите внимание, что лучшие писатели-фантасты не очень уж и стремятся сейчас к предвосхищению крупных научных открытий. Ну, новое фотонно-дейтронно-нейтронное топливо, ну, самовосстанавливающиеся роботы со сложной программой действия, ну, путешествия во времени и пространстве со столь любимой «нультранспортировкой»… Ради этого писать книги, ставить спектакли? Нет, нагромождение чудес и чудищ, ставшее самоцелью, никого не привлекает. Люди, их мечты, поступки, мысли — вот самое интересное в произведениях фантастического жанра. Поэтому в каждом сколь-нибудь интересном научно-фантастическом произведении сквозь модель будущего прорываются тревога и боль художника, его радость и оптимизм в размышлениях о вещах, всем нам близких…
Пушкинская роль Андроникова А.Свободин
Километрах в двухстах от Москвы белой февральской ночью в бревенчатой избе, стоящей на отшибе от деревни, в темных соснах, я увидел эту передачу. На телевизор собралось несколько человек — люди местных трудных профессий, занимавших их с утра до ночи, не слишком образованные, редко читающие книги, да и не очень близко знакомые друг с другом.
Этот час рухнул на нас внезапно, длинный и трудный. Мы прожили его вместе, охваченные чувством горького сожаления и такой любви к Пушкину, какая в привычном и остраненном его присутствии в нашей жизни еще никогда не возникала в нас. Я точно знаю, что наша жизнь, жизнь разных, случайно сошедшихся и в обычное время не слишком подходящих друг другу людей была бы много беднее без этого необычного часа.
— В редакцию «Нового мира» пришло письмо из Нижнего Тагила от инженера и краеведа Боташева Николая Сергеевича…
Так начал Андроников свой рассказ. Он говорил медленно, со вкусом, основательно выговаривая каждое слово, как бы втолковывая: то, что я расскажу, не имеет второстепенных деталей.
— В 1939 году умер в Тагиле 84-летний маркшейдер Павел Павлович Шамарин.
Произнеся эту фразу, Андроников впервые в рассказе показал человека. (Порой кажется, что, рассказывая о людях, он показывает их невольно, даже когда это не входит в его намерения.)
— В 1939 году умер в Тагиле 84-летний маркшейдер…
Мы увидели старика, по-уральски неразговорчивого, низкорослого, согнутого, широченного, видавшего виды, образованного на манер просвещенных купцов, но не афишировавшего свое образование.
— Умер маркшейдер…
Точно в ту секунду, когда произносил он это необычное слово, Андроников написал его портрет, написал этим самым словом, жирным и сочным, как репинский мазок в этюдах к «Государственному совету». Маркшейдер… До этой фразы он уже рассказал, как попали письма Карамзиных в Нижний Тагил. Назвал Павла и Анатолия Демидовых, красавицу Аврору Карловну Шернваль, Андрея Карамзина. Упомянул Италию, Флоренцию, Сан-Донато, Малую Валахию — перечислил десятка полтора имен и названий.
Но увидели мы первым маркшейдера. Нельзя было показать ни Павла, ни Анатолия Демидовых, ни красавицу. Нельзя, потому что для нас, его слушателей и зрителей, было еще рано. Надо было подвести их к нам как можно ближе, соединить с нами через живого человека. Поэтому появилась Елизавета Васильевна Боташева, библиотекарь Тагильского музея. Андроников улыбнулся, лицо его сделалось мягче и выразило добрую любовь к Елизавете Васильевне и саму ее, скромнейшую, тихую, чувствующую рукопись и старинную вещь так, как мы чувствуем другого человека. Голос рассказчика становится чуть тоньше, на каком-то слове даже прискрипывает — Елизавета Васильевна не так уж молода. К Елизавете Васильевне приходит Ольга Федоровна Полякова, племянница умершего маркшейдера, приносит потертый сафьяновый альбом, найденный среди его вещей. Она больше не появится в рассказе и, должно быть, поэтому Андроников называет ее по имени, отчеству и фамилии, выговаривая их не спеша, так, словно знаком с ней всю жизнь.
Наконец, сафьяновый альбом попадает в руки Андроникова. Празднично глядя на нас, он говорит: «Не берусь передать, с каким неизъяснимым волнением я перелистывал эти листочки»… У него нет текста этой фразы — он сочинил ее сейчас, но мыслит он стилем пушкинской поры. «Не берусь передать…» — ясно и величественно, «с неизъяснимым волнением…» — романтично и возвышенно. И вся фраза как белый стих.
Имитации Андроникова основаны не на способности изображать внешность и манеру говорить другого человека — такой способностью (и даже в большей мере, нежели он) обладают некоторые эстрадные пародисты. Имитации Андроникова — следствие его способности думать за другого человека, и этот его талант уникален. В «Тагильской находке» он думал за людей, умерших столетие назад, имитировал ушедший век, хотя понятие «имитировал» для этой передачи бледно и неточно. Своей фразой он пригласил нас в девятнадцатое столетие, и мы вошли в него, вошли взволнованные, в предчувствии значительного и страшного.
Впечатление светского Петербурга возникло незаметно и быстро. Андроников действовал, казалось бы, вопреки логическому правилу устного рассказа — на коротком временном пространстве поселял огромное количество лиц и все прибавлял и прибавлял. Неужели он надеялся, что мы все это запомним? Они все заняты, ведь им так много надо успеть, и поехать в Красное, и на прогулку в Парголово, и, конечно, принять участие в кавалькаде, и выяснить сложные и путаные отношения, и узнать и обсудить все слухи, доносящиеся «оттуда», «сверху», и построить сообразно этим слухам и сведениям общественную конъюнктуру на завтрашний день, и говорить всем об этом под строгим секретом, и, конечно же, читать литературные новинки, и высказывать свое компетентное мнение, и иронизировать над глупостью «верхов», и по первому же зову отправиться к этим «верхам» в обширные петергофские сады на традиционные именины императрицы, чтобы увидеть парад знакомых лиц, и оценивать их туалеты и их окружение, и ревниво наблюдать, как оценивают твои туалеты и твое окружение, и невзначай в аллее встретить великого князя, а может быть, и самого императора, известного своей солдатской ласковостью.
Здесь перемешаны все — и умные, и глупые, и честные вообще, и честные до известных пределов. Так или иначе — это одно общество. Там, где кончаются сферы одного кружка, начинаются сферы другого. Все всех знают. Мир тесен. Андроников создает эту тесноту сочно, густо, но уже почти торопливо перечисляя Вяземского, Мальцова, Балабина, какого-то Пьера, Веневитинова, Мещерского, братьев Карамзиных, Гоголя (и Гоголь идет здесь общим фоном), Екатерину Мещерскую, Трубецкую, княгиню Бутеру, красавицу Аврору Шернваль, Муханова, Баратынского, Надин Сологуб, Бутурлиных… Чем-то похоже на Толстого, повторяющего в «Войне и мире» одну обязательную фразу, конец светского разговора — «здоровье графини Апраксиной…» — и тем создающего впечатление множественности и суеты.
Создав объемную панораму петербургского общества и сохраняя ее в течение всего рассказа как обязательный фон разворачивающихся событий, Андроников задерживает наше внимание на семействе Карамзиных и их ближайшем окружении. Голосом и почти неуловимой мимикой, чаще не мускулами лица, а выражением глаз, он рисует портреты — сквозные темы своей удивительно музыкальной картины. (Казалось, что, описывая петербургские балы, он подчинялся ритму музыки, звучавшей в отдалении. Но музыкальность рассказа — в его построении, совершенно симфоническом.) Софья Николаевна Карамзина, душа салона Карамзиных, дочь историографа от первого брака, умна, блестяща, великолепно пишет письма, не может отказать себе в иронии и не желает отказывать себе в удовольствии общаться с широким кругом людей умных, значительных, забавных и просто милых, и просто красивых. Обо всем она может судить верно, но редко — глубоко. У Андроникова появляется голос Софьи Николаевны, ее обворожительный взгляд. Она видится в белом платье, с высокой прической. Обозначив ее голос, Андроников не расстается с ним, употребляя его всякий раз при ее появлении.
Екатерина Андреевна Карамзина, вдова историографа, — к ней Андроников относится не просто с большим уважением, но с затаенным удивлениём перед душевными качествами этой женщины, глубокой сердечной привязанности Пушкина. С Софи Карамзиной он обращается запросто, целует ручку, говорит комплименты. К Екатерине Андреевне — сохраняя дистанцию. Голос ее глубокий и ровный. Говорит она просто и чаще по-русски.
Александр Карамзин, так же как и его брат Андрей, которому адресованы письма из сафьянового альбома, офицер гвардейской артиллерии. Честный, смелый, ловкий, умный, насмешливый, то и дело попадающий на гауптвахту за манкирование службой. Знает цену обществу, но жить без общества не может. («Свет» всегда изобилует знающими ему «цену», но как редки в нем те, что могут пренебречь им!)
А вот и Жорж Дантес появляется в доме. Он никакой. В этом отвратительная прелесть его образа. У него нет голоса, нет облика. Он складывается из отношения к нему других. Каждый раз, показывая его, Андроников избирает посредника. Софи Карамзина считает его очень милым. Ей кажется, что она не принимает его всерьез. Это часто случается с умными женщинами, питающими тайную склонность к статным рассказчикам анекдотов. Даже проницательная Екатерина Андреевна как-то уже и не представляет себе общества без Дантеса, находит его веселым и остроумным. Он дружит с Александром Карамзиным, достает французскую помаду для Софии. Он при литераторах, он при дамах, он при военных и, что придает ему особую привлекательность, — он при дворе. Об этом, разумеется, не говорят вслух, и многие из кружка Карамзиных вряд ли себе в этом признаются — какое это имеет значение? Увы, имеет! Обаяние высшей власти — рабство, которое не выдавить из себя даже независимому и образованному дворянину.
У Карамзиных постоянно бывают Петр Андреевич Вяземский (брат Екатерины Андреевны), Василий Андреевич Жуковский, Александр Иванович Тургенев — для каждого из них у Андроникова свой голос. Чуть ли не ежедневно заходит сановник и композитор Михаил Юрьевич Виельгорский. В произношении фамилии композитора рассказчик подчеркивает первую, певучую часть, и для его образа этого оказывается достаточно. Мы ждем Пушкина. Он есть или его еще нет? Не пропустили ли мы в нашем напряженном внимании той секунды, когда он вошел? Как странно — можно приблизиться к Софье и Александру Карамзиным, к Дантесу, к случайным, едва мелькнувшим фигурам, чуть ли не потрогать их, а к Пушкину нельзя. Мы видим его, чувствуем, но он все время на расстоянии. Мы поняли его приближение по тому, как изменилось вдруг наше отношение к людям, населявшим этот мир. Их повседневность обернулась своей неприглядностью. Не было Пушкина — все было изящно, мило, умно. Показался Пушкин — и то же самое стало плоско, убого, бездушно.
А его еще нет, он там, за кадром, и чем ближе к нему, тем нам труднее, точно мы приближаемся к огню. Один лишь раз в рассказе мы подошли к нему вплотную, но это случилось много позже. Приблизиться нельзя — образ поэта создается не приемом, а болью рассказчика, который не смеет подойти к Пушкину, страдает за него и заражает страданием нас. Они все живут — поэт мучается. От всего — малого, пустякового, большого, сложного. Оттого, что надо ехать на один раут и нельзя не быть на другом, оттого, что, придя усталым домой, во втором часу ночи застает у себя веселящихся друзей и к ним надо непременно выйти, а он все-таки не выходит, запирается у себя, и раздражен, раздражен до крайности. Оттого, что надо брать деньги у ростовщиков под залог столового серебра, и оттого, что цензура запретила статью о Радищеве. И все словно сговорились: ни в чем не видят ничего особенного, не видят того, что видит он, — искажения естественных человеческих отношений.
Ах, Дантес без ума от Натали, он ухаживает за женой поэта — что ж тут такого; это так комично. Владимир Федорович Одоевский, друг и соратник по «Современнику», затевает издание журнала в пику «Современнику» и намеревается перетянуть к себе его авторов. Отчего бы и нет? И Александр Карамзин, честный и умный Александр Карамзин, друг сердечный, собирается печататься в этом журнале и приглашает туда брата, хотя верно знает, так же как знает это и Одоевский, что новое предприятие подорвет положение «Современника», и без того трудное. Знают и все-таки делают. Успокаивают себя, должно быть, тем, что не важно, где ты печатаешься, важно — что ты пишешь (милая сентенция, нередко облегчающая предательство). Здесь норма — компромисс разного толка, общественный и интимный. А он — ненавистник компромисса, и каждый шаг по правилам «святого благоразумия» сжигает его.
«…Мы могли открыть настоящий бал, и всем было очень весело, судя по их лицам, кроме только Александра Пушкина, который все время был грустен, задумчив и озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд поминутно устремлялся с вызывающим тревогу вниманием на жену и Дантеса, который продолжал те же шутки, что и раньше, — не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросал страстные взгляды на Натали, а под конец все-таки танцевал с ней мазурку. Жалко было смотреть на лицо Пушкина, который стоял в дверях напротив, молчаливый, бледный, угрожающий, боже мой, до чего все это глупо!» Так писала о своих именинах 17 сентября 1836 года Софи Карамзина.
Вот как прочитал это Андроников. Первые несколько слов — голосом Софи (а мы помним, что в ее голосе заключены и отношения к ней рассказчика и ее характеристика), затем там, где это касается облика Пушкина, — голосом самого Андроникова, в котором нарастающая боль, отчаяние, затем, где говорится о Дантесе, «продолжающем те же шутки», — вновь Софи, все видящая, за всем наблюдающая, потом фразу «Жалко было смотреть на лицо Пушкина…» — опять голосом рассказчика, потому что нельзя доверить эту фразу Софи, ибо что значит ее «жалко смотреть» по сравнению с нашим, сегодняшним «жалко Пушкина», и, наконец, последнюю фразу — опять за Софью Николаевну, которой не по себе от серьезности поэта, потому что все танцуют, всем весело, и она искренне не понимает, откуда такие мрачные переживания и что такого уж особенного происходит. Все это в ритме бала и с картинной наглядностью в расположении действующих лиц. (Андроников группирует рассказ вокруг таких мест переписки, которые, если отвлечься от того, что это документ, — истинные драматические сценарии, где есть все вплоть до точного построения сцены и указания планов.) Они в разных измерениях — Пушкин и все остальные. С ним в рассказ вошла безысходность. Повествование строится теперь концентрическими кольцами, каждое следующее — уже предыдущего. Драма Пушкина — драма знания среди моря незнания или, что еще хуже, — полузнания.
Пушкин Андроникова уже не принадлежит своему времени. Житейски это обнаруживается в равнодушии к нему части «публики». Его считают — и это мнение разделяют многие его друзья — «светилом, в полдень угасшим». Софи Карамзина повторяет слова Булгарина, как всеобщую мысль. Поведение поэта многим представляется мрачным чудачеством, а между тем это Пушкин времени «Памятника» и гениальных прозрений историка и философа.
«…И снова начались гримасы ненависти и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное для всех молчание только редкими, отрывистыми, ироническими восклицаниями и, время от времени, демоническим хохотом. Ах, смею тебя уверить, он был просто смешон!..» И опять звучат и голосок Софи — ее ирония, и досада Андроникова по отношению к этой умной и талантливой женщине, ироничность которой скрывает бессердечность, и опять видится Пушкин, загнанный в угол, не владеющий собой, мучающийся, и общество, которое стеснено его состоянием. Так проходит следующая картина. Рассказчик теперь похож на человека, присутствующего при агонии близкого. Сделать ничего нельзя. Надо иметь мужество выстоять до конца, не отвести глаз. Живого места нет в душе поэта. Как же они не видят всего этого, — вопрошает Андроников, — даже самые умные и проницательные, любящие его, признающие его несравненный гений и значение для России?! Почему не могут отойти от повседневной суетливости, взглянуть на Пушкина? Голос рассказчика дрожит, он чаще снимает и надевает очки. Порой на мгновение растерянно глядит на нас, точно говорит: видите, каково там! И возвращается туда.
В последней трети рассказа впечатление множественности светского общества заменяется другим. И потому, что уже много раз упоминались одни и те же лица, и оттого, что стиль и содержание их жизни обозначились полно. Возникает впечатление разъединенности. Общество есть — общественности нет. Всякий живет сам по себе, и чем больше на глазах у других, тем больше сам по себе. Есть общепринятые мнения — нет солидарных поступков. Наученные декабрем 1825 года, не решаются на них и не верят в их какой-либо смысл. А может быть, потому и не верят, что не решаются. Безнадежное одиночество Пушкина, о котором скорбит рассказчик, приобретает основание в неосознанном одиночестве каждого из его друзей. Идут балы, визиты, обеды в клубе, чаи, разговоры на литературные темы, и часто собеседники расстаются лишь на несколько ночных часов. Трагизм созданной картины — в схожести ее форм с формами бурной общественной жизни.
Продолжается рассказ — литературоведческая передача. Но на наших глазах события становятся сценами, люди — образами. Это театр Андроникова, в котором свои приемы и способы изобразительности. Тональность рассказа многократно меняется. Речь льется непроизвольно, рождаясь тут же, сообразуясь с тонкой внутренней режиссурой, природа которой у Андроникова импровизационна. Ему не нужны отрепетированные ходы, хотя какие-то предварительные соображения у него несомненно имеются. Есть то, что не дано даже незаурядному чтецу, — свое, независимое от акта публичного выступления отношение к тому, что происходило в 1836 году, и постылая полнота сведений о том, как это произошло. Он одновременно следователь, свидетель и прокурор — сочетание, невозможное у мастера художественного слова.
Говорят, что Андроников — представитель «театра одного актера». Возможно. Прослеживаются его истоки и окрестности (это сделал Шкловский еще до войны). Только у этого театра нет истории. Есть несколько имен, вероятно, три: Закушняк, Яхонтов, Андроников. Есть четвертое — Цявловский. Но выдающийся ученый-пушкинист, поражавший участников научных собраний одной особенностью своего таланта — естественным умением лепить образы героев своих исследований, — на эстраде не выступал, хотя он-то ближе всех к Андроникову. Закушняк создал жанр интимного, камерного рассказа. Яхонтов показал силу литературного монтажа и первым взял документы как материал для художественности. Андроников — сам добытчик документов, их исследователь, интерпретатор. «Художественное слово» — жанр дряхлеющий, его подтачивает литературная грамотность населения, несравнимая со временем его зарождения и расцвета. Жанр Андроникова, соединенный с телевидением, оказался наредкость современным. Но в этом жанре решает не профессиональная выучка, а человеческая индивидуальность рассказчика, его исключительность, его собственный образ.
Он покойно устроился в кресле, разложил на столике бумаги, доброжелательно и серьезно взглянул на каждого из зрителей. Перед телекамерой ему удобно, мне показалось — удобнее, чем в зале. Мягкое лицо, чуть потяжелевшее в последние годы, седые волосы, округлые движения, экономные и неторопливые, тембр голоса — москвича-филолога. Он снимает очки, снова их надевает, похожий на старых профессоров на кафедрах, которые, помня все цитаты, обладают старомодной добросовестностью и с чуть комическим изяществом произносят классические тексты. Он говорит с нами, но и с самим собой, влекомый потребностью вспоминать людей, события, вновь переживать их, растравляя свои раны так, как это делает иногда каждый из нас, вызывая в памяти особенно грустные сцены собственной жизни. В ином случае он хочет заново уяснить себе что-то. Жесты его обращены к себе, они помогают ходу его мыслей. Он немного растягивает на конце слова, по-старомосковски произносит «а» и, как люди прошедшей уже эпохи, называет знакомых и незнакомых по имени и отчеству. Его фразы коротки и прозрачностью своей напоминают, что пушкинская проза чиста, как родниковая вода. Он не упрощает, не избегает французских фраз и литературных терминов, упоминает множество фамилий и событий, требующих знания истории и литературы, но и не изображает комментарий под строкой.
На небольшом экране в нашей комнате — человек, являющий собой непорванную связь времен. На нем модный костюм, и весь он в сегодняшней быстроте. Но точно так же он — в салоне Карамзиных. Подлинностью своего существования в двух временах, непринужденностью переходов от одного к другому, от одной своей функции к другой, образ рассказчика создает в зрителях беспредельную стихию веры в то, что он рассказывает. Возникает такое доверие к его представительству в пушкинском Петербурге, какого ни разу не приходилось испытывать ни на одном посвященном той эпохе театральном спектакле. И понимаешь, что «исторические спектакли», так называемые «большие полотна», процветавшие когда-то, уступают сегодня силе обнаженного документа и той форме сообщения его зрителю, какую несет театр Андроникова или документальное кино. Но даже в рамках своего театра Андроников в этот вечер особенно целомудрен. Не позволяет себе не то что «наигрывать», но даже играть так, как это делает на эстраде или в других передачах. Он мог бы всех «изобразить», но, поступив так, он бы в прах рассыпал картину.
По природе своей Андроников — камерный рассказчик. В больших залах его обаяние интимного собеседника, естественно, уступает первое место другим его качествам. Здесь он — с каждым один на один. Его искусство ждало телевидения, как редко какое искусство. Круг сужается. Напряжение растет. Нарисовав и закончив одну картину, Андроников переходит к следующей, еще более драматической, создавая ощущение беспросветной фатальности. Все катится к концу. Уже получен пасквиль, и Пушкин посылает вызов Дантесу, уже перетрусивший Дантес объявляет о помолвке с Екатериной Гончаровой, а поэт продолжает бывать в тех же домах, встречаться с теми же людьми.
Андроников заботится, чтобы разлад Пушкина со своим кругом не ускользал от нашего внимания. А «круг» проглядел, что интимный светский скандал — таким полагали все, что происходит между Геккеренами и Пушкиными, — который друзья пытались уладить успокоительными беседами, переговорами, записками, — давно уже иное. Оттого не понимали и не одобряли они поведение поэта, отдавшегося на волю своих чувств, не считавшего нужным скрывать свое отношение ни к Дантесу, ни к «свету». Ему некуда деться, буквально некуда деться. Он одинок не в обществе врагов, а в обществе друзей. Обстоятельство, не известное нам по спектаклям о Пушкине.
Еще один пласт тогдашнего бытия выступает все яснее. Это нечто большое, расплывчатое, жесткое и непременное — ДВОР. Он повсюду, у него свойство всепроникающей материи. О чем бы они ни думали, чем бы ни занимались, у каждого невысказанная мысль, не мысль даже, а странное, почти физиологическое ощущение соприсутствия при этом ДВОРА. На него делается поправка, скидка, он принимается во внимание. Градации отношений с двором различны. От чувства неразрывной связи с ним до страха перед его всемогуществом. Иные — Василий Андреевич Жуковский лучший пример — полагают его главенство естественным и благотворным. Душевные силы они тратят на посредничество между ДВОРОМ и свободной поэзией. Надо не раздражать «ЕГО», иной раз и приспособиться к «НЕМУ». В конце концов, всегда можно улучить минутку замолвить словечко и лаской объяснить «ЕМУ», что поэзия нужна, что она тоже к славе и пользе России, а то, что Пушкин не переделывает «Бориса Годунова», как ему советует император, то это, конечно, оттого, что Пушкин обладает строптивостью характера, и еще потому, что, как это ни прискорбно для его величества, искусство имеет свои законы, отличные от тех, что собраны Сперанским в свод законов империи… Надо терпеливо объяснить ДВОРУ, что без поэзии он не может, и уговаривать поэзию, что без ДВОРА она пропадет.
Андроников весьма тонко вводит в рассказ эту «материю». Ее сразу не распознаешь, она присутствует, как назойливое жужжание комара. Сановник Виельгорский заходит к Карамзиным, возвращаясь из Зимнего дворца. Заметим. Остроумнейшая Софья Николаевна едет на петергофское празднество в обществе мадам Шевич, дамы плоской и безвкусной. Шевич там, Шевич тут, — да кто ж такая эта Шевич? Сестра шефа жандармов Бенкендорфа.
Рассказчик знает силу повторяемости слов: два-три раза «со значением» упомянутая фамилия — и впечатление, что человек вездесущ.
Александр Карамзин отправляется на раут к княгине Белосельской. Белосельская — падчерица того же Бенкендорфа, злейший враг Пушкина. Как только отношения поэта с Геккеренами обостряются, «материя» приходит в движение. Об этом не говорится, но мы не сомневаемся — в «верхах» заботятся о Геккеренах, своих в обиду не дают. Когда с Пушкиным кончено, аморфность двора исчезает. Николай и его канцелярии деловито руководят смертью, умело направляя и ограничивая потоки скорби. Это рассказчику показать уже нетрудно — здесь все в мундирах, фраки и демократические улыбки оставлены. Труднее ему обнаружить невидимую стихию высшей власти, ее присутствие в душах — и это Андроников сделал удивительно.
Все время перед нашими глазами личная драма Пушкина, а мы следим за его безнадежным и мужественным поединком с системой жизни, видим, как все скопом убивают поэта. Больно смотреть на это; больно слушать, как друзья, литераторы, знающие, что такое Пушкин, собираются, осуждают его житейские промахи, отмежевываются от него. Ведь что же такое отношение Софьи Карамзиной к Дантесу (а это распространенное отношение), как не желание быть объективной и благородной. А когда поэт мертв, она принципиально рассудит, где он был неправ, а где виноват. Она искренне огорчится его смертью, станет сожалеть о своем слишком «легком», я бы сказал, — слишком женском отношении к его душевным страданиям. Но, как умная женщина, она сообразит, что не ее осуждение каких-то поступков поэта убило его, а что-то другое, темное, большое, историческое. Она ужаснется этим соображением, но этим же соображением успокоит совесть.
Нет Пушкина. Казалось, что рассказчик поднялся до такой высокой ноты, завершив последнее кольцо, сжавшее его, что выше некуда. Но вершина еще впереди. Она — в прозрении способных прозреть и в исчерпанности жизненных сил поэта.
Письмо Екатерины Андреевны от 30 января 1837 года «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью; закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуели с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арендт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, а потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: перекрестите еще; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила прикладывая пальцы на лоб и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал, и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош: спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастье случилось: оне мне противны…»
Как прочитал это письмо Андроников, передать трудно. Если бывает вдохновение невыносимого горя, то здесь оно присутствовало. Он прочитал, произнес это редкое по могучей простоте слога письмо с соблюдением фонетических особенностей старинного стиля. Этот документ стал трагическим монологом передачи, ее вершиной.
А потом шла большая приписка Софьи Карамзиной, где описывался поединок и поразительное спокойствие Пушкина накануне. Из этой приписки Андроников резко выделил слова поэта, сказанные Данзасу по пути с дуэли: «Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне это скажешь. Меня не испугаешь. Я жить не хочу».
Я ЖИТЬ НЕ ХОЧУ. Разве мы по-настоящему задумывались над состоянием Пушкина накануне гибели? Нас справедливо учили, что он боролся, хотел мстить. Мы знали, что его погубили. Но в этом рассказе на наших глазах его довели до гибели. Прежде выстрела Дантеса и приговора Арендта мы увидели смертельно измученного поэта, поняли, как был превзойден предел его жизненных сил.
Смертью Пушкина рассказ не закончился. Она означила лишь середину его. Далее вся предшествующая тема стала повторяться, обогащенная скорбью и подробностями, от которых не уйти. Такое построение, еще более напомнившее симфонию, не выглядело нарочитым — оно отвечало ходу переписки и времени.
К повторяющейся теме гибели присоединилась новая — образ второго общества, истинной публики Пушкина. Как это обычно случается с поэтами, эта публика материализовалась, когда сам поэт сделался явлением духовным. Она прорывала заставы и цепи, раскупала «Евгения Онегина», шелестела списками стихов. Свет, состоявший из сплошных индивидуальностей, был показан общей массой. Масса выступила перечнем индивидуальностей. Рассказчик рисовал их броскими мазками. Плачущий старик, сказавший: «Мне грустно за славу России». Другой, заметивший, что «Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою н а р о д н о с т ь». Чиновники, студенты, военные, артисты, простолюдины. Может быть, их двадцать тысяч, может быть, больше. Из этой массы выделяются редкие голоса, четко показанные пластичные фигуры. Оттуда, из «второго общества», прозвучали и стихи Лермонтова. Андроников ушел от соблазна показать это. Стихотворение вписано в письмо все той же Софии и читается ее голосом. Она восхищается неведомым автором («Как это прекрасно, не правда ли?»), но ближе к середине Андроников начинает читать сам, и мы понимаем, как мелко ее восхищение, как вся она во власти настроения минуты, мнений дня. Заканчивает стихи рассказчик снова за Софи, возвращая нас в 1837 год.
Тема гибели разрастается в драму переоценки случившегося. «Его погубили», — ужасается все понявший вдруг Александр Карамзин. И как тени снова проходят Натали с ее автоматизмом кокетства, вальсирующий Дантес, льстящий друзьям поэта, старик Геккерен, с патологической страстью ведущий интригу пасынка, и, наконец, кристаллизуется всепроникающая материя власти — двор. Организуя приличный декорум смерти, он с известной виртуозностью спускает на тормозах готовую вспыхнуть общественную демонстрацию. Поскромнее, потише, полегче — так и видится его регулирующая длань. Умер всего лишь член общества камер-юнкеров, не придворный историограф, каким был Карамзин, не статский генерал, каким почину своему являлся Жуковский. В церкви, при отпевании, «Весь Петербург» — остальные десятки тысяч оттеснены. Для порядка — ограда жандармов, для декорума — шеренги послов. Последние изумлены: как, Пушкин, оказывается, имел для России такое значение? Удивленные послы — их Андроников подчеркнуто театрально показал каждого одной фразой — последние образы рассказа.
Наступает тишина, куда-то отодвигается церковь со светским говором, потом мрачная толпа, потом кучка друзей. Как будто по специальным пропускам мы проходим сквозь охранные цепи. Опускается ночь, и, точно через черный ход, выносят поэта… Век уходит не однажды, а много раз. Его календарный конец приветствуют авторы новогодних тостов, придающие цифре с нулями мистическое значение. А жизнь течет, как текла. Постепенно материальный мир наступившего столетия вытесняет из нашего быта вещи предшествующего. Это ощущается всеми. Еще раньше начинают свое движение идеи нового века, родившись где-то в недрах предыдущего. Наконец наступает время, когда уходят люди.
В скоростных заботах середины нового столетия это мало кем замечается. Между тем мы присутствуем сейчас при конечном прощании. В дни космических полетов исчезают в небытие последние участники создания русской культуры XIX столетия — писатели, артисты, музыканты, ученые, отмеченные неповторимым обаянием духовной элиты русского общества. Разноречивый и разнородный XIX век превращается в единое понятие. Различия давно и устойчиво классифицированы, но Карамзин и Ключевский, Каратыгин и Щепкин, Брюллов и Крамской, Белинский и Писарев уже не видятся антиподами. Наш глаз не травмируют стоящие рядом творения Росси и анонимные детища «николаевского ампира», хотя шестидесятнику их соседство могло показаться кощунством. В отношении к XIX веку все явственнее проступает неопределимый в научных терминах нравственный потенциал прошлого столетия. Это ощущение века, присущее не специально изучающим его, но простым смертным.
Секрет воздействия телевизионного рассказа Андроникова — в непрерывном присутствии этого нравственного потенциала. Он — в законченности судеб и философий, в нашем знании результатов тех и других, в чистоте страданий, не замутненных болезненной рефлексией, в цельности понятий добра и зла и даже в примитивности, на наш сегодняшний взгляд, интриги, погубившей поэта. Сложность людей XIX века предстала образцом классической простоты. Сила телевизионной «Тагильской находки» — в неожиданном сочетании современной документальности, наиболее убеждающей сегодняшнего человека, нетерпимого к фальсификациям с «хрестоматийным» прошлым. Мы как бы посмотрели хроникальный фильм о гибели Пушкина, прокомментированный умным и страстным комментатором-очевидцем.
Рассказ Андроникова подходил к концу, и мы, его зрители, уже не помнили времени его начала, не помнили и того, где мы сейчас. Мы жили в совершенной слитности с источником и содержанием захватившей нас жизни. Все яснее обнаруживалась еще одна грань «Тагильской находки». Она проявлялась, конечно, в течение всего рассказа, но очевидной для меня сделалась к концу. Андроников создавал (и создает в других своих передачах) комплекс уважения к культуре XIX века и вообще к культуре. В его рассказе светило неотразимое гипнотическое обаяние рукописей, стихов, старых пожелтевших писем, карикатур. За всем этим вставала значительность и важность встреч поэтов, писателей, артистов, их разговоров, мыслей, короче — самого духа высокой интеллигентности, отличавшей русское общество. Живой дух этот создавался также множеством сведений, казалось бы, незначительных деталей, подробностей. И все это было важно и значительно для обычных, не слишком литературно образованных зрителей, моих случайных товарищей у телевизора. Подтверждалось известное: культура, не заискивающая перед простыми людьми, стремящаяся поднять их до своего уровня, вызывает их уважение и преклонение.
Так исполнил Андроников свою пушкинскую роль. Ее показывала вся объединенная телевизионная сеть Союза, более двадцати ретрансляционных центров. На следующий вечер по требованию зрителей передачу повторили. Вполне вероятно, что ее смотрело пятьдесят миллионов человек.
История телевизионного варианта И.Андроников
Первое мое выступление по телевидению было назначено на 7 июня 1954 года. Я решил рассказать «Загадку Н.Ф.И.» — историю о том, как были расшифрованы инициалы, коими озаглавлены несколько стихотворений юного Лермонтова. Эту историю в то время я очень часто исполнял с эстрады, она была у меня «на слуху».
Меня отговаривали, считали, что это длинно, по телевидению смотреться не будет, что одного человека можно слушать пятнадцать минут, ну — семнадцать, потому что телевидение — это прежде всего смена кадров, движение… В ту пору я еще не знал (я понял это потом, накопив некоторый опыт), что телевидение — это прежде всего слово, что на телеэкране изображение подчинено слову, а не слово — изображению, — наблюдение, которое я потом высказал в одной из журнальных статей. В то время я еще не знал всего этого. Тем не менее, почему — то казалось, что раз есть поиски, тайна, разгадка тайны, то должно и по телевидению слушаться — опыт публичных выступлений у меня был. И я очень просил дать мне побольше времени.
Мой первый телережиссер Сергей Петрович Алексеев и первый телередактор Наталья Николаевна Успенская (за это великое им спасибо!) рискнули! В те годы график не ограничивал нас, как теперь. Я рассказывал в продолжение целого часа.
С тех пор я много выступал по телевидению с рассказами — и о Лермонтове, и о современниках наших, выступал с беседами о литературе, вел викторины, комментировал старую кинохронику, и о литературных находках рассказывал, и о сокровищах наших библиотек и музеев, вместе с Михаилом Шапиро сделал «Загадку Н.Ф.И.» — телефильм… А с «Тагильской находкой» выступать не решался. Тому были свои причины. Дело в том, что когда мне в Нижнем Тагиле показали письма Карамзиных и разрешили взять их с собой в гостиницу, я читал их целые ночи. И при этом испытывал чувство глубокого горя. Эти письма еще больше приблизили Пушкина к нам, показав его страдания среди обыденной жизни великосветского круга. С каждой страницей открывались новые, еще никому не известные обстоятельства. Положение Пушкина оказалось еще ужаснее, нежели мы думали. А так как в письмах обо всем этом говорится очень легко, между прочим, в ряду других новостей, и строки о состоянии Пушкина мелькают среди восторженных описаний придворного быта и суеты светской жизни, читать эти письма спокойно нельзя. И время от времени я отрывался от них, стараясь подумать о чем-то другом, чтобы удержать слезы. Потом, уже в Москве, обдумывая новые факты, сопоставляя их с известными прежде, вникая в каждую фразу и стараясь понять ее так, как должен был понимать Андрей Карамзин, для которого эти описания предназначались, я, по-прежнему ощущая горечь, все же читал их уже спокойнее. Когда же, закончив работу, стал рассказывать про эти письма другим, то, видя их слезы, с новой силой ощущал трагический смысл каждой строки и каждую переживал как бы заново.
Наконец, все, что там говорится о Пушкине, я запомнил почти наизусть и передавал текст, заботясь о том всего более, чтобы в кратком по необходимости варианте не были бы упущены важные подробности. Теперь волновались и отирали слезы те, кому я читал. Я же был собран. Наконец, я решил, что пришла пора познакомить с «Тагильской находкой» публику. В печати работа не появлялась еще, о находке никто ничего не знал. Фрагменты из писем Карамзиных и необходимый для их понимания рассказ я включил в программу своего вечера в зале ленинградской Капеллы. Зал Капеллы сравнительно небольшой. Тон, в котором я излагал историю писем, напоминал скорее сообщение о найденных материалах, чем эмоциональный рассказ. Это побудило меня повторить «Тагильскую находку» с эстрады Большого зала филармонии в Ленинграде, того самого зала, где я однажды уже провалился. Правда, с тех пор прошло много времени, и я каждый год выступал теперь здесь и с особенным удовольствием рассказывал с этой эстрады о том, как в молодые годы мои я провалился именно на этой эстраде.
Теперь я вышел с рассказом о Пушкине. Огромность зала снова меня поразила. Множество публики. Тема: «Пушкин — Карамзины» требует уловления множества имен, фактов, подробностей… Тема все-таки специальная. Будут ли слушать меня почти полтора часа?
Стараясь быть как можно более понятным, я стал рассказывать о Нижнем Тагиле, о семействе Карамзиных, о письмах, о том, как попали они на Урал, как нашлись… Наконец, дело дошло и до Пушкина. И тут публика стала слушать с напряженным вниманием. Это внимание взволновало меня. Когда же я дошел до письма Екатерины Андреевны Карамзиной «Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью…», я увидел, что многие прослезились. К концу письма забелели платки. И когда я произнес слова Софьи Карамзиной: «А я так легко говорила тебе об этой печальной драме в тот день и даже в тот час, когда совершалась… развязка. Бедный, бедный Пушкин! Как он должен был страдать все три месяца, после получения этого гнусного анонимного письма…» — я увидел на лицах выражение такого невыносимого горя, что едва сам мог говорить: охрип, горло перехватили спазмы. Сделал паузу, чтобы подавить волнение, а эта непроизвольная пауза отозвалась в публике. Я испугался, что зал зарыдает. С великим трудом, стараясь читать без всякого выражения, я довел рассказ до конца. Пошел… Никто не зааплодировал, никто не встал с места. Стояла могильная тишина. Я был в отчаянии. Мне показалось, что это — новый провал!
Поэтому никогда больше рассказа этого я с эстрады не повторял, решив, что есть документы, которые можно читать только глазами. Кстати, думаю, что это относится не только к письмам Карамзиных, но и ко многим произведениям прозы, никак не рассчитанным на произнесение вслух, тем более на огромной аудитории… Нет, оказалось, что в зале нельзя, а по телевидению «Тагильскую находку» исполнять можно. Почему? Постараюсь сейчас объяснить.
Принято считать, что выступающий по телевидению не ощущает контакта со зрителем, и это сковывает его мысль и тормозит речь. Было бы странно с этим не согласиться. И, тем не менее, я, как и другие, уже привыкшие общаться с красным глазком телекамеры, ощущаю какую-то иную форму контакта. Ведь зрителя можно не только видеть, но можно воображать. Не смущает же нас то обстоятельство, что мы не видим нашего собеседника по телефону. Мы свободно произносим целые монологи, уверенные в том, что он слушает нас. И даже если разговор прервался, а мы не знаем об этом, — все равно говорим очень свободно и бойко, пока не поймем, что произносим слова впустую. Тут речь оборвется… Но ведь я же хорошо знаю, что за красным глазком меня видят и слышат. И ощущаю контакт такой же уверенный, словно говорю со зрителями по телефону. А это обеспечивает посыл и свободную интонацию. Как воспринимает при этом мои слова зритель, я должен определять сам, опираясь на опыт общения с публикой в зале. Если я чувствую, что мне удалось вызвать в себе те же эмоции, которые я испытываю, общаясь со зрительным залом, — значит, контакт налажен и с той стороны. Но тока ответного в студии телевидения я чувствовать, разумеется, не могу. Как ни странно, но отсутствие обратной связи помогло мне во время передачи «Тагильской находки»: тут у телевидения оказалось преимущество перед залом. Я не видел и увидеть не мог — прослезились зрители или нет. И если даже они прослезились — это не могло заразить меня, не могло повлиять на других и вылиться в массовое рыдание. Почему? Да потому, что даже если кто-то из зрителей сидел тогда в филармонии, то у экрана он был уже не тот зритель, а телезритель. Это совсем иная аудитория, и руководят ею другие законы восприятия. Ибо телеаудитория, хотя она и едина — разобщена между собой. И каждая ячейка смотрит и слушает отдельно от остальных и независима от реакции большинства. Законы массовой психологии ее не касаются. И в этой интимности телевидения — его неповторимо особые качества, притом что оно и всеобъемлюще, и всеохватно, и всесоюзно, и по природе своей всемирно. И, однако, скажу здесь к слову: как часто мы видим на телеэкране приемы, механически перенесенные из театра, с эстрады, смотрим картины, спектакли, созданные в расчете на массовую аудиторию. Неверно! Телевидение требует соблюдения своих, особых законов, ибо перед камерой вы со всеми наедине. И об этой дружеской атмосфере, которая возникает при общении с телезрителем, следует всегда помнить.
Рассказывая о тагильской находке, я обращался к друзьям, хотя никогда их не видел. Это особая и очень высокая дружба. И этой дружбе я не изменю никогда!
ГИЛЕЛЬС ОТКРЫВАЕТСЯ ВНОВЬ Г.Троицкая
На концертную эстраду выходит невысокий широкоплечий человек. Идет он легко и быстро. Лицо его спокойно, быть может, даже подчеркнуто спокойно. Он садится к роялю и начинает играть, оставаясь с виду таким же спокойным — не запрокидывает головы, не вскидывает эффектно рук. И только когда вслушиваешься в его игру, ощущаешь мощь человеческих страстей, которым пианист не позволяет выплескиваться наружу, заключая их в безукоризненно ясные и строгие грани.
Это Эмиль Гилельс. Таким он был тридцать лет назад. Таким он остается и сегодня, хотя исполнительское искусство музыканта проделало существенную эволюцию. Близко знающие его люди рассказывают, что во время выступления пианист сильно волнуется, что каждый концерт стоит ему огромного нервного напряжения. Но как ни вглядываешься в лицо Гилельса из зрительного зала, сидя даже совсем близко, никогда не удается уловить никаких признаков такого волнения.
Гилельса не раз снимала кинохроника, показывало телевидение. Но на экране кино и телевизора видно было только строгое и суровое лицо музыканта. Его чувства не становились зримыми. И в силу господства изображения над звуком это ослабляло впечатление телезрителя от его музыки. Иначе говоря, Эмиль Гилельс представлял собой тот тип художника, который не только не раскрывался перед кино- и телекамерой, в отличие, скажем, от Вана Клиберна, но как будто даже стремился еще больше закрыться перед ней. Так было.
Но вот наступил последний вечер бетховенского цикла Гилельса, который он давал в Большом зале Консерватории в сопровождении симфонического оркестра под управлением Ноэми Ярви. Исполнялся Пятый фортепианный концерт. Первый, Второй, Третий и Четвертый я слушала непосредственно в Большом зале. Сами по себе приносившие огромное наслаждение, они позволяли делать и интересные сравнения с более ранним исполнением, судить о характере той эволюции, которая происходит в исполнительском искусстве Гилельса. Масштабность и глубина его интерпретации все более обогащается тонкой лиричностью. И теперь, при исполнении музыки Бетховена, в которой мощь так гармонически слилась с лирикой, эмоциональность пианиста, в отсутствии которой раньше нередко упрекали Гилельса, раскрылась во множестве переливов и оттенков. Но внешний облик музыканта, манера его поведения оставались теми же. Временами можно было закрыть глаза, чтобы лучше вслушаться в тончайшие нюансы его игры.
Исполнение Пятого концерта я смотрела по телевизору. И тогда-то случилось невероятное. На телевизионном экране предстал совсем новый Гилельс. То был человек, все существо которого переполнено глубокими чувствами. Ему необходимо было, мучительно необходимо было излить себя в звуках, иначе он не сможет существовать, иначе он погибнет под напором этих рвущихся наружу музыкальных сил, как погибают от внутреннего давления глубоководные обитатели океана, попав на поверхность. Сейчас за роялем Гилельс отдавал часть себя, часть своей жизни. Ничего подобного мне никогда не приходилось видеть. Этого не видели и те, кто в это время слушал пианиста в Большом зале Московской консерватории.
Телевизионная передача оказалась самостоятельным художественным явлением, отличным от концерта, который она транслировала. Ведь выступление музыканта, шедшее по телевидению, было документальным — оно не представляло собой новой, специально для телеэкрана передачи, а было тем же самым, что слушали посетители Большого зала.
Попробуем выяснить, какие же изменения произошли с пианистом и музыкой при транспортировке их с концертной эстрады на телевизионный экран. Какова природа этих изменений. Если начать сравнивать впечатления, полученные в зале, с впечатлениями у телевизионного экрана, то станет очевидным — они различны. Телевидение подарило своим зрителям новое художественное наслаждение. И то же телевидение, естественно, оставило за кадром и нечто важное из того, что дает слушателю присутствие в концертном зале. С эстрады концерта воздействует прежде всего сама музыка. Музыкант воспринимается преимущественно через нее. В телевизионной передаче, наоборот — на первом плане оказывается личность артиста, его художническая, человеческая, исповедь. Музыка воспринимается через эту личность, вместе с нею. Появлению такой разницы способствует телевизионный кадр. Отграниченное рамкой от всего остального, в поле вашего зрения остается изображение музыканта. И в этот момент оно приобретает самостоятельное значение, сам музыкант становится предметом внимания. Но, видимо, художническая исповедь человека-музыканта не возникает сама по себе, автоматически — стоит поставить телекамеру. Последнюю надо уметь направить!
Так что же дал режиссер, ведший телевизионную передачу Пятого концерта Бетховена, что в его работе способствовало столь большому художественному эффекту?
Начну с подробностей, казалось бы, сугубо «технических». Режиссер Н.Баранцева до передачи, у себя дома, за роялем проштудировала клавир бетховенского концерта и на его основе заранее обдумала монтажное построение будущей передачи. Где производить смену кадров, чтобы она ритмически совпадала с музыкой. Что давать на крупном плане, а что на общем и так далее. (Читатель отметил, надеюсь, то обстоятельство, что режиссер, берущийся за такую передачу, должен быть человеком в высшей степени музыкально образованным.) Игра пианиста, по мысли режиссера, должна была идти на крупном плане; большие оркестровые куски — преимущественно на средних и общих. В тех случаях, когда оркестр сменял солиста ненадолго, режиссер оставлял на экране крупный план солиста. Камера, показывавшая Гилельса, стояла прямо на сцене, она была снабжена оптикой, позволявшей показывать пианиста наиболее крупным планом, так что у зрителя создавалось ощущение, что пианист находится совсем рядом.
Выступление музыканта в огромном зале перед живой и трепетной публикой оказалось в интимнейшем приближении к нам, телезрителям. Изобразительное построение передачи опиралось на точно выверенную музыкальную основу. Тогда-то и рухнула невидимая преграда, что в концертном зале отделяет пианиста от нас, и музыкант, столько лет казавшийся недоступным, вдруг явил поразительный пример самораскрытия. Так возникло еще одно чудо телевидения.
Нельзя сказать, что в упомянутых уже в начале кинолентах и других телевизионных передачах, хотя бы в минимальной степени, не присутствовали элементы, обеспечившие на этот раз такой успех. Присутствовали! Все дело в том, что они не были превращены в целенаправленную логическую систему. Так, в документальном фильме «Играет Эмиль Гилельс» есть очень эффектные кадры, где изобразительная динамика подчеркивает ритм музыки — стук молоточков по струнам рояля или стремительное движение камеры вдоль крыши готического дома под звуки фортепианного пассажа, когда мелькание черепицы ритмически сливается с ударами фортепианных клавиш. Но зрительное впечатление приобретает здесь самодовлеющее значение, и сами по себе стучащие молоточки и мелькающая черепица заслоняют и музыку Бетховена и личность пианиста. Режиссер высказывает недоверие к возможностям прямого воздействия музыканта на зрителя. Начинается иллюстрация музыки. Пусть тонкая, ассоциативная, но все же иллюстрация.
Есть в фильме и кадры, где Гилельс приближен к зрителю, — он снят за роялем в домашней обстановке. Но пианист играл не перед жаждущими его слышать людьми, в общении с которыми и заключен сокровенный смысл его искусства, — он играл перед кинокамерой и осветительными приборами. И потому кино воздвигло между ним и зрителями невидимую преграду.
Наконец, есть в фильме и выступление артиста в концертном зале (по-видимому, где-то в Прибалтике), притом с тем же самым Пятым концертом Бетховена. Оно снято с максимальным приближением. Глядя на эти кадры, вы чувствуете, как уже готово начаться такое же откровение, что однажды вы уже видели на телевизионном экране. Но… тут вдруг крупный план пианиста сменяется тем самым проездом по черепичной крыше, о котором только что шла речь. Режиссер фильма либо не понял смысла того, что таил в дальнейшем показ пианиста, либо счел, что это будет неинтересно зрителю, и предпочел внешне более эффектный, но внутренне пустой кадр. Так что дело не в элементах, а в том смысле, который придает им режиссер. Главной оказывается атмосфера наибольшего благоприятствования художническому самораскрытию, в данном случае атмосфера выступления перед исполненной большого ожидания публикой и неослабеваемый интерес режиссера к самой личности музыканта, вера в нее. Нужно пристально всматриваться в счастливые мгновения, чтобы понять, из каких же частей складывается это чудо.
Мне вспоминается поразительный телевизионный портрет Дмитрия Шостаковича в передаче о Соллертинском. Передача шла из студии, и вел ее Ираклий Андроников. Вокруг небольшого стола сидели друзья и знакомые знаменитого музыкального критика, среди них и Шостакович. Камера не была «привязана» ни к ведущему, ни к выступавшим — она показывала всех. Показывала она и сидящего в кресле Шостаковича. На первых порах эти кадры, казалось, никакого откровения не сулили — Шостакович принадлежал к внешне очень «закрытым» людям. Сколько раз в Большом зале Консерватории приходилось видеть, как на премьерах своих сочинений он небольшими шагами выходил на восторженные аплодисменты, и как-то не вязалось, что этот человек с обыкновенной и спокойной внешностью мог написать такую острую и драматическую музыку. И только когда удавалось наблюдать во время концерта, как Шостакович слушает музыку, словно заново создавая ее, что-то в композиторе «приоткрывалось». И вот в передаче о Соллертинском вслед за обычными кадрами на экране появился очень крупный план Шостаковича, от которого похолодела спина: в выражении лица композитора, в его глазах сверкнуло нечто такое, что стало ясно: перед нами человек, все существо которого ощущает трагические стороны окружающего мира. Перед нами был Шостакович — создатель самых потрясающих своих страниц. Это было как удар молнии. И как удар молнии, длилось только миг.
Успех такого телевизионного портрета возник благодаря атмосфере воспоминаний о человеке, энергично поддерживавшем Шостаковича с первых его шагов в музыке, поддерживавшем его в трудные минуты жизни, о человеке, немало испытавшем за эту свою верность. В той же мере успех обеспечило и пристальное внимание к Шостаковичу телевизионного режиссера, сумевшего «поймать» на своем пульте этот портрет и передать его в эфир.
Если присмотреться к этим двум условиям — атмосфере наибольшего благоприятствования самораскрытию музыканта и настойчивому режиссерскому вниманию к его личности, — то окажется, что для их осуществления необходимо, с одной стороны, общение музыканта с людьми (иногда с большим их числом), с другой — максимальное к нему приближение телевидения. Иначе говоря, возникает дилемма, уходящая своими корнями во времена, когда не только телевидения, но и кинематографа не было еще и в помине. Я имею в виду общую эволюцию музыкального концерта.
Современные формы музыкально-концертной жизни сложились в прошлом столетии. Социальные потрясения конца XVIII — начала XIX века в Европе перенесли центры музыкальной жизни из усадебных театров и дворянских гостиных в городские концертные залы. Общественные катаклизмы драматизировали инструментально-симфоническую музыку, изменили ее масштаб, расширили круг зрителей. С появлением титанического симфонизма Бетховена, увеличением концертных залов и расширением круга слушателей музыкант все больше отдалялся от публики. Завершился этот процесс отдаления тем, что в последней трети прошлого века Вагнер поставил дирижера спиной к слушателям — иначе он уже не мог достойно управлять все увеличивающимся оркестром.
Но потребность в непосредственном общении с музыкантом оставалась и особенно проявлялась в эпохи общественных спадов. Тогда приобретало большое значение и домашнее музицирование, явившееся интимным дополнением к общественной концертной жизни. Вокальная лирика и инструментальные ансамбли Шуберта были предназначены прежде всего для такого семейного исполнения. Развитие этих двух тенденций и вело в одном случае — к предельному сближению музыканта со слушателем, в другом — к выходу музыканта за стены здания, к многотысячным массам слушателей. В годы после второй мировой войны эта последняя тенденция нашла свое наиболее полное выражение в музыкально-театральных фестивалях — грандиозных представлениях на открытом воздухе, в окружении живой природы и архитектурных памятников.
Но с началом нашего века появилась и тенденция сближения двух контрастных форм конвертирования, стремление соединить общественную значимость и масштаб публичного исполнения с интимно-домашним характером восприятия. Массовое звучание музыки — оперной, инструментально-симфонической, эстрадной — прямо в нашем доме: по радио, на пластинках, на магнитофонной ленте (а теперь транзистор может повсюду сопровождать нас) в превосходном исполнении и стало свидетельством такого стремления.
Конечно, эта тенденция проявлялась все шире по мере появления новых технических средств. С другой стороны, это стремление и стимулирует создание новых технических средств. И, наконец, телевидение оказалось способным соединить вещи, обладающие, казалось бы, свойством взаимного отталкивания — публичность и интимность. Такая способность делает телевидение выразителем важного явления современного музыкального искусства. Но эта способность не автоматизирована в телевидении. Ее надо уметь выявить и использовать.
Самораскрытие Гилельса и Шостаковича в телевизионной передаче не есть специфически музыкальное явление. Оно носит тот же исповеднический характер, что и телевизионные выступления некоторых театральных актеров — Романова, Кольцова, Юрского. Оно представляет собой проявление важнейшей особенности телевидения вообще, замеченной и рассмотренной еще в книге Владимира Саппак «Телевидение и мы». Самораскрытие это большей частью происходит в процессе исполнения. У М.Романова, Ю.Кольцова, С.Юрского — театрально-сценического, у Гилельса — музыкального.
Ведь инструментальный концерт — тоже драма. Он родился как соревнование солиста с оркестром. Хорошо продуманная монтажная структура передачи выступления Гилельса и дала возможность выявить драматическую первооснову фортепианного концерта. А специальная камера для показа крупного плана пианиста позволила представить эту драматургию в живом человеческом воплощении — во взаимоотношении Гилельса с оркестром — и в момент сольной игры, и в момент «вслушивания» его в звуки оркестра, и в тот момент, когда дирижер с оркестром бросает ему свой вызов.
Но зададим вопрос: является ли самораскрытие музыканта единственно возможным специфически телевизионным видом музыкальной передачи или есть и другие? Если обратиться к практике, нашей и зарубежной, то окажется, что главное место в музыкальных программах занимают передачи, в которых режиссеры заняты не столько личностью исполнителей, сколько поисками изобразительного построения, способствующего наиболее успешному «прохождению» через телевизионный экран самой музыки. В тех случаях, когда такие передачи оказываются успешными, первоосновой их удачи неизменно становится изобразительное построение, опирающееся на само течение музыки, смену ее ритмов, драматическую борьбу, происходящую в ней. Успех таких передач вызван, думается, эстетическим законом.
В самом деле, музыка и телевидение — искусства временные. Они состоят из определенных элементов, располагающихся во времени и особым образом организованных. Этим организующим началом для телевидения является логика, смысл монтажной структуры. Для музыки — течение мелодии и ритм. Даже в самых примитивных передачах можно видеть, как режиссер старается показать в кадре тот инструмент или ту группу инструментов, которые в этот момент ведут музыкальную тему.
Но у слабого режиссера монтаж вял и робок, смена кадров происходит не в тот момент, когда вступает солирующий инструмент или группа инструментов, а раньше или позже. Но так как зрительное начало имеет тут решающий голос, то монтажно-изобразительное построение передачи у слабого режиссера не выявляет структурно-ритмической особенности передаваемого сочинения, а низводится до простой иллюстрации, — зрителю показывают играющий в данный момент инструмент или группу инструментов. И все! И «картинка» заслоняет собой музыку.
Наоборот, сильный режиссер стремится к такому монтажу, который бы очень точно выявлял основные структурно-ритмические особенности сочинения, и тем извлекает из телевизионного изображения огромный музыкально-драматургический потенциал.
В этом отношении весьма красноречивой была передача «Реквиема» Верди из Лейпцига. В конце вступительной части, когда голоса солистов умиротворенно стихали, камера спокойно и неторопливо — в ритме музыки — панорамировала вдоль стоявших певцов. Но с началом «Dies irae», в тот самый момент, когда вдруг раздаются мощные аккорды оркестра и хор взрывается гневными и трагическими возгласами, произошла резкая смена кадров: в стремительном монтаже на экране появился дирижер, взятый в ракурсе, который подчеркивал динамичность его жестов. Следом за этим в тревожном ритме музыки сменялись хор, скрипачи, трубачи и тромбонисты и снова появлялся дирижер. И казалось, что музыка в свой неистовый поток захватила и музыкантов, и нас, и все вокруг. Способы, которыми режиссеры телевидения стремятся зрительно выявить драматургию и структурно-ритмические особенности музыки, чрезвычайно разнообразны — от панорамы вдоль всего оркестра до рук музыканта; английское телевидение даже показывало крупным планом пританцовывающие ноги знаменитого дирижера Джона Барбиролли.
Основываясь на этом опыте, а также исходя из опыта кинематографа, естественно было предположить, что на голубом экране возможны и более сложные формы сочетания изображения с музыкой, чем просто точное ритмическое совпадение, что в музыкальных передачах телевидения возможно применить те принципы звуко-зрительного монтажа, на основе которых С.Эйзенштейн и С.Прокофьев соединяли зрительный ряд с музыкой в фильме «Александр Невский». Используя соответствие основных композиционных и структурных элементов движения музыки и изображения, режиссер и композитор сочетали зрительную и звуковую ипостаси фильма путем такого мелодико-пластического построения, при котором музыка в своем течении то опережает изображение, то следует за ним, то дополнительно с ним слагается и совпадает лишь в некоторых опорных точках, создавая таким образом сложное и единое плетение изобразительно-музыкальной ткани.
Эти принципы и были использованы в телевизионном фильме, в котором было заснято исполнение «Реквиема» Верди солистами, хором и оркестром под управлением Герберта фон Караяна. Был широко применен монтаж, где кадр солиста или группы хора возникал на экране за мгновение до того, как они начинали петь. Кроме того, в нескольких случаях крупный план дирижера, шепотом произносившего слова, предшествовал появлению на экране солиста, который эти слова пел.
Наконец, переход к «Dies irae» был сделан так: перед его началом камера приблизилась сзади к дирижеру — из темноты выступала седая голова и поднимающиеся по обе ее стороны ладони, отделенные от рукавов белизной манжет. На какую-то долю секунды все замерло. И вдруг с колоссальной энергией руки ринулись вниз, а следом ударил гром оркестра и хора. Это было ошеломляюще. Эмоциональный эффект вступления солиста или драматический взрыв здесь не просто изобразительно подчеркивался, — что было и в Лейпцигской передаче, — а удваивался. Гневные возгласы раздавались еще, и каждый раз их предваряло, словно предупреждая, и всякий раз по-новому, — изображение. Иначе говоря, происходило нечто подобное сцене Ледового побоища в фильме «Александр Невский», когда движение скачущего рыцаря, закованного в шлем, не в точности совпадает с чеканной поступью неумолимо и зло торжествующей музыки, а идет во след ей, накладывается на нее за мелодическим движением, как одна волна за другой, идет движение изобразительное. Разница заключалась лишь в том, что в телевизионном фильме зрительное движение предшествовало музыкальному.
Итак, возникают как бы два вида музыкальных передач: психологические (в центре — личность исполнителя) и ритмические (в центре — течение музыки). Разумеется, обозначения несколько условны. Между этими типами передач существует нерасторжимая связь. Такая же, как, например, между актером и спектаклем. Даже лучшая «ритмическая» передача окажется штукарской и мертвенной, если на экране хотя бы в немногих кадрах не будет живых человеческих портретов — дирижера, музыкантов, публики. Они смягчают строгую графичность, которую сообщают передаче чисто ритмические кадры, внося в нее человеческую теплоту. Когда же в изобразительное построение включаются природа и архитектурные памятники, телевидение способно дать почувствовать «связь времен» — ощущение живой связи между музыкой, сегодняшним человеком, историческими памятниками.
В то же время в передаче «психологической» большую роль играет монтаж — он помогает ощутить драматургию музыки. Телевизионный фильм с исполнением вердиевского «Реквиема» гармонически сочетал оба начала. В его решении большую роль приобретали крупные планы — портреты, прежде всего самого Караяна и негритянской певицы Леонтины Прайс, певшей партию сопрано. Не только как исполнителей музыки Верди, но и самих по себе, как крупных, выдающихся личностей, чьи чувства и страсти находили выражение в музыке «Реквиема».
Самораскрытие музыканта перед телевизионной камерой, каким и было выступление Гилельса с Пятым концертом Бетховена, можно уподобить вот этому, высшему психологическому взаимодействию изображения и музыки. Можно себе представить, какие перспективы здесь открываются, какие не использованные еще возможности. Но очевидно уже, что осуществимы эти возможности лишь при абсолютном знании музыкального произведения и математически точной работе не только режиссера, но и оператора. Иначе может получиться то, что весьма саркастически описал в своей книге Владимир Саппак «Бьют в колокола»: «Но я об этом знаю заранее, я вижу оркестранта, который к этому готовится, вот он привстал со своего места, переглянулся с дирижером, насторожился… ба! „вдарил“. А теперь в фокусе нашего внимания тот, что заведует тарелками. Теперь уже он насторожился. Невольно в уме цитирую Синявского: „Удар, еще удар!“ Меня, зрителя, как бы предупреждают заранее. Сейчас зазвучат скрипки, и в ораторию вернется лирическая тема; сейчас вступит весь оркестр — будет драматический перелом».
Сравнивая этот пассаж с собственными наблюдениями и впечатлением от телевизионного фильма «Реквием Верди», снова вспоминаешь о том самом «чуть-чуть», с которого начинается искусство, и думаешь, что бич музыкального телевидения может стать его могущественным оружием. Тем более, что такое «чуть-чуть» поддается точному определению: изобразительное движение должно лишь настолько опережать музыкальное, чтобы можно было ощутить, но еще не успеть осознать предстоящее.
Размышления над телевизионным портретом Эмиля Гилельса позволяют сделать некоторые выводы. Успех различных видов музыкальных передач — будь то «психологическая», «ритмическая», в том числе передача какого-либо массового музыкального фестиваля — определяется одной причиной: близостью некоторых сторон современной музыкальной жизни специфике телевидения. В современном искусстве проявилась могучая тенденция сближения музыканта с публикой — и телевидение предоставило возможность непосредственного воздействия музыканта на сидящего у экрана зрителя.
В процессе развития музыки идет нарастание драматургической и ритмической сложности, усиление контрастов — и телевидение обладает способностью их максимального изобразительного выявления. В современной музыкальной жизни возникло стремление установить связи музыки с окружающим миром, с прошлым, — и телевидение протянуло «времен связующую нить», создав новое зрелище. Так в отношениях с музыкой телевидение утверждает себя как новое своеобразное искусство. И возможности его кажутся здесь безграничными…
Чтобы показывать музыку, надо ее слышать! Н.Баранцева
— Необходимо ли режиссеру, ведущему передачу, предварительное знакомство с музыкальным произведением, которое будет исполняться?
— Непременно. Но это, к сожалению, не всегда удается. У нас бывают передачи двух родов. Одни — когда произведение знакомо или имеется возможность с ним познакомиться: тому, у кого есть музыкальное образование, — по партитуре, тому, кто музыкального образования не имеет, — в записи на пластинку или пленку. Однако бывает — и это чаще всего случается, когда приезжает какой-либо зарубежный музыкант, и нет возможности заранее познакомиться с произведением, которое будешь передавать, — нет ни записи, ни партитуры. Тут уж приходится целиком полагаться на собственное чутье.
Когда у меня есть возможность познакомиться с музыкальным сочинением заранее, я приношу домой клавир, проигрываю его на рояле, размечаю, где, что и каким планом показывать, а потом веду передачу, держа ноты у себя на рабочем пульте. Режиссеру нужно обладать внутренним ощущением музыки, знать ее характер, ведь музыка должна как можно полнее дойти до слушателя. Режиссер должен уловить, почувствовать и атмосферу события — будь то концерт или конкурс. Тут, пожалуй, самое важное. Ведь у каждого музыкального события свое, неповторимое лицо. Практически это выражается различными способами. Например, я заранее предупреждаю оператора, что, скажем, через двадцать тактов надо взять крупный план солиста. Если этого не сделать заранее, то оператор не сможет подготовиться, а крупный план требует подготовки. Самое лучшее, — это когда знаешь произведение наизусть. Тогда чувствуешь себя совершенно свободно, и дело идет особенно хорошо.
Но как бы тщательно ни готовиться, всегда бывают элементы импровизации. Если видишь, что получается очень хороший, особенно выразительный кадр, способствующий раскрытию музыкального произведения или характера музыканта, то передаешь его в эфир.
— Необходима ли музыкальная подготовка операторов, ведущих передачу?
— В идеале это было бы очень желательно. Но наша практика еще далека от этого. Сейчас мы стараемся, насколько это возможно, работать с операторами, у которых есть природная музыкальность. Например, у нас есть оператор Владимир Куликов. Он человек музыкальный, и это бесспорно способствует успеху передач, которые он ведет. Когда просишь оператора сделать наезд, чтобы взять крупный план, а в это время звучит adagio (то есть медленная часть), оператор, у которого есть музыкальное чутье, сделает этот наезд плавно, как бы входя в течение музыки, а оператор, у которого такого чутья нет, — грубо, рывком. И наоборот, если в музыке presto (то есть энергично), оператор с музыкальным чутьем сделает наезд быстро и четко, а оператор без музыкальности — вяло. Приходится часто говорить операторам: слушайте музыку, вслушивайтесь в звучание оркестра. Одним это помогает в работе, а другим — тем, кому, что называется, «медведь на ухо наступил», это, к сожалению, не помогает.
— Имеют ли для вас значение индивидуальные особенности музыканта, чье выступление вы передаете?
— Обязательно. Вообще телевидение разных музыкантов передает по-разному. У одних оно выделяет достоинства, у других — подчеркивает недостатки. Скажем, очень хорошо получается на телевизионном экране дирижер Кирилл Кондрашин. Телевидение подчеркивает его обаяние, артистичность. А вот другой дирижер — Евгений Светланов — выходит на телевизионном экране плохо. Поэтому, когда я составляю план передачи, то для тех музыкантов, которых телевидение раскрывает хорошо, даю больше крупных планов, а для тех, которые на телевизионном экране получаются не столь выгодно, крупных планов даю мало, заменяя их изображением других элементов концерта. Помню, Вана Клиберна можно было в течение получаса держать на крупном плане — такой телегеничностью и обаянием он обладает.
Вообще же все это, как говорится, еще terra incognita — земля неизвестная. Почему один «получается», а другой «не получается»? Мне кажется, что музыканты с открытой эмоциональностью получаются лучше. Но часто многое зависит и от своего собственного настроения, состояния — как у дирижера. Иногда передача почему-то не идет, а иногда — как по маслу. Так, Гилельс, которого обычно бывает трудно передавать, получился очень хорошо, когда выступал с Пятым фортепианным концертом Бетховена. К сожалению, эту передачу мы не сняли на пленку.
— Есть ли какая-нибудь разница в работе режиссера в передаче, снимаемой на пленку, и той, что непосредственно идет в эфир?
— Принципиальной разницы нет. Но при съемке фильма больше возможностей для установки и маневрирования камер и, кроме того, перед съемкой у нас бывает трактовая репетиция, чего перед «живой» передачей мы не имеем. А в концертных залах нас, конечно, ограничивают. В Большом зале Консерватории, например, теперь уже не разрешают ставить камеры в партере, мы их можем ставить только наверху, в амфитеатре. А уж о том, чтобы поставить камеру на сцене, и говорить нечего. Сколько писали, да и сейчас еще пишут о Клиберне на телевизионном экране. Но ведь кадры, которые вызвали восторг и критики и зрителей, были получены при помощи камеры, стоявшей на эстраде. Чтобы получить тогда разрешение поставить там камеру, понадобилось обратиться за содействием в очень высокие инстанции… Конечно, теперь мы имеем более мощную телевизионную технику, способную брать очень крупные планы издалека, так чтобы не мешать ни исполнителям, ни непосредственным слушателям, но проблем еще много. Так что мы ищем, пробуем, боремся, и все для того, чтоб зритель увидел и почувствовал новую глубину, силу и прелесть музыки.
ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
ИСТОРИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ А.Свободин
Этот телевизионный фильм смотрели десятки миллионов людей, и вряд ли он кого-нибудь оставил равнодушным, хотя у разных слоев телезрителей в этом фильме, думаю, были неодинаковые центры сосредоточения. То, что до сердечного волнения поразило одних, для других, возможно, осталось незамеченным. «Операция „Трест“» Сергея Колосова — не телекентавр, а нечто иное, ибо не два лишь начала — театральное и кинематографическое — в нем соединились. Что-то от документальной передачи, ну просто от такой, когда диктор читает по бумаге. Что-то от обычной кинохроники. Что-то от исторических изысканий, результаты которых сообщает ученый. Что-то от реалистической драмы. От литературного театра. От театрального гротеска. От немого фильма. От мелодрамы давних лет… Можно перечислять и дальше, но, странно, главное определение не нащупывается, а целое между тем не рассыпается. Целое, несомненно, существует. Это, очевидно, сложный организм, в который уже пересажено сердце, оно бьется там, внутри.
Ну что ж, рождение жанра… Неужели это было? Эти люди жили вот так, ходили здесь, по этим московским площадям и улицам, по которым ходим мы с вами. Они боролись, страдали, мучались сомнениями и не знали их. А вот эти, которые и сейчас живут еще и разговаривают с нами с экрана, знали тех людей, участвовали в тех событиях? Да, несомненно. Вот они рассказывают об этом. Они стары, их речь затруднена, но то, о чем они рассказывают, — для них реальность… Мне кажется, что главная задача, которую ставили себе авторы «Операции „Трест“», — это убедить зрителей в том, что это было среди нас, что мы, так сказать, взаимозаменяемы с людьми, жившими тогда. Что история непрерывна, не располосована межами поколений и эпох. Одна эпоха входит в другую, точно два дерева, корни и ветви которых сплелись…
В фильме часто повторяется такой прием. Показывается какая-нибудь улица или площадь Москвы в современном ее виде, в современном ее ритме, с людьми, с нами, снующими по своим делам, в наших современных одеждах, среди сегодняшних авто. И вдруг, незаметно что-то меняется. Изменяется одежда, колорит стен, системы авто, возникают трамвайчики еще той, бельгийской фирмы, что строила первый московский трамвай, меняется ритм движения… Мы слышим, как стрекочет проекционный аппарат, который всегда было слышно при демонстрации немых фильмов. На наших домашних экранах — кинохроника Москвы двадцатых годов. Кинохроника Берлина. Кинохроника Парижа. Потом крупный план. Актеры. Диалог. Интерьер. Интервью. Прием этот иногда назойлив, порой неискусен.
Но в другой раз естествен, до боли точен, мы ощущаем дрожь прошедшего, осязаем, ощупываем фактуру истории… Здесь они ходили, только что прошли… Они — это участники операции «Трест», поразительной по замыслу, смелости, размаху, по исключительности своей операции против западных разведок и белоэмигрантских акций, проведенной в начале двадцатых годов ВЧК — ОГПУ Феликса Дзержинского. Сценарий А.Юровского опирается на роман-хронику Льва Никулина «Мертвая зыбь». Но лишь опирается. Он более документален, ибо что может быть документальнее живого участника события. Постаревшего, с трудом подбирающего слова, непривычного к кинокамерам. Документ здесь не только то, что он говорит, но весь его облик, его седина, его морщины, манера поведения, словарь. Он — сколок эпохи, свидетельство того времени, когда он обладал высшей жизненной активностью. Опыт прошедших с тех пор лет явствен в фильме. И явственна неизбежная грусть раздумий. Ее несут два замечательно сыгравших свои роли актера — И.Горбачев и А.Джигарханян.
Живые люди не могут относиться к прошедшим дням своим, как к камням для монумента, хотя новые поколения могут и так оценить их дела. Для живых людей — это ушедшие дни их жизни, такой короткой по сравнению с историей. Если бы Якушев и Артузов — два героя, две главные силы показанных событий — были живы, если бы два старика (они были бы совсем стариками) сидели перед камерами и вспоминали, в их словах звучала бы грусть. Их рассказы были бы печальны высокой печалью… «Печаль моя светла», — говорил Пушкин. Печаль — категория нравственная, философская. Она — не обязательно спутник фаталиста, высокой печалью проникнут и оптимизм истории… Но их нет в живых. Их играют актеры, талантливые представители современного интеллектуального искусства.
Образы, которые они создают, ценны сами по себе, а технология их исполнения достойна анализа, ибо они выдерживают, как само собой разумеющееся, соседство с документом. Но сила их игры и ее тайна — в том, что не только груз прошлого, но и груз будущего парадоксальным образом заключен в их актерской интонации и выдает серьезно думающих людей. Образ несостоявшегося интервью с теми реальными людьми, которых они играют, как бы витает над их диалогами. И от этого еще их диалоги — самое лучшее и сильное, что есть в фильме.
А сущность операции состояла в том, что одна из главных монархических контрреволюционных организаций, действовавших на территории Советской России, была превращена в систему, находившуюся под полным контролем советской контрразведки, и оттягивала на себя и обезвреживала таким образом значительные силы монархической белой эмиграции. Через «окно» в границе, созданное «Трестом», прошел главарь ярославского мятежа, один из величайших политических авантюристов — Борис Савинков. Через это «окно» виртуоз британской разведки Сидней Рейли попал непосредственно к чекистам. Через такое же «окно» был пропущен и выпущен обратно известный монархический деятель Василий Витальевич Шульгин. Он сам рассказывает об этом в фильме. Факт известен, но когда на экране сам Шульгин, глубокий старик, рассказывает об этом, начинается «дрожь» истории, которую трудно обозначить словами. Но еще раньше об этом же самом рассказывает подлинный хозяин одного из «окон», бывший начальник погранзаставы Сестрорецкого пограничного отряда Тойво Вяхи — после 1925 года — Иван Михайлович Петров, полковник Советской Армии.
В фильме два эти человека — Шульгин и Петров — не встречаются. Но одно лишь сопоставление двух героев случившейся в жизни, еще непереведенной на язык искусства драматической коллизии редкого напряжения являет собой конфликт нового жанра. И когда думаю, на чем же вообще держится драматическое напряжение в этом фильме, то прихожу к неожиданному выводу. Не детектив первопричина захватывающего зрителя волнения. (Хотя это, несомненно, и детектив.) А судьбы живших и еще живущих людей. Не только «что будет дальше», а «как было потом», — фокус внимания. Жизнь участников операции «Трест» не ограничилась рамками сюжета, она продолжалась. Постановщик упорно старается при любой возможности протянуть нити в подлинную, синхронно проходившую с событиями фильма жизнь. То это хроника тех лет, то подлинные места, то фотографии, то лента Чаплина в маленьком зале окраинного кинотеатрика.
Для естественного объединения трех главных частей фильма вводится фигура комментатора. Три части — это кинохроника, актеры, играющие участников этой истории, и сами участники, еще живущие сегодня, с ними устраиваются интервью. Роль комментатора исполнил один из старейших деятелей нашего театра профессор Л.Ф.Макарьев. Выбор представляется удачным. Облик, манера держаться, речь — все это рождает ассоциации с образом старого русского интеллигента, представителя той прекрасной генерации, которая дала Блока, Брюсова, Графтио, Тимирязева — людей высочайшей культуры, сумевших услышать революцию и привнести в ее созидательную работу лучшие черты русской культуры. Он, Макарьев, помнит события, он очевидец и современник их. Важны не только его комментарии, но и его отвлечения «в сторону», в свои воспоминания. Это создает воздух доверия.
Природная документальность телевидения позволяет, думается, использовать такую фигуру, как «ведущий», «консультант», «комментатор», по-новому. Удачные и неудачные места Макарьева эти соображения подтверждают.
Традиционный «ход» таков: комментатор впрямую объясняет то, что зритель только что увидел или вот-вот увидит. Нетрадиционный — он свидетель времени, его часть. Он камертон, по которому зритель сверяет работу актера. Как он говорит (его выговор, русское произношение — культурно-социальный момент). Как он держится (его манеры, жесты, ритм — культурно-социальное свидетельство).
Поэтому Макарьев выигрывал всякий раз, когда говорил о времени, о своем детстве, обычаях, принятых в его среде. Он говорил об Артузове, с которым учился вместе в институте. И по Макарьеву мы представляли, каким был Артузов. Когда же видели Артузова в исполнении актера и чувствовали, что нас ничто в нем не шокирует, что нет «зазора» между подлинностью человека из «той» жизни Макарьева и игрой, мы проникались доверием к актеру и ко всей истории, рассказанной нам. Макарьев мог говорить о погоде, о старой Москве, о том, как тогда одевались, какие были правила общения, какие ходили трамваи, сколько стоили пирожки — одним словом, давать бесконечную череду жизни. И это оказывается важным, ибо в соседнем кадре будет восстанавливаться уже средствами художественного кинематографа и театра история, случившаяся в этой жизненной среде.
Комментатор нужен для сопоставления, а не для прямого комментирования. Когда же он начинает впрямую комментировать, изображать расследователя, связывать сюжетные нити или даже брать интервью, он становится менее убедителен, совсем неубедителен, ибо по законам телевизионного репортажа все это должен проделывать журналист, автор сценария, например… Возможно, надо было тщательнее продумать схему включений в действие ведущего, ритм, композицию этих «включений». В них всякий раз должна быть назревшая потребность.
Актеры… Тут нужна своеобразная, театроведением еще далеко не исследованная пристройка их к хронике и к реальным людям. Не игра «под хронику», а хроникальность игры. Это — новое качество актерской профессии, рожденное телевидением, необходимое ему, как кровеносный ток. Выступая в таком жанре, актер берет на себя обязательство бесконечного транспонирования «под жизнь» манеры своей игры. Как только прямо на его изображении на телевизионном экране появляется такой титр: «Артист Игорь Горбачев в роли Якушева», зрителю выдается вексель на такую «пристройку». И способность к такой пристройке Игорь Горбачев обнаружил в полной мере. Кажется, что он и Джигарханян могут играть на улице, со случайными прохожими, беря их в качестве партнеров. Впрочем, это, конечно, только кажется. Но таково обаяние нового, телевизионного качества актерской игры.
Якушев Горбачева — не просто образ старого специалиста, в недавнем прошлом принадлежавшего к высшим сферам российской чиновничьей интеллигенции. За ним встают литераторы, юристы, инженеры-путейцы, земские врачи, профессора-филологи… Патриоты и сострадальцы народным нуждам. В октябре 17-го года им казалось, что разрушалась Россия, что «исчезал» русский народ и кончалась веками накопленная культура, исчерпывался тот необыкновенный источник духовной энергии, из которого пила Европа. И каждый из них на свой лад искал спасения всему этому. Одни — в анархизме, другие — в монархизме, третьи — в эмиграции. «Великая смута», посетившая души этой русской интеллигенции, отражается в образе Якушева… Немножечко тучный, с одышкой, вежливый не внешней вежливостью, убежденный в своих идеях не внешней убежденностью, он все время переживает сложный духовный процесс, оценивает, проверяет незамолкающим в нем голосом совести, к которому он все время прислушивается. Восстает не только его совесть, вопиет его врожденное, присущее такой интеллигенции чувство нравственной чистоплотности… Так он приходит к Артузову, к чекисту. Иного способа остановить, прекратить политическую вакханалию разложившегося общества белой эмиграции, превратившейся в разрозненные очаги политического бандитизма, он не видит. Тот, к кому он приходит, — человек той же генерации, такого же обаяния, такой же богатой духовной жизни — Артур Артузов, начальник контрразведывательного отдела ВЧК.
Образ, созданный Арменом Джигарханяном, не менее собирателен, нежели образ Якушева. За этим стойким, но поразительно… нет, не мягким, а уставшим до предела, может быть, пораженным туберкулезом человеком — Свердлов, Дзержинский, Чичерин, Луначарский, Степанов (Скворцов)… интеллигенты высшего класса, озаренные неслыханной, прометеевой идеей. Они тянутся друг к другу — эти два человека, и вместе они начинают дело, защитившее молодую республику с силой, не меньшей, чем сила армий. При этом все время помнишь, что Якушев и Артузов не вымышлены. Они жили и потом, потом… Они настолько достоверны и естественны, что их дуэт становится интересно слушать, о чем бы они ни говорили, пусть о постороннем, не имеющем к сюжету явного отношения. Даже… можно выключить звук. Реальность их существования не уменьшится.
Все актеры, играющие людей, принадлежащих к лагерю Якушева — Артузова, составляют ансамбль, работают в одной, если позволительно ввести этот термин, хроникальной манере. Это А.Сафонов в роли помощника Артузова Стырне. Это Г.Некрасов в роли бывшего генерала царской армии Потапова, а в те годы, командира Красной Армии. Это В.Кольцов в роли князя Тверского. Роль маленькая, почти эпизодическая, о ней были разные толки в критике. Некоторых смутила этакая внутренняя «вертлявость», утрированное уничижение князя, его «непротивление», доведенное до гротеска. Князь отказывается от всего, от всего, от всего — от эмиграции и от Ниццы — он идет раствориться в своем народе, какова бы ни была судьба его. Его поведение напоминает поведение юродивого. Отрешение от благ земных, почти религиозное «радение» представителя какой-нибудь секты бессеребренников, праведников. И, тем не менее, мне кажется, и В.Кольцов в этой роли «хроникален».
Этого типа людей почти не осталось в жизни, но он был, существовал. Я знал, встречался с некоторыми его представителями. Их «радением» было чувство родины, народа, ставшее безусловным инстинктом. Их поведение и внутренний мир чем-то напоминали поведение и внутренний мир Раскольникова по пути на каторгу, внутренний мир Нехлюдова после возвращения его из Сибири, куда он провожал каторжанку Катюшу Маслову. Отрешение от всего материального, жизнь духовная — вот что в них светилось. Они не поняли, не приняли умом ничего — ни революции, ни Советской власти. Они не пошли ни с белой армией, ни с эмиграцией. Это противоречило их чувству нравственной чистоплотности. Инстинкт говорил им одно: оставайтесь в гуще народной, в России. Плывите с ней по течению ее судьбы. А внешне — и в самом деле очень близки к юродивым, даже неприятны чем-то… Это А.Иноземцев в роли Зубова, командира полка Красной Армии…
Группа актеров, изображающих людей враждебного лагеря, не столь едина по своей манере. Да и постановщик не всегда ставит этих актеров в условия, когда возможна только «хроникальная» манера и никакая другая. (Очевидно, режиссерам и актерам телефильмов следует и дальше экспериментировать в этой сфере, воспитывая в себе полное доверие к полной безыскусственности.) Впечатление чужеродности вызывает, скажем, убийство на подпольной даче под элегию Массне в исполнении Шаляпина. Или заседание «политсовета» «Треста» в кладбищенской сторожке, на фоне гробов и могильных плит, и т. п.
Парадоксальная вещь! Актерский и режиссерский гротеск отлично уживается с документом в театральном спектакле, плохо совмещается с ним в кинематографе и совсем не соединяется в телефильме. Происходит некая реакция «отчуждения», гротеск компрометирует документ! В то время как на сцене он его подчеркивает. Мелодрама здесь уместнее. Особенно, если эпизоды такого рода сняты некинематографично, словно «неудобно», с плохой позиции, «случайно» или даже, как говорят, «грязно». Ведь хроникер не всегда может занять со своей камерой идеальную позицию… Так, значительны сцены в эмигрантском русском ресторане в Париже, почти трагически звучит здесь «Вечерний звон», или на спевке эмигрантского хора в Берлине трагикомично (в серьезном смысле) — «Как ныне сбирается вещий Олег» с известным в белой армии припевом «Так громче, музыка, играй победу…» и так далее. И напротив, когда постановщик желает поставить «чистый» кадр, организовать профессиональный свет, ввести современную (похожую на электронную) музыку, получается не столь убедительно. Получается слишком «под кино» или «под театр»…
В начале говорилось: «что-то от документальной передачи, что-то от реалистической драмы. От театрального гротеска, от мелодрамы давних лет…» Кажется, мешанина искусства. Но может быть, это мешанина жизни, в которой есть все — и трагическое и комическое. И может быть, телевидение как раз и позволяет все перемешать и пустить потоком. Тем более, что дневной рацион телевидения, повторяемый много лет, включает в себя передачи всех жанров и типов — и зритель привык к этому. Привык быстро переключаться и отключаться. Сейчас спорт, потом детектив, потом политический комментарий… Поток! С этой точки зрения «Операцию „Трест“» можно рассматривать как многосерийный эксперимент на «совместимость тканей». (При этом и то обстоятельство, что серии надо смотреть с перерывом в сутки или в двое-трое и непременно на маленьком, домашнем экране, у себя в комнате — это обстоятельство одно из важнейших условий эксперимента.
Критики, смотревшие все четыре серии подряд в большом просмотровом зале Дома кино и делавшие свои заключения по этим лишь просмотрам, на мой взгляд, нарушили условия эксперимента.) И только после многих и многих опытов, после повторных «операций» такого рода можно будет решить с известной основательностью, что с чем совмещается и что с чем не совмещается. Потому что мешанина жизни не равна мешанине искусства. Даже если это искусство телевизионное. В первой соединяется действительно все и на жизненные «стыки» можно смотреть как на случайные, но они «данность» и, следовательно, в них есть свой закон. Если же в искусстве «стыки» выглядят случайными, то, следовательно, они незаконны. Например, как совместить мелодраму в ее театральном обличий с этим хроникальным потоком?
«Операция „Трест“» позволяет рассуждать и об этом. Мир белой эмиграции С.Колосов стремился представить всерьез, как реальную силу в ее многочисленности и разнообразии типов. Многое ему удалось, многое открывается для нынешнего зрителя впервые. Лидера и связную группы белых террористов Марию Захаренко сильно и страстно играет Л.Касаткина. Женщина — казачий офицер, безумной храбрости, она напоминает боевиков Савинкова времен разгула эсеровского террора. Ненависть романтика на наших глазах обращается в физиологическую ненависть. Актриса подробно следит за процессом душевного опустошения этой явно незаурядной натуры, притягивающей даже наше сочувствие, во всяком случае, сожаление. Последнее «сражение» Захарченко, ее выстрел в себя — один из ярких эпизодов фильма. В Марии Захарченко, как ее играет Касаткина, есть театральность. Та театральность характера, которая заставляет склонных к нему натур смотреть на себя и глазами зрителей, как бы играть каждый раз некую импровизированную пьесу — чуть позировать, иметь «жест», свою манеру разговора. У многих людей такого типа все это становится второй натурой. Но играть таких людей трудно, во всяком случае, очевидно, играть их следует как раз не в приемах театральной мелодрамы, а как бы тоже «под хронику». Когда Л.Касаткиной это удается, она убедительна.
Жанр многосерийного телевизионного фильма рождался на наших глазах. На наших глазах он превратился в ведущий жанр телевизионного кинематографа. Можно сказать, что фильм С.Колосова «Вызываем огонь на себя» и «Операция „Трест“» заложили его основы на нашем телевидении. Скажут — телевизионные фильмы снимали по меньшей мере лет пятнадцать. Да, снимали, но это были обычные фильмы, только победнее, и не раз бедность-то и выдавалась за телеспецифику! Или это были перенесенные на пленку спектакли. Или помесь того и другого, то есть как раз кентавр. Швы на стыках грубы и неприятны. С.Колосов показал себя энтузиастом многосерийного телевизионного фильма. Отдадим должное его энергии. После четырех серий «Вызываем огонь на себя» очень быстро (для нашего кинематографа — фантастически быстро) были обнародованы четыре серии «Операции „Трест“», каждая примерно по восемьдесят минут продолжительностью. (Между тем опыт показывает, что продолжительность серии в двадцать-сорок минут при общем количестве серий от десяти до тридцати рождает в телезрителе ощущение родства с сюжетом и героями, а актерам дает обширные возможности создания «всей жизни» своего персонажа, как бы вводит его в дом телезрителя почти на правах члена семьи).
Эффект, художественное воздействие такого соприсутствия персонажа трудно оценить. Во всяком случае, оно не сравнимо ни с чем в известных нам зрелищных искусствах. Не говорю здесь о знаке этого воздействия. Знак, конечно, может быть и отрицательным. В жизнь людей, как это демонстрирует нередко западное телевидение, может втереться персонаж пошлый, участвующий в бесконечно примитивной, бесконечно длинной, но «лихо закрученной» истории. Помните, Маяковский писал об «Атлантиде» Бенуа: «…Дрянь ужасная. Оторваться не могу». Это о таком телевидении!
Так что ж, рождение жанра? И как его обозначить? Когда-то, на заре своей кинематограф, пораженный собственным могуществом, представшим его пионерам в образе ожившей фотографии, стал производить на свет так называемые «исторические воспроизведения». Брался какой-нибудь старый документальный дагеротип, например «Авраам Линкольн подписывает декларацию об освобождении негров», и «оживлялся». Актеры загримировывались под исторических лиц, рассаживались точно так же, как на фотографии, в той же обстановке, в тех же костюмах. Принимали нужные позы, чтобы точно соответствовать фотографии, а потом по сигналу режиссера вставали и разыгрывали короткую, приличествующую случаю сценку, жали друг другу руки, поздравляли и т. п. Все это снималось на кинопленку. Зрителям казалось, что они присутствуют при историческом моменте. Таким образом, жажда реконструировать, воспроизвести исторические события — изначальная жажда кинематографа. В художественном кино исторический жанр стал одним из основных.
То, что сейчас делает телевидение, — возврат к первоначальной идее «исторических воспроизведений» в эпоху синтеза искусств и наук, в эпоху телевидения. Так можно обозначить жанр «Операции „Трест“». Есть возможность с максимальной приближенностью к правде, к причинам восстановить, реконструировать исторические события. Надо уметь и желать пользоваться этими возможностями. Значение телефильма «Операция „Трест“» — еще и в демонстрации и в испытании различных черт и приемов этого жанра, в возбуждении мыслей о его возможностях, которые представляются могущественными, в перспективе своей необозримыми.
Телевизионный многосерийный фильм давно вышел из стадии школярства. Он показывает те качества, которые недоступны художественному кинематографу и театру, — его прародителям. И неизбежно возникает «обратная связь»: телефильм обогащает технологию и арсенал экрана и сцены.
Осторожно, документ! А.Юровский
— Телефильм «Операция „Трест“» насыщен документами. Думали ли вы о новых приемах соединения документального и игрового начал?
— Конечно, хотя введение «документального» в «игровое» — это всего лишь один из приемов создания художественного произведения. Не единственный, но во многом определяющий его жанр. «Операция „Трест“» — документальная драма, или, если хотите, документально-художественный фильм, то есть произведение, в котором документ является элементом повествования, влияет на развитие сюжета, непосредственно фигурирует в происходящих событиях. Не косвенно, через актеров, а прямо, непосредственно, в любой из своих ипостасей; в виде подлинного человека, участника событий, в виде бумаги — той самой, настоящей, из того времени, в виде подлинной фотографии или вещи…
В таком фильме, как «Операция „Трест“», документ просто необходим. Понимаете, столько уже написано про чекистов, столько снято фильмов, поставлено спектаклей, что зрителей стало больше интересовать, что же было на самом деле. Они хотят отличить выдумку от действительности. Скажем, когда в тридцатые годы читатель получил «Рассказы майора Пронина», ему была безразлична степень их достоверности. А в конце шестидесятых — ой, как не безразлична.
«Трест», в отличие от многих других фильмов, ясно и безоговорочно дает понять зрителю: все происходящее — было! Каждый поворот сюжета подтверждается документом. Артузов говорит, что на месте, где была заложена мина, обнаружен дамский носовой платок. Так вот этот, именно этот носовой платок вложен в конверт и подшит к делу. И я видел этот платок в архиве. Он — из двадцатых годов. Показать его в кадре — все события воспримутся иначе. Тем более, что сами ситуации настолько фантастичны, что для большей убедительности нуждаются в подтверждении документом. Действительно, грандиозно придумано: начальник погранзаставы сотрудничает с белогвардейцами… Так-то оно так, но когда в кадре появляется человек и говорит, что вот я и был начальником заставы… Согласитесь, сцена, сыгранная актерами, достигает особого эмоционального воздействия.
Кстати, помните в фильме «Мертвый сезон» полутораминутное выступление полковника Абеля? Он ничего не говорит о содержании фильма. Только о том, что такие люди, как Ладейников, у нас есть. Но даже этого достаточно, чтобы события фильма воспринимались, как реальные. Я уверен — хотя мое заявление невозможно аргументировать, — что без выступления Абеля «Мертвый сезон» не произвел бы столь сильного впечатления, что многие его достоинства просто не были бы обнаружены, хотя они и существуют независимо от этого выступления легендарного разведчика.
— Много ли времени пришлось вам потратить на розыски документов?
— Надо, прежде всего, сказать, что в основе фильма лежит роман-хроника Л.Никулина «Мертвая зыбь». Я как сценарист только шел по следам Никулина, углублялся в материал, изложенный в романе, но нашел его Лев Никулин. Я находил какие-то дополнительные факты, сведения, даже людей — живых участников операции. Скажем, в романе нет истории с машиной, на которой Стауниц, Захарченко и Ртищев пытаются бежать к границе. Мне удалось восстановить этот эпизод. Это была машина командующего Белорусским военным округом. Она отвозила на витебский аэродром пропеллер для самолета, на котором летел Берлин председатель ВЦСПС. Что-то там испортилось, самолет сделал вынужденную посадку, и из Минска на машине повезли пропеллер. На обратном пути Захарченко и ее партнеры остановили ее, застрелили шофера, а парнишку-помощника заставили вести машину, потому что никто из них не умел с ней обращаться. Но парень оказался смелым человеком, он их повез, потом уловил момент и всадил машину в столб, а сам бросился бежать. Они открыли пальбу, ранили его, но он все-таки убежал. Тогда они были вынуждены пешком добираться до границы. Возможно, если бы у них была машина, им удалось выбраться незамеченными… Так вот этот парень жив. И интервью с ним было даже заснято на пленку. К сожалению, съемка оказалась некачественной и не вошла в фильм. Поэтому в картине машину ведет Стауниц…
Копаясь в архивах, получаешь какое-то особое наслаждение от настоящих документов. Скажем, снята с трупа Стауница его записная книжка, в которой записи сделаны карандашом и от времени выцвели. В архиве каждый листок этой книжки вложен в отдельный конверт вместе с фотографией оригинала. Или, например, держишь в руках подлинную предсмертную записку Сиднея Рейли… даже мороз по коже. Или читаешь письмо, из-за которого ГПУ арестовало Якушева. Письмо это из Таллина написал в Берлин Артамонов, а наш агент его перехватил. Там было написано: «Я дал Якушеву литературу». Имелась в виду антисоветская литература, которую Якушев и привез в Москву, кажется, даже не зная, что везет. Я видел одну из книжек: брошюрка с двуглавым орлом на титульном листе. Копия письма Артамонова, на котором написано получено от агента такого-то аккуратно хранится в деле. И по сценарию Артузов должен был предъявить Якушеву какую-то бумажку, а потом наш ведущий Макарьев должен был показать подлинную папку с копией письма, с архивным номером… Читая документы, я порой испытывал удовольствие совершенно неожиданного плана: там есть материалы, написанные превосходным русским языком. Например, в телеграмме, разосланной по военным округам для розыска бандитов, даны их словесные портреты. Они написаны замечательно. Это не просто нос длинный, глаза навыкате — дан художественный образ. Скажем, Стауниц обычно ведет себя неспокойно, несколько суетлив, жесты мелковаты и так далее… Помимо работы в архивах, с документами, были удивительно интересные встречи с людьми, знавшими чекистов, занимавшихся «Трестом», — Артузова, Стырне, Пилляра…
— Расскажите теперь о месте вымысла в сценарии «Треста».
— Все дело в том, что вымысел в такого рода произведении должен быть документален. В романе Л.Никулина написано, что Якушев размышлял, размышлял и в конце концов решил принять предложение Артузова сотрудничать с ВЧК. Что происходило на самом деле между Якушевым и Артузовым, никто не знает, документов нет. Ясно только одно: что-то очень серьезное повлияло на решение Якушева, человека чистого, настоящего, в высоком понимании слова, русского интеллигента. Но что повлияло? Просто «размышлял» — это хорошо для романа. Для фильма нужно было найти убедительный конкретный повод, толкнувший Якушева на сотрудничество с ГПУ.
Надо сказать, что примерно в то же время я занимался другой интересной работой — читал газету «Правда» за 1921–1927 годы. Читал все подряд, от первой до последней строчки. Захватывающее чтение! Уходил из библиотеки, когда начинали болеть глаза… Естественно, я стал очень чувствовать то время, можно сказать, существовал в нем. И понимал, что одним из самых тревожных событий был голод в Поволжье. «Правда» 1921 года писала об этом в полную силу о болезнях, смертях, вымирании целых деревень… Что же должны были предпринять контрреволюционеры в таких условиях? — Я придумал взорвать мост и отрезать эшелоны с хлебом от Центральной России. В картине, если помните, когда Ртищев предлагает Якушеву содействовать такому взрыву, тот говорит: «Как же так? Мрут ведь русские люди, русские мужики…» Тут он понимает, какую цену за власть готовы платить эти люди, на что они способны. Именно после этого он и принимает предложение Артузова… Вся эта история придумана мною, но основана она на знании реальной обстановки в стране…
Прошло два года, и Куйбышевская студия телевидения сняла документальную драму «Тревожные ночи Самары» о попытке подпольной белогвардейской организации взорвать мост через Волгу, чтобы отрезать хлебную Сибирь от Центральной России… Оказывается, это было!
— Ваше мнение о документальности и телевидении?
— В распространении «документальности» (если понимать ее не как работу на документах, но и как некий климат художественного творчества нашего времени) телевидение сыграло огромную роль. Очевидно, потому, что оно воспринимает сам документальный жанр с большей легкостью, более органично, чем другие виды искусства. По самой своей природе оно легко передает документ. Часто в профессиональных разговорах о телевидении мы упускаем один очевидный факт… Вероятно, и упускаем потому, что он очевидный.
Когда-то я написал: специфика телевидения состоит в условии его восприятия. Теперь это воспринимается как аксиома, а тогда, в 1958–1959 годах, хихикали и говорили «Не морочь людям голову, не валяй дурака». Но, действительно, каждая предыдущая передача влияет на восприятие последующей. Один хоккейный матч на неделю настраивает на восприятие естественного или хотя бы приближенного к жизни действия. Зритель привыкает, сознательно или подсознательно, что телеэкран ему показывает жизнь, а не изображение жизни… И если и не телевидение открыло жанр документальной драмы, то во всяком случае оно повлияло на распространение документальности, хотя бы в смысле подготовки умов — зрительских и творческих — к тому, что это возможно…
Правда, одно время увлечение документальной драмой на телевидении, да и не только на телевидении, перехлестывало рамки здравого смысла. Причем, не особенно задумываясь о признаках жанра, все валили в одну кучу и называли документальной драмой все, что основано на действительном, имевшем место событии. Я говорю об этом потому, что для искусства необходима точность жанровых определений. Скажем, романы Дюма? Хроники Шекспира? Или, например, фильм Калатозова «Валерий Чкалов»? Во всех этих произведениях фигурируют исторические личности в исторических обстоятельствах. Но это не делает их документальной драмой.
Документальная драма, повторяю, — это произведение, в котором документ является элементом повествования. С другой стороны, к документу, как ко всякому сильно действующему средству, нужно прибегать только, когда в этом есть художественная необходимость. Странно, наверное, слышать такое от меня, но документ в художественном произведении часто свидетельствует о слабости автора. Нужно большое мастерство, талант, чтобы создать художественный образ, воздействующий с такой же силой, как реальный факт. Бывает так: мы рассказываем о каком-то своем знакомом и, чтобы собеседник лучше его себе представил, говорим: «Он похож на Пьера Безухова»! Хотя прекрасно знаем, что никогда никакого Пьера Безухова не было. Но Толстой создал его настолько достоверным, что он воспринимается, как живой человек. А когда автор не способен создать убедительный художественный образ, в который поверят, тогда он прибегает к спасительной силе документа: «Вы не имеете права мне не верить — так было на самом деле». Но можно ответить: «Хотя это и было на самом деле, но это еще далеко не вся правда о том, что было!» Так что я призываю к осторожному использованию документа!
ПОЭМА О КЮХЛЕ В.Непомнящий
«В Петербурге… каждый переулок стремится быть проспектом». Когда я впервые встретил эту фразу, она показалась мне чрезвычайно выразительной: в ней был не только внешний облик, но и дух самого прекрасного для меня города на земле — города моего детства. Время шло, я довольно часто слышал, да и сам повторял эту фразу, так что первоисточник ее отодвинулся куда-то на задний план, а потом и вовсе забылся, — я много лет не перечитывал книгу, в которой прочел эти слова.
И вот наступил момент, когда я вспомнил, кем они сказаны. Случилось это в тот день, когда Ленинградская студия телевидения показала телеспектакль «Кюхля». Не знаю, в какое именно мгновение вспомнил я, что слова о петербургских переулках принадлежат Тынянову; это и не важно. Они не были произнесены, а я вспомнил их; но теперь они наполнились новым смыслом: я увидел, в каком контексте они сказаны в романе и что за ними стоит.
«Портрет» Петербурга помещен Тыняновым в той именно главе, где описывается декабрьское восстание, и достигает своей кульминации рассказ о подвиге и трагедии горстки людей, знавших, что они стремятся совершить почти невозможное, и вышедших на заведомо неравный бой, чтобы наверняка погибнуть. Тынянов относится к Петербургу, как к человеку, и портрет города тесно связан с духом и пафосом романа.
Но такого портрета в телеспектакле «Кюхля» нет. Нет и фразы о петербургских переулках. Зато есть дух романа, его пафос. Вспоминаются два выразительных и характерных эпизода: Пушкин читает на экзамене «Воспоминания о Царском Селе»; Грибоедов читает Кюхельбекеру «Горе от ума». В этих эпизодах не произносится ни одного слова: автор сценария и постановщик Александр Белинский поступил не только тактично, но и очень мудро, избавив актеров от необходимости изображать, как гений читает свое гениальное творение, — просто мы видим маленькую фигурку лицеиста или очки молодого Грибоедова и слышим ликующую музыку из «Бури» Чайковского. И именно поэтому мы наблюдаем не данную минуту чтения, но созерцаем момент триумфа человеческого духа. Величие человека как творца передается здесь через его конкретный, частный облик.
Сейчас это стало почти законом для наших фильмов и спектаклей, в которых действуют исторические личности, но еще некоторое время назад такой подход был в определенном смысле нов. Тогда еще режиссеры часто руководствовались правилом, в силу которого Пушкина, скажем, надо было изображать не человеком, а непременно основоположником (вспомним хотя бы кинофильм «Композитор Глинка», где Пушкин усердно и благонравно цитирует самого себя). В «Кюхле» — другой Пушкин (Д.Барков). Я имею в виду эпизод встречи на дороге, по которой Кюхельбекера везут в Динабургскую крепость. Такой Пушкин появляется в спектакле всего один раз, но до сих пор мне помнится это хмурящееся, еще до встречи омраченное каким-то тайным гневом лицо во весь экран, эти бешено горящие глаза, этот неистовый вопль: «Вильгельм!!!» — потрясший, казалось, все его тело, эти исступленные препирательства с опешившим жандармом… Нет, не хрестоматийный «корифей» предстал здесь на экране, не сусальный бодрячок, неунывающий живчик, и не обряженный в костюм XIX века усталый современный интеллигент из тех, кто всё понимает, — а натура без подделки, живая и огненная, — и начинаешь верить: а, может быть, так это и было… Грибоедов — В.Рецептер — личность во всем своеобразии, во всей, я бы сказал, интимности неповторимого облика. В этом изящном, суховатом, скептическом человеке есть тот нерв, та чуткость, та внутренняя боль, без которых Грибоедова нельзя себе представить. Дело тут не просто в умении и искусности актеров и постановщика. Дело еще и в том, что в «Кюхле» был верно почувствован и найден жанр. И жанр именно телевизионный.
О специфике телевидения говорят и пишут много; больше всего о формах общения со зрителем, формах, которые — будь они «интимны», лиричны, публицистичны и прочее — сходны между собой в главном: в непосредственности, открытости, прямоте такого общения. Это справедливо; и отсюда вытекает один из основных, на мой взгляд, законов телевизионного спектакля (именно телеспектакля, не телефильма). Состоит этот закон в том, что телеспектакль, условно говоря, — есть более рассказ и менее действие, чем обычный театральный спектакль.
Под «рассказностью» я разумею принципиальное «взламывание» перегородки, отделяющей зрелище от зрителя, принципиальные «выходы к зрителю» — иными словами, именно то прямое общение, которое свойственно устному рассказу (не эстрадному, а самому обыкновенному), делающему слушателя собеседником и как бы даже соучастником — нет, не внешнего действия, не «сюжета» рассказа, но процесса самого рассказывания. В этом процессе между рассказчиком и слушателем образуется особый внутренний, духовный контакт, при котором одинаково важны и сам «сюжет» рассказа, и его интерпретация данным рассказчиком, а стало быть, и личность этого, данного рассказчика. Рассказывающий сам становится как бы частью рассказа, даже если речь идет не о нем самом.
Под «выходами к зрителю» я подразумеваю не столько «общение с камерой», буквальный выход на авансцену — этого у нас и в театре сейчас достаточно, — но самые разнообразные формы более или менее прямого общения с аудиторией, и, прежде всего, определенный стиль актерской игры. Мне представляется, что в специфически телевизионном спектакле актер как персонаж более условен, а как исполнитель, интерпретатор, рассказчик — более безусловен, нежели в театре. Связано это с тем, что характерная особенность телевидения — его «домашность», интимность в сочетании с наиболее мощным его орудием — крупным планом — неизбежно выдвигает вперед личность выступающего по телевидению; в телеспектакле — личность актера.
В обычном спектакле исполнитель в значительной мере «поглощается» персонажем, который, в свою очередь, «поглощен» общим действием, «сюжетом».
В телеспектакле происходит обратное, крупный план то и дело концентрирует «сюжет» в персонаже, и в герое «вскрывает» исполнителя. Персонаж становится нам интересен не только сам по себе, но еще и именно в облике данной, этой личности, данного, этого «рассказчика». Все это, мне кажется, глубоко характерно для телевизионного спектакля «Кюхля». Перед нами не спектакль и тем более не фильм в обычном смысле этих слов (хотя «Кюхля» снят на пленку и демонстрировался много раз). Представленная на сцене или показанная в кино, эта постановка казалась бы распадающейся на ряд весьма произвольно отобранных, мало связанных между собой кусков романа. Более или менее четкая сюжетная конструкция, характерная, как правило, для спектакля и для фильма, который идешь смотреть в кино, тебе здесь, дома, не навязывается. Здесь не имитируются естественное течение жизни, плавное и непрерывное перетекание одного эпизода в другой, создающее иллюзию независимого от автора хода событий.
Здесь показывают страницы из романа Юрия Тынянова, прочитанные и представленные актерами Ленинграда. Здесь воссоздается не событийная цепь существования героя, а ряд основных звеньев его внутренней жизни; прослеживаются самые общие связи между этими звеньями; опускаются весьма важные — в самом романе — эпизоды, которые, безусловно, были бы необходимы в театре или кино, но без которых тут можно обойтись. Нет, например, сцены «самоубийства» Кюхли в Лицее, нет его дуэли с Пушкиным, нет сцены — очень сильной, — где он бьет помещика, издевающегося над крепостным, нет страшного эпизода со шпицрутенами. Пребывание Кюхли на Кавказе и за границей, декабрьское восстание — все это в спектакле или фильме должно бы (или могло бы) быть показано куда более широко. Из всего этого выбраны лишь моменты, необходимые для создания внутреннего облика Кюхли.
Скупость в выборе эпизодов увеличивает удельный вес авторского текста, стихов, монологов, рисованных символических заставок, которыми сцены перемежаются, как страницы книги — иллюстрациями. Такое построение, такой принцип отбора эпизодов — не по внешнесобытийной, а по внутренней линии, по «жизни духа», — приводит к характерному для этого телеспектакля и для телеспектакля вообще переключению внимания зрителя с событий на личность героя.
События в широком смысле — продолжающаяся история страны, жизнь общества, к которому герой принадлежит, — все это присутствует, но дается, прежде всего, через героя. А значит, крупным планом выступает и личность артиста, не исчезающая до конца в образе. Нет, она не заслоняет собою образ, не лезет в глаза, назойливо навязываясь нам и крича: «Это я, я!» (именно так высказываются в личности ее худые стороны). Оставаясь собою, она все время устремлена к образу, находится, так сказать, в непрерывном процессе перехода в образ, так что в герое то и дело «просвечивает» исполнитель, а в исполнителе — герой. Вот в этом-то процессе «отдачи себя», в готовности к такой отдаче, а не в кичливом самоутверждении, как раз и выступает вперед творческая, нравственная, гражданская личность актера, приближаемая к нам крупным планом телевидения.
…Одна из заставок, перемежающих эпизоды, изображает нависшие над Петербургом копыта медного Петрова коня. Трагически раздвоенный город; город, где даже переулки стремятся быть проспектами; город казарм. Город поэзии и доносов. «Люблю твой строгий, стройный вид» — «Дух неволи, стройный вид». «Не было воздуха», — пишет Тынянов. Заставка предваряет эпизоды трагедии 14 декабря. Одним из последствий этой трагедии было массированное наступление на человеческую личность как на серьезную опасность, мешающую функционировать системе, налаживаемой Николаем. Об этой трагедии роман «Кюхля» и спектакль того же названия рассказывают, повествуя именно о судьбе личности.
Но почему Тынянова заинтересовал в качестве героя «повести о декабристе» (такой был раньше у романа подзаголовок) именно Кюхельбекер? Не Рылеев, не Пестель, не Бестужев, не Одоевский, не Лунин, а — Кюхля? Почему не идеолог, не вождь, не трибун, а чудак и неудачник, второстепенный поэт, над которым посмеивались все, кто имел хоть немного чувства юмора, и те, кто совсем его не имел; который в Лицее хотел утопиться — и то неудачно; который 14 декабря хотел убить великого князя — и осекся; который после восстания был опознан и схвачен в Варшаве благодаря нелепому поведению; который, по выражению Пущина, даже на трагической сцене играл комическую роль…
Что он сделал такого, за что можно было бы посвятить ему не только специальные литературоведческие исследования, но еще и роман о декабристе? Ничего особенного. Он не был идеологом, но он был декабристом. Он не был вождем, но был отважен и не жалел себя. Он не был ни трибуном, ни героем, но был благороден, добр и честен. Нелепый и чудаковатый, он мечтал о поэтической славе, но при этом любил поэзию в себе, а не себя в поэзии. И потому, хоть и не был гений, но был поэт.
С Рылеевым или Пушкиным автору, как ни странно, было бы проще; это были — один из вождей декабристов и великий поэт другой. Это были выдающиеся личности, что само собой выдвигает на первый план их конфликт с традицией, с системой. В сравнении с ними Кюхельбекер был просто декабристом, просто поэтом — и… просто личностью. Не правда ли, как дико вдруг стало звучать наше сопоставление?.. И у кого есть права и полномочия раздавать оценки в этой сфере, где никакая человеческая оценка не может быть окончательной, абсолютной или исчерпывающей? Но как вы определите — «выдающаяся личность» или «просто личность» писала из крепости, из одиночной камеры такое: «Поэтом… надеюсь остаться до самой минуты смерти, и, признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не поколебался; горесть, неволю, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочел бы счастью без нее…» Человек, написавший это — а звали его Вильгельмом Кюхельбекером, — был личностью без эпитетов, личностью в простом и высоком значении этого слова.
Есть в биографии Кюхельбекера один характерный штрих. На следствии по делу декабристов он среди главнейших причин, побудивших его вступить в тайное общество, назвал «стеснение», чинимое властями российской словесности. Допускаю, что могли быть среди декабристов такие, кто не без добродушия, конечно, посмеялись бы над Кюхлей; они идут на каторгу, в тюрьму и на виселицу за интересы народа, России, гибнущей в рабстве, за демократический образ правления, а он тут толкует о «стеснении российской словесности»! Но смеяться не нужно было: притеснение литературы в дальнейшем возрастало прямо пропорционально общему гнету реакции, и через десять лет Пушкин почти повторил слова Кюхли в письме к Денису Давыдову: «Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою напляшешься; каково же зависеть от целых четырех? Не знаю, чем провинились русские писатели… Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче… Цензура — дело земское; от нее отделили опричнину — а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением».
А вот еще позже: «Я переделал „Копейкина“, я выбросил все, даже министра, даже слово „превосходительство“. Характер героя я вызначил сильнее, так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков… Начальник комиссии даже поступает с ним хорошо…» Это уже Гоголь умоляет дозволить к печати «Повесть о капитане Копейкине». Нет, Кюхля был прав; он думал и о рабстве, и о демократическом образе правления, но именно в судьбах российской словесности, в духовной жизни общества для него, интеллигента, поэта, критика, соединялось и отражалось все, во имя чего он и его товарищи вышли на Сенатскую площадь. Да, если Пушкин в поэзии и Рылеев в политическом движении были «проспектами», то Кюхельбекер был всего лишь «переулком». Но Тынянов взял именно Кюхлю, по общепринятому счету «невыдающегося», чтобы открыть для него некий иной счет, единый с Пушкиным и Рылеевым. И тогда получилось, что чудачества и нелепости, присущие Кюхле, есть игрой природы и обстоятельств особо ярко выраженная уникальность, неповторимость каждой человеческой личности. Получился не конфликт выдающегося человека с косным окружением, а конфликт с системой, враждебной человеку вообще, конфликт между духом человеческим и духом полицейским, между человеком и унифицированной безликостью. Именно так в спектакле «Кюхля» осмысляется тыняновский роман.
Сергея Юрского я всегда воспринимал не просто как очень талантливого и очень серьезного актера, но как сильного и своеобразного представителя в высшей степени современной актерской формации. Одна из главных черт этой формации, как мне кажется, — очень осознанное отношение к своему герою, очень личное ощущение сверхзадачи не только своей собственной, но и всего произведения в целом. Юрский для меня — один из наиболее ярких типов современного мыслящего актера, для которого в работе над ролью разум, и гражданский темперамент, и размышления о времени и о судьбах людей, и эрудиция имеют не меньшее значение, чем непосредственно актерское, интуитивно-художническое освоение материала.
Это — типичное, повторяю, для современного актера, но на практике весьма редкое — сочетание непосредственной талантливости и трезво-аналитического, даже рационального начала всегда сообщало работам Юрского, как правило, будоражащий философически-гражданский пафос, пронзительную современность, никогда, однако, не переходящую в плоскую злободневность. Ибо благодаря этим же своим качествам он умеет совмещать идею, общую для разных времен и разных людей, с острым, чувственным и вместе аналитическим ощущением стиля определенной эпохи и определенного автора.
Он эстраден в смысле яркости, неожиданности и остроумия внешней формы, «ходов», «приспособлений» и интерпретации и артистичен в смысле чувства меры и художественного такта. Все эти и многие другие особенности Юрского делают его актером «идеально телевизионным». Потому что все эти особенности вместе можно сформулировать так: персонаж актера Юрского и актер Юрский никогда не заслоняют друг друга. Это не значит, что происходит раздвоение, напротив: персонаж живет в единстве с актером и выявляет себя через личность актера. Что бы ни делал Юрский, кого бы он ни играл, на сцене и на экране существует именно он, не выпячивающий себя, но и не прячущийся за образом, — не перестающий быть «самим собой», но непрерывно отдающий «самого себя» образу.
Все сказанное относится и к тому образу, который создал Юрский в этом телеспектакле. Итак, Кюхля. Нескладная, горбящаяся фигура. Большой длинный нос, длинные руки (или они такими кажутся?). Рот кривится при разговоре. Голос — и глуховатый и звучный одновременно. Неяркая, но четкая дикция, иногда легкое заикание. Блестящие выпуклые глаза. В них восторженность и угрюмость, постоянная отрешенность и постоянная готовность к отказу от отрешенности. В моменты гнева или боли они, как у раненого оленя, кажется, наливаются кровью. Удивительное сочетание крайностей: флегматичности и бешеного темперамента, чрезмерности эмоций и их тонкости, стихийности и рефлексии. То ли ребенок, то ли большой добрый зверь, которого рассердить, может быть, и смешно, а может быть, и опасно.
С первых кадров, в которых он появляется, охватывает какое-то томительное чувство: так про новорожденного говорят, что он «не жилец». Захлестывает ощущение одиночества, неприкаянности этого нескладного и трогательного человека. Кюхельбекера — такого, каким мы его знаем по документам и по роману Тынянова, — нетрудно было бы играть эксцентрично, то есть относясь к нему как к оригинальному трагикомическому персонажу. Юрский играет другое. Он относится к своему герою как человек к человеку. В его отношении нет ни неуместного любопытства к занятным черточкам своего героя, ни искусственного, «со стороны», нагнетания трагизма.
Эта абсолютная серьезность отношения к герою побуждает актера своеобразно применять известный закон, сформулированный Станиславским. Играя человека с репутацией чудака, он ищет в нем — и играет — высокую нормальность, нормальность человечности, то есть то, что нередко принимается за «избыток» человечности или человеческого, особенно в тех случаях, когда такая нормальность выражается в не совсем привычных формах. «Неорганизованная голова» — так называет его в романе директор Лицея Энгельгардт, «человек, который мог все понять и объяснить, и когда встречал какое-нибудь неорганизованное явление, долго над ним бился, чтобы „определить“ его; но если ему, наконец, удавалось это явление определить и человек получал свой ярлык, — Энгельгардт успокаивался».
Кюхля — Юрский слишком легко верит фискалу Комовскому, уверяющему, что Дельвиг украл со стола его, Кюхли, стихи. Слишком восторженно отвечает Державину на экзамене. Слишком не умеет играть, притворяться, врать — и попадает в лапы ищеек Николая после восстания. Все это — слишком «естественное», слишком человеческое, иными словами — ненормальность, чудачество, неприспособленность, а по терминологии Энгельгардта — «неорганизованность».
«Неприспособленность» Кюхли — Юрского, избыточность его внешних проявлений, тяготение к крайностям и все то, что Энгельгардт не без грустного остроумия (возможно, неосознанного) назвал в своей характеристике лицеиста Кюхельбекера «донкихотством чести и добродетели», — все это отражение напряженнейшей, сосредоточенной духовной жизни, которая освещает отрешенные глаза Юрского всегда и которая в своей интенсивности всякий раз как-то не увязывается с повседневностью, принимаемой многими за единственную истинную реальность. Пушкин, кстати, как и все (и даже злее, чем многие), посмеивавшийся над Кюхлей, глубоко любил его как человека и друга — и именно потому, что его не могла не подкупать самозабвенная духовность того, кого назвал он «мой брат родной по музе, по судьбам».
Все сказанное относится по преимуществу к результату, к итогу, которого достиг Юрский вместе с режиссером телеспектакля. Я хочу, не пытаясь, разумеется, «реконструировать» творческий процесс, заглянуть, что ли, внутрь образа, найти «зерно» характера, как оно мне представляется. «Зерно» же, по моему убеждению, определяется основным противоречием данной личности, тем противоборством начал, которым создается ее движущееся целое. У Кюхли — Юрского такое противоречие крайне драматично и даже трагично. Оно состоит в несоответствии между стремлением всей его натуры к творчеству — общим творческим характером личности — и уровнем, возможностями его индивидуального, специфически поэтического таланта. Это — случай Сальери.
Мне приходилось уже писать о том, какому искажению и огрублению подвергается до сих пор образ Сальери в пушкиноведческой литературе и в театральной практике. Поверхностные рассуждения о злодейской натуре Сальери, о его лживости, лицемерии и прочих личных пороках нашли почти адекватное выражение в том злобном ничтожестве, которое представлено на сцене Театра имени Евгения Вахтангова в спектакле «Маленькие трагедии». Вся сложность трагической любви ненависти Сальери к Моцарту, вся глубочайшая философская, психологическая, нравственная, общественная, эстетическая, наконец, природа драматического конфликта трагедии — все это полетело в тартарары; на сцене разыгралась мелодраматическая история о том, как очень нехороший человек от зависти и по злобе погубил хорошего, очень красивого, почти с крылышками…
Но вот в Ленинградском театре имени Пушкина Сальери сыграл Николай Симонов — артист огромный и бесконечно своеобразный, единственный актер, по крайней мере, за последние несколько десятков лет после Шаляпина, подошедший к истинному, пушкинскому смыслу образа. И немедленно в критике появилось мощное встречное течение. С этих пор Сальери многие почти оправдывали, заявляя, что трагедия его проистекает от действительного сознания своей ответственности за судьбы искусства, делали его чуть ли не мучеником искусства, провозглашая, что вот теперь то истина восстановлена. Между тем Николай Симонов вовсе не оправдал, а по-своему объяснил Сальери (чего давно уже ни один актер и режиссер не пытался сделать). Однако произошло недоразумение, поскольку роль Моцарта в этом спектакле не получилась: актер играл скорее напыщенную «восковую персону», чем живого человека. В таких обстоятельствах Симонов вынужденно, почти против своей воли, мощью своего таланта перевернул соотношение между персонажами, и «страдающим» героем оказался более Сальери, чем Моцарт, хотя у Пушкина все вовсе не так, и это на деле показал И.Смоктуновский в поразительном образе трагического Моцарта (в фильме-опере «Моцарт и Сальери»).
Итак, с одной стороны — Сальери-злодей. Сальери-завистник. Сальери-лицемер (все эти ярлыки, уводящие нас к отдаленным временам классицизма, живучи за счет вульгарно-социологической традиции, которая решительно не в состоянии была определить, «представителем» чего и «выразителем» чьих интересов является Сальери, да и вообще, кто такие эти самые герои «маленьких трагедий»). С другой стороны — Сальери-мученик, Сальери-подвижник, добросовестно заблуждающийся Сальери, который, уничтожив такого Моцарта, несет свою нравственную кару, пожалуй, не вполне заслуженно. И тот и другой Сальери к пушкинскому герою не имеют отношения. «Случай Кюхли» я назвал «случаем Сальери» потому, что тут и там — сходные противоречия.
Кюхельбекер был небольшим поэтом, но вообще в высшей степени творческой личностью и, в частности, умным и проницательным критиком и теоретиком, за что его уважал Пушкин. Сальери — небольшой художник, но гениальный слушатель и, вероятно, тонкий критик. Таково сходство.
Дальше начинается разница, притом весьма знаменательная и важная для понимания Кюхли — Юрского. Разница эта — в отношении к себе, к искусству, к людям. Сначала — о Сальери. Своего противоречия Сальери не сознает; ему кажется, что он равно гениален и в восприятии и в творчестве. Зная свою восприимчивость к искусству, он, подобно заурядному мещанину, делающему мерой всех вещей именно себя, обожествляет ее и возводит любое свое мнение в закон. Обожествляя свою восприимчивость и приравнивая ее к художническому гению, он уже любит не искусство, а себя в искусстве. Зная, каким трудом досталось ему творчество, он и тут свой индивидуальный опыт, как это свойственно посредственности, возводит в закон, в догму, обязательную для всех. Убеждаясь в том, что Моцарт в эту догму не укладывается, он из любви к искусству стремится восстановить справедливость, защитить «закон природы», придуманный им самим. Моцарт подавляет его не только своею гениальностью, но главным образом своею, с точки зрения Сальери, непонятностью, «неорганизованностью». Поэтому, преклоняясь перед Моцартом-гением, обожествляя его («некий херувим») как творческую личность, Сальери не принимает его как личность человеческую. Он принимает только часть Моцарта и отвергает Моцарта как целое, как «просто личность». Сальери любит искусство, но только Искусство, пишущееся с большой буквы. Искусство вообще, без людей, ибо ни один из них не может уложиться в выношенную Сальери догму: пользы от них мало («Что пользы в нем?..»), а беспокойства и беспорядка много. Для того чтобы охранить в Искусстве порядок, надо устранить «просто личность», а для этого необходимо ее убить. Иного пути нет. В итоге высшим «творческим актом» Сальери, его «звездной ночью» оказывается убийство человека. Но такое «творчество» опустошает душу и парализует творческие силы. Убив Моцарта, Сальери убивает и того Моцарта, ту часть Моцарта, то моцартовское начало, которое жило в нем самом. Это распад личности, уничтожаемой собственной нелюбовью к людям во имя любви к абстракции — пусть даже эта абстракция обозначается прекрасным словом и пишется с большой буквы. Это самоутверждение личности, доходящее в своем максимуме до ее — личности — самоубийства.
Теперь — о Кюхле. Хорошо помню, как Сальери — Симонов слушает экспромт Моцарта. Большой, сильный, он сидит, забившись в угол дивана, будто окаменев. Сидит, втиснутый туда волной звуков, которые не дают ни сдвинуться с места, ни свободно вздохнуть. Моцарт восхищает его. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. Я знаю, я.» Ты не знаешь, но можешь. Я знаю — и не могу. Это плохое восхищение. Оно подавляет и повергает в отчаяние. Но кадр: Кюхля, слушающий чтение «Горе от ума», — тоже невозможно забыть. Длинный нос, большое приглуховатое ухо, оттопыренное рукою, чтобы лучше слышать, выкаченный огромный глаз, и восторженный, и внимательный, и придирчивый одновременно — все существо устремлено к Грибоедову, в Грибоедова! И все забавное, нескладное, что есть в этой исступленно-внимательной физиономии, приобретает вдруг иной, важный и истинный смысл. Здесь Кюхля — творец, здесь он художник более, чем в своих стихах, здесь он велик. Этот кадр — образ Кюхли в самом общем и высшем выражении: человек, творческое начало которого растворяется, реализуется в неистовой любви к искусству, этому творению человека, к самому человеку, к людям — реализуется настолько интенсивно, как это недоступно Кюхле-поэту.
Да, Кюхля Юрского — Сальери, но лишь тот Сальери, который произносит: «Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же мне не до тебя! Садись, я слушаю». Только такой Сальери. И это есть личность Кюхли. И именно потому он — поэт. Посредственность — это неумение и нежелание преодолеть свою ограниченность, постигнуть то, что вне привычных понятий. Личность жива лишь, когда она стремится выйти за пределы привычного, «своего», жить, по выражению Блока, «вне себя». Посредственность «сальеристская» во много раз страшнее творческой ординарности. По сравнению с Сальери, Кюхля — Моцарт, даже если бы в творческом отношении он был вдвое ординарнее Сальери. Сальери принципиально одинок, горделиво одинок — он отверг не только то, что «на земле», но и то, что «выше»: ни здесь, ни там нет «правды», которая бы его устроила. Кюхля тоже одинок — это подчеркивается всем строем спектакля: если Юрский и не в отдалении от других (как, например, в сцене «семейного совета»), то почти везде он какой-то «отдельный» всем своим обликом и поведением. Кюхля страдает, когда ему надо «наладить контакт» с чем-то или кем-то вовне (Пушкин, Грибоедов и другие близкие люди здесь в счет не идут), ибо он уже привык к репутации чудака. Почти мучительно смотреть, как он, выйдя ночью «поднимать», «агитировать» встречных солдат, пытается «пристроиться» к первому попавшемуся служивому и робко, стесняясь, еле слушающимся языком, но, ощущая всю меру ответственности за порученное дело, начинает заговаривать с незнакомым человеком: «Куда, голубчик, идешь?.. Как живется?..» Но эта «отдельность», эта замкнутость совсем иного рода, чем горделиво-трагическое одиночество Сальери; у Кюхли она как цветок, готовый раскрыться навстречу первому же лучу солнца. В этом угрюмоватом и странном юноше живут нежность и жажда нежности, которые потрясающе точно выражены Тыняновым в описании ночи перед восстанием: «Рылеев проходит мимо Вильгельма, который, ничего не видя вокруг себя, держит за руку Сашу Одоевского и, мимоходом, тихонько касается его руки. Вильгельм мгновенно содрогается от этой ласки». Есть в спектакле параллель этим строкам. После чтения «Горя от ума» — скупая деталь: рука Кюхли, тихонько поглаживающая руку Грибоедова. Юрский делает это незаметно, тоже как бы мимоходом…
Кюхля совершенно растворяет себя в тех, кого любит; стихи на разлуку, которые читает ему Пушкин, он слушает так, что, кажется, лицо его ничего не выражает: застывшая маска. И лишь в остановившихся глазах — чуть-чуть не то удивления, не то восхищения, чуть-чуть понимания того, что да, Александр иначе и не мог написать… и много-много тоски. Кюхли в них нет, в этих глазах, в них только Пушкин, и поэтому они полны разлуки, и никогда, пожалуй, в них нет большей отрешенности, большего одиночества, чем в тот момент, когда Вильгельм, неожиданно вскочив, не обнимает даже, а как-то сгребает Пушкина в объятия, прижимает его к груди и долго держит, как бы боясь выпустить и глядя в пустоту. Эти глаза так же угрюмы, полны одинокой пустоты и ничего почти не выражают и при других прощаниях — с Дуней, любимой, и с камердинером Семеном; каждый раз уходит от него еще один человек, и ему, в конце концов, равно горько расставаться — с Пушкиным ли, с Семеном ли… Это такой же образец непонятной «неорганизованности», каким был для Сальери Моцарт. Угрюмый и неловкий, он, как и в сцене чтения «Горя от ума», снова поэт, снова гений в блистательной сцене лекции в Париже, когда, потрясая руками и головой, весь в порыве и изнеможении, он, как человек, которому вот-вот заткнут глотку, исступленно выкрикивает: «Древнее вече, прообраз правления народного, было сломлено деспотом, который отныне имел право жизни и смерти над гражданами великой республики. Свобода мнений, в которой рождалась гражданская истина, уступила место единой воле. Вечевой колокол, сзывавший граждан, рухнул. Что могло последовать вслед за этим? Казни, ссылки, раболепное молчание всей страны, уничтожение духа поэзии народной, связанного неразрывно с вольностью, гибель младшей братской республики — Пскова! Так была задушена новгородская свобода… О, какая ненавистная картина! Как близка она нам и посейчас, хотя несколько веков отделяют рабство новгородское от рабства нашего…» И снова «странность» его, доходя, казалось бы, до апогея в этих нелепых размахиваниях руками, в неистовом сверкании глаз, в голосе, подобном звуку трубы, перестает быть странностью и оказывается страстностью. И оказывается, что у него красивый, широкий жест и вдохновенное, прекрасное лицо. Он непонятен и в высшей степени «неорганизован», и снова поэт, когда дает пощечину Похвисневу, за его спиной сказавшему гадость о нем, а потом с ним стреляется. Длинный, худой, весь клокочущий и в то же время неожиданно, нелепо респектабельный, он стоит перед плотненьким, добротненьким чиновником, и когда он произносит, давая пощечину: «Вот вам мой ответ», — ясно видно, что губы его плохо слушаются. Но вот он на дуэли поднимает пистолет. И в этом движении неожиданно блеснула легкая, такая непривычная в Кюхле грация и азартно сверкнули выпуклые мрачные глаза, потому что он сейчас пощадит этого перепуганного пигмея и выстрелит в воздух… Но самого-то его не пощадят, когда придет его час. И с первого своего появления перед нами он будто чувствует — погибель его уже в нем заложена. В Юрском есть это предчувствие, это смутное знание. Так Моцарт — Смоктуновский сверхчувственным знанием предощущает свою смерть. И не потому Кюхля «не жилец», что — гений, как Моцарт или Пушкин, а просто потому, что не умеет играть и ту игру, которую навязывает ему его время, его жестокий век.
В одной из своих работ Тынянов сблизил с Кюхельбекером Владимира Ленского, доказывая, что романтик Кюхля мог быть, хотя бы отчасти, прототипом пушкинского героя. Так это или не так, сейчас не столь важно. Важно, что Ленский мог, хотя и предположительно, «во многом… измениться, расстаться с музами» и так далее. Ленский «нашел безвременный конец», а мог его и не найти.
Кюхля не мог существовать, не будучи обреченным. Он не мог расстаться ни с музами (смотри выше его письмо из заточения), ни с тем благородным, человечным — и погибельным — делом, которому он отдал свои силы, свою любовь, свою восторженность. Поэзии ему было мало, ибо его собственные поэтические возможности были невелики, а сил и вдохновения было в избытке; и он не мог не устремить все свое творческое, человеческое существо в то «дело общее» (по латыни — res publica), за которое вышли на площадь декабристы. С Пушкиным еще могли до поры до времени играть в кошки-мышки. Бенкендорф писал Николаю: «если направить его перо и речи, то это будет выгодно»; Пушкину простили на время его признание в том, что, будь он 14 декабря в Петербурге, он вышел бы с декабристами, потому что Пушкин был для страны гением, а для Николая I — «умнейшим человеком России».
Кюхля не был ни гением, ни умнейшим человеком России, он был для них «просто человеком», а потому с ним и играть не стоило: себе дороже. Они не захотели с ним играть. А он играть не умел. Предчувствие гибели Юрский не играет специально — оно заложено в природе образа. И когда разражается 14 декабря и потом длинная сутулая фигура начинает метаться по городам и весям, возникая на экране, как волк, выходящий то и дело к флажкам, то почти физически ощущается, как все туже затягивается удавка, и мы видим, что метание Кюхли чем дальше, тем больше происходит скорее по инерции, чем из стремления спастись, ибо спасения нет, не будет и не может быть.
Рассказывая о гибели Пушкина, Вяземский пишет: «Разумеется, с большим благоразумием, с меньшим жаром в крови и без страстей, он повел бы это дело иначе. Но тогда могли бы мы иметь в нем, может быть, великого проповедника, великого администратора, великого математика; но, на беду его, провидение дало нам в нем великого поэта».
Слова эти можно отнести и к Кюхле, который не был, правда, великим поэтом; он был «просто поэтом», поэтом по своему человеческому складу, и этого одного было достаточно, чтобы он должен был неизбежно погибнуть. Опознанный, наконец, в Варшаве, он, как по принуждению, произносит своим глухим, протяжным голосом заученные слова о том, что он — крепостной барона Моренгейма, а в глазах его — уже почти полное безразличие и смертная тоска. Но когда его рукава касается лапа солдафона, и раздается голос: «Васька, держи его, это о нем давеча в полку объявляли», — он весь содрогается от этого оскорбительного насилия, как от прикосновения скользкой и холодной гадины, и, освобождаясь резким движением отвращения, с искаженным лицом и бешеными глазами, защищая себя от этого первого унижения, отрывисто и хрипло произносит гордое, дворянское: «A bas les mains!» И — все. Больше он уже не поэт, не дворянин и даже не коллежский асессор Вильгельм фон Кюхельбекер, а арестант, заключенный, ссыльный. Теперь его может хватать за руки любой унтер, последняя жандармская сволочь. Даже своих гордых слов: «Руки прочь!» — он уже больше не сможет сказать, потому что этого никто не поймет. Слова эти произнесет на маленькой станции Боровичи, в бешенстве отстраняя от себя руку жандарма, Пушкин, от которого за плечи оттаскивают Вильгельма, чтобы везти его дальше, в Динабургскую крепость. Но хотя Пушкин и может крикнуть: «Руки прочь!» и яростно трясет за грудь фельдъегеря, его самого то и дело хватают за плечи, за горло другие, невидимые и властные руки. И не пройдет и десяти лет, как его тайно, ночью, не в повозке, а на телеге, в черном гробу повезут из Петербурга, а в бумагах его будет рыться не какой-нибудь там ротмистр, а сам начальник корпуса жандармов. Да и сейчас он, Пушкин, может сколько угодно кричать и грозить, но ни дать Вильгельму денег, ни обняться с ним на прощание фельдъегерь ему не позволит.
Последние эпизоды спектакля — Сибирь — звучат как бы на низких нотах. Внешнего действия в этих эпизодах почти нет. И Кюхля в них участвует и существует не поступками — поступать он уже никак, собственно, не может, — а лицом, глазами и еще, как и на протяжении всего спектакля, — стихами. Юрский читает стихи Кюхельбекера как поэт. Нет: Юрский — актер, умеющий читать стихи, как поэт. Ибо он из тех — очень немногих — актеров, которые понимают и чувствуют особый вес, особое звучание и удесятеренную силу слова поэтического. Именно в моменты чтения стихов мы явственнее всего видим одновременно и героя — поэта Кюхельбекера, и чтеца-исполнителя — актера Юрского. Стихотворение приобретает в спектакле значение, равное значению эпизода или монолога. Стихи — та дорога, на которой расставлены вехи духовной жизни героя, вехи воплощения образа в актере, вехи всего спектакля, который я теперь беру на себя смелость назвать не просто телеспектаклем, но телепоэмой — такова лирическая и гражданская напряженность этого повествования.
Поэты, изображаемые в кино и театре, нередко, читая свои стихи, заботятся не о стихах, а о том, чтобы путем их чтения довести до сведения зрителей свою прогрессивность.
Юрский, читает ли он стихи в реальной обстановке какого-либо эпизода (экзамен в Лицее), или просто находится в кадре, вне связи с какой-то определенной сценой, или за кадром — всегда читает с одинаковым упоением звуковой стихией, музыкой — музыкой нередко в буквальном смысле слова, потому что иногда к голосу его присоединяется оркестр, интонация чтения легко и свободно ложится на музыкальную интонацию, и не важно, кто кого сопровождает и кто кому следует — голос оркестру или оркестр голосу. Ибо поэтическое слово обретает такую величественную симфоническую мощь, такую мягкую и глубокую музыкальность, которые вполне подстать оркестру. И вот, когда звучит этот необычный, протяжный, торжественный, завораживающий голос:
«О Де-ельвиг, Дельвиг, что-о награ-ада И дел высо-оких, и стихо-ов… Таланту что И где отра-ада среди злодеев и глупцов…»— и вдруг начинает думаться: а такой ли уж «посредственный» поэт Вильгельм Кюхельбекер? Почему же этот архаичный, тяжеловатый, часто не очень складный стих долго потом звучит в ушах и вспоминается неотступно? «Горька судьба поэтов всех племен, Тяжелее всех судьба казнит Россию…» Всю высокую поэзию, которая есть в этих скромных строках, Юрский сумел показать нам, ибо, любя своего героя, он с поэтическим благоговением произносит чистые и честные слова Кюхли, всею жизнью своей заплатившего за то, чтобы быть и остаться поэтом. И когда одинокий человек в длинном арестантском халате мечется передо мной взад и вперед по тюремной камере и исторгает из себя уже не голос, но почти вопль, и все же читает стихи, читает, как заклинание, как средство от помешательства, как оружие защиты и самосознания, — я верю этому как непреложному, неопровержимому документу: да, так вот именно метался Кюхля в каземате Петропавловской крепости, закутавшись в серый безобразный халат; да, так вот и читал он этим каменным стенам свои стихи — и старался читать их красиво и звучно, как и подобает читать поэзию; и именно таким был его голос — полубезумным и музыкальным, так и застыл он на этих каменных стенах:
«Несу товарищу привет Из той страны, где нет тиранов, Где вечен мир, где вечный свет, Где нет ни бури, ни туманов. Блажен и славен мой удел: Свободу русскому народу Могучим гласом я воспел, Воспел и умер за свободу! Счастливец, я запечатлел Любовь к земле родимой кровью — И ты, я знаю, пламенел К отчизне чистою любовью!..»Чем написаны эти строки? Голой душою — сказала бы Цветаева. Кем сделана эта поэзия? Гением или посредственным поэтом? Это здесь неважно. Здесь другой счет. «Петербург никогда не боялся пустоты… Московские площади не всегда можно отличить от улиц, с которыми они разнятся только шириною, а не духом пространства. Основная единица Москвы — дом, поэтому в Москве много тупиков и переулков. В Петербурге совсем нет тупиков, а каждый переулок стремится быть проспектом… Площади же образованы ранее улиц. Поэтому они совершенно самостоятельны, независимы от домов и улиц, их образующих. Единица Петербурга — площадь… Восстание 14 декабря было войной площадей».
В художественном произведении — в том числе и в романе Тынянова «Кюхля» — слова, фразы, эпизоды обладают способностью диффузии: они проникают друг в друга, сообщают друг другу дополнительный, глубинный, тайный, иногда неожиданный смысл. Фраза о петербургских переулках, кажущаяся на первый взгляд лишь остротой автора, обнаруживает свой скрытый драматизм. Это образ неразрешенного противоречия — противоречия, возникающего тогда, когда нечто стремится преодолеть обозначенные для него рамки. Это борение силы, вызванной к жизни новой реальностью, с мощным противодействием традиции. Такой же драматизм заключен и во всем портрете города. Дух пространства и свободы, дух площадей, дух преобразований дал Петербургу Петр — «революционная голова», как назвал его Пушкин. Те же площади с их «грозным, оцепенелым стоянием» 14 декабря решили спор в пользу «традиции» и «рамок», освященных деспотической волей того же Петра. Спектакль «Кюхля», как и роман Тынянова, рассказывает об этой трагедии, повествуя о судьбе поэта. Но, как и роман Тынянова, это не только рассказ об общественной трагедии и личной судьбе. Это поэма о человеке, о том, что личность жива лишь тогда, когда забывает о себе, когда стремится — чем бы это ни грозило — во имя любви к людям преодолеть свои пределы…
Необходимо легкое вдохновение С.Юрский
— Вы успешно работаете в театре, в кинематографе, на телевидении. Считаете ли Вы, что каждое из этих искусств предъявляет актеру свои, особые требования?
— Разумеется. Хотя на первый взгляд может показаться, что это и не так. Когда непосвященный смотрит на соревнования фехтовальщиков, он определяет, который лучше, только по результату. Ему трудно уловить стиль — слишком быстры и тонки комбинации, слишком неуловимы движения. Точно так же для непосвященного (зрителя или актера) театр, кино, телевидение, эстрада — все сливается в единое понятие — актерская игра. Оценка — хорошо или плохо, нравится или не нравится. Я подчеркиваю, что непосвященными в этом смысле бывают не только зрители, но и актеры и режиссеры, работающие не покладая рук в этих театрах. На мой взгляд, работа актера в разных видах искусства — близко лежащие, но все же различные профессии. Из одного корня, но в разные стороны. Я бы сравнил их со славянскими языками — понять с некоторым усилием можно и серба и болгарина, не изучая специально языка. Но чтобы заговорить на этом языке, нужно многое. Примениться к технике телевидения театральному актеру нетрудно, но повести за собой эту технику, заговорить на языке телевидения — это другая профессия.
— В чем ее существенное отличие?
— Телевидение — искусство без дубля. Кино живет дублями и их отбором, театр живет повтором, рядовым спектаклем. На телевидении играешь единственный раз, сегодня, сейчас. Если передача повторяется, тиражируется — это чисто техническая задача. Актер на телевидении играет один раз, сразу обращаясь ко всем, к каждому. Мне кажется, что это ощущение единственности данного представления составляет одну из главных особенностей актерской работы на телевидении.
С чем это сравнить? С театральной премьерой без последующих спектаклей? Попробуйте в театре предложить актерам репетировать пьесу, заранее зная, что она пройдет один раз. Ничего не получится. Другой настрой, другое искусство. Однажды можно показывать либо сделанное совершенно, закрепленное многогранным опытом в других видах искусства — так переносятся на телевидение готовые театральные спектакли, эстрадные номера, — либо попробовать импровизировать в этот единственный раз, вдохновившись единственностью, особой атмосферой, когда ты говоришь не со зрительным залом, а с каждым из многих отдельно. Это, по-моему, и только это и есть телевидение. Передача должна отличаться от репетиции гораздо сильнее, чем отличается генеральная в театре от премьеры.
— Вы говорите: импровизация. Но почему?
— Потому что должно быть соответствие между мерой внимания зрителя и отдачей, мощностью работы актера. Театр, эстрада, кино — искусства публичные. Зритель затрачивает целый ряд усилий для того, чтобы начать смотреть: покупает билеты, собирается, сдает пальто и, наконец, главное — объединяется с другими зрителями в новое и живое тело — зрительный зал. Телевидение — искусство личное. Путь зрителя к телеспектаклю короток — поворот ручки настройки. Поэтому внутренний настрой зрителя невысок. Чтобы произошел контакт, актер не должен говорить с одним не вполне внимательным человеком, сидящим дома, как говорят с готовой слушать массой. Способ игры, мера подготовленности актера должны быть уравновешены с мерой начальной заинтересованности зрителя. Отсюда вывод — для меня телевидение — искусство эскизное, допускающее гораздо больше импровизации в момент представления, чем кино и театр. В этом привлекательность, в этом своеобразие.
— Но в этом ведь и опасность! Опасность «выдать» в эфир несделанное!?
— Да, но эскиз не должен быть небрежным. Незаконченное, несделанное вообще нельзя показывать. Играть для каждого отдельно вовсе не значит играть по-домашнему — безответственно и не затрачиваясь. Импровизация должна иметь твердую, но очень подвижную основу. Все эти проблемы встали передо мной, когда в 1965 году по инициативе моего друга — талантливого и опытного телевизионного режиссера Александра Аркадьевича Белинского — я взялся за сложное дело — прочесть по телевидению всего «Евгения Онегина». Восемь глав — восемь передач. На эстраде я «Онегина» не читал, наизусть его не знал. Большая любовь к произведению пришла ко мне как раз в этот год, была для меня новой, волнующей. Итак, любовь к произведению, довольно хорошее знание биографии, жизни, характера Пушкина и полное незнание текста. Меня взволновало само сочетание Пушкин — телевидение. Оно показалось мне очень органичным. Уже первая строфа романа в стихах идеально выражает интимное, личное обращение к читателю-зрителю, настойчивое, доверительное, которое так свойственно маленькому экрану.
«Не мысля гордый свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хотел бы я тебе представить Залог достойнее тебя, Достойнее души прекрасной, Святой исполненной мечты, Поэзии живой и ясной, Высоких дум и простоты; Но так и быть — рукой пристрастной Прими собранье пестрых глав, Полусмешных, полупечальных, Простонародных, идеальных, Небрежный плод моих забав, Бессонниц, легких вдохновений, Незрелых и увядших лет, Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет».Вот идеальная для меня формулировка краткого, к чему должен стремиться я, актер, на телевидении, — легкое вдохновение, не обнажение, не катарсис — это прекрасный удел театра, — а легкое, адресованное на ты, вдохновение. Я сделал попытку передать зрителям свое первое ощущение от романа, а не плод изучения его. Я попытался эскизно сыграть автора, проводя его в восьми главах через восемь лет жизни, реальной, пушкинской. Был общий замысел, был замысел оформления и стилистики каждой главы. Я учил текст — главу в три-четыре дня, и мы начинали поиски действенного, интонационного, пластического зрительного характера рассказчика. Все остальные характеры были производными от него. После трех глав мы темпа не выдержали и стали показывать по главе в месяц. Мы намечали в поиске физическое и духовное состояние Пушкина. Герои зависели от этого состояния, были изменчивы от главы к главе. Скажем, 5-я глава (именины), ее мы определили как ночь всплеска хмельного воображения, когда Пушкин не успевает за летящими к нему образами и рифмами, когда он сам доволен собой и забывает до утра свое одинокое затворничество. В этой буйной главе — всех любит и ко всем ироничен. К Ленскому больше всего. 6-я глава (смерть Ленского) — фантазия сменилась беспощадной логикой. Жестока мысль, вытекающая из выдуманного сюжета и из невыдуманной жизни самого Пушкина (декабристы уже казнены), — нет души, смерть — просто конец жизни, грань, за которой ничто. Ирония оборачивается трагедией. Размышления отстраняют, отодвигают лирику. В 5-й главе искали рассказа, показа зрителям в гротесковой форме всех персонажей пародийной передачи девичьего любовного сна с кошмарами, построенного на впечатлениях от русских сказок, темь и свет, много деталей, масса воображаемых предметов, подвижность камер, сверхкрупные и сверхобщие планы. В 6-й — ровный свет, реальность и малое количество предметов — стол, стена, бильярд. Средние, длинные планы, сосредоточенность. Рассказываю я это вот к чему — 5-ю и 6-ю главы мы сыграли в эфир «живьем», на пленку не сняли. Примерно через полгода я попробовал их читать в концерте. Оказалось, что для эстрады они требуют новой и совсем иной разработки. Когда же я ее осуществил, и мы захотели вернуться к съемке, — это сказалось на стиле съемки и других глав. Это был уже другой вид искусства — эстрада. Было слишком разработано, слишком не подчинено камерам и тому единственному разу, который нужен в телевидении, это было не первое впечатление. Поэтому наш «Онегин» при всех грехах и недостатках кажется мне работой телевизионной в настоящем смысле. А гораздо более «сделанная», «чистая» работа — «Граф Нулин» — представляется простым показом по телевидению эстрадного номера.
— Следовательно, вы настаиваете на импровизационном методе?
— Я заметил, что все мои любимые телеспектакли были связаны именно с таким способом работы, когда под свет прожекторов приносишь не готовое, а только заготовленное. Когда вещь меняется от камер и еще раз — на самой передаче. Так было в «Смуглой леди сонетов» Шоу, поставленной Александром Белинским, где я играл Шекспира и где я мог наблюдать идеальную в этом смысле работу Эмили Поповой в роли Елизаветы. Наслаждение было играть с ней, ни разу не забивая гвоздями готовое, сделанное намертво, а спокойно, весело идя от комнатного прогона, через малое количество трактов прямо к той единственной встрече со зрителем.
— А как относится к такому методу постановщик «Кюхли»?
— Надо сказать, что А.А.Белинский с его фантазией, громадным профессионализмом, юмором и, главное, умением работать легко, весело, кажется мне человеком, знающим настоящий секрет телевидения. Он владеет талантом именно телевизионной режиссуры. Работать на телевидении люблю. Театр — прекрасен, лучшее, что есть. Кино — великое искусство. Телевидение — тоже искусство, со своими секретами. Их надо открывать. Будем трудиться, и да сойдет на нас легкое вдохновение!
СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ЧЕРНЫШЕВСКОГО Т.Марченко
…Если вы включились, пропустив титры, где-то уже по ходу передачи, то, пожалуй, не с первой минуты поймете, что же это перед вами. Репортаж с научной конференции за круглым столом? Публичное разбирательство судебного дела? Заседание историков, восстанавливающих по документам цепь событий. Ничто, на первый взгляд, не выдает театральной природы этого зрелища. Но вот мелькнуло знакомое вам лицо одного актера, другого… Идет спектакль Ленинградской студии телевидения «Непобежденный узник». Телепьеса основана на документах и построена как следствие и суд — суд наших современников над теми, кто обрек Н.Г.Чернышевского на гражданскую казнь и ссылку в Сибирь. Посмотреть ее следовало, необходимо было ее посмотреть. Это вовсе не означает, что она непременно понравилась бы всем одинаково. Кому-то, быть может, она даже скучноватой показалась бы… И уж, во всяком случае, легкого развлечения она не доставила бы. Постановка требовала от зрителя непрерывного соучастия, напряженного гражданского и нравственного чувства. Оперировала она строгими документами и двигалась не столько сюжетом, который, конечно, сам по себе вызывал интерес, но позицией автора-публициста. Так обращаться с материалом возможно было, пожалуй, только на телеэкране, тут уж ни кино, ни театр не смогли бы быть конкурентами. Тут телевидение выступило самостоятельным художником, исследователем и судьей жизни. Случай не частый…
…Сверху, точно с птичьего полета, камера снимает большой круглый стол. К столу вплотную придвинуты стулья. Маленькая, тоненькая фигурка обходит вокруг. Против каждого сидения девушка кладет листы бумаги, папки, книги; высокая пачка документов в ее руках постепенно уменьшается, вот легла на стол последняя папка с надписью «Дело №…». Все готово к началу… следствия? Суда? Над кем? Почему? С какой целью? Мы еще не знаем этого. Еще не произнесены имена Чернышевского и его палачей. Но суровы лица людей, занимающих места за круглым столом. Актеры — их двенадцать человек — в своих обычных костюмах, как будто явились не на спектакль о прошлом, а на сегодняшний диспут. И в соответствии с условиями диспута (следствия, суда) их лица без грима. Здесь каждый — как бы сам собой, такой же человек, как мы с вами — по другую сторону экрана. Только, в отличие от нас, тем, кто сейчас за круглым столом, предстоит сложнейшее разбирательство. Им надо восстановить на наших глазах историческую истину, собрать ее по крупицам и вынести свой приговор.
Сосредоточенные, серьезные лица… Руки настороженно лежат на столе, словно ожидая мгновения, когда они прикоснутся к бумагам… Встает один… Именно он будет в дальнейшем своего рода центром нравственной оценки всего, что мы узнаем. Сейчас он произносит: «Это хроника одного преступления, совершенного сто лет тому назад». И садится, ударив молотком по настольному гонгу — начали! Документ, документ, документ… Один, другой, третий… Актеры читают эти документы, словно передавая друг другу эстафету следствия. Отрывистый, четкий ритм. Пока что все ведут себя одинаково деловито: процитировал документ — протянул листок тому, кто у гонга, как бы предъявляя вещественное доказательство, тот на мгновение задержал документ в руке, как бы взвешивая и оценивая его. Интонация, как и подобает при следственном разбирательстве, самая объективная. Но внутреннее напряжение нарастает. Кажется, еще немного и сухая оболочка документов взорвется, а за ней предстанет сама жизнь в ее неофициальном и нерегламентированном течении, и за словами встанут люди. Голоса этих людей, этой жизни уже врываются сюда, в строгую обстановку заседания. Замелькали на экране газетные листы: «Расстрел на улицах Варшавы!..» — перебивают друг друга голоса мальчишек-газетчиков. Напряженно прислушиваются к ним сидящие за столом, словно к голосам, долетевшим сюда из толщи времени.
Действительно, как же происходили события там, в прошлом, что за люди творили их? Чуть-чуть воображения — и люди, кажется, начинают оживать. Они уже слышны. Докладывает генерал Потапов… Словно на голос кого-то, скрытого от наших глаз, все резко оборачиваются в одну сторону, точно генерал там, в этой стороне… Окончен доклад — и снова все возвращаются к сиюминутной реальности, к документам на круглом столе. Воскрешать прошлое нелегко, нелегко заставить его говорить неофициальным языком. Многого мы не знаем. Не знаем, что за документом. Не знаем, например, как проходила встреча генерала Потапова с одним из своих подчиненных. Быть может, вот так? И один из пожилых актеров, водрузив на свой породистый нос старинное пенсне, поворачивается к собеседнику… Словно включилась машина времени и оторвала этого актера от товарищей за столом, мгновенно переместив его в прошлое, где он — один (достигается это очень просто — при помощи крупного плана). Закончил свою тираду генерал — и камера возвращает его в настоящее, за общий стол, и актер деловитым жестом снимает пенсне. Первое путешествие во времени состоялось, «машина времени» опробована.
«Можно?» — берет слово молодой актер. В его руках — документы, говорящие о студенческих волнениях в столице, о странных пожарах, вспыхивавших то и дело. Пока он — лишь объективный докладчик этих документов, но как трудно сохранять объективность! «Мы организовались в группы…» — произносит он фразу из воспоминания студента Николадзе, и вдруг что-то неуловимо меняется в его облике. Это он поднял и распахнул свободный ворот своей белой рубашки, провел рукой по волосам, камера словно подхватила его и вынесла из-за стола в другое измерение. Зашумела-закричала многоголосая толпа, по лицу юноши побежали отсветы пожаров — и он из рассказчика о прошлом превратился в участника студенческих волнений. А потом снова поворот головы — общий план, и актер Р.Катанский мгновенно возвращается в другую эпоху, к своим товарищам за столом, и мы видим, как он оправляет воротник своей рубашки.
То, что происходит здесь, за столом, — это и есть сегодняшняя реальность. Прошлое — в воображении. А воображаемое — крупным планом на маленьком экране. Прошлое не буквально такое, каким оно было, а лишь такое, каким оно могло быть. Открытый телевизионный прием наглядной реконструкции событий и времени. Постепенно этот прием усложняется. Вот уже двое вышли из-за стола, разыграли сценку. Подчеркнуто суховато, не перевоплощаясь, а лишь обозначая контуры персонажа и события — как это могло бы происходить тогда — и снова вернулись на свои места. А те, кто оставались за круглым столом, смотрели и оценивали прошлое, на их глазах сейчас воскрешаемое, и эта их нравственная оценка была отнюдь не менее важна для развития действия, чем только что разыгранная сцена — недаром камера все время давала подвижные портреты тех, кто оставался за столом. Очевидно, что главное совершается именно здесь, за столом, а путешествия в прошлое — это лишь материал для наших сегодняшних раздумий. В течение спектакля всем участникам его доводится неоднократно совершать переходы из настоящего в прошлое, и наоборот. За мгновенными этими переходами то гневно, то восхищенно, то задумчиво наблюдают партнеры, оценивая, как же все это тогда было. И задумываются о сегодняшнем. Они существуют постоянно как бы в двух временных пластах, но всегда — в едином гражданском ключе. И это единство коллективной позиции расследователей и судей — наших современников — цементирует спектакль, казалось бы, начисто лишенный драматургии в обычном, привычном, театральном понимании ее. Героем действия становится человеческая стойкость, верность идее, та удивительная цельность человеческой натуры, независимой личности, которая вызывает и по сей день наше восхищение и преклонение перед жизненным подвигом Чернышевского.
Чернышевского на экране нет. Но есть ощущение его личности, настолько живое, что кажется: просто нам, зрителям, по прихоти телекамеры все как-то не удается увидеть Николая Гавриловича, с которым с такой очевидностью беседуют другие. Разве мог бы друг Чернышевского, доктор Боков (или, вернее, тот актер, который стал в это мгновение доктором Боковым), смотреть с такой любовью и волнением в… пустоту? Мы слышим вместе с ним голос Чернышевского, а что в кадре в этот момент — всего лишь старинная чернильница да гусиное перо, кажется даже естественным: просто писатель встал на минутку, быть может, отошел к окну, потому-то мы и не видим его, и диалог с доктором Боковым ведет… старинная чернильница да гусиное перо. И царя на экране тоже нет. Но и его присутствие ощутимо. Блестит эполет на царском портрете, заключенном в тяжелую раму, тянется наискосок по груди, увешанной орденами, орденская лента. Только фрагмент портрета, без лица, без рук, как будто олицетворение безликой глыбы власти. У подножия портрета — почтительно склоненное пенсне (мы уже привыкли: раз пенсне — значит, на доклад к царю пришел генерал Потапов — артист В.Эренберг). Мелькает по портрету тень от фигуры царя, нервно расхаживающего по кабинету, и почтительно следят за этой мечущейся из стороны в сторону тенью глаза царского сановника. А за столом настороженно наблюдают эту сцену недобро сузившиеся, непрощающие глаза. И когда тот, кого условно можно назвать корифеем этого «хора», тот, кто у гонга (артист М.Волков), говорит о тюрьме Чернышевского, о страшном Алексеевском равелине, за столом слушают серьезно, сосредоточенно, мрачно. Ибо поединок начался. Невиданный в истории поединок писателя с царским самовластьем, который продлится десятилетия. И в нем будет измерено все величие одной стороны и низость — другой.
На экране противоборствуют символы — чернильница с пером против царского портрета. Неизменно ровно, уверенно, с достоинством звучит голос Чернышевского, с вольной небрежностью брошено возле чернильницы перо — кажется, лишь на короткое мгновение оставил его литератор. И мечется, словно загнанная, по портрету тень царя, и вправо-влево косят ей вослед глаза почтительно склоненного сановника. «Бам-м!» — взорвалась очередная бомба террористов, и дрогнул портрет на стене. «Бам-м-м-м!» — оглушительный взрыв, неожиданно легко взлетела вверх и вкось опустевшая рама царского портрета. Убит народовольцами Александр II. Но вступает на престол новый царь — и снова в тяжеловесном квадрате рамы блестит эполет, перечерчивает наискось царскую грудь орденская лента, и снова мелькает по портрету тень царя, нервно шагающего из угла в угол своего кабинета. И снова следят за нею глаза царского сановника. Все, как прежде, только одно изменилось: в другую сторону почтительнейше обращен профиль графа Шувалова (артист В.Гайдаров), и из другого, противоположного угла начинает свое «вечное» движение царская тень. Вроде бы все незыблемо в Российской империи — и все взорвано, взорвано ходом истории, а в спектакле — убийственной иронией режиссера.
В том, что происходит на телеэкране, действенно даже пространство, в его изменениях есть свой смысл. Оно участвует в нагнетании, концентрации той атмосферы, которой дышат сегодняшние судьи палачей Чернышевского. «Я, Всеволод Костомаров…» — начинает свое лжесвидетельство фигура, сиротливо затерявшаяся в полутемной пустоте. «Записка подложная!» звучит в ответ голос Чернышевского. И словно, не зная, откуда еще ждать ему изобличающего удара, заерзал на месте, втянув голову в плечи, обведенный страшной пустотой Костомаров. «Я, мещанин Петр Яковлев…» — говорит следующий лжесвидетель, человек без лица: он снят сверху, видны лишь его ссутуленные плечи и плешивая голова. И когда спокойный, ясный голос Чернышевского парирует клевету, «мещанин Петр Яковлев», не меняя застывшей позы, злобно косится исподлобья. И снова он обведен зловещей темной пустотой.
Во многих подробностях здесь исследован механизм фабрикации лжесвидетельств, выдачи клеветы за истину — все, что делало царское правительство ради придания видимости законной процедуры осуждения «государственного преступника» Чернышевского…Идет приватная консультация генерала Потапова и Сенатора. Их разделяет канделябр — три витиевато вылепленных рожка. Близко сдвинуты головы — идет конфиденциальная беседа. Только что артист В.Стржельчик, изображающий сейчас Сенатора, сидел за столом, рядом с «Корифеем», разделяя его и остальных презрение к тем, кто плел паутину вокруг Чернышевского. И вот сейчас он сам — главный паук, умный, тонкий и циничный. Это уже другой человек. И когда он надевает свои обычные, вполне современные очки в темной толстой оправе, это почему-то не кажется анахронизмом, быть может, потому, что из-за этих очков на нас смотрят холодно брезгливые глаза Сенатора, наглядно конструирующего судебную «ловушку» для безоговорочного обвинения Чернышевского. «Есть два пути… — бросает он, и напряженно замирают те, кто за столом. — Ваш путь — не тонкий». И виновато склоняется голова Потапова. Паутина сплетена, государственное решение принято, а за столом звучит в это время суровая справка о днях голодовки Чернышевского и, как ответ на все хитросплетения «правосудия», раздаются пророческие слова Чернышевского: «Любите будущее…» Как завещание из прошлого, как собственную присягу, слушают эти слова за столом. И тот, кто только что был Сенатором, читает документальную справку: «Сенат постановил — несмотря на экспертизу, считать записку подлинной, исходя из прочих обстоятельств дела», — и голос его, не выдержав объективной интонации, срывается от негодования. Кажется, еще мгновение — и каждый из сидящих здесь врукопашную вломится в историю, перекроет своим голосом лжесвидетельства прошлого.
И действительно, все поднимаются, словно в едином порыве — так встают, чтобы двинуться на митинг, на политическую демонстрацию. Но нет, это они идут «в прошлое» — идут смотреть на гражданскую казнь Чернышевского. Идут прямо на нас. Остановились, сдвинулись плечом к плечу. Всматриваются во что-то, нам не видимое, тянут шеи — не пропустить бы ничего из этого скорбного зрелища. Как «репортаж из прошлого», падают отрывистые фразы о том, что происходит сейчас перед их глазами. Вот Чернышевский вышел из кареты… (И прижала к груди руки юная женщина в накинутой на голову черной шали — только что она, артистка М.Крутикова, читала письма Чернышевского к жене и была в эти мгновения Ольгой Сократовной Чернышевской.) Другая — артистка 3.Шарко — «увидела» букет, упавший на эшафот к ногам Чернышевского, и дыхание ее перехватывает, на глазах выступают слезы. Звучат тяжелые удары — они символичны, как удары топора о плаху, — и кажется, что они падают на головы этих, смотрящих, — так напряженно застыли их фигуры, столько страдания и гордости в лицах. Чье это страдание? Чья гордость? Современников Чернышевского, усыпавших его путь от эшафота розами? Или здесь выразились чувства наших современников? И то и другое. В этом единстве — ключ к «секрету» спектакля.
Громадно очищающее нравственное воздействие его. В нем нет ничего от унылого, равнодушного просветительства, его никак не придет в голову просто зачислить по рубрике историко-биографических передач, вся ценность которых лишь в сумме сообщаемых зрителям сведений. Это — спектакль-боец. Спектакль-трибун. Полемист и агитатор. Живущий единым дыханием его создателей. Его могли осуществить только люди, убежденные до одержимости. Слово «энтузиазм», как-то не часто теперь употребляемое, здесь будет самым верным.
До закулисной стороны зрителю, как правило, нет дела. Но я хочу нарушить это правило, потому что даже частичное знание того, как это делалось, приоткрывает секрет результата. Актеры репетировали, случалось, и по ночам. Они не столько учили роль, сколько разговаривали и спорили до хрипоты, до исступления; в ход шли примеры и литературные и жизненные, аргументы самые неожиданные, до дела Чернышевского, казалось бы, никак не касаемые. Но именно в этих разговорах, в самых широких ассоциациях выстраивалась единая гражданская атмосфера. Среди актеров не было премьеров, возвышающихся над второстепенными исполнителями, никто не мог похвастаться особо выигрышной ролью и тем несколько потешить свое актерское самолюбие. Все жили целым, жили сегодняшним, документы истории были для них оружием. От всех зависело все. Вот почему, когда во время первого, «живого» (то есть еще не записанного на пленку) исполнения случилось непредвиденное — вдруг одна за другой стали «вылетать» камеры, начала катастрофически отказывать техника, — режиссер смог вести монтаж импровизационно, на ходу неожиданно для актеров меняя условия их съемки. Однако в эфире никто не заметил накладки, да ее и не было. Потому что все актеры, независимо оттого, направлен или нет был сейчас на них красный глазок камеры, жили непрерывной интенсивной внутренней жизнью, и режиссер мог «ловить» любого. Каждый мог солировать в этом оркестре. Так техническая авария оказалась наилучшей проверкой художественной целостности спектакля, целеустремленности всех его участников.
Но не только в идейном, нравственном результате «секрет» этого спектакля, он — и в эстетической природе его. Документальная драма — не открытие ТВ. В феврале 1968 года, в Берлине, на вечере, посвященном памяти Бертольта Брехта были названы принципы документального театра. В них было сказано, что документальный театр ставит на обсуждение факты. Он вскрывает движущие силы события, отложившегося в сознании, как нечто неподвижное. Одним данное событие приносит выгоду, другим — ущерб. Две враждебные силы противостоят друг другу… Извлекающие прибыли пытаются обелить себя. Они объявляют себя хранителями порядка… Сталкиваются различные точки зрения на один и тот же предмет. Голословные утверждения сопоставляются с действительным положением дел… Документально подтверждаются уловки одних и молчаливое соучастие других. Приводятся косвенные улики… Реально существующие лица выводятся в качестве представителей интересов определенных политических групп и классов… Документальный театр может принять форму трибунала…
Если сопоставить с этими принципами телеспектакль, созданный двумя годами ранее, обнаруживается общность. Документальный театр чаще всего интересуют не личности сами по себе, а общественные процессы. Это — партийный театр. «Непобежденный узник» — ярко партийный спектакль. Партийна сама эмоциональность его. Она нарастает неуклонно, ее усиливают не только новые и новые факты «дела Чернышевского», но и отношение к этим фактам его друзей, последователей и даже врагов, не говоря уже о реакции на весь ход событий тех, кто сидит за столом, — наших современников, наших «доверенных лиц». «Если бы я только знала…» — говорит дрогнувшим голосом Вера Фигнер (артистка 3.Шарко), начиная рассказ о пятой неудачной попытке освобождения Чернышевского, о предательстве Дегаева, и голос ее вздрагивает и слезы выступают на глазах. Как мог Дегаев так быстро сломаться, как оказался предатель в среде революционеров?! — недоумевают те, кто «в прошлом», и тот же молчаливый вопрос на лицах сидящих за столом. «Да, Дегаев умен, но безнравствен, а нравственная тупость парализует деятельность ума», — отвечает им и нам «из прошлого» теоретик «Народной воли» Лев Тихомиров (артист А.Дубенский) и тут же яростно поворачивается к Дегаеву (артист И.Конопацкий). Их диалог стремителен, «Тихомиров» словно хлещет предателя, словно вершит над ним неумолимый суд, и лицо его передергивается от едва сдерживаемого бешенства и презрения, и такое же презрение на лицах тех, кто наблюдает эту сцену из дня сегодняшнего. Презрение и скорбь, потому что в который уже раз рухнула надежда на освобождение Чернышевского. Пауза… И вот уже звучит неторопливый, с какими-то домашними интонациями рассказ царского флигель-адъютанта, ездившего по высочайшему повелению в забытый людьми и богом Вилюйск к Чернышевскому, чтобы уговорить его подать прошение о помиловании. Обыденные подробности встречи, короткая беседа — и удивление, даже преклонение флигель-адъютанта перед невиданной духовной стойкостью Чернышевского. Эта интонация удивления, невольного уважения, окрасившая весь непритязательный рассказ-воспоминание царского посланного (артист Б.Рыжухин), еще раз, по-новому осветила смысл жизненного подвига человека-легенды.
Так из множества оценок, из столкновения противоборствующих сил вставала история, давая урок потомкам. Так телевизионная пьеса оказывалась в едином ряду явлений сегодняшнего политического документального театра. Но этот спектакль лишь одной своей стороной может быть соотнесен с тенденциями развития современного театра. Он — детище телевидения, неожиданный гибрид документального, репортажного телевидения и искусства драмы. В природе этой сложной гибридизации тоже необходимо разобраться. Да, здесь господствует принцип документального телевидения. Представление сродни репортажу. Это особенно очевидно в «антракте». Все встают из-за стола и разбредаются по студии. Но только что пережитое, услышанное, увиденное продолжает держать их в своей власти, и они не могут отрешиться от «дела Чернышевского». Люди курят, думают, заново перебирая в памяти все, собираются группками, что-то обсуждая, споря, и камера фиксирует их лица, их разгоряченные, не скованные уже дисциплиной заседания жесты, прослеживает, как из множества этих индивидуальностей, характеров, темпераментов слагается нечто единое. Актер ведет себя здесь, как любой обыкновенный человек, волею обстоятельств невзначай попавший в поле зрения телекамеры, подобно прохожему на улице, — что может быть естественнее его ничем не регламентированного поведения в общем «потоке жизни». Стоп! Неправда! Ведь это же не просто случайные прохожие, это — актеры, и пьеса написана заранее, и роли отрепетированы, и все реакции предусмотрены режиссером, и сам «антракт» — не что иное, как прием, элемент его спектакля. Значит, не репортаж, не документ, а лишь подделка под него? Да, если хотите, подделка, но в той лишь мере, в какой вы отважитесь считать подделкой любое произведение искусства, основанное на документе.
Да, произведение искусства остается произведением искусства. Мир, творимый в нем, вторичен и автономен от жизни. Он подчиняется законам искусства. И телевидение не составляет здесь исключения. Спектакль нельзя приравнять к уличному репортажу, актеры — не прохожие. Но телевидение недаром возлюбило прохожего — человека, захваченного камерой врасплох. Человека, которому до камеры нет никакого дела, он от нее внутренне свободен и потому позволяет себе роскошь оставаться самим собой. А тут-то как раз и начинается самое интересное для нас с вами, для зрителей. Уже давно и широко признано, что нет ничего интереснее на телеэкране, чем неожиданно раскрывающиеся человеческие миры. Прошло порядочно времени с тех пор, как В.Саппак в своей книге «Телевидение и мы» бросил крылатую фразу, что сила телевидения в «рентгене характера». Но время лишь утвердило его правоту.
Телетеатр долго и ревниво оберегал свое театральное первородство, барьером отгораживался от репортажного, документального телевидения. Но время ломает барьеры. Спектакли, подобные «Непобежденному узнику», — это совсем особый, новый театр и особое актерское перевоплощение. Само представление стремится к репортажу, и актер обретает функции необычные. Необычайно важными оказываются здесь человеческие качества самого актера. Каков ты сам, что ты за человек, — от этого оказывается зависимым весь строй спектакля. И действительно, на телеэкране человек становится виден насквозь — и актер тоже. Мы различаем отчетливо не только персонаж пьесы, его характер, но и личность актера, играющего роль. Две личности как бы зримо накладываются друг на друга. В кино и театре это зрители, там актер-человек может легче спрятаться за характер персонажа и обстановку зрелища. Вот здесь-то и происходит стык документального телевидения с телетеатром. И своеобразная поверка художественного образа документом жизни. Не случайно же, готовя «Непобежденного узника», актеры не столько репетировали пьесу, сколько спорили о жизни. Все это, нажитое в общих разговорах и раздумьях и потом ставшее явственным с экрана, — чему оно принадлежит? Искусству? Репортажу? Оно проявлялось в рамках запрограммированного действия по законам искусства, но принадлежало не только роли и даже не профессионалу-актеру, а, прежде всего, ему как человеку и доносилось до зрителя средствами прямого репортажа. Где же здесь граница? И возможна ли она — четкая, непереходимая? Скорее, это прорыв в своеобразную пограничную зону между документальным и художественным началом. Эта зона и есть одна из интереснейших сфер телетеатра. И характер актерского перевоплощения здесь особый. Здесь каждый молчаливо исповедуется зрителю в ходе своих дум, нравственных оценок, внутренних решений. Пустоту ума и души камера обнаружила бы сразу. Но пустоты не было. Притворяться не приходилось. Гражданская, нравственная позиция каждого была естественно нажита вместе со всеми в процессе подготовки спектакля и теперь лишь проявлялась в заданных обстоятельствах. Правда, и этот синтез — не открытие одного лишь телевидения. На этом же принципе строится искусство актера в публицистическом театре Брехта, во всех вариациях сегодняшнего политического театра — от агиттеатра 20-х годов до Театра на Таганке. Но в телевидении этот принцип набирает новое дыхание, здесь открывается для актера необычайный простор. Телекритик Вс. Вильчек хорошо заметил, что подобные телеспектакли возрождают тип актера — соперника драматурга, актера — автора своей роли. Действительно, эта пограничная зона между документальным репортажем и образным перевоплощением представляет в телетеатре интерес необычайный. И отнюдь не только для теоретиков — мне кажется, и зритель получает особое наслаждение от того, что он становится свидетелем постоянных внутренних переходов актера от себя к образу, и обратно. Здесь-то и сказывается особый характер актерского перевоплощения на телевидении, для которого не существенны ни грим, ни костюм, важно одно, — как, от чьего имени актер мыслит сейчас, и этот эмоциональный процесс мышления захватывает. Так телевизионный театр в идеале выдвигает самый современный тип актера.
…Окончено следствие. Расходятся актеры. Уходит последний, бросив прощальный взгляд на этот стол, на все то, что здесь только что раскрылось, и в какое-то мгновение еще раз живо оценив все это. Девушка собирает разбросанные документы и книги снова в одну тяжелую пачку. Она сейчас одна — последнее связующее звено между вновь застывшей глыбой истории и нами. Что скажет она, наследница и очевидец, только что собравшая своими тонкими руками доподлинные свидетельства и героизма и подлости? «Только для тех сохраним наше удивление, которые, опережая свою эпоху, имели славу предусматривать зарю грядущего, имели мужество приветствовать его приход, возвышать независимость и гордый голос…» Этими словами Чернышевского заканчивается спектакль. Теперь можно продолжать рассуждать. Я уверена, что будущее телетеатра за таким вот документально-публицистическим действием. Но одни документы не могли бы его составить. Документы ввела в действие позиция автора и режиссера. Она породила спектакль «Непобежденный узник».
Как историк-архивист, телевидение не было первооткрывателем. Все документы по «делу Чернышевского» после революции в разное время были опубликованы. Но как претворить их в драматизм пьесы? Тянуло на привычные, канонические формы драматургии. Телережиссер И.Рассомахин решил иначе. Он определил структуру будущего телеспектакля. Так родился «ход» — следствие за круглым столом. Суд наших современников над прошлым во имя настоящего и будущего. Актеры не привыкли к такому. Сначала и они пытались спрятаться за придуманные характеры. Они невольно опасались, они еще не умели действовать в открытую, в полный гражданский накал, от себя. До последней репетиции они не знали, что будет — победа или поражение? Когда камеры начали передавать их в эфир, они бросились в спектакль, как в бой. И они победили. Это было в 1966 году. «Непобежденный узник» отнюдь не лишен художественных недостатков и тем не менее — это не просто удачный спектакль. Он — явление принципиальное.
Как создается телевизионный спектакль-расследование И.Россомахин
— В «Непобежденном узнике» интересно использованы детали. Как, на ваш взгляд, создается образ в телевизионном документально-публицистическом спектакле? Каково при этом значение детали?
— Вначале общее соображение. Сила телевидения не в иллюзорном воспроизведении действительности, а в репортажной передаче ее. В иллюзорном воспроизведении действительности кинематограф достиг предела. Сама фактура кинематографического зрелища рассчитана на то, чтобы зритель был во власти подлинности, был совершенно убежден, что перед ним действительность, какие бы фантастические вещи не были заложены в сюжете кинофильма. Если это кинофильм исторический, то перед нами актер, загримированный под историческое лицо, одетый в костюм нужной эпохи и так далее. Жить подлинной жизнью героя — задача актера. Не обнаруживать впрямую присутствия своего «я», не высказывать личного отношения. Актер интерпретирует характер, создает образ, но что лично он, актер X думает о событиях и исторических лицах, остается за рамками кинематографа. Если телевидение преследует цель добиться такого же иллюзорного воспроизведения действительности, то оно, как показывает практика, обращается к тому же кинематографу, демонстрируя на своем экране то, что называется «телефильмом», то есть фильм для телевидения. Снятый, смонтированный — все как полагается.
В чем специфика «телефильма» — вопрос иной, для меня важно сейчас подчеркнуть, что «телефильм» прежде всего — фильм, кинолента, то есть нечто уже существующее до ТВ и существующее помимо него. Но вот я ставлю спектакль в телевизионном документальном театре, спектакль, который разыгрывается в форме следствия, суда, исследования. И у меня получается картина, обратная той, которую я только что нарисовал. Актеры никого не изображают, а только обозначают. И спектакль построен так, что зрителю важно, что думают исполнители о событиях и о тех, кого они играют (т. е. слегка обозначают). Вот тут-то и необходима деталь, характеризующая персонаж, время и ход борьбы, ибо на нее ложится нагрузка огромная, в известном смысле деталь заменяет актера. Отсюда в «Непобежденном узнике», например, чернильница Чернышевского и портрет императора. И вещи эти противоборствуют. Гусиное перо то обмокнуто в чернильницу, то лежит на ней, то брошено возле. И все это — не случайно: арест оторвал Чернышевского от работы; но и в Петропавловской крепости он писал; а в ссылке он уже не мог писать и потому перо бездействует… Деталь живет, осмысляется по-разному.
По тому же принципу «развивался» и портрет царя: усиливался гнет самодержавия — и все больше заполняло собой экран парадное изображение императора. Сначала — только орденская лента через плечо и эполет, потом уже — вся грудь, и плечи, и подбородок, и нос — камера добиралась уже почти до самых глаз, вот-вот мы увидим самодержца… И по мере того, как «вырастал» портрет, все дальше отодвигалось перо от чернильницы. Тут важно было не только определить деталь, но и передать через нее атмосферу.
Жена Чернышевского читает его письмо при свече; и пламя свечи все время тревожно колеблется, по лицу женщины пробегают блики. Во время съемки мы специально на пламя дули. А массивный старинный канделябр в сцене сговора сановников стоит удивительно прочно, незыблемо, как незыблема, по их представлению, сама царская власть. Но если снять крупно лепку и цепочки этого канделябра, то он уже выглядит как тюремная решетка с цепями, и когда в каком-то кадре снимали сановников уже через эту решетку, бытовая деталь становилась символом.
Деталь не имеет права быть просто буквальной, за ней всегда должно что-то читаться. Нужны не иллюстративные, к данному моменту, а «сквозные» детали. Например, в моем спектакле «Вам!» — о Маяковском — поэта в трех разных эпизодах жизни и творчества играли три разных актера. Они и не пытались быть портретно похожими друг на друга и каждый в отдельности — на Маяковского. Но клетчатый шарф, широкополая шляпа или мохнатая кепка — эти детали костюма они наследовали друг от друга.
Вообще деталь на экране — это совсем не обязательно вещь, предмет. Деталь может быть чисто актерская. Все зависит от цели и способа съемки. Когда четыре сановника сидели у канделябра, я в какой-то момент снимал их отдельными наплывами — и создавалось впечатление, что этих «вершителей судеб» много, их не четверо, а целая галерея. Отсюда и необычный, как бы «неграмотный» способ съемки: с затылка, в профиль, силуэтом, без конкретного лица — и портретной съемки. Смысл и атмосфера события (а не впрямую само событие) тоже могут быть переданы через конкретную деталь. Скрученные и грубо заломленные за спину руки того, кто стрелял в царя, его качающаяся, как от ударов, тень на стене говорят телезрителю о драматизме события гораздо больше, чем если бы разыграть на телеэкране сцену покушения буквально. Деталь на телеэкране — великая сила!
— Но всегда ли документ обязывает телевидение к такой условности?
— Все дело в «договоренности» со зрителем. Думаю, что отправной точкой для всякого спектакля-расследования должна быть такая заявка: «Мы, сегодняшние люди, на ваших глазах попытаемся разобраться в документах прошлого…» Отсюда — актеры за круглым столом в «Непобежденном узнике», шеренга, в которую выстраиваются все исполнители в начале спектакля «Вам!» (о Маяковском). А дальше возможны любые способы театрализации и актерского существования.
— Ради чего оживает документ на ТВ?
— Ради чего? Но давайте договоримся — что же такое документальная телепьеса? Набор документов — это еще не театр. Ни хронологическая расстановка документов, ни раскладывание их по тематическим полочкам с чтением в лицах театра не дает. Должно произойти столкновение, конфликт, взрыв. А это может случиться только тогда, когда перекрестятся два времени — прошлое и наше. Ибо роль исторического документа — не только просветительская, но и воспитательная. Ради чего мы извлекли его на свет? За любым документом лежит поступок, а он имеет идейную, нравственную основу. Это и позволяет перебросить мостик из прошлого в настоящее, открыть простор ассоциативному мышлению. Документ имеет смысл обнародовать только тогда, когда создатели спектакля как бы восклицают свое «Не могу молчать!». Нельзя просто рассказывать, надо отвоевывать, вступать в борьбу. Процесс расследования — это процесс борьбы за раскрытие и утверждение нравственного идеала. Вот тут-то и оказывается необычайно уместен наш предварительный «сговор» со зрителем — он включается в эту борьбу. Мы можем сделать его соучастником нашего хода от незнания к знанию, перебирать и отбрасывать варианты, возвращаться, начинать сначала (именно так, специфически телевизионно был построен фильм «Двенадцать разгневанных мужчин»).
Так что это — драматургия особого типа, и от режиссуры и актеров она тоже требует особого подхода. А поскольку актеру в таком телеспектакле не зажечься от привычного, он должен нажить, накопить в себе гражданскую заинтересованность, убежденность бойца. А иначе все будет холодно, формально, и, значит, не будет искусства, ибо документально-публицистический телевизионный театр существует только на точке идейно-нравственного кипения. Как только актер уходит в привычную игру чувств, он теряет документ, свое отношение к нему. А я сторонник того, чтобы в документально-публицистическом телеспектакле на первом месте был актер — его «зов» всегда дойдет до зрителя.
— И последний вопрос, возвращающий нас к вашей первой посылке. Вы говорили, чем публицистический спектакль-расследование, например ваш «Непобежденный узник» отличается от исторического фильма. Ну а что произойдет, если весь этот ваш спектакль снять на кинопленку и прокатывать в виде обычного фильма в обычном кинотеатре? Не исчезнет ли тогда та телевизионная специфика, о которой вы говорили?
— Видите ли, снять на пленку и прокатывать в обычном кинотеатре можно все на свете, но от этого «все» не превращается в факт киноискусства. Убежден, что зритель в кинотеатре мой спектакль не примет. Условия существования кинофильма (темный зал, масса публики, большой экран, определенный психологический настрой каждого пошедшего в кино и покинувшего свою квартиру) диктуют определенную форму художественного «игрового» кинофильма. Напротив, сидя дома, перед телевизором — источником разнообразной информации, этот же зритель, привыкший к репортажности, легко принимает и мой спектакль — репортаж о том, что думала группа актеров, разбирая дело о судьбе Чернышевского. Но, конечно, никакие «твердые» положения в наш век взаимопроникновения искусств, в век синтеза различных, еще недавно столь далеких друг от друга форм духовной жизни человека, невозможны.
КОМИССАР МЕГРЭ Жан Габен, Ефим Капелян
Детективный жанр переживает эпоху подъема. Откровенно говоря, на особо скудные времена ему вообще не было основания жаловаться, но сейчас везет как никогда. Чуть ли не каждый второй из выходящих на экраны фильмов — про разведчиков (а если не про разведчиков, то про следователей). Тонкие журналы с энтузиазмом, а толстые неуклюже-стеснительно публикуют остросюжетные романы с продолжением, написанные к тому же чрезвычайно современно, с обильным введением документального материала, с повествованием от лица многих героев в порядке живой очереди, с кинематографическими наплывами и театральным, почти брехтовским отчуждением. А в 1969 году в Баку состоялась целая конференция на тему о том, как писать детективные романы и сценарии; на ней выступали практики, так сказать, обоего рода — и те, что ловят преступников, и те, что об этом пишут. Впрочем, все то, о чем здесь говорилось, это, так сказать, чисто внешние приметы процветания жанра. А между тем в суматохе погонь, преследований, перестрелок и потасовок постепенно и незаметно появился тот герой, благодаря которому тайны преступления воспринимаются как тайны жизни вообще, а поимка злодея перерастает в нравственную проблему борьбы с извечным злом. Хотя, что значит — появился? Возродился — вот это точнее сказано, ибо в основе своей криминальный роман — явление народное, демократическое (это, кстати, отмечал Антонио Грамши); тема благородного разбойника или благородного сыщика — это ведь по существу все та же тема справедливости, понимаемая и трактуемая очень конкретно и очень чувствительно. Тут вполне уместно вспомнить, к примеру, и окраинные городские песни с их наивным, но искренним надрывом, и мелодрамы, которые при всей своей ходульности неизменно несли в себе заряд истинного и чистого чувства. Быть может, этого-то чувства не хватает подчас современному искусству — вполне интеллектуальному, ничуть не наивному, отражающему сложность нынешнего бытия, и все же лишенному порой непосредственной, заражающей широты переживаний. Всё полутона, всё штрихи, всё подводные течения. А вот вышел на наши экраны старый фильм Марселя Карне «Дети райка», и вы ощущаете, как терзает вам сердце великая и беспощадная правда искусства, сопряженная со всеми аксессуарами народной мелодрамы — с роковой женщиной, с несчастной любовью, с элегантным злодеем и богатым соблазнителем.
Однако это все, как писали в старых пьесах, «в сторону». Речь же идет о том, что всякий истинно популярный литературный сыщик (выражаясь современно, «комиссар» или «следователь»), — фигура во многом условная, даже если сам роман выдержан в манере максимально реалистической. Таковы, например, романы Сименона, в которых употреблены слова, лишь обозначающие конкретные понятия, и по которым можно изучать Париж не хуже, чем по самому подробному бедекеру.
Итак, литературный детектив условен не менее, чем какой-нибудь палладин — герой рыцарских романов, тех самых, что свели с ума бедного Дон Кихота. Впрочем, они же вдохновили его и на подвиги. По сути дела детектив ищет не просто следы преступника — истину ищет он, почти философскую, и сплетения человеческих судеб и драм интересуют его, как ученого интересует жизнь тропических джунглей, и зло карает он не столько от лица правосудия, сколько от имени простой справедливости.
Любопытна эволюция характеров знаменитых детективов. За точку отсчета можно взять Шерлока Холмса, натуру, которой не чуждо ничто человеческое — вспомним хотя бы любимую скрипку — и одновременно свойственны некоторые черты, решительно недоступные человеческому пониманию, — взять хотя бы невероятную способность к дедуктивному анализу. Условно говоря, у всех наиболее популярных коллег мистера Холмса (здесь, как и раньше, следует иметь в виду, что речь идет лишь о значительных произведениях, а не о потоке ремесленных сочинений) количество сверхчеловеческого, «суперменского» в характере резко убывает, в то время как количество черт сугубо житейских и всем нам понятных неукоснительно нарастает. Пастор Браун, Эркюль Пуаро при всех своих блистательных криминалистических способностях уже не производят на нас никакого фатального демонического впечатления. И, наконец, торжество простоты и обыденности — комиссар Мегрэ, воплощение народного здравого смысла, герой в комнатных туфлях, примерный семьянин, «папаша Мегрэ», «старина Мегрэ».
Жорж Сименон — писатель в высшей степени далекий от риторики. Он не позволяет своему герою никаких нравоучительных сентенций. И вообще комиссар Мегрэ не рассуждает, он делает свое ежедневное, довольно-таки хлопотное дело. Но странная вещь: этот спокойный, казалось, ко всему привычный, не склонный к морализаторству человек незаметно становится для нас едва ли не олицетворением справедливости. Не той, юридической, основанной на римском праве, но самой естественной, сразу понятной всем, существующей в каждом из нас еще со времен детских игр.
По романам Сименона снято много фильмов. Во многих странах мира существует еженедельная телевизионная передача, в которой комиссар Мегрэ, посасывая трубку, невозмутимо и неутомимо ведет свою «анкету» — следствие, выражаясь по-русски. Однажды провели даже слет актеров — исполнителей этой роли. Наиболее точными были признаны двое — Жан Габен, о котором говорить не приходится, и Альдо Фабрици, знакомый советским зрителям по роли полицейского в картине «Полицейские и воры». Актеры эти, разумеется, весьма разные, однако суть образа они ощутили одинаково: Мегрэ — естественный человек в этом искусственном «безумном, безумном» мире.
На нашем телевидении одна цикловая «детективная» передача — «Следствие ведут Знатоки». Но вообще телеспектаклей с криминальным сюжетом было немало, и многие из них оказались весьма неплохи, что объясняется, кроме всего прочего, удивительным соответствием детектива самой природе телевидения. Телевидение тяготеет к действиям локальным, к действиям не внешним, а, так сказать, внутренним, психологическим и оттого тем более интенсивным. Кто-то назвал знаменитую картину «Двенадцать разгневанных мужчин» идеальным фильмом для телевидения. Это справедливо. Расследование, которое ведут запертые в судебной комнате присяжные заседатели, лишено каких бы то ни было зримых эффектов, и, тем не менее, это удивительно захватывающее зрелище — зрелище борения мыслей и идей, которое оказалось не в пример интересней зрелища физической борьбы. Кстати, можно привести нечто вроде доказательства от противного.
Автору этих строк случилось смотреть одну из серий хорошего телевизионного фильма «Операция „Трест“» на киноэкране. Не то странно, что обилие статичных кадров, камерных сцен, которых дома просто не замечаешь, на этот раз утомляет, странно другое — острые диалоги, весьма нестандартные по мысли, да и по высказываемым фактам, не кажутся, когда сидишь в кинозале, столь уж значительными. Короче говоря, большому экрану трудно сосредоточить мир на двадцати квадратных метрах кабинета или гостиной, в то же время маленький экран как раз обладает способностью превратить одну комнату героя в модель мира, с его противоречиями и страстями. И потому самое интересное, что есть в настоящем детективе, — процесс догадок и умозаключений, процесс внимательного наблюдения и осторожных расспросов — становится на телевизионном экране не только зримым, но и концентрированным. Мы наблюдаем квинтэссенцию тайны и квинтэссенцию поиска. А значит — если нам по-настоящему повезет, то и квинтэссенцию социальных отношений. Для оправдания последнего вывода — вдруг кому-нибудь он покажется чересчур забористым — полезно вспомнить, что великий роман «Преступление и наказание» во многом родствен детективному жанру и что Порфирий Петрович, тишайший и душевнейший петербургский сыщик, первым догадался о том, что преступление Раскольникова — плод не злодейства, но многих и сложных общественных обстоятельств.
Так вот единожды нам, то есть телезрителям, повезло в высшей степени. Мы увидели на своем домашнем экране истинное произведение искусства, умеющее, как искусству и подобает, глубоко волновать и трогать. Мы увидели историю детективного поиска, способную мгновенно приковать наше внимание не дьявольскими перипетиями приключений, но безотказным действием логической мысли. Мы увидели события, за которыми открывались тайны, во много раз более страшные, нежели тайна одного уголовного дела, — сыщики неустанно преследуют преступников-одиночек, преступления в масштабах целого общества остаются безнаказанными, даже если их раскрывают.
Однако довольно иносказаний — речь идет о многосерийном телевизионном спектакле «31-й отдел», поставленном по роману шведского писателя Пера Вале на Ленинградской студии телевидения режиссером Ю.Аксеновым. Жанр романа, напечатанного у нас журналом «Молодая гвардия», — социальный детектив, или, скорее, социальная фантастика. А вернее — то и другое вместе. Автор прослеживает тенденции развития буржуазного общества в сфере духовной культуры. К этим тенденциям он относится резко критически…Уже через две-три минуты вы понимаете, что дело серьезное, уже сама среда интерьера неподдельна и безусловна, уже сам исполнительский стиль отмечен той высшей, чрезвычайно выразительной естественностью, которая несомненный признак высокого актерского профессионализма. Все актеры из одного театра — из Ленинградского Большого драматического имени М.Горького. Е.Копелян, О.Басилашвили, В.Стржельчик, Н.Трофимов, М Волков, Л Макарова, 3.Шарко. Имена громкие. Однако само по себе это еще ни о чем не говорит. Важнее другое: несомненно, что для всего этого актерского коллектива работа над телеспектаклем не была временным явлением, она была частью их главного в жизни общего дела, подчеркиваю, общего, то есть связанного с именем, школой и знаменем их театра, известного и в своей стране и в Европе.
Чуть забегая вперед, совершенно необходимо сказать о том, что отношение товстоноговцев к телевидению — это просто образец творчества, которому всякая новая возможность, всякое новое поприще чрезвычайно полезны. То, что сделали актеры Большого драматического на телеэкране — несомненная ценность нашей художественной культуры, ценность столь же очевидная и бесспорная, как и те знаменитые театральные спектакли, о которых уже написаны сотни статей и десятки монографий. Во всяком случае, если составлять послужной список достижений Ефима Копеляна, то роль полицейского Иенсена безусловно и с полным правом может проходить по разряду настоящих вершин, превосходящих к тому же иные сценические и кинематографические пики. Это была роль, определившая успех всего спектакля. Задавшая ему тон. Ставшая ключом к пониманию социального замысла и романиста и режиссера.
Итак, комиссар шестнадцатого участка Иенсен. Он смотрит на вас с экрана. Смотрит и молчит. Он вообще почти всегда молчит, что оказывается весьма кстати в его профессии полицейского — его молчание озадачивает людей, и потому они хотят высказаться до конца, чтобы быть понятыми, чтобы избежать недоразумений, чтобы все стало ясно, — комиссар Иенсен умеет слушать. Так вот он молчит и смотрит на вас — взглядом долгим и протяженным, как хорошо взятая певцом нота; этот взгляд, в отличие от самого комиссара, весьма красноречив, он говорит об одиночестве, о жизни по инерции, о привычке ничему не удивляться и о той неистребимой человечности, которая выжила несмотря ни на что — несмотря на профессиональную обязанность копаться в мерзостях и механический стереотип бытия с его обилием кнопок и переключателей.
Комиссар Иенсен получает сложное дело. Сложное и щепетильное, поскольку объект действия — не какая-нибудь ограбленная галантерейная лавка; нет, дело касается кругов, по расхожему выражению, интеллектуальных: самому большому в стране журнальному концерну, издающему сто сорок четыре иллюстрированных еженедельника, занимающему самый большой в стране, огромный, как город, тридцатиэтажный дом, — этому концерну угрожает аноним. Он предупреждает о том, что в здании заложена бомба с часовым механизмом. Невинные не должны пострадать. Все необычно в этом деле, все кроме самой угрозы, быть может, выдержанной в достаточно нарочитых, словно бы из криминальных романов вычитанных выражениях. Иенсена в этой столь непривычной и неудобной обстановке — не забудьте, что в последнее время он занимался в основном пьяницами, пьянство в этой благополучной стране — национальный порок и преступление — спасает, как ни странно, стереотип его полицейского поведения.
Комиссар шестнадцатого участка делает то, что он обязан делать: ходит, смотрит, встречается с разными людьми, задает вопросы; словом, в этой странной среде машинизированных идей и запрограммированных чувств Иенсен остается нормальным человеком, способным нормально удивляться и нормально любопытствовать. Нормально наблюдать. Это основная функция комиссара на экране, и в ней Копелян добивается исключительной психологической точности и достоверности. Это ведь лишь сначала кажется, что наблюдательность комиссара профессионально бесстрастна: через некоторое время мы уже понимаем, сколь сложные чувства томят Иенсена, они приходят друг другу на смену, они противоречат друг другу и, что хуже всего, противоречат послушной полицейской добросовестности, — а ведь рождены-то они на свет как раз в процессе педантичного хладнокровного следствия.
Самое замечательное в том, что вся эта нарастающая гамма противоречий показана нам как бы исподволь, точнее сказать, мы догадались о ней, ибо артист ничего не играл — ни терзаний, ни смятений — он четко выполнял конкретные задачи, а мы наблюдали за ним, постигая постепенно, какой кризисный перелом совершается сейчас в душе полицейского чиновника, привыкшего повиноваться «высшему» порядку вещей. Вот Иенсен изучает журналы концерна, огромную пачку отлично изданных глянцевых еженедельников, и во взгляде его, долгом и внимательном, медленно возникает разгорающееся недоумение: эти журналы при всем своем внешнем блеске совершенно безжизненны, они стерильны, как марля или гигиенический раствор. Ни крупицы мысли, ни тени сомнения, ни грана того, что может вызвать какие-либо активные чувства. Вот Иенсен ждет, пока один из шефов концерна (его играет Олег Басилашвили) выпишет ему временный пропуск, и снова в глазах полицейского мелькает странная догадка: он понял, что человек, в руках которого вся печатная продукция страны, страдает самой пошлой алексией — проще говоря, не способен логически связать на бумаге трех слов. А вот комиссар шагает по бесконечным коридорам концерна, по бесчисленным кругам этого автоматизированного ада, здешний Вергилий — охранник, вопреки традиции крадется сзади, и взор комиссара, по-прежнему протяженный и непрерывный, отмечен предчувствием того, что в «Датском королевстве», очевидно, кое-что не так, ибо в 31-й отдел, упоминавшийся в разговоре, оказывается, не ведет ни одна дверь.
Я уже говорил, что все провода спектакля «замкнуты» на Копеляне. Практически это значит, что он на экране всегда. Что он держит в руках концы всех сюжетных нитей. Что он — то самое увеличительное стекло, с помощью которого мы рассматриваем узлы и сцепления странного и безумного мира… Такая задача сама по себе очень сложна, стоит один раз потерять ритм — и никакая интрига сюжета не спасет представление от вялости и лени. Однако такая великолепная четкость и собранность, сделавшие бы честь любому актеру, для Копеляна разумеются сами собой, он идет значительно дальше — он достигает поистине габеновской безусловности, достоверности состояний, и в этом, быть может, главная эстетическая ценность спектакля: один лишь вид этого озабоченного, озадаченного человека доставляет вам высокое наслаждение. Потому что мы наблюдаем жизнь человеческого духа. Оказывается, это самое поразительное на земле зрелище. Ибо, постигая чужую душу, мы познаем свою — в этом замечательное чудо искусства и его необыкновенная притягательная сила.
Я уверен, что в способности активно переживать искусство всегда есть нечто детское — наивное и одновременно трогательное: вы видите человека на вашем малом экране, вы следуете за ним по пятам, и вот в какой-то момент бессознательно и по-детски безоглядно вы начинаете отождествлять себя с этим человеком. Его сомнения становятся вашими, а впрочем, быть может, наоборот, это вы наделяете его своими мыслями, его элегантно завязанный галстук кажется вам вашим собственным галстуком, и вообще эту обаятельную романтическую усталость вы ощущаете сейчас на своем лице.
Так бывает не часто. Потому что одного лишь лицедейского таланта мало актеру для того, чтобы зритель невольно ощутил себя на его месте, — тут нужна особая мера подлинности и особое умение привлекать сердца.
Ефим Копелян — актер очень человечный. Он не улыбчивый «шармер», не простодушный добряк, он, скорее, суров и озабочен, но в его озабоченно сведенных бровях заметно серьезное отношение к жизни, то самое, жить с которым труднее всего. А каждая морщина говорит о том, что долгие думы оставляют на наших лицах весьма зримые следы.
Тут уместно, быть может, позволить себе небольшое отступление на тему о сегодняшнем понимании актерского обаяния. Вкратце следует сказать так: экранные критерии во многом приблизились к реально житейским. Представьте себе, что на вашем телеэкране в качестве героя спектакля предстанет Рудольфе Валентино. Боюсь, что этот роковой красавец, сводивший с ума наших бабушек, не удостоится ваших симпатий. Он покажется вам просто смешным — со своим сверкающим, как крышка рояля, зачесом, с гладкими щеками и отрешенным взором черных очей. И напротив, актер, в лице которого отразились как будто бы все тревоги и заботы нашего сложного века, невольно располагает к себе. Эстетика безмятежных красавцев вызывает насмешки (режиссеры, не понимающие этого, попадают со своими героями впросак). Сердцами владеет эстетика людей беспокойных, озабоченных, внутренне богатых и непростых.
Таков комиссар Иенсен Копеляна — он ничем как будто бы не выдает того, что накипело на душе у него, но такая ненарочитая, естественная значительность не может возникнуть сама по себе, она следствие напряженной и сложной душевной организации. По долгу службы он задает людям лишь строго необходимые вопросы. Но по праву человека, верящего в простые и вечные ценности, он не может оставаться лично беспристрастным и потому по поводу каждого своего собеседника вырабатывает сугубо личное, не зависящее от следствия мнение. Все эти собеседники — объективно подозреваемые. Они бывшие сотрудники концерна, уволенные с большим или меньшим почетом в отставку и получившие при этом роскошно отпечатанный благодарственный диплом. (Это, между прочим, и есть основная улика — угроза была написана вырезанными из газеты буквами, наклеенными на лист великолепной бумаги верже.) Комиссар навещает каждого дипломированного экс-сотрудника, и в момент их недолгой беседы мы неожиданно привыкаем смотреть на подозреваемого глазами следователя. И сопоставлять факты мы тоже начинаем сами, разные факты — и мелкие и значительные; они пока что не наводят нас на след грозившего, но наводят на мысли о преступлении куда более страшном, нежели эта экзальтированная угроза.
Официально подозреваемые — люди совершенно разные. Мужчины и женщины, старики и молодые. В обстановку мы попадаем тоже самую разнообразную: тут и респектабельные буржуазные квартиры и безвкусные модные салоны, и уютные писательские кабинеты и беспорядочные холостяцкие студии, отмеченные, впрочем, некоторым богемным изяществом. Но поразительная вещь — меж этими совершенно непохожими людьми комиссар Иенсен, а вслед за ним и мы, обнаруживаем несомненное сходство. Ну что, казалось бы, общего между полупомешанным алкоголиком (Н.Трофимов) и почтенным обеспеченным пенсионером (В.Панков), между стареющей кокоткой, продавшей сильным мира сего все, что только можно продать (Л.Макарова), и «сердитым» молодым человеком (М.Волков)? Общее одно — полная духовная опустошенность, состояние выжатого лимона, умело выжатого и выброшенного потом без лишних сантиментов, хотя и с соблюдением необходимых условностей.
Иенсен мало говорит, однако замечает он многое. Он замечает, например, что при всей своей озлобленности и циничной браваде «сердитый», молодой человек, готовый признать себя виновным, виновен отнюдь не в шантаже и угрозах. Он виновен в том, что вне юрисдикции, — в душевной слабости, в том, что столь популярная и лелеемая «рассерженность» оборачивается элементарным безволием и неспособностью бороться. Алкоголик виноват лишь в том, что он алкоголик. Это тоже преступление, как мы уже знаем, но к угрозе взрыва оно не имеет никакого отношения. Разве то лишь, что в концерне, которому угрожали, в концерне — символе просперити и счастья — очень много тайных алкоголиков. Бывшая редакторша журнала виновна в том, что продажная тварь, существо невежественное, подлое и низкое. Что же касается закона, то перед ним она чиста — как может она грозить концерну, если сама она — его чудовищное порождение, куртизанка, пишущая о нравственности, редактор, еле разбирающий по-печатному.
Истекает отпущенный на следствие срок. Остался один день, а возмутитель спокойствия все еще не найден. Между тем руководители этого замечательного предприятия отнюдь не настаивают на поисках. В кабинете Иенсена время от времени раздается голос его шефа, предупреждающий о том, что нужно или поймать немедленно злоумышленника или же немедленно прекратить «анкету». Этот голос звучит, вероятно, по обычной селекторной связи, и тем не менее он воспринимается как некий потусторонний, бесплотный глас свыше, такова уж атмосфера этого стерильного мира — этих пластиковых коридоров с неоновым освещением, этих одинаковых улиц, похожих на коридоры, этих холодных, как аптеки, ресторанов, где почти вся пища искусственная, и этих пустых одиноких вечеров, когда забыться помогает лишь стакан спирта, выпитый под одеялом. Весь мир сделался искусственным. Не только одежда, не только еда, не только культура. Вот почему самый старый допинг — алкоголь кажется естественным и необходимым как солнечный свет.
Телевизионные выразительные средства, как правило, скупы и скудны. Однако в этом спектакле достигнута единая пластическая форма, очень соответствующая не только букве, но и духу зрелища. Белые длинные коридоры, пластиковые поверхности столов, стеклянные объемы, лица, показанные крупным планом на фоне больнично светлых стен, и, наконец, повторяющийся время от времени вид здания, фосфоресцирующего, излучающего молочный свет, — все это создает обстановку двойственную и странную — налаженность быта сопряжена здесь с его катастрофичностью, изобилие оборачивается нищетой. Эта атмосфера обусловлена и стилем актерской игры: люди, возникающие на экране, вполне «узнаваемы» человечески, но вдруг в какую-то секунду они начинают казаться персонажами странно-фантастического театра, то ли роботы действуют в нем, имитируя людские характеры и страсти по заранее заданной программе, то ли материализовавшиеся фантомы, лишенные, тем не менее, истинных человеческих желаний, от которых остались одни лишь тени.
Только комиссар Иенсен безусловен. Он живой человек в мире манекенов и роботов. В мире духовно стерилизованных призраков он единственный, у кого в жилах горячая кровь. И потому его охватывает вдруг ощущение затравленного волка. Не тривиальный страх, но страшная тоска, унылая, гнетущая, долгая. Словно не люди кругом, а сплошные красные флажки. Каждый человек — знак опасности, символ того, что тебя со всех сторон обложили, и выхода нигде нет.
До конца следствия остается один день. И вот тут комиссар Иенсен находит живого человека. Вернее сказать, находит виновного и встречает человека, одержимого идеей сохранить «душу живу» и готового ради этого на все — на безрассудство, на мальчишество, на жест, лишенный практической логики, но исполненный высокого идеального смысла. Этого человека играет Владислав Стржельчик. Он сидит в своем кабинете — вот где ничего стандартного, но все подчеркнуто индивидуально, — так сказать, островок культуры элитарной среди океана культуры массовой — усталый, небрежно элегантный, утонченно скептический и неожиданно по-детски уязвимый, отчаявшийся, изверившийся, не сумевший отгородиться от мерзостей жизни ширмой модного иронического скептицизма. Он — преступник, ибо именно он отправил в адрес руководителей концерна письмо, содержащее угрозу взрыва («Умеете ли вы пользоваться взрывными механизмами?» — спрашивает комиссар. «Я не сумел бы даже починить электропроводку», — отвечает журналист). Он — жертва. Ибо в течение многих лет его, а вместе с ним всех лучших публицистов страны — самых образованных, наиболее конструктивно мыслящих, в высшей степени талантливых и смелых — медленно и планомерно убивали. Убивали способом, поистине иезуитским, разрушая интеллект, уничтожая движения души, обрекая на труд, в буквальном смысле сизифов — бессмысленный и бесконечный.
Так комиссар шестнадцатого участка Иенсен обнаружил истинных злодеев. По отношению к хозяевам концерна это определение не звучит преувеличенно. Ибо убийство мысли, запланированное ими, давно совершалось с палаческим хладнокровием. А также с замечательным чисто техническим размахом.
На тридцать первом этаже, куда не ходят лифты, и куда не ведет ни одна нормальная лестница, помещался лучший журнал страны. Журнал, в котором работают лучшие журналисты — лучшие умы и лучшие перья. Журнал, для которого пишутся самые интересные статьи, радикальные, критически окрашенные, полные гражданского темперамента и политической воли. Журнал, у которого нет ни одного читателя, ни одного в буквальном смысле. Именно в этом суть злодеяния. Блестящие интеллектуальные силы страны, неподкупные души и сердца, не склонные к конформизму, специально сконцентрированы в одном месте. Сконцентрированы обманным путем, опутаны сетью условий и договоров. Сконцентрированы для того, чтобы правящая финансовая плутократия могла в зародыше душить любую нестандартную мысль, каждую беспокоящую новость, всякое искреннее и сильное чувство. Пишутся статьи, рисуются макеты — журнал не выходит. Генератор идей и общественного мнения работает вхолостую.
В самых лучших детективах, подойдя к развязке, мы испытываем легкое разочарование — разгаданные тайны выглядят обыденно и просто. Произведение Пера Вале — особый случай. Здесь разгадка страшнее всех предыдущих тайн, да и озадачивает она больше. Литературный сюжетный парадокс превращается в парадокс социальный. Ощущение криминальной опасности сменяется ощущением опасности политической. Поиск комиссара Иенсена с самого начала был ограничен, он содержал в себе собственное отрицание. Вернее, отрицание той полицейской системы, силами которой он был предпринят, отрицание того общественного строя, который призвана охранять система. Иенсен предчувствовал это. Однако, верный своему полицейскому долгу, старался не обращать на это внимания. Одинокий бунт отчаявшегося журналиста тоже был с самого начала обречен, и он тоже понимал это, но просто не мог поступить иначе, нельзя было больше терпеть, необходимо было хоть какое-то решительное действие.
Оба потерпели поражение. Арестован журналист, ушел в отставку комиссар Иенсен. Но здание концерна все же взлетает на воздух. Это должно действовать оптимистически, должно вселять надежды в неистребимость человеческого протеста, в невозможность примириться с конформизмом муравейника, даже если муравейник этот элегантен и сооружен из современнейших материалов. И, тем не менее, не эта нота возмездия, на которой оканчивается телеспектакль, — точно так же как и роман, по которому он поставлен, — остается в памяти. Остается тот процесс поиска, который позволил нам пройти по некоторым кругам буржуазной цивилизации, поданной в своем логически завершенном виде. Этот поиск лишь казался поиском преступника, на самом деле он был поиском утерянной человечности! Утерянной среди автомобильных страд, среди алюминиевых стен небоскребов, среди синтетических благ и автоматизированного буржуазного благополучия. Остается логичность действия, развивавшегося с энергией выпрямляющейся пружины. Остается калейдоскоп характеров, намеченных остро и глубоко.
Остаются глаза потерпевшего крах, а быть может, и победившего комиссара Иенсена — Ефима Копеляна, глаза, глядящие на вас серьезно и грустно, ищущие поддержки и понимания.
Театр и телевидение — вечное родство! Ю.Аксенов
— Почему Вы выбрали этот роман? Что в нем телевизионного?
— Да все! «Гибель 31-го отдела» шведского писателя Пера Вале — прежде всего острейшая постановка проблемы духовной жизни. Причем, автор рассматривает духовный мир человека в нескольких ракурсах — и в столкновении его с обществом с полновластием техники, машин, в атмосфере ужасающей разъединенности людей, в ситуации, когда человек избегает человека, когда законы человеческого сообщества исчезают, и на смену им приходят (или возвращаются) законы чисто биологические. А острый, глубокий, крупным планом показ духовной жизни человека — это и возможность и обязанность телеспектакля.
Для того чтобы воссоздать свои коллизии, Пер Вале изобретательно переносит действие своего романа в недалекое будущее одного из капиталистических государств. То есть он избирает жанр социальной фантастики. Многие явления, приведшие героев Вале к духовному распаду, в своем зачаточном или вполне развившемся состоянии существуют и в современном мире. Показывая средствами социальной фантастики, к каким катастрофам могут привести людей эти явления, Пер Вале наносит сильный удар окружающей его социальной действительности. Все это и привлекло нас, дало участникам телеспектакля точную идейную направленность, определило гражданственность и современность в нашей работе, чисто художественные мотивы и приемы ее.
— Насколько жанр детектива мешал или помогал осуществлению ваших замыслов?
— Все дело в том, какой детектив! Сюжет романа представляет собой высочайшего уровня детектив. Его замечательная особенность в том, что каждая из нитей криминальной интриги, распутываясь, разрешается эпизодом социально-драматическим. А социальная драма, возникающая «обратным ходом» через детектив, делает произведение Пера Вале многоплановым и как бы многомерным и, по существу, превращает его в антидетектив. А крайне напряженная фабула помогает построить спектакль ритмически остро.
— Вы работаете в театре. В каких отношениях находятся сегодня театр и телевидение?
— Да, я — театральный режиссер. R приношу на телевидение свой опыт театра. Известно, что телевидение — я имею в виду сейчас создание собственно телевизионных спектаклей — многое получило от театра и кинематографа и нащупывает сейчас свою специфику. Но мне кажется, что никогда телевидение не обособится настолько от своих старших собратьев, чтобы между ними можно было бы провести непроходимую границу, чтобы можно было сказать: что по эту сторону — театр, а что по ту сторону — телевидение. Наш век — не время границ, а, скорее, время синтеза в искусстве. Театр и телевидение — их родство вечно!
— Следует ли отсюда, что телевизионная режиссура — дело пока сугубо эмпирическое?
— Совсем нет! В нашей телевизионной режиссуре уже много истинных мастеров, работы их заслуживают пристального исследования. Но уровень телеспектакля, мне кажется, определяется сегодня в первую очередь не тем, насколько его создатель мыслит «телевизионно» или «нетелевизионно», а уровнем его мышления вообще, его художественной культурой, классом его собственной художнической личности. Мой учитель Г.А.Товстоногов со студенческой скамьи требовал от нас, будущих режиссеров, выработки в себе умения видеть произведение глазами автора, т. е. глазами автора видеть окружающий мир. У каждого писателя свой мир — это истина древняя. В этих мирах разные дома и деревья, люди мудры и ироничны или доведены до слепой ненависти, до отчаяния; любуются цветком или забыли о бескрайнем небе и мириадах звезд; мебель будто бы созданная для смешных недоразумений или окна незрячие и мертвые, как тюремная безысходность. Все в этих мирах разное. Но внутри каждого все едино и цельно — и люди, и вещи. Постараться увидеть это и понять, и в силу своих способностей и умения выразить, а в телеспектакле это выразить надо средствами телевидения — вот, вероятно, первая задача режиссера. Отсюда выбор приемов и средств и телеспектакля — от подбора актеров до стилистики и ритма монтажа, и меры условности декораций.
— А почему для участия в телеспектакле вы пригласили актеров лишь одного театра? Это принцип?
— Исполнители в телеспектаклях, которые мне приходилось ставить, действительно артисты только одного, нашего театра, Ленинградского Большого драматического театра имени Горького. Это оправдано для меня прежде всего тем, что на мою работу и работу артистов на телевидении целиком распространяются принципы, положенные в основу нашего театра его художественным руководителем Г.А.Товстоноговым. Этим принципам артисты нашего театра стремятся быть верными в любой своей работе на телевидении, в кино, с любым режиссером. А успехи на телевизионном экране таких мастеров, как Е.Копелян, Е.Лебедев, B.Стржельчик, 3.Шарко, Э.Попова, C.Юрский, может быть, еще одно доказательство родства телетеатра с обычным театром. Может сложиться впечатление, что я настойчиво пытаюсь отрицать специфику телеспектакля. Нет, она существует, эта специфика. Я лишь за то, чтобы осмыслить ее через острые, дерзкие и значительные спектакли телетеатра, а не через поспешность теоретических предположений. Я телевидение люблю как зритель, многому научился у него как режиссер театра. В работе на телевидении порой получаю большое творческое удовлетворение (конечно, в некоторой зависимости от результата). Самое привлекательное здесь — синтез современного искусства и современной техники. А самый ценный дар телевидения, на мой взгляд, прекрасно сформулировал Владимир Саппак: «Телевидение… утверждает значение человеческой личности, свободу и непосредственность ее выявления, новый, интимный характер ее контактов с широкой общественной средой». И вот это, мне кажется, в большей степени может быть отнесено к качественным особенностям телетеатра.
ВОСЛЕД УШЕДШЕМУ Е.Полякова
Эта пьеса, написанная специально для телевидения, являет собой пример прекрасного и в то же время не пунктуального профессионализма: она идеально «ложится» на экран, весь образный строй ее совпадает именно с новым, самым молодым видом искусства. В то же время Пристли, много работающий для телевидения, абсолютно знающий его технику, не собирается по мелочам опекать режиссера и оператора и честно предупреждает их: «Чтобы постановщик мог по своему усмотрению составить режиссерский сценарий, я преднамеренно опустил все указания оператору (затемнения, наплывы, перебивки и другие), хотя у меня есть на этот счет собственное мнение». Этот сценарий интересно ставить. Ставить так, как он написан, в хороших традициях психологической «семейной» драмы, хранящей и умножающей культуру точного, легкого, чисто английского в этой своей легкости и афористичности диалога. Перенести на экран реальность жизни провинциального городка Северной Англии. Найти актеров, которые корректно и достоверно сыграют обитателей провинции и неожиданных приезжих из столицы. А главное — найти актера на центральную роль.
Режиссеру Сергею Алексееву все это удалось. Он сделал неторопливый спектакль, воссоздающий атмосферу жизни захолустного города со старинными домами, с улицами, поливаемыми дождем, с неуютной гостиницей, в которой останавливаются только неудачники, опоздавшие на поезд. Режиссер занял в фильме прекрасных актеров Художественного театра — П.Массальского, И.Гошеву, А.Георгиевскую, В.Муравьева, С.Блинникова, К.Головко и других; они верно и тактично играют врачей, сиделок, репортеров, железнодорожников, дельцов, гостиничных служителей. А главное — режиссер безошибочно нашел актера на центральную роль. Ее играет Юрий Кольцов, актер достаточно известный, чтобы его представлять. Актер, без которого как-то и не мыслился Художественный театр наших дней — театр, где в 30-х годах началось то, что называется творческим путем артиста. Кольцова сразу заметила и отметила критика, когда в знаменитом спектакле Немировича-Данченко «Враги» он сыграл молодого рабочего, готового пожертвовать собою ради общего дела: «Нам надо цепью, крепче друг за друга»… Тогда казалось — так хорошо начавшаяся жизнь молодого актера пройдет вся в этом театре.
На деле Кольцову пришлось надолго расстаться с МХАТ и вернуться туда лишь много позже. Но, вернувшись, Кольцов сразу же снова стал в театре «своим», только не подающим надежды молодым актером, а актером-ровней лучших мастеров МХАТ. Он сохранил тот действенный гуманизм, то внимание к людям и веру в людей, которую завещал своим ученикам Станиславский. Значителен был его профессор Полежаев из «Беспокойной старости», совершенно непохожий на знаменитого черкасовского героя, но остающийся гениальным ученым и депутатом революционной Балтики. Умен и вкрадчив его отец Серафим из спектакля «Все остается людям» — священник, взявший на себя неблагодарнейшую задачу спора с ученым-атеистом. В лучшую сцену мхатовского спектакля «Дворянское гнездо» превратилась ночная беседа Лаврецкого с Михалевичем: в Ростове актер играл Лаврецкого, здесь он был бедняком-разночинцем, который ведет «один из тех нескончаемых споров, на который способны только русские люди» — спор о судьбе России и ее граждан. Людей высокого интеллекта и пристального внимания к жизни умел играть Кольцов, процесс мысли героя умел он воплотить естественно и ненавязчиво. А на этом высоком интеллекте, на любви к жизни и внимании к ней построил Пристли центральную роль своей пьесы.
Поезд подходит к маленькой станции; одинокий пассажир сидит в вагоне, закрыв глаза, — он то ли дремлет, то ли потерял сознание. Проводник осторожно заглядывает в купе: «Я прихвачу ваш чемодан, сэр»; пассажир открывает глаза: «Прихватите-ка заодно и меня»… Проводник помогает ему выйти из вагона. Он устало садится на скамью — неуютную скамью перрона, возле которого редко останавливаются поезда. Почему он заехал в тупик, в город Скруп, к кому приехал? Пассажир не может даже объяснить этого. Но так как сразу видно, что он не бродяга и не горемычный бедняк, то его отвозят в гостиницу, вызывают врача, который определяет, во-первых, что неизвестный очень болен, и, во-вторых, что он достаточно известен — это Саймон Кендл, знаменитый художник, исчезновением которого обеспокоены и родные, и пресса, и самые влиятельные круги.
На протяжении всего действия, целых двух серий, Саймон Кендл лежит в постели, в бедном номере гостиницы: ворот белой рубашки расстегнут, из-под легких седых волос смотрят неожиданно ясные глаза. Старый больной человек. Что можно рассказать об очень старом (ему 82 года), об очень больном (он умирает) человеке? Тем более, что нам не показывают его картин и мы на слово должны верить в гениальность художника, тем более, что в спектакле нет модных и, казалось бы, необходимых здесь «наплывов» — зримого возврата к прошлому Кендла и к миру, каким был он в начале нашего века. На экране — постель, простыни, белая подушка. Лицо и руки, руки и лицо. Часто приближенные к нам крупным, самым крупным планом. Всегда выдерживающие это трудное испытание, потому что каждое мгновение жизни Кольцова на экране исполнено абсолютной правды.
Автору, Д.Б.Пристли, хотелось бы, чтобы его герой «был похож на короля Лира или на стариков Блейка, но пусть актер сам решает, что ему больше подходит». Русский актер воспользовался умной снисходительностью, вернее — доверием автора, он действительно «сам решил» не только внешность героя, но основы его характера, который превратился на экране в характер настолько реальный и самостоятельный (при точном следовании авторскому замыслу), что Кендл Кольцова воспринимается и вспоминается впоследствии как человек, с которым довелось, вернее — посчастливилось встретиться. Его Кендл не вызывает никаких, пусть самых возвышенных (король Лир!) ассоциаций, хотя, конечно же, тема яснополянского ухода и смерти в случайном прибежище лежала где-то у истоков авторского замысла и актерского решения (недаром возраст героя равен возрасту Толстого). Причем ведь, когда читаешь пьесу Пристли (она опубликована в 1958 году журналом «Иностранная литература»), то отчетливо ощущаешь традиционность многих ее мотивов: самое «странничество» героя, борьба за его наследство, финальное торжество невинной души — бескорыстной и самоотверженной внучки, которой дед отказывает наследство, одновременно соединяя ее с симпатичным молодым человеком.
В характере самого Саймона Кендла, в его манере говорить, да и во всех окружающих много тех конкретнейших черточек, безошибочных примет англичан 50-х годов, которые почти невозможно ни уловить, ни передать режиссерам и актерам иной страны. Конечно же, разница речи северян-провинциалов и приезжих лондонцев, на которой так настаивает, которую так подчеркивает автор в ремарке, не существует в исполнении актеров-москвичей. В то же время создатели спектакля, в первую очередь Юрий Кольцов, словно размыкают сюжетные ситуации пьесы, как бы смотрят на них со стороны, с более высокой и в то же время более реальной точки зрения, чем сам автор.
Кольцов, как ему положено по роли, искренне обеспокоен судьбой любимой внучки, которая откровенно не любит своего отца, преуспевающе-делового сэра Эдмунда, но старается не вспоминать и о том, что прадед ее был просто каменотесом. Герой Кольцова заботливо устраивает счастье Фелисите и молодого инженера, вписывая их имена рядом в свое завещание: «Они делают вид, что терпеть друг друга не могут, оба они снобы, ни на минуту не забывающие об общественном неравенстве, как и многие англичане, а мое завещание выбьет из них всю эту дурь… Не успеют они оглянуться, как уже будут женаты».
Так достаточно тревожная, старинная и в то же время вовсе не ушедшая из британской современности тема сословной, имущественной отчужденности молодых людей словно озаряется идиллическим отблеском диккенсовского камина, возле которого все сердца устремляются к добру. Но актер Кольцов словно бы чуть-чуть ироничен в этой сцене: слишком уж легко решает здесь автор большой и больной вопрос, слишком невероятна случайность, сближающая Фелисите с сыном хозяина гостиницы. Правда, старший сын художника, тот самый сэр Эдмунд, написан Пристли (и сыгран В.Давыдовым) беспощадно, да и к другим традиционным темам писатель подходит без успокоительных иллюзий, а Кольцов еще углубляет их общечеловеческую и одновременно реальнейшую социально-историческую основу.
Скажем, борьба за наследство — исконный сюжет мирового театра от французских фарсов, где жена приплясывает, узнав о смерти богатого муженька, до сугубо русской «Смерти Пазухина», где законный наследник также пускается вприсядку под иконами. Первоначально кажется, что именно этот мотив дележа добычи и ссор из-за наследства лежит в основе спектакля «Теперь пусть уходит». Но оказывается, дети и внуки Кендла, приехавшие из Лондона в Скруп, вовсе не напоминают стаю коршунов, где каждый норовит урвать добычу пожирнее. Дочь — слабовольно-женственная, приверженная к самым крепким напиткам, вовсе не стремится растолкать других наследников — она лишь беспомощно наблюдает за происходящим да заказывает двойные порции джина; ее сын — развинченный юнец, сочиняющий какие-то двусмысленные куплеты и сценарии, явно нуждается в нескольких десятках фунтов, но сотни тысяч для него абстрактны; внучка вообще пошла в деда — она бескорыстна, умна, независима, обладает чувством юмора.
Здесь борется не родня между собой, но лишь умирающий художник со своим сыном-дельцом, которого волнует не только реальная стоимость отцовских картин (хотя он отлично знает их рыночную цену), но и более тонкие обстоятельства, связанные с отцовским наследством. «Я должен стать достоянием Нации, чтобы ко мне водили экскурсии — два шиллинга за вход», — иронизирует сам художник. Но то, что для него — предмет иронии и отчуждения, составляет действительно мечту и цель сына. Эдмунда привлекают и сами реальные ценности и, так сказать, духовные купоны, тоже переходящие во вполне материальные выгоды.
Сэр Эдмунд мечтает, чтобы покойный отец (он уже реально и бестрепетно видит его покойником) действительно стал достоянием Нации, чтобы почтительные экскурсоводы, показывая его картины туристам, сообщали, как предан был художник Британской империи, как выражал ее идеи, как завещал национальным музеям свои работы, дополненные затем дарами безутешного сына. А так как живой, строптивый Саймон Кендл никак не хочет превращаться в такого Благонамеренного Гения и даже бежит из дому, сын не останавливается перед распространением слухов о возможном безумии отца. Поэтому предприимчивого наследника окружают не предприимчивые родственники, но дельцы, адвокаты, знаменитый столичный врач, с сожалением разделяющий предположение сэра Эдмунда о старческом слабоумии. Поэтому «синдикат», составленный Эдмундом, это не старомодная семейная сплоченность детей и племянников, но сила гораздо более мощная и безликая — союз дельцов, вполне беспощадных и в то же время достаточно корректных, чтобы безукоризненно пристойно, с полной почтительностью к художнику объявить его не отвечающим за свои действия (он прожил такую долгую жизнь, джентльмены!) и нуждающимся в опеке (подумать только — сбежал из дому! Пропал багаж — картины стоимостью в сотни тысяч фунтов!).
Внизу, в баре толкотня, репортеры заказывают джин и виски, стоят в очереди к телефонам — передают сообщения о здоровье Гения, которые тут же появляются в газетах среди других сообщений: «В Алжире французские войска ликвидировали банду мятежников»… «В своей речи в Манчестере премьер-министр»… Наверху тишина, сиделки, больной. Он слушает, как хозяин сердито кричит в баре: «Время закрывать!» — и комментирует, словно бы улыбаясь: «Я думал, ко мне идет Время. Я слышал, как его призывали»…
«Больного окружали немногие вещи — лекарство, ложка, свет, обои. Остальные вещи ушли. Когда он понял, что тяжело заболел и умирает, то понял он также, как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его власти. С каждым днем количество вещей уменьшалось. Такая близкая вещь, как железнодорожный билет, стала для него невозвратимо далекой… Уже ускользнул из власти его коридор, и в самой комнате на глазах у него прекратилось значение пальто, дверной задвижки, башмаков. Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи»…
Это рассказ Юрия Олеши о смерти человека в большой коммунальной квартире, где на кухне гудят примусы, и соседский мальчик вбегает в комнату умершего с радостным криком: «Дедушка! Дедушка! Тебе гроб принесли!» Саймон Кендл, конечно, не слышит гула примусов и песен соседей, но для него тоже исчезают навсегда вещи, потом люди, и приходит то, что умели воплотить немногие писатели и почти не умели изобразить актеры театра. В мировой литературе сильнее всех и проще всех описал смерть Лев Толстой. Смерть Ивана Ильича, который три дня кричал: «„У! У-у! У!“ — и крик этот так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его». Смерть Андрея Болконского, который «испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной, и странной легкости бытия». Но кроме этого, кроме одиночества, толстовского неодолимого «арзамасского ужаса», было ведь и спокойно прекрасное угасание старого Джолиона Форсайта, и встреча смерти совсем молодой женщиной:
«— Ты не будешь с другой девушкой так, как со мной? Не будешь говорить наших слов? Скажи.
— Никогда.
— Но я хочу, чтобы у тебя были девушки.
— Они мне не нужны.
Пожалуйста, выйдите из палаты, — сказал доктор. — Ей нельзя много разговаривать.
Кэтрин подмигнула мне; лицо у нее стало совсем серое.
— Ничего, я побуду в коридоре, — сказал я…»
Саймон Кендл, как написал его английский писатель, как играет его русский актер, — человек той же породы, что Кэтрин из романа Хемингуэя. Он не уходит в себя, в смерть, в бога еще при жизни. Он до последнего мига связан с теми, кто остается, и поэтому как бы остается в них. Кендл не просто прожил жизнь — он осуществил ее и себя в ней. Сын каменотеса сделался знаменитым художником. Причем вовсе не художником, отвергнутым обществом при жизни и признанным лишь после смерти. А ведь именно к этому трагическому и совершенно реальному варианту судьбы художника в собственническом мире обращались чаще всего писатели. Погибал в нищете отверженный Клод из «Творчества» Золя; бежал на дальний остров одержимый «Луны и гроша». Фантастическая притча Гоголя о художнике, который смог выбраться из нищеты, лишь погубив душу, обменяв призвание на злато, вырастала из совершеннейшей реальности.
Герой Пристли не продавал души ни в буквальном, ни в переносном смысле. Он — художник подлинный, и мы убеждены в этом, не видя его картин. Но он при жизни получил не просто признание — славу, не просто обеспеченность — богатство. Состояние его исчисляется не сотнями, но сотнями тысяч фунтов. У него полон сундук всяких медалей и знаков отличия, о которых сам он говорит без малейшего почтения. Такой, каким играет его Кольцов, действительно «видящий насквозь» людей, внимательный к лучу солнца, к занавеске, которая шевелится от ветра, он мог бы писать такие же письма, как Ван Гог: «Писал ли я тебе уже о шторме, который недавно видел? Море было желтоватым, особенно у берега; над горизонтом висела полоса света, а над нею масса громадных, темных, серых туч, и видно было, как из них полосой низвергается дождь». Или: «Какая увлекательная вещь — увидеть предмет и, найдя его прекрасным, думать о нем и крепко удерживать его в памяти, а потом взять и сказать: „Я нарисую его и буду над ним работать, пока он не обретет жизнь!“» Но письмо: «Я был бы очень рад, если бы в твоем гардеробе случайно нашлась пара брюк, подходящих для меня, которые ты больше уже не носишь» — может относиться к начальному периоду жизни Саймона Кендла (отец — каменотес), но никак не к последнему. Его признало общество таким, каким он был. А был он не аскетом, не подвижником — умел любить и воплощать жизнь в самых глубоких и самых простых ее проявлениях. И сейчас сиделка несет поднос с жидким чаем и яйцо всмятку, а лежащий в постели вспоминает: «Антрекот с зеленым салатом, немножко выдержанного бри, полбутылки рислинга к первому и бутылка шамберти к антрекоту» — это ведь тоже входит непременно в «Праздник, который всегда с тобой». Праздник подлинной жизни, которой принадлежит Саймон Кендл Пристли и Кольцов.
Конец жизни, прощание с жизнью — вечная тема литературы, но почти не тема театра. То есть гибель, смерть, изображаются в театре с самых ранних его времен, с трагедий Эсхила. В спектаклях «Глобуса» слуги деловито уносили со сцены не одного заколотого, отравленного ядом, пронзенного кинжалом соперника; в огромном количестве стрелялись и застреливали других персонажи драматургии XIX века. Но театральная смерть почти всегда лишь сюжетное завершение, действенный миг — выстрел, укол шпаги, кубок с ядом, поднесенный к губам. Сценическая смерть почти всегда мгновенна, внезапна, хотя за ней могут следовать картины шествий и митингов со знаменами и речами, хватающими за душу.
На сцене обычно играют героев во цвете сил, сраженных мгновенной смертью, — театр не любит людей, долго уходящих из жизни; Маргарита Готье была прекрасна потому, что смерть ее была очень красивой и определялась не столько реальной чахоткой, сколько разбитым сердцем. Побеждали всегда актрисы, воспевавшие эту красоту ухода из жизни, хотя некоторые и рисковали точно передавать картину болезни. К таким исполнениям, иногда очень сильным, потрясавшим зрителей, прочно и справедливо относился эпитет: «клиническая картина», «физиологический оттенок»…
От соблазнов этой «клиники» не удержался, скажем, Павел Орленев, представлявший в одной роли агонизирующего и умирающего человека так натурально (искаженное лицо, остекленевшие глаза), что в зале раздавались крики ужаса и дам выносили в истерике. Кино — а вслед за ним и телевидение — может показать то, что недоступно театру. Может вести действие в ином отсчете времени, приблизить к нам лицо человека и сосредоточить внимание на этом лице, на взгляде, улыбке, движении бровей. «Когда он улыбается, лицо его становится неотразимо привлекательным», — вслед за Пристли можем сказать мы о Саймоне — Кольцове. Доживая последние дни и мгновения, он не выключен из жизни, как Андрей Болконский — напротив, привязан к ней, благодарен ей. Лишенный начисто сентиментальности, всегда иронично трезвый, почти циничный, художник верит в то, что жизнь прекрасна.
Саймон Кендл Кольцова — трезвый человек, знающий напрасность многих усилий, а тем более слов, направленных к объединению людей, Саймон Кендл Кольцова — человек, верящий в необходимость усилий, направленных к объединению людей. Он живет на экране всеми мелочами тех дней, которые ему отпущены, он видит все подробности вещей, которые еще оставлены ему жизнью, и зорко всматривается в лица немногих людей, его окружающих: внучки, провинциального доктора, сиделки, подростка-слуги. Только старшего сына, единственного преуспевшего, единственного вроде бы поддерживающего «реноме» семьи, Кендл не относит к людям.
Среди немногих оставшихся ему вещей — раскрашенная картинка, изображающая улыбающуюся девицу, да патетическое изречение на стене возле постели: «Бог есть любовь». И глаза человека все останавливаются на этой прописи, которую слышал он с детства. «Значит, каждый предмет вселенной — это любовь? Она дешевле навоза, так ее много. И люди считают — незачем им беспокоиться, незачем любить, незачем самим созидать любовь. Если бы мы сказали, что бог есть могущество, но хочет быть любовью, мы вели бы себя разумнее». Такая длинная речь не дается даром больному: он слабеет на наших глазах в продолжение того экранного времени, которое ему отпущено, но в этом изображении болезни и смерти актером нет и следа «клиники», стремления как бы проиллюстрировать болезнь — может быть, потому, что Кольцов играет не дряхлость, но бодрость, не угасание мысли, но ясность мысли, не отстраненность от жизни, но преданность ей и веру в нее.
Пристли не приписывает Саймону Кендлу ни богоборчества, ни атеизма, хотя в бога он вряд ли верит, во всяком случае не думает о нем в конце жизни. Он не боится, не просит снисхождения и даже отсрочки, он помнит трезво и отчетливо все, что было в его прошлом: отца-каменотеса, Бретань 1900 года, трех жен и любовниц, о которых мимоходом упоминает однажды, старого друга — истинного художника, к которому и бежал он из дому от заботливого сына Эдмунда. Человек по имени Саймон Кендл, по профессии художник прожил свою жизнь и к концу ее идет бесстрашно и спокойно, смотрит не вперед — в небытие, в «черный мешок», в то, чего уже не будет, но в то, что было у него самого. И в то, что будет у других, остающихся. Он не вслушивается в себя, не ограничивает мир границами болезни, но все время выходит из этих границ. Поэтому так легко с ним живым людям. Не таким, как сэр Эдмунд, но истинно живым. Обыкновенному провинциальному доктору. Сиделке с милым и усталым лицом, у которой дети погибли в авиакатастрофе. Подростку — служителю гостиницы и даже самому свирепому хозяину гостиницы. Поэтому Кендлу не нужен священник или иной утешитель. Он в последний раз прикладывает к губам флягу с коньяком: «На дорогу, старина, на дорогу!» — а потом берет не дававшее ему покоя изображение размалеванной красотки, висевшее на стене, и прикасается к нему карандашом. Легким, красивым движением — жесты его вообще легки и красивы — передает художник эту преображенную картинку сиделке — той, с милым лицом, которая сняла дом в ожидании семьи, а семья погибла в самолете Гонконг — Лондон. И все. Сиделка наклоняется над ним, затем выбегает на лестницу, чтобы позвать ненужного уже доктора.
Последний кадр — улица, старый двухэтажный дом-гостиница. Ночь, темнота, освещено только окно второго этажа — комната Кендла. Метафора наивна и бесспорна. Потом свет гаснет. Кончились восемьдесят два года — два с половиной часа экранного времени. Восемьдесят два года — два с половиной часа, отпущенные этому человеку в громадной жизни человечества.
В одной из своих статей Кольцов говорил о том, что бедствие театра и актеров — игра на «среднего зрителя». Сам он играет для зрителя — собеседника и соратника. Напоминает этому зрителю слова Толстого: «Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник». Эти непременные качества подлинного искусства определяют и образ художника Саймона Кендла и весь стиль повествования о его жизни и смерти. Повествование это выдержало испытание временем. Сегодня исполнение Кольцова ничего не потеряло — так же, если не больше (мы обязательно производим проверку временем), радует оно мудростью и простотой, легкостью и силой, живущей в этой легкости. Часто старые ленты кино, тем более — телефильмов, умирают после первого же показа (или вскоре после него). Эта лента живет потому, что в ней истинно сочетается «что», «как» и «насколько от души» говорит художник.
Быть на уровне высшего образования своего века! Ю.Кольцов
Мы не могли задать Юрию Эрнестовичу Кольцову, замечательному артисту Художественного театра традиционного для нашей книги вопроса: как вы это делали? — имея в виду его поистине выдающуюся актерскую работу в телеспектакле «Теперь пусть уходит». Тяжело болевший в последние годы, Юрий Эрнестович умер, когда книга была в производстве. Мы публикуем последнюю статью Ю.Э.Кольцова о творчестве актера. Как увидит читатель, его размышления о соотношении личности актера и его творчества впрямую относятся к предмету нашей книги и служат отличным комментарием исполнителя главной роли к рассказу Е.Поляковой о телеспектакле.
«Писатель всегда думает о читателе». Эта забота — быть понятым и принятым читателем — настолько характерна для людей литературного труда, что и Горький в «Дачниках» и Чехов в «Чайке» один — своему Шалимову, другой — Тригорину дали возможность сесть на любимого писательского «конька» — поговорить о читателе. Актер думает о зрителе — и каждый представляет себе зрителя по-своему. Один талантливый комедийный актер признался мне как-то, что больше всего боится кашля в зрительном зале. Для него кашель был символом бедствия: значит — не смешно! И он старался смешить без передышки. Другому кажется, что в зале сидят хмурые, придирчивые люди. Третьей — что зал полон молодых людей, и она кокетничает, доказывая, что молода и хороша собой, — как будто это так важно. Четвертый — вы сразу отличите этого актера, он будет играть «в профиль», вслушиваясь в тембр собственного голоса, четвертый считает, что зал набит девушками… Мне всегда нужно поверить, что меня смотрят друзья, люди передовых взглядов, интеллектуально богатые, с хорошим вкусом. К сожалению, в театре еще живет примитивное понятие о «среднем зрителе» — вот и кассовые пьесы ставят для «среднего зрителя», плохие спектакли играют для «среднего зрителя». И получается, что мы сами принижаем достоинство тех, кто пришел на спектакль, и вместе с тем принижаем наше искусство. Вероятно, каждый, читая книгу, выпишет что-то для себя особенно близкое. Мне посчастливилось найти в письмах Л.Н.Толстого очень современные по духу и потому особенно дорогие мне слова. То, что семьдесят лет назад писал Л.Н.Толстой В.А.Гольцеву, звучит напутствием каждому из нас.
«Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник.
1. Для того чтобы художник знал, о чем ему должно говорить, нужно, чтобы он знал то, что свойственно всему человечеству, и, вместе с тем, еще неизвестно ему, то есть человечеству. Чтобы знать это, художнику нужно быть на уровне высшего образования своего века, а главное, жить не эгоистичною жизнью, а быть участником в общей жизни человечества. И потому ни невежественный, ни себялюбивый человек не может быть значительным художником.
2. Для того чтобы говорить хорошо то, что он хочет говорить (под словом „говорить“ я разумею всякое художественное выражение мысли), художник должен овладеть мастерством. А чтобы овладеть мастерством, художник должен много и долго работать, подвергая свою работу только своему внутреннему суду.
3. Для того чтобы от всей души говорить то, что он говорит, художник должен любить свой предмет, а для этого нужно не начинать говорить о том, к чему равнодушен и о чем можешь молчать, а говорить только о том, о чем не можешь не говорить, о том, что страстно любишь.
Из этих трех основных условий всякого произведения искусства главное последнее: без него, без любви к предмету, по крайней мере, без искреннего, правдивого отношения к нему нет произведения искусства».
Что-то всегда устаревает в нашем искусстве. И больше всего устарел сегодня тип актера-исполнителя (название, конечно, условное; речь идет об актере, разрабатывающем только «первый план» роли). Пусть он способный человек и с хорошими данными, пусть умеет он «нести фразу» и «строить монолог» и даже заставит зрителей всплакнуть. Впечатление от его игры развеется раньше, чем зритель дойдет до дому. Актер-исполнитель не решит проблему актерского искусства сегодня. Он родственник тому живописцу, который сидит в тени своего зонта и рисует с натуры дерево. Каждый листок на его холсте похож на настоящий, а вот главного — чувства родины — нет. Актер-исполнитель не поднимается над текстом пьесы, это его потолок. В противоположность ему актер-творец несет неизмеримо большее, чем заключено в ситуациях и репликах роли, у него и своя позиция, и богатство наблюдений, и сегодняшняя (а не архаичная) актерская техника.
Недавно в одном из сценариев мне предлагали роль без текста — и я обрадовался. Мне предложили сыграть солдата военных лет, потерявшего дар речи в результате контузии. Он едет на грузовике вместе с другими людьми, чувствует себя в ответе за все, что произойдет с его спутниками, — а слов нет. Как интересно строить внутреннюю жизнь этого человека, вскрывать характер в поступках, в действии, — здесь старой актерской техникой не обойтись. Это не значит, что текст — помеха. Но всегда хорошо проверить, что же останется от роли, сыгранной актером, если вдруг лишить его возможности произносить текст. В жизни неразговорчивый человек может оказаться гораздо богаче духовно, чем болтун, — он сосредоточен на внутренних процессах, он не вскрывает себя, а мы с тем большим интересом разгадываем, узнаем. Увы, еще живет обычай заставлять умного и положительного, по замыслу автора, персонажа без умолку «высказываться».
Читая многоактную и многословную пьесу старого репертуара, не можешь отделаться от мысли, что она устарела и играть и смотреть ее трудно сегодня. С каждым годом растет список устаревших пьес, это естественно. Причина в том, что некогда смелая и острая авторская мысль со временем становится прописной истиной, и нет надобности доказывать, что добро — это добро. Причина в том, как, какими средствами раскрывает автор свою идею в пьесе. Современная жизнь требует от искусства иных ритмов. Сегодня человек не разговаривает на каждом шагу, не разъясняет, не растолковывает собеседнику то, что понятно с полуслова. В жизни значительно больше, чем в искусстве, чувствуются новые формы общения. Человек, прошедший через войну, скупее выражает свои чувства, умеет скрывать недуги, он мужествен, меньше носится с собой. В жизни меняется характер человеческих взаимоотношений — в нашем искусстве это не так заметно, театральный диалог остается почти без перемен. Лаконичнее и точнее выражает свою мысль человек наших дней, в ином ритме живут люди — а на сцене все еще крепко держится старая «словесная связь», многословие поступков и действий.
Изменилась природа чувств — а театральные герои остались по-старому сентиментальными даже в хороших пьесах. Наверное, это ощущение «разнобоя» сцены и жизни долго мешало мне в работе над «Кукольным домом» «найти» моего доктора Ранка — уж очень он у Ибсена «вскрывает себя». А раньше, судя по отзывам прессы о прежних постановках, это было главной приманкой роли. Пора бы, вероятно, перестать цитировать классические примеры из Чехова — «жена есть жена» и описание ночи, где горлышко разбитой бутылки и тень мельничного колеса заменили «лунный пейзаж». Но, к сожалению, другие примеры лаконичного выражения образа не возникают так быстро в памяти — и вот уже сколько времени мы дружно цитируем Чехова. А хочется с таким же удовольствием находить образцы лаконизма и высокой художественности в современных пьесах.
Лицо «от автора», наплывы, скачки из настоящего в прошлое и будущее, «внутренний монолог», звучащий вслух, не могут возместить подлинное новаторство. Новое, сегодняшнее должно выявиться в иной природе общения действующих лиц, в ином характере диалога, в ином ритме. Не потому ли так похожи друг на друга сегодняшние «театральные приемы», используемые писателями и режиссерами, что они только дань моде, повальное увлечение, а не действительные приметы современного искусства? Мне кажется, что по-настоящему новое на сцене появится только через образ, созданный актером. Лучше играть много — актер должен щедро отдавать себя. В Ростове-на-Дону я за сезон сыграл Протасова («Живой труп»), Мальволио («Двенадцатая ночь»), доктора Тренча («Лондонские трущобы»), Батуру («Калиновая Роща»), Огородникова («Семья») и Труффальдино («Слуга двух господ»). Роли не переутомляют актера, если они разные. Почему-то все чаще сегодня роли даются по прямому сходству с героем. В этом театр пошел за кино, где выбор актера часто решают типажные данные. Более того — поручив роль актеру М., напоминающему своими человеческими качествами героя пьесы, режиссер и второго исполнителя на эту роль подбирает очень похожего. Вот случай, когда слово «дублер» употребляется в своем истинном смысле!
Нужно быть смелее в назначении ролей, верить актеру, который сначала ничем и не напомнит героя пьесы. Можно себе представить, какой однообразной, сходящей на нет была бы сценическая жизнь «Царя Федора» в Художественном театре, если бы после Москвина Федора играли актеры «москвинского плана». А здесь Федора играли совсем не похожие друг на друга художники — Москвин, Качалов, Хмелев, Добронравов! И каждый был неожиданным.
Мне очень дорога в искусстве неожиданность — и в трактовке образа и в манере исполнения. Не понимаю, как могут некоторые критики так категорично заявлять, увидев актера в роли: «правильно» или «неправильно», — здесь ведь не арифметика, не дважды два, где правильным будет только один ответ — четыре. Здесь — поиски, творчество, и чем неожиданнее результат, чем острее и конфликтнее решается роль, тем, на мой взгляд, интереснее. Наверное, с самых первых репетиций режиссер должен предоставлять большую свободу актеру, ничего не навязывая ему готового, прислушиваясь и присматриваясь к его самостоятельным поискам. Это дело актера — создавать образ, а начальные репетиции — «колыбель» образа, они определяют очень и очень многое. Они нередко предсказывают удачу. А что значит — хорошо сыграть роль? По-моему, это значит сыграть ее просто, но с большой фантазией.
Написал последнюю фразу, и показалось мне, что она похожа на цитату. Наверное, все хорошее, что сказано нашими учителями, потому и хорошо, что становится своим в практике, в работе…
И ДЖУЛЬЕТТА
Прикосновение к вечности Н.Гаврилова
История влюбленных из старинного города Вероны послужила основой многих произведений искусства. Художники разных эпох и направлений искали в ней ответы на проблемы своего времени. Речь идет не о толковании шекспировской трагедии. Каждая эпоха выдвигала своих Ромео и Джульетту. Шекспир был, по сути, первым, кто дал художественную жизнь существовавшему преданию. Но разве только Шекспиру принадлежат эти герои! Ему принадлежит лишь трагедия о них.
Для разных художников творение Шекспира являлось как бы начальным мифом, источником вдохновения, классическим образцом, мотивы и образы которого рождали новые произведения. Как Антигона или Жанна д'Арк. Особая традиция сложилась и в музыке. Берлиоз и Гуно, Чайковский и Прокофьев — каждый из этих композиторов обращался к трагедии Шекспира, по-своему видел и понимал ее. Ромео и Джульетта — вечная тема. Об этом вновь напомнил телевизионный фильм-балет «Ромео и Джульетта», поставленный на музыку знаменитой увертюры-фантазии XIX века Петра Ильича Чайковского.
Итак, сначала о Чайковском. Телевизионный балет вызвал новые мысли о его творчестве, о его духовном мире, о том месте, что заняла в этом мире вечная трагедия двух влюбленных. В 1869 году Чайковский написал увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта». Через десять лет им создан был окончательный вариант этого произведения. Оно сыграло особую роль в жизни композитора — принесло ему первый успех и европейскую известность. Может быть, поэтому он любил увертюру едва ли не больше других своих творений. Но и не только поэтому. Сюжет «Ромео и Джульетты» всю жизнь манил Чайковского. Он мечтал написать оперу на этот сюжет, и неоднократно к ней приступал, если не на нотных листах, то в мыслях.
Собственно, эта Шекспирова трагедия да старинная немецкая сказка «Ундина» были спутниками Чайковского, не то чтобы любимыми его темами, но, скорее, необходимостью. Оперу «Ундина» он уничтожил, написал другую — «Воевода», в этот же период создал балет «Лебединое озеро». В обоих произведениях жила уничтоженная «Ундина», ее музыка, ее темы. Позже, уже в 80-х годах, решился воплотить «Ундину» в балете — родилась «Спящая красавица».
Есть что-то парадоксальное, что-то странное в том, что самые желанные свои темы, самые дорогие замыслы Чайковский так и не осуществил. Не написал он и оперы «Ромео и Джульетта». Но отсвет увертюры-фантазии нетрудно обнаружить в любом из детищ Чайковского. Отсвет даже не столько самого произведения, сколько сюжета «Ромео и Джульетты», темы, беспокоившей композитора всю жизнь, темы любви и смерти, его понимание Шекспира было близко романтическому. Речь шла о взаимоотношениях героев с окружающим миром. О конфликте «идеальных» стремлений с силами, которые враждебны свободному выражению личности, нормам поэтической гармонии, разрушают ее идеал. «Франческа да Римини», ненаписанная «Ундина», «Лебединое озеро» и, наконец, «Ромео и Джульетта» — всюду трагический финал. Он обязателен, неизбежен. Любовь в этих вещах — творчество, искусство — некий художественный процесс, идеал, цель которого — достижение гармонии.
Любовь здесь — не земная, — лишенная примет реальной любви. А все житейское, чувственное возникает перед героями в образах рока. Любовь-творчество (высшая любовь) не соглашается с обстоятельствами, борется с роком и идет к смерти, ища в ней выхода. Смерть — кульминация любви, в смерти любовь обретает вечность. В ней — очищение любви от быта. Музыка философична по природе своей. Любовь, смерть, жизнь — она рассматривает категории общие. В увертюре «Ромео и Джульетта» кипят романтические страсти в чистом виде. Рушатся судьбы, сталкиваются полярные силы — побеждает любовь, несущая в себе очищение, отрицающая житейскую суетность. Не образы Средневековья и Возрождения рождает музыка Чайковского, в ней живет тема тоски по идеалу, по свободе, в ней утверждается красота любовного порыва. Лирическая тема (адажио) этой увертюры, распевная и плавная, по сути не претерпевающая психологического развития в ходе музыкального повествования, олицетворяет покой и мудрость гармонии, покой и мудрость любви — творчества, стремящегося к вечности. Лихорадочная тема вражды преходяща, временна.
Философская концепция увертюры-фантазии Чайковского необычайно сложна и многогранна. Но перед постановщиками фильма-балета стояли и другие проблемы, истоки которых — в истории, если можно так сказать, взаимоотношений музыки Чайковского и танца на эту музыку. Симфоническая музыка Чайковского всегда считалась словно бы предназначенной для балета. Действительно, танцевальное начало органически свойственно творчеству Чайковского, одна из сильнейших сторон искусства которого и заключается в особой пластичности языка, в ритмах и интонациях бытовой музыки с ее крупнейшим достижением в XIX веке — вальсом, танцевальной формой, обретшей в творчестве многих великих музыкантов философскую значимость.
К симфоническому наследию Чайковского часто обращались и обращаются хореографы. Сегодня на наших сценах идут балеты и на музыку «Франчески да Римини», и «Гамлета», и скрипичного концерта; широко известны работы Баланчина, Мясина, Лифаря и других крупных зарубежных балетмейстеров, воплотивших в балете и Струнную серенаду, и Пятую симфонию, и фортепьянные концерты композитора. Не все удачно. Балетного композитора Чайковского очень не просто выносить на сцену. Даже собственно балеты его (за исключением «Спящей красавицы» в постановке М.Петипа) до недавнего времени не имели полноценного художественного решения.
Причин на то много, и едва ли не главная — в особой организации художественного мира композитора. Чайковский с удовольствием работал для сцены, Чайковский не без успеха писал в модном для его времени жанре программной музыки, призванной отображать какие-либо литературные сюжеты. Но в чем-то очень существенном Чайковский всегда оставался композитором, тяготеющим к чистой симфонической форме.
В языке, в выразительных средствах и приемах музыка Чайковского не отрицала ни литературного сюжета, ни быта, но в самом подходе ко всему этому композитор всегда уходил от заданной схемы в мир личных переживаний, выражая во всем свое тайное. Он создавал своеобразные романтические исповеди, через сюжеты и характеры Данте, Шекспира раскрывался его внутренний мир. Это противоречие дает себя знать во многих созданиях Чайковского, даже в сценических — операх и балетах. Современники даже считали его несценичным композитором. А.Б.Асафьев балет «Щелкунчик», например, назвал антитеатральным. Виной тут были не только зачастую несовершенные либретто (как того же «Щелкунчика», к примеру), а нечто более глубокое, а именно: то двойственное начало его музыки, о котором мы говорили выше.
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», программные симфонии, ряд опер обнаруживают при внимательном взгляде это несоответствие между литературным замыслом (программой) и его реализацией. Пожалуй, только «Евгений Онегин» и «Спящая красавица» лишены этого противоречия. И не случайно именно эти произведения Чайковского — самые гармоничные в его творчестве, более того, именно эти произведения имели счастливую сценическую судьбу.
Мы полагали необходимым сказать обо всем этом, чтобы читатель понял, что современному балетмейстеру необходимо прочувствовать этот основной парадокс творчества композитора, чтобы найти особый путь к его музыке. Путь этот — в самой музыке. Из нее должны рождаться как сценические образы, так и хореографическая драматургия. Это не просто потому, что сюжет, литературная программа подсказывают свое решение, и потому, что Чайковский внешне всегда вроде бы тщательно придерживался задания; роковой разрыв обнаруживается в каких-то необычайно внутренних слоях музыки. Лучший пример тому — «Лебединое озеро», где наивное либретто никак не согласуется с мощностью и многозначностью музыкальных образов и интонаций. В музыке действуют роковые силы, речь идет о трагических столкновениях, а в либретто традиционно спорят наивные добро и зло. Успех последней постановки балета на сцене Большого театра объясняется внимательным и чутким отношением ее автора — Ю.Григоровича — к самой партитуре Чайковского.
Другой пример — различные сценические интерпретации «Франчески да Римини». В меру таланта постановщика спектакль становился более или менее добросовестной иллюстрацией Данте, а в музыке этого и в помине нет. Можно привести примеры из постановок балетов на музыку и других вещей Чайковского, когда композитор рассматривался едва ли не как иллюстратор сюжета. Хореограф шел к музыке через сценарий. Спектакли, созданные по такому методу, были верны своей литературной основе, но далеки от основы музыкальной. В последние годы эти принципы пересматриваются. В балетном театре восстановлен приоритет композитора, но главное — приоритет музыкально-хореографической драматургии. Нельзя размышлять о телевизионном балете «Ромео и Джульетта», не совершив этого историко-теоретического экскурса.
Создатели фильма-балета «Ромео и Джульетта» — Н.Рыженко и В.Смирнов — восприняли опыт и идеи времени, их работа имеет прямое отношение к завоеваниям сегодняшнего балетного театра. Действие протекает стремительно и энергично, оно подчинено логике симфонического развития музыки. Балет поставлен на одном дыхании, это целостная по стилю и по композиции вещь и, бесспорно, высокопрофессиональная. Непрерывность танцевального действия сообщает ей напряженность, фильм рассчитан на массового зрителя, но хореография его достаточно сложна. Постановщики избегают примитивных решений. В эмоциональности, зрелищности композиций и мизансцен они ищут путь к зрителю.
Язык балета — классический танец в чистом виде, хотя, естественно, и несколько модернизированный; классический танец, не разбавленный и не перебиваемый пантомимой. Классический танец, лишенный примет и деталей быта, лишенный иллюстративности, но выразительный и драматически насыщенный. К симфонической образности музыки хореографы ищут путь в языке классической балетной симфонии. Но язык, которым распоряжаются балетмейстеры, далек от архаики. Это не язык «Спящей красавицы» или «Жизели», а, скорее, таких современных балетов, как «Легенда о любви» или «Спартак». Тот же художественный метод. Постановщики раскрывают музыку Чайковского — композитора XIX века — хореографическим языком нашего времени. Здесь не возникает стилистического несоответствия музыки и танца. Балетмейстеры проявляют хороший вкус и чувство меры. В танцевальном тексте этого фильма органически сочетаются классическое совершенство форм и современная нервность линий. Экспрессивность хореографического рисунка, графика поз, изощренная виртуозность танца — этими определениями обычно характеризуют современный стиль. Но именно и экспрессивность, и графика, и виртуозность, как ни общи и банальны эти эпитеты, составляют сущность стилистики «Ромео и Джульетты».
Хореографы не стремятся осовременить Чайковского. Они ощущают, видят и понимают его музыку как музыку современную. Они доказывают нам, что Чайковского вовсе не обязательно ставить на сцене в чисто традиционной манере, что современные хореографические приемы не только не искажают музыку композитора, но способны открывать в ней нечто новое, отвечающее сегодняшним представлениям об искусстве и о самом Чайковском. Чайковский — мягкий лирик, Чайковский — певец быта, Чайковский — сентиментальный, чувствительный, элегичный, — как ни парадоксально, но именно этими понятиями нередко определяют композитора, его место в духовной жизни общества. Мы недалеко ушли в этом смысле как от критики XIX века, так и от музыкальной критики 20-х годов нашего века в равной степени, хотя и с различных социальных позиций, считавших Чайковского композитором расслабленных чувств и мелких страстей.
Есть и другая сторона: музыка Чайковского любима и популярна. Ее исполняют по радио и с эстрады, на танцплощадках и в парках, на пляжах и в кафе. Ее эксплуатируют, используют и потребляют: музыка Чайковского сегодня — принадлежность быта, легкое и приятное развлечение: романсы, вальсы, танцевальные мелодии, детские песенки, арии из опер. Музыка Чайковского ныне едва ли не приравнена в правах к музыке легких жанров. Все вместе и привело к тому, что Чайковский — композитор острых социальных конфликтов, композитор, в своем творчестве ощутивший трагические противоречия своего времени, композитор — современник Достоевского, Чехова, Толстого — отошел в сторону, уступив место другому Чайковскому — отвлеченному, чувствительному, расслабленному… Бесспорно, Чайковский — лирик, лиричность и чувствительность не чужды его музыке, но и трагизм и высокое кипение страстей — тоже. И бурный протест, и трагический пессимизм, и героический пафос… Сегодня балетный театр пробивается к подлинному Чайковскому. «Ромео и Джульетта» в интерпретации Смирнова и Рыженко — не лирическая элегия, не сентиментальная повесть, но суровая и скорбная исповедь любви и смерти, рассказанная в танце строгом и мужественном.
Постановщики телевизионного фильма-балета точно определили хореографический язык произведения. Но суть проблемы в тех мыслях, которые этим языком излагаются, а говоря иначе, в философской теме фильма, в художественной позиции его авторов. Пересматривая ставший традиционным взгляд на музыку Чайковского, хореографы в своих поисках затронули область выразительных средств и танцевального языка. Они верно угадали стиль, дух музыки Чайковского, ее образную природу и сумели перевести и этот стиль и эту образность на язык танцевальных понятий, открыли зрителям Чайковского — острого и экспрессивного, строгого и трагичного. Но как истолковали они тему, философию самой симфонии «Ромео и Джульетта»? В этом плане их достижения скромнее. И здесь танец порой сам по себе, ибо это очень театральный, а точнее даже, кинематографический, и разнообразный по эмоциям танец, досказывает то, что не вошло в поле зрения постановщиков.
Блестящие исполнители — Н.Бессмертнова и М.Лавровский — нередко проникают в самые глубины музыки: тут есть замечательные сцены (о них речь далее). Просчеты балета в излишней конкретности. Чайковский написал увертюру-фантазию. В замысле таким видели свой балет и хореографы. Балет — симфоническую поэму, рассказывающую не о конкретных перипетиях веронской истории, а философскую балетную фантазию на темы Шекспира, где главное — борьба чувств, борьба страстей, обобщенных понятий. На деле все чуть иначе. Идя за музыкой, веря в музыку, постановщики как бы боятся целиком раствориться в ней, лишь из нее черпая образы, сюжет и темы для хореографии. Балетмейстеров смущает заглавие: «Ромео и Джульетта»; они все время помнят, что эту трагедию написал Шекспир.
Это увертюра-фантазия — определяет Чайковский свое детище. Но фантазии недостает балетмейстерам. В их постановке смешивается старое и новое: современный принцип решения музыки через сложную систему хореографических образов, символов, через симфоническую неоднозначность композиций и принцип изобразительный, иллюстративный, ушедший ныне в прошлое. Тут нередки парадоксы, ибо хореография сама по себе лишена иллюстративности — балетмейстеры упорно и настойчиво пытаются ограничить ее сюжетными, литературными рамками, чисто режиссерскими приемами, конкретизируя танцевальное действие.
В двадцатиминутной фантазии постановщики стремятся рассказать нам чуть ли не всю трагедию Шекспира (но сделать это невозможно!). Они ищут в музыке пьесу, отыскивая в первой ситуации идентичные ситуациям последней, тщательно и детально выстраивая фильм в соответствии с ходом событий трагедии, вольно или невольно сбиваются на изложение фабулы. Неправомерность такого пути доказывают собственные находки постановщиков — лучшие сцены фильма. В фильме два действующих лица, — нет ни Меркуцио, ни Тибальда, ни Монтекки, ни Капулетти — и это правильное решение, ибо в музыке Чайковского действительно лишь двое — он и она. Причем двое, не отличные друг от друга (ни Ромео, ни Джульетта самостоятельных тем не имеют), говоря иначе, — в симфонии существуют влюбленные как одна сила, как один характер. Это тонко и верно подмечено постановщиками. Пластические темы Ромео и Джульетты перекликаются, в дуэтах движения одного из героев нередко переходят к другому; вся первая сцена балета построена по сути на синхронно исполняемых персонажами па. Этот прием балетмейстеры употребляют и в других сценах (синхронные жете в адажио у балкона, синхронное повторение исполнителями поз или, наконец, сцена после боя, где одна и та же комбинация движений использована дважды — выход Джульетты и выход Ромео, и т. д.). Такое решение подсказала музыка.
Самое значительное в фильме лирическое адажио: довольно длительное у балкона — как кульминация любовной темы симфонии, и небольшие по времени — встреча, второй дуэт любви; здесь, в этих хореографических диалогах найдено главное: единство танца и музыки. Хореография любовных адажио пространственна, распевна; проста, но виртуозна, строга по стилю и точна в выражении мысли. Тут угадываются романтические темы симфонии: стремление к чистой любви, порыв к свободе — и порыв к смерти как возможности вечного соединения. Характеру музыки отвечает и то, что в любовных адажио героев почти отсутствуют поддержки. По типу эти дуэты где-то близки первому адажио (без поддержек) Ферхада и Ширин из «Легенды о любви» или первому адажио Фригии и Спартака («Спартак»). То есть, в отличие от традиционного балетного дуэта, они основаны не на постоянном контакте исполнителей. Суть их — в непрерывности танцевальных эволюции. Адажио в своем классическом виде (в «Спящей красавице», к примеру) всегда несколько статично, его кульминация — фиксация поз, поддержек.
Дуэты «Ромео и Джульетты» — это длинные танцевальные периоды, единый поток танца, в котором партнеры имеют самостоятельные пластические темы. Такое решение созвучно симфоническому развитию музыкальных тем. Малое количество поддержек придает любовным адажио характер отвлеченный, возвышенный, чувства героев, таким образом, почти не несут в себе оттенка конкретности. Бесспорно, здесь постановщики идут за музыкой, здесь романтическая идея любви и смерти становится центральной в хореографии. Но не остается такой. Постановщики озираются на фабулу. Перед нами возникают Ромео и Джульетта, мы видим их неподвижные фигуры и понимаем: они пришли к нам из истории. Из глубины веков. На фоне стены они смотрятся, как две скульптуры. Поле экспозиции — поиск друг друга; герои как бы идут по некоей жизненной дороге.
Встреча — первый дуэт. Бала, как у Шекспира, на котором Ромео и Джульетта встретились, мы в фильме не видим, но постановщики этот бал подразумевают. Затем сцена у балкона. Превосходное адажио по танцу и музыке, по их гармонии, но вовсе не потому, что оно у балкона. Далее в фильме происходит свадьба, далее Ромео сражается на дуэли. Дерется он с безликой массой мужского кордебалета. По замыслу постановщиков это — обобщенный образ судьбы, рока, вражды — и Монтекки и Капулетти сразу. После дуэли — дуэт любви, как в пьесе и как у Шекспира, — разлука. И, наконец, все последние сцены балета — довольно точное воспроизведение смерти шекспировских героев.
В музыке этот эпизод короток. Поэтому и постановщики сбиваются на торопливый пересказ финала истории Ромео и Джульетты. Правда, ни склянка с ядом, ни кинжал в финале не фигурируют в своем конкретном виде, но исполнители с живостью и артистизмом, свойственным их таланту, дают нам о них представление. В финале фильма, — а вернее, это один из последних его кадров — мы видим группу мужского кордебалета, склонившего свои головы перед трупами погибшей юной четы. Вражда окончилась… Но в финале увертюры-фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта» вражда не прекращается и никто ни с кем не мирится. По этому поводу, кстати, с композитором долго спорил Балакирев, который полагал, что в симфонии должен был быть сохранен сюжетный ход трагедии. Чайковский с ним не согласился — он закончил свою симфонию не просветленной темой, но резкими и сухими аккордами. Герои в смерти обрели гармонию (просветленный мотив после трагической кульминации), но с их гибелью не становится иным мир. Придут другие герои, и им тоже предстоит столкнуться с теми же силами зла, что обрушились на Ромео и Джульетту. Для Чайковского такой следующей парой были Франческа и Паоло. Но это уже другая история…
Наше телевидение последние годы уделяет большое внимание балету. Был создан фильм-балет «Камин короля Рене», «Гамлет» на музыку Шостаковича. «Ромео и Джульетта» — не просто наиболее интересная из названных работ; фильм поставлен с учетом специфики телевидения и с учетом законов собственно кинематографии. Это кинобалет, а не заснятая на пленку театральная постановка, вместе с тем — это телевизионный фильм-балет, рассчитанный на телевизионный экран и существующий в его границах свободно и органично.
Балет сложно ставить как в кино, так и на телевидении. Список неудач здесь велик. Экран разрушает условность балета, на экране эта условность нередко выглядит фальшиво и претенциозно. Как передать, как показать танец средствами кино? Балет — искусство пластических форм в пространстве. Ему необходима сцена. Чередование планов, смена кадров, обязательные в кино, способны лишь разрушить целостность хореографических образов. Но попытки снять балетный спектакль прямо со сцены, на одних по преимуществу общих планах тоже неудачны: хореография в таких случаях выглядит статично, невыразительно, неинтересно.
Фильм «Ромео и Джульетта» не разрешил всех проблем, но на многие вопросы ответил. Успех принесли вещи простые: авторы большинства фильмов-балетов пытались уже готовую театральную постановку перенести на экран — постановщики «Ромео и Джульетты» создали балет специально для телевидения. Был написан специальный сценарий, были созданы специальные декорации, костюмы и т. д. И это — творческий подход, проявившийся и в выборе материала, и в выборе исполнителей, и в хореографической драматургии фильма.
«Ромео и Джульетта» — хороший материал для телевидения, камерность — сильная его сторона. Внимание режиссера (Д.Володарский) и операторов сосредоточено на раскрытии внутреннего мира героев, переданного хореографами в разнообразных танцевальных композициях. Танец показан в этом фильме чрезвычайно выгодно. Можно предположить, что этот же самый балет, будь он поставлен на сцене, не произвел бы такого впечатления, как на экране. В каждом кадре есть своя пространственная глубина, ощутим воздух; фильм снят строго, в последовательности смены планов выдержан четкий ритм, отвечающий музыке и хореографии.
«Ромео и Джульетта» — фильм, скорее, только балетмейстерский. Хотя не одни лишь танцевальные достоинства решают успех работы. Обращает внимание то, как показано адажио у балкона. Здесь пришли на помощь кинематографические средства: любовный дуэт снят методом «рапид». Хореографам это подсказало очень острое и необычное решение дуэта: сам танец, если представить его в незамедленном виде, протекает и развивается в темпе, превосходящем темп музыки; «рапид» позволил поставить на музыку движения, требующие на деле иного ритма и иной фактуры музыкального материала. На плавный и распевный ход музыки оказались наложенными хореографические комбинации динамичного виртуозного характера. Этот парадокс отнюдь не раздражает, более того, это не просто эффектный прием — с его помощью раскрыта поэтическая идея сцены. Музыка и хореография образуют сложный контрапункт, музыка здесь — символ времени, протяженности, счетчик минут любовной встречи, танец передает внутреннее состояние героев, насыщенность каждой этой минуты.
Интересны и декорации В.Левенталя. Они не конкретны — это, быть может, стены замка с неровными проемами или старинная аркада. В оформлении удачно сочетается условность, необходимая балету, и достоверность, требуемая телевидению. Это одновременно и театральные декорации и декорации фильма, естественно вписываются в кадр, не вызывают ощущения подделки под натуру и вместе с тем как бы натурой и являются.
Фильм-балет «Ромео и Джульетта» снят в цвете. Его показывают по программе цветного телевидения. В черно-белом варианте он смотрится гораздо лучше: в черно-белом варианте фильм строже и проще. Мы говорили о «плоти» телевизионного фильма-балета, как бы отрешаясь от исполнителей. Хотелось проследить за движением, если можно так сказать, «чистых» хореографических идей, соотнести эти идеи с современным взглядом на Чайковского. Но, конечно, идеи балета воплощены в действиях исполнителей. Они проводят замысел, их индивидуальности и уровень мастерства обогащают его, придают ему уникальность. И Бессмертнова и Лавровский исполняют свои роли безукоризненно. Они — танцовщики необычайной выразительности. Они умеют превосходно говорить на языке танца — без помощи жестов, мимики, игры глаз и т. д. Крупные планы, рассчитанные на выразительность драматического актера, танцовщикам не нужны, в такого рода кадрах танцовщикам просто нечего сказать зрителям. Зато в танце они блистательны, демонстрируя не только высокого уровня виртуозность, — и Бессмертнова и Лавровский поражают лиризмом и страстностью, глубоким проникновением в музыку Чайковского. В итоге фильм становится как бы триумфом их искусства.
«Ромео и Джульетта» — одна из первых удачных попыток в труднейшем жанре телевизионного фильма-балета.
Кино плюс балет — новое искусство! Н.Рыженко и В.Смирнов
— Есть ли существенная разница между балетом на театральной сцене и балетом телевизионным?
— Разумеется! Однако нужно договориться о терминологии. Телевидение пользуется услугами кино, предъявляя ему лишь некоторые специфические требования. Так что телебалет — это кинобалет. Последний же в идеале — новое искусство, представляющее как бы синтез балета и кино.
— Этот фильм — ваш балетмейстерский дебют?
— Да. Мы, танцовщики Большого театра, здесь впервые выступили как хореографы, и хотя это произошло, пожалуй, случайно, мы давно верили в возможность союза кино и балета. Балет может и даже должен воспользоваться огромными возможностями кино и ТВ. К тому есть все предпосылки.
— В чем вы видите эти возможности?
— Кино способно показать танец ярче, сделать его выразительнее и динамичнее. Оно помогает донести до зрителя все особенности хореографической драматургии и лексики, то есть танцевального языка. С его помощью можно найти совершенно неожиданные ракурсы, подчеркивающие то или иное танцевальное движение, выражающие его главный смысл. Средствами кинематографа можно раскрыть эстетику тела с гораздо большей силой и убедительностью, нежели в театре.
— Как вы пришли к мысли поставить «Ромео и Джульетту» Чайковского?
— Увертюру-фантазию Чайковского мы начали ставить в театре. Спектакль был почти готов, но в силу разных обстоятельств нам не удалось осуществить свой замысел. Тогда и пришла мысль о кино. Телевидение с удовольствием приняло наше предложение. Нам повезло. Мы пришли на студию с заявкой как раз в тот день, когда шло обсуждение проекта съемки нового цветного фильма-балета. Наша заявка была утверждена за несколько часов. Впрочем, дело, наверное, было даже и не в нашем замысле: привлекали Чайковский, сюжет, но главное — согласие замечательных танцовщиков Н.Бессмертновой и М.Лавровского сниматься в главных ролях. Мы очень благодарны им за это.
— Чем отличался кинематографический вариант балета от театрального?
— Отказаться пришлось от многого. На экране не воспроизводима театральная атмосфера. Необходимо было сочинять хореографию, учитывая специфику кинематографа. Искать иные мизансцены, придумывать нетеатральные выходы героев. Вобщем, танец надлежало расположить в кадре. По существу надо было все начинать сначала. Механическое перенесение театрального балета на киноэкран невозможно, хотя раньше так поступали. Тем более, что потом киноэкран должен уменьшиться до размеров телевизионного экрана и прийти к зрителю на дом!
— Был создан сценарий балета?
— Да. Только это не обычный сценарий с описанием действия. Да и как описать танец? Мы делали раскадровку. Танцевальные комбинации движений мы как бы раскладывали на отдельные элементы. Заранее нужно было определить крупность изображения на экране и с учетом этого выстраивать композицию движения в кадре. Необходимо было продумать последовательность чередования планов, переходы от крупных к общим и так далее. В кино есть свои секреты и свои законы, так же как в балете. Но, делая раскадровку, нам следовало помнить о чисто балетной условности.
— Вам это удалось?
— Если не считать некоторых погрешностей и потерь, то, пожалуй, да.
— Какие сцены вам представляются наиболее удачными в фильме?
— Вариации Ромео. Здесь удалось показать танец полно, ярко, динамично. Кстати, это хороший пример тех возможностей, которые открывает перед балетом кино. Эту вариацию мы снимали отдельными кусками. В театре ведь это невозможно. Там танцовщик исполняет вариацию с начала и до конца. Там у него свои законы движения танца во времени и пространстве. Он должен думать о дыхании, о своих физических силах. Здесь нам не надо было думать о физических возможностях актера, учитывать его силы. Мы ставили танец, вернее, таким он предстал в фильме — на одном дыхании, без спадов, пауз, на единой ноте напряжений. Надо ли говорить, как балет выиграл от этого.
— Какие еще сцены вам кажутся удачными с точки зрения новой специфики?
— Наверное, адажио у балкона. В этой сцене мы использовали комбинированные кадры, метод ускоренной съемки — «рапид».
— Есть ли еще преимущества у кино-балета в сравнении с театром?
— Экран — прекрасный пропагандист хореографического искусства. Благодаря телевидению мы познакомили с нашей работой миллионы зрителей. Кинематограф должен помочь и балетным актерам, фиксируя их творчество на пленке. Театральное искусство мимолетно.
— Как работали исполнители?
— Работали увлеченно, самоотверженно. Сниматься в фильме-балете порой гораздо труднее, нежели танцевать в театре. Экран выявляет самые мелкие технические погрешности и дефекты. Бесконечные дубли изматывают актеров. Здесь, кстати, пригодился бы многокамерный метод съемки, позволяющий избегать обилия дублей. Телефильм «Ромео и Джульетта» снимался обычным способом. Да, актерами мы очень довольны. Они были хорошими и заинтересованными помощниками в процессе создания фильма.
— Можно ли утверждать, что создание нового искусства — кинобалета (телебалета) начато?
— С известными оговорками. Что греха таить, к хореографам в кино относятся, к сожалению, не как к авторам спектакля, фильма — их рассматривают просто как постановщиков танцев. Танцы поставили такие-то, а это неверно в принципе. Хореограф должен быть одновременно и режиссером. Он должен быть главным действующим лицом на съемочной площадке. Он сочиняет танец не где-то «там», а здесь, для съемочных камер. Очень трудно находить общий язык с режиссером, не знающим законов балета, его специфики. Взять, например, такой важный этап создания фильма-балета, как монтаж. Хореограф за монтажным столом остается хореографом — сочинителем танцев. Режиссер не может заменить его. Кстати, именно в процессе монтажа мы пересмотрели множество сцен балета. Иной раз уже из готового материала приходилось непосредственно за столом создавать новые вариации, новые хореографические куски, тонко соединяя их с музыкой, то есть мы продолжали сочинять танец без танцовщиков — за монтажным столом. Именно таким путем нередко удавалось исправить и технический брак. В этом тоже огромные преимущества, которые дает балету кино перед театром.
— Привели ли разногласия с кинорежиссером к художественным потерям?
— Да, в финале. Режиссер исходил не из законов поэтики музыки и танца. Честно говоря, финал был «смазан». Режиссер предложил решение вне поэтической сущности музыки.
— Долго ли создавался фильм?
— Нам понадобилось 15 съемочных дней. Нормальный режим для такой работы.
— Будете ли вы продолжать работу в кино?
— Мы ее уже продолжили. За это время сняли два фильма — «Трапеция» на музыку Прокофьева с Е.Максимовой и В.Васильевым и «Озорные частушки» Р.Щедрина с Н.Сорокиной и Ю.Владимировым. Эти работы нам кажутся более удачными. Пришел опыт, получили мы и большую самостоятельность. (Один из нас — В.Смирнов — выступил в этих фильмах сорежиссером.)
— Бросать работу на телевидении вы не намерены?
— Конечно, нет, у балета в телекино хорошее будущее. В этом мы уверены.


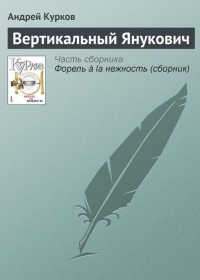
Комментарии к книге «Откровения телевидения», Александр Петрович Свободин
Всего 0 комментариев