СЕРГЕЙ КРЕМЛЁВ (Сергей Тарасович Брезкун)
Украинец. Родился 7 октября 1951 года в Днепропетровске в семье инженера-железнодорожника.
Окончил среднюю школу в г. Керчи и двигателестроительный факультет Харьковского авиационного института им. Н.Е. Жуковского по специальности — двигателист-ракетчик.
После службы в береговых частях Черноморского флота, с 1978 года — сотрудник крупнейшего и старейшего центра разработки советского ядерного оружия Всесоюзного НИИ экспериментальной физики в г. Арзамасе-16 (позднее — г. Кремлев, ныне — г. Саров Нижегородской области). Ныне это — Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Принимал участие в разработке термоядерных зарядов, в 1981 году участвовал в полигонных испытаниях на Семипалатинском полигоне.
С 1992 года — сотрудник Отдела проблемного анализа ядерных вооружений РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также один из заместителей директора Института стратегической стабильности Минатома России.
Автор многочисленных публикаций по широкому спектру общественно-политических тем и по концептуальным проблемам ядерных вооружений.
Соавтор книг (с И.И. Никитчуком) «СНВ-2 простым взглядом» и «XXI век. Будет ли у России ядерный оружейный комплекс?» (последняя вышла в свет как официальное издание Государственной Думы РФ) и книги (с В.Н. Михайловым) «Добро или Зло? Философия стабильного мира».
Автор выражает глубокую признательность коллегам по Институту стратегической стабильности Минатома России и директору ИСС академику РАН Виктору Никитовичу Михайлову за постоянную и многообразную поддержку работы автора в сфере исторического и военно-политического анализа.
От автора
История этой книги такова… Вначале меня заинтересовали обстоятельства и истоки формирования конфликта «Германия — СССР». Но, подробно рассматривая их, я вынужден был все более опускаться по временной шкале в глубь времен. От начала тридцатых годов — к послеверсальской Веймарской Германии и полутроцкистскому СССР начала двадцатых годов, затем — к Версальскому миру, Первой мировой войне, а затем — и к ее предыстории.
Работая над своими «Версалями», я хотел дать не авантюрную «версию» событий, а восстановить историческую эпоху так, как она и разворачивалась в действительности.
Какие силы двигали миром накануне XX века и в его начале? Почему произошла Первая мировая война? Кто и зачем готовит такие войны? Как Германия стала «дойной коровой Версаля»? Хотелось исследовать эти вопросы с логической точностью и аналитической непредвзятостью, но при этом самобытно и увлекательно. Не чураясь порой почти детективности ситуаций и констатации… Надеюсь, такой и увидит эту книгу вдумчивый и любознательный читатель.
Чем стал для России ее союз с Францией и Англией? Хотел ли войны германский император Вильгельм II? Кем должна была быть Германия для России — врагом или партнером и союзником? Какова роль Америки и Золотого Интернационала финансистов в подготовке войны? Много ли правды в истории с «пломбированным вагоном» Ленина? И как итоги Первой мировой войны подготавливали условия для Второй мировой?
Новый взгляд на начальную пору становления мира XX века, на предысторию, историю и «послеисторию» старой войны — вот суть моего исторического исследования «От Версаля Вильгельма к Версалю Вильсона».
Среди исторических фигур, присутствующих на страницах книги, есть как известные всем Николай II и Вильгельм II, Ллойд Джордж и Клемансо, Бисмарк и президент США Вильсон, так и «закулисные» деятели: «серое преподобие» германской внешней политики барон Гольштейн, международный торговец оружием Бэзил Захаров, «серый кардинал» из США полковник Мандель Хауз, министр иностранных дел Англии сэр Эдуард Грей, а также финансисты Витте и Ротшильды, глава еврейской общины Петербурга — истопник кавалергардских казарм, фельдфебель Ошанский, русский военный агент в Скандинавии и Париже фаф Игнатьев и многие другие — известные и неизвестные герои эпохи — герои в кавычках и без них.
В двадцатые годы на эту же тему написал свою книгу «Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг.» академик Е. Тарле. Но я не следовал устоявшимся схемам, однако и не игнорировал их, а критически переосмысливал. И при этом старался оставлять то, что позволяло выявлять историческую истину, а не подправлять ее в каком-либо заранее заданном духе.
Не стремясь к лаврам чрезмерно беллетризующего историю Валентина Пикуля или поверхностно-залихватски трактующего её Александра Бушкова, автор хотел добиться легкости, но не легковесности восприятия читателем серьёзных фактов и оценок.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель!
Эта книга оказалась хотя и приятным для меня, но побочным результатом большой и все еще не законченной работы. Ее темой стал интересовавший меня вопрос: насколько было неизбежным столкновение СССР и Германии? Ведь в смертельном противостоянии двух великих держав и народов Германия потерпела крупнейшее поражение, а Россия, хотя и одержала победу, но в исторической перспективе она оказалась пирровой.
И стала такой она потому, что во время войны Советскому Союзу пришлось заниматься трудом не мирным, а ратным. К 1941 году наши экономические перспективы можно было без преувеличения назвать грандиозными. Если бы третья пятилетка в 1942 году была завершена так, как намечалось, и была бы возможность к 1947 году выполнить четвертую, то уже к началу пятидесятых годов изумленный мир увидел бы воочию, чего даже в такой отсталой в прошлом стране, как Россия, может достичь народ, работающий не на внутреннюю паразитическую и полупаразитическую элиту, не на финансово-промышленные структуры Золотого интернационала, а на себя.
Прогресс экономический обеспечил бы благосостояние народов России, в жизни прочно обосновалось бы новое поколение — по сравнению с отцами и дедами качественно иначе образованное, более культурное.
А за достатком, образованием и культурой пришла бы и социалистическая демократизация — как расширение возможности для широкой массы самостоятельно управлять собственной судьбой.
22 июня 1941 года на подобных возможностях был поставлен крест. Но ведь и Германия, несмотря на то, что ныне далеко обошла свою былую победительницу, в исторической перспективе тоже потерпела поражение. Она тоже упустила свой исторический шанс! Ведь если бы не ее последний «Drang nach Osten», она могла бы сегодня быть (и по праву!) второй державой мира — после СССР.
Конфликт был обоюдно бессмыслен, но был ли он автоматически запрограммирован противостоянием коммунистического СССР и националистического Третьего Рейха? Да, будущий Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников еще в бытность свою командующим войсками Ленинградского, а затем и Московского округов, издал в 1927–1929 годах знаменитый трехтомный труд «Мозг армии», где говорилось: «Великие войны подобны землетрясению. <…> Это пережитое „землетрясение“, к сожалению, ещё <…> не лишило империализм его удушающих человечество объятий анаконды. <…> Предстоит ряд войн, войн ожесточенных, ибо те противоречия, которые существуют между капиталистической формой мирового хозяйства и нарождающейся новой экономической структурой, настолько велики, что без больших жертв и борьбы не обойтись».
СССР готовился к войне, как и остальные страны, как и Германия. И очень многие считали, что именно этим двум странам придется в будущем столкнуться опять. Мол, здесь все программирует «идеология»…
Но вот мнение японского советолога профессора Тэратаки: «К заключению советско-германского договора идея всемирной революции отошла на второй план. Троцкий вывел свою теорию „перманентной революции“. Сталин с этой романтикой покончил. При нем, то есть в тридцатые годы (XX века. — С.К.) произошла определенная деидеологизация советской внешней политики».
Профессор Тэратака справедливо считает, что Сталин отдавал приоритет обеспечению суверенитета СССР. Итак, идеологические установки были нацелены на войну, и с этой точки зрения она становилась действительно неизбежной. Однако непосредственно государственные интересы ориентировали на мир. И уже одно это обстоятельство делает все не таким уж и очевидным.
Правда, сам же Тэратака писал: «Нередко можно встретить утверждение, что большевизм и нацизм — одного поля ягоды. Я с этим решительно не согласен. Нацизм и большевизм — генетические враги».
Вроде бы, все верно? Да, если иметь в виду идейный момент. Но верно ли в целом? Задаваясь этим вопросом, я отнюдь не присоединяюсь к тем фальсификаторам истории, пытающимся убедить нас, что Сталин-де и Гитлер — явления родственные. Здесь все неоднозначно.
Родства — ни идейного, ни духовного — тут не было и в помине. А вот нечто, способное примирять и отыскивать общие интересы, — пожалуй, было!
Тот же Тэратака — в отличие от многих нынешних российских расстриг с учеными степенями по «марксистской истории» — признает, что к концу тридцатых годов сталинский СССР ставил во главу угла себя, а не химеры Троцкого.
Да ведь и Ленин, скажем в скобках, в своих последних работах тревожился о том, как нам «организовать соревнование», «реорганизовать Рабкрин», а не о том, как разжечь «мировой пожар».
То есть большевизм Сталина имел все более явно выраженный государственный и даже, я бы сказал, национальный характер. Только национальная окраска тут была не чисто русская, а новая — советская.
Над тезисом о «советском народе» как новой исторической общности людей сейчас смеются. Но мысль о том, что в начале XX века в России начала складываться новая нация — российская, высказывал еще генерал А.И. Деникин в «Записках русского офицера». В СССР эта тенденция, тонко подмеченная Антоном Ивановичем, лишь развивалась и укреплялась. И большевизм сталинской формации все чаще ставил интересы новой советско-российской нации превыше всего.
Германский же нацизм превыше всего ставил интересы немецкой нации. Но высшие интересы обеих наций — и советско-российской, и германской, заключались в обеспечении взаимной дружбы и сотрудничества, у которых были и естественная экономическая основа, и глубокие исторические корни. И вот на почве общности национальных интересов именно СССР и Германия совсем не обязательно должны бы ли сойтись в рукопашной.
Профессор Тэратака не ошибался: нацизм и большевизм, как идеологии, действительно были генетически глубоко чужды друг другу, вплоть до прямого антагонизма.
Но это не означало, что такими же генетическими врагами были нацистский Третий Рейх — как государство германского народа, и социалистический Советский Союз — как государство советского народа. Германия и Россия исторически и геополитически изначально врагами не были, потому что всегда были призваны не уничтожать, а дополнять друг друга.
И тем не менее между ними за короткий исторический период дважды возникали жестокие войны. В чем дело? Почему?
Подробно рассматривая обстоятельства и истоки формирования конфликта Германия — СССР, я обнаружил, что причины их возникновения ведут в глубь времен: от начала тридцатых годов — к послеверсальской Веймарской Германии и полутроцкистскому СССР начала двадцатых годов, затем — к Версальскому миру, Первой мировой войне, а потом — и к её предыстории.
При этом как-то естественно и логично такое ответвление темы приобретало самостоятельное значение и законченность.
После того как предыстория, история и послеистория старой войны легла на бумагу, я понял, что одну-то книгу я уже написал — ту, которую ты, читатель, сейчас держишь в руках. Первая основная идея её ясна и в особых комментариях не нуждается. Мировые войны задумало и обеспечило Мировое Золото. Властвующие эксплуататорские элиты мира — вот основная и единственная причина крупных войн XX века.
Разрабатывая и аргументируя эту идею, погружаясь в давно отшумевшие, но все еще не устаревшие страсти, я раз за разом приходил к мысли об искусственности участия дореволюционной России в войне западного мира с Германией. Не должны мы были с ней воевать, ни к чему это было нам, с любой точки зрения. Если, конечно, иметь в виду точку зрения друга России, а не ее недоброжелателя.
Собственно, исследуя проблему «германцы — русские славяне», можно было бы добраться до времен поздней Римской империи и даже более древних — ведических, арийских.
И на этом пути — далеко не богатом взаимными конфликтами, мы вспомнили бы, что Ливонскую, например, войну Иван Грозный вел не с немцами, а прежде всего — со шведами, что на Грюнвальдском поле смоленские полки были лишь в силу того, что смоленские земли находились тогда под властью Литвы, что Александр Невский получил свое прозвище за невскую победу 1240 года не над немецкими «псами-рыцарями», а над шведским войском во главе с родственником шведского короля Биргером. Да и в Ледовом побоище, в столкновении с Тевтонским орденом, произошедшем через два года, орденские войска были фактически интернациональными (немцы, датчане, рыцари-добровольцы из других европейских стран, чудь — эсты).
Первое издание Большой советской энциклопедии в томе первом за 1926 год называет среди врагов Александра Невского шведов, ливонцев, литовцев, а о немцах даже не упоминает. Сам же Тевтонский орден появился на Балтике по приглашению польского князя Конрада Мазовецкого и обосновался там волею католических владык Запада для борьбы с литовскими язычниками-славянами. Ориентировали тевтонских рыцарей и на православную Русь, но рыцарей, а не немцев как таковых.
Между прочим в том же первом издании БСЭ, но уже в томе 45, изданном в 1940 (!) году, Ледовое побоище описывается подробно и с упором на немцев… Думаю, не Сталин и не друзья России подписывали в печать энциклопедическую статью с такой вот направленностью…
Мы помним о победах русских чудо-богатырей при Егерсдорфе и Кунерсдорфе над прусским войском в Семилетней войне, знаем, что в 1760 году русские доходили до Берлина в первый раз (заняв его, правда, всего на три дня). Но мало кто помнит, что Семилетняя война началась из-за колониальных свар Англии и Франции, а потом Россию в эту абсолютно не нужную войну втянула в своих интересах австрийская императрица Мария-Терезия, ловко использовав личную обиду Елизаветы Петровны на прусского короля Фридриха.
Конфликт Пруссии и России был выгоден лишь Австрии, Франции, Англии и Швеции. Знаменитый мемуарист тех времен Андрей Болотов (участник Семилетней войны) писал: «Заключены были (Марией-Терезией. — С.К.) тайные союзы с саксонским курфюрстом, бывшим тогда вкупе и королем польским, также с королем французским и с самою Швециею. Употреблены были все удобовозможные способы к заключению такового же союза с Россиею и к преклонению ее к тому, чтоб и она вплелась в сие замышляемое и до нее нимало не касающееся дело».
С тех пор как Россия вышла на европейский и мировой уровень, ее пытались «вплести» и «вплетали» в чуждые ей авантюры не раз. И поговорить об этом было бы не лишним, но такое путешествие во времени увело бы нас слишком далеко от проблем недавних и нынешних…
Я не историк, а ядерный аналитик. И принимаясь за переоценки новейшей истории XX века, а также примыкающей к ней эпохи, не шел от личных симпатий и антипатий, не выстраивал заранее схем и не хотел исходить из чужих построений. Я не следовал за устоявшимися схемами, однако и не игнорировал их, но критически переосмысливал, стараясь оставлять то, что позволяло выявить историческую истину, а не подправлять её в каком-либо заранее заданном ключе: «коммунистически-официозном», националистическом, прозападном или антисоветском. Не стремясь к лаврам чрезмерно (а порой — и злостно) беллетризующего историю Валентина Пикуля или поверхностно-залихватски трактующего ее Александра Бушкова, я хотел добиться легкости, но не легковесности восприятия читателем серьезных фактов и оценок.
Основу моего подхода составил критический анализ на базе параллельного чтения (начинал я его, естественно, за многие годы до начала работы над данной темой) различных дореволюционных, советских, постсоветских и западных источников. Это была моя первая точка опоры — мой первый «кит».
Вторым «китом» стала уверенность в общности основных человеческих проявлений в любую эпоху. Чтобы понять, на сколько истинно то или иное историческое свидетельство, очень полезно представить себя в этой эпохе, на месте её героев.
А третьей точкой опоры была избрана честность подхода. Я не стремился дать некую новую версию событий. Хотелось провести наиболее близкую к тому, что было на деле, реконструкцию, то есть восстановить истинную (иными словами — тайную) подоплеку происходившего на глазах сотен миллионов людей.
А когда каркас моих представлений о тех временах уже наметился, я взял за правило не бояться испытывать его на прочность раз за разом, сравнивая то, что получилось у меня, с тем, что делали до этого другие. И, на мой взгляд, здание, в которое я предлагаю войти читателю, выстроено не на песке.
В двадцатые годы на эту же тему написал свою книгу «Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг.» академик Е.В. Тарле. Честно говоря, я узнал об этом уже после того, как первый вариант книги был готов.
И я засел за изучение труда Евгения Викторовича, все более радуясь, что читаю его уже после, а не до написания своего «Версаля…». Книга Тарле великолепна по фактографии и, как всегда у него, блестяща. Однако исторически она мало состоятельна. Почему я так ее оцениваю, читателю станет, надеюсь, ясно при чтении моей книги…
Разные историки и авторы лгали или умалчивали по-разному. На их взгляды и готовность к точности, имея в виду их приверженность «предренегатскому» ЦК КПСС, влияли одни факторы, на позиции западных историков — другие.
Мемуаристы зачастую были еще более пристрастны, чем историки, а если были честны они, то подправлением реальной истории занимались редакторы их мемуаров. В постсоветские времена на российских информационных просторах начали действовать совсем уж отпетые лжецы, конъюнктурщики и «историки»-расстриги.
Но и среди вранья может попадаться прочная, надежная правда. Отыскать в этих завалах, созданных совместно Востоком и Западом, не бутафорские, а настоящие «кирпичи» событий, фактов и причин было непросто, но я старался, читатель.
Без знания, хотя бы вкратце, того, как и для чего задумывалась Первая мировая война, как она начиналась, продолжалась и закончилась, совершенно невозможно понять ни причин Второй мировой войны ни вообще, того, что происходит в ми ре сегодня. Но история с Первой мировой интересна и поучительна сама по себе.
Поучительна и тем, что хорошо вскрывает технологию, по которой в XX веке русские и немцы были столкнуты лбами вначале в первый, а потом — и во второй раз.
Столкнут ли нас ещё и в третий? Вопрос не праздный. Уничтожаемую извне и изнутри нынешнюю Россию внешний мир может брать, казалось бы, голыми руками. Так нас и берут.
Однако можно ли нас взять руками вооруженными? Нет, по сей день — вряд ли, потому что в этом случае народы России осознают гибельность ситуации и, как встарь, ощетинятся иглами сопротивления. То есть для России, осознавшей себя суверенной и независимой державой, конфронтация с внешним миром неизбежна.
Какая позиция будет здесь отвечать интересам германского народа? Выгодна ли именно для Германии новая конфронтация с Россией? Задумываться об этом нужно сегодня, чтобы наше завтра было более умным и осмотрительным, чем поза- и поза-поза-вчера.
О Первой мировой войне писал и Солженицын… Историк и публицист Николай Николаевич Яковлев оценил роман «Август четырнадцатого» как книгу, проникнутую «смердяковской» тоской о том, что, мол, «умная нация» (немцы) не покорила нацию «весьма глупую» (то есть нас)..ж
Оценено неплохо, но Смердяков говорил, вообще-то, о французах: «Хорошо бы нас покорили тогда эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки…».
Яковлев был и прав, и не прав… Справедливо отвергая концепцию Солженицына, он не видел благодетельности идеи о значении Германии для России. Не покорение русских — нации, социально весьма неопытной и неумелой — немцами, то есть, нацией действительно более организованной и деловитой, а взаимовыгодные мирные связи — вот что было бы оправдано и политически, и экономически, и цивилизационно.
Я не считаю, что сказанное мной можно оценивать как низкопоклонничество перед Германией и проповедь неполноценности России. Нет, думаю, что в такой констатации есть всего лишь трезвое понимание тех исторически (со времен проклятого татаро-монгольского ига) сложившихся пороков национального русского характера, изжить которые нам было бы наиболее просто в союзе лишь с одним «внешним» народом — немецким.
В разгар нашего первого трагического конфликта с Германией — 4 октября 1917 года — немец Томас Манн писал немцу же профессору Виткопу: «И как я люблю все русское! Как веселит меня его противоположность всему французскому и его презрение к нему, с которым встречаешься в русской литературе на каждом шагу! Насколько ближе друг другу русская и немецкая человечность! Мое многолетнее искреннее желание — согласие и союз с Россией»…
Вот так.
* * *
Остается сказать последнее… Я не хотел связать в этой книге «все концы» — скорее здесь завязан ряд «узелков на память». В подзаголовке названия я написал «Новый взгляд на старую войну», но можно было написать и «прямой взгляд, не предвзятый».
И, конечно, мне хотелось приобщить тебя, уважаемый читатель, к такому взгляду, убедить в моей правоте. Но прежде всего мне хотелось написать не просто точную и строгую с фактической точки зрения книгу, а интересную.
Я старался, читатель. А что из этого вышло, судить теперь тебе.
Сергей Кремлёв (Сергей Брезкун)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОТ СЕДАНА ДО ПАРИЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ГЛАВА 1 Карты века сданы, карта мира раскрашена
Эпоху между двумя мировыми войнами нельзя понять, не зная причин возникновения Первой мировой войны, а по поводу причин встают несколько главных вопросов… Готовилась ли война? Если готовилась, то кем, как и зачем? Насколько она была неизбежна? И как протекали хотя бы основные события, которые ей предшествовали? Между прочим, даже в давние времена перед этими вопросами пасовали серьезные европейские историки. Французский профессор А. Дебидур свой наиболее известный труд «История европейской дипломатии» закончил в 1891 году так: «Мы можем надеяться (не впадая в утопию), что наиболее опустошительные завоевательные войны, причинами которых, почти всегда, является честолюбие какой-либо династии или необдуманный порыв какого-либо народа, станут в Европе все более и более редкими».
Здесь было ошибкой всё: и объяснение причин, и само предвидение хода событий. Через четверть века после прогноза Дебидура в самом центре Европы шла именно опустошительная завоевательная война с участием соотечественников профессора. Но где и когда она началась?
На вопрос «Когда она закончилась?» ответить проще. Окончательно: 28 июня 1919 года во Франции, в Версале, когда были поставлены подписи под основным документом, фиксирующим итоги Первой мировой войны. А если мы пойдем по шкале времени назад? Тогда, перебирая прошлое год за годом, можно увидеть, что и начиналась Первая мировая гам же — в Версале во второй половине XIX века, когда стали формироваться условия для такой европейской войны, в малейшее сравнение с которой не шли даже наполеоновские войны.
Версаль — это бывшая деревушка, позже — маленький городок в восемнадцати километрах от Парижа. Людовик XIV уст роил в нем блестящую резиденцию. С тех пор Версаль вошел не только в придворные хроники, но и в историю дипломатии. В 1763 году — за шесть лет до рождения Наполеона — Генуэзская республика передала здесь Франции Корсику. В 1783 году Версальский мирный договор утвердил независимость США. В свете будущих далеких событий — деталь символическая.
О красоте Версальских фонтанов слышали все. Менее известно, что для того чтобы «король-солнце» мог любоваться блеском водяных струй, тут вначале рекой лились и золото, и кровь. На постройку водопровода для версальских каскадов королевская казна за три года истратила девять миллионов ливров. У тридцати же тысяч солдат и каменщиков, занятых на строительстве, были только жизни. Жизнью и пришлось заплатить за королевское удовольствие десяти тысячам из них. А весь Версальский комплекс обошелся народу Франции в полмиллиарда ливров. Общий итог в человеческих жертвах от историков ускользнул.
Версаль столетиями был символом вечного празднества, но его подлинная символическая суть иная: за внешним золотым блеском для сотен избранных — нищета, страдания и смерть миллионов тех, кто этот блеск создавал.
Ко второй половине девятнадцатого века в версальских прудах отразилось много великих событий. Здесь французская монархия в лице Людовика XIV достигла своего могущества, отсюда король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта отправились в путь, закончившийся для них на гильотине. Здесь короткими шажками мерил длинные роскошные залы дворца император французов Наполеон и здесь же значительно позже красовался его племянник, тоже император Наполеон III. Вторая империя третьего Наполеона закончилась вместе с капитуляцией французской армии при Седане во время франко-прусской войны.
Об этой давней войне, имевшей эпохальное значение не только для обеих стран — ее участниц, но и для остального большого мира, в Советском Союзе писали всегда невнятно. До прямых фальсификаций, правда, дело не доходило, однако ракурсы подачи эпохи были смещены серьёзно.
В чём тут дело? Пожалуй, в том, что одним из результатов войны стало вначале образование, а затем падение Парижской Коммуны. И косвенная причастность Пруссии, Бисмарка, Мольтке к разгрому Коммуны сразу программировала негативное отношение к победе немцев в трудах советских историков.
У «историков ЦК КПСС» выходило так, что угрюмая, воинственная, милитаристская, кровожадная и агрессивная Пруссия, желающая поскорее выполнить программу объединения Германии «железом и кровью», вторглась в солнечную и жизнерадостную Францию, жестоко подавила её, отняла Эльзас и Лотарингию и ограбила побежденных французов, наложив на них контрибуцию в 5 миллиардов франков.
Бисмарка же вообще обвиняли в подлоге. Он, якобы и спровоцировал войну, вычеркнув несколько фраз из так называемой Эмсской депеши перед тем как передать её в печать.
Имея перед глазами такую схему, не сразу можно было разобраться в том, что войну 19 июля 1870 года объявила Пруссии Франция! Причем Иван Сергеевич Тургенев, связанный с французской общественной средой теснейшим образом тем не менее оценил это объявление как «бесправное (т. е. необоснованное. — С.К.), дерзко-легкомысленное».
И заносчиво-агрессивное, прибавлю уже я. Французская империя Наполеона III вознамерилась как минимум присвоить Рейнскую провинцию с историческими городами Кёльном, Аахеном, Триром (родиной Карла Маркса), то есть, как комментировал Тургенев, «едва ли не самый дорогой для немецкого сердца край немецкой земли».
Французы были заранее уверены в победе. Их ружье Шаспо по дальности (до 1800 м) и скорострельности (9 выстрелов в минуту) превосходило прусское игольчатое ружье Дрейзе. Решительный перевес у немцев был в артиллерии: крупповские стальные нарезные орудия стреляли на 3,5 километра, а французские бронзовые — не далее 2,8 километра. Зная это, можно сказать, что война оказалась неким противостоянием фанфаронистой «бронзы чувств» и современных, новейших «стальных воли и ума».
В своих «Письмах о франко-прусской войне», написанных в августе 1870 года в Баден-Бадене, Тургенев отмечал: «Шансы на стороне немцев. Они выказали такое обилие разнородных талантов, такую строгую правильность и ясность замысла, такую силу и точность исполнения, численное их превосходство так велико, превосходство материальных средств так очевидно»…
Написал Тургенев и о противниках немцев: «Я и прежде замечал, как французы менее всего интересуются истиной… Они очень ценят остроумие, воображение, вкус, изобретательность, — особенно остроумие. Но есть ли во всем этом правда? С этим нежеланием знать правду у себя дома соединяется лень узнать, что происходит у других, у соседей. И притом, кому же неизвестно, что французы — „самый ученый, самый передовой народ в свете, представитель цивилизации и сражается за идеи“… При теперешних грозных обстоятельствах это самомнение, это незнание, этот страх перед истиной, это отвращение к ней — страшными ударами обрушились на самих французов».
Тургенев надеялся, что поражения образумят Францию, заставят ее посмотреть на себя трезвым взглядом, как это было с Россией после Крымской войны. Однако, забегая вперед, можно сказать, что верных выводов французы так и не сделали… Вместо того чтобы упорно работать, учиться у немцев ежедневному строительству экономической мощи страны (а заодно учиться и уважать своих учителей-соседей, как это сделал Петр I в отношении шведов), французы все страсти галльской души вложили в идею «реванша над бошами». И уже одно это обстоятельство давало основание ожидать в будущем крупного военного конфликта на тех же полях сражений — в районе Страсбурга, Меца, Шалон-сюр-Марна… И ожидать по вине не столько немцев, сколько недалеких, но мстительных французов.
Смысл франко-прусской войны часто видят в «захватнических планах» прусского юнкерства. Что ж, одной из причин было и это. Совсем по-другому ее смысл представлял себе в реальном масштабе времени человек истинно русский, долго живший во Франции, скончавшийся в Буживале близ Парижа, однако и Германию считавший своим вторым отечеством. Свидетельства и оценки И.С. Тургенева ценны сразу по нескольким причинам, ведь он — и хорошо осведомленный современник, и тонкий, внимательный наблюдатель, и великий писатель, и объективный аналитик, приверженный не одной чьей-то стороне, а только собственному видению событий. Думаю, читатель, что увидеть франко-прусскую войну его глазами будет для нас и полезно, и интересно. Да и, пожалуй, неожиданно…
Так вот, 8 августа 1870 года Тургенев писал П. Анненкову: «Я с самого начала, Вы знаете, был за них (немцев. — С.К.) всею душою, ибо в одном бесповоротном падении наполеоновской системы вижу спасение цивилизации, возможность свободного развития свободных учреждений в Европе: оно было немыслимо, пока это безобразие не получило достойной кары… Говоря без шуток: я искренне люблю и уважаю французский народ, признаю его великую и славную роль в прошедшем, не сомневаюсь в его будущем значении; многие из моих лучших друзей, самые мне близкие люди — французы; и поэтому подозревать меня в преднамеренной и несправедливой враждебности к их родине, вы, конечно, не станете».
Вот почему Тургенев не просто личную точку зрения излагал, а писал чистую правду, сообщая: «Я всё это время прилежно читал и французские, и немецкие газеты — и, положа руку на сердце, должен сказать, что между ними нет никакого сравнения. Такого фанфаронства, таких клевет, такого незнания противника, такого невежества, наконец, как во французских газетах, я и вообразить себе не мог… Даже в таких дельных газетах, как, например, „Temps“ попадаются известия вроде того, что прусские унтер-офицеры идут за шеренгами солдат с железными прутьями в руках, чтобы подгонять их в бой, и т. п… И это говорится в то время, когда вся Германия из конца в конец поднялась на исконного врага»…
А враг действительно был старинный — со времен ещё Тридцатилетней войны и последовавшего за ней Вестфальского мира 1648 года, по которому Франция отторгла от Германии Эльзас и добилась юридического закрепления германской раздробленности на ворох мелких «королевств» и «княжеств».
Владетельная шваль одинакова везде, что в России раннего Средневековья, что в абсолютистской Европе. Русские удельные князья «обеспечили» трехсотлетнее татарское иго России, французские герцоги и графы — Столетнюю войну Франции. А германские «великие» князьки более двухсот лет преграждали путь Германии к объединению. Но помогали им и этом «вестфальские» принципы и идеи.
Недаром даже через десятилетия после Седана канцлер Германской империи фон Бюлов, выступая 14 ноября 1906 года в рейхстаге, напоминал: «Вестфальский мир создал Францию и разрушил Германию».
Теперь, когда Германия возрождалась и на поднятый меч отвечала поднятым мечом, французы не проявили в своем противостоянии с ней ни ума, ни чувства меры, ни благородства. Официальный «Journal Officiel» уверял, что цель войны со стороны Франции — возвращение немцам их свободы (!). Журнал «Soir» восклицал: «Наши солдаты так уверены в победе, что ими овладевает как бы некий скромный страх перед собственным неизбежным (это было написано за месяц до Седана. Каково? — С.К.) триумфом»! Одновременно парижская газета с названием «Свобода» нахваливала некого Марка Фурнье за его статью в «Paris-journal», где было сказано дословно: «Наконец-то мы узнаем сладострастие избиения. Пусть кровь пруссаков льется потоками, водопадами, с божественной яростью потопа! Пусть подлец, который посмеет только сказать слово „мир“, будет тотчас же расстрелян как собака и брошен в сточную канаву»…
Словами дело не ограничивалось… Немцев избивали (не на поле боя, а мирных, живших во Франции) и особым постановлением изгоняли (всех подчистую) из французских пределов. Тургенев отмечал: «Разорение грозит тысячам честных и трудолюбивых семейств, поселившихся во Франции в убеждении, что их приняло в свои недра государство цивилизованное».
В то время Пруссия считалась другом России. Эта дружба, возникшая после Битвы народов под Лейпцигом, где русский и прусский солдаты плечом к плечу стояли против Наполеона Бонапарта, постоянно укреплялась растущими экономическими взаимными оборотами. Однако петербургская печать с пеной у рта протестовала «против немецких захватов». А корреспондент «Биржевых ведомостей» сообщал, что, дескать, в Бадене кричат: «Смерть французам!», и отдыхающие там русские барыни вследствие этого перешли на русский язык. Находившийся, как мы знаем, в самом Баден-Бадене Тургенев заметил: «Г-н корреспондент достоин быть французским хроникером: в его заявлении нет ни слова правды».
На деле наши барыни по-прежнему предпочитали русскому языку французский с нижегородским акцентом. И даже щипали корпию не только для немецких, но и для французских раненых, с которыми (как и вообще с пленными) немцы вели себя по-рыцарски. В отличие от французов. «Благородные» шевалье призвали на европейскую войну «звероподобных тюркосов (то есть алжирских арабов. — С.К.)», а уж те обращались с немецкими пленными, ранеными, врачами и сестрами милосердия далеко не благородно.
Впрочем, и цивилизованный политик Поль Гранье де Кассиньяк отказывал женевскому Красному Кресту в субсидиях на том основании, что он-де будет заботиться не только о французских, но и о немецких жертвах войны. Невольно вспоминается заявление генерала графа Дюма во времена наполеоновской оккупации Дрездена. Когда город осадили союзные русско-прусские войска, Дюма объявил: «Скорее все жители города обратятся в трупы, нежели один-единственный французский солдат умрет с голоду». До этого, правда, не дошло — Дрезден быстро занял незабвенный Денис Давыдов.
Приведу вновь свидетельство Тургенева, неплохо разбиравшегося и в политике, и в словесном выражении человеческих мыслей и устремлений: «Нельзя не сознаться, что прокламация короля Вильгельма при вступлении во Францию резко отличается благородной гуманностью, простотой и достоинством тона от всех документов, достигающих до нас из противного лагеря; то же можно сказать о прусских бюллетенях, о сообщениях немецких корреспондентов: здесь — трезвая и честная правда; там — какая-то то яростная, то плаксивая фальшь. Этого, во всяком случае, история не забудет».
Впоследствии, увы, всё сложилось так, что последний прогноз Ивана Сергеевича не оправдался. Только потому, что Германия — Пруссия, выиграв франко-прусскую войну, не отказалась воспользоваться плодами победы, советская «История дипломатии», например, оценила линию Пруссии как «захватническую» и «несправедливую».
А вот В.И. Ленин, к слову, был в своей исторической оценке спокоен: «Во франко-прусской войне Германия ограбила Францию, но это не меняет основного исторического значения этой войны, освободившей десятки миллионов немецкого народа от феодального раздробления и угнетения двумя деспотами, русским царем и Наполеоном III».
Не стоит подозревать Ленина в неком германофильстве. В августе 1915 года, уже в разгар Первой мировой войны, он писал: «Не дело социалистов помогать более молодому и сильному разбойнику (Германии) грабить более старых и обожравшихся разбойников (то есть — Англию и Францию. — С.К.)».
Ленин был прав и во второй своей оценке, и в первой. Накануне франко-прусской войны вопрос об объединении Германии встал особенно остро. В 1867 году был создан Северо-Германский союз, по конституции которого прусский король (Вильгельм Первый) возглавлял все германские государства к северу от реки Майн в качестве президента союза, его верховного военного главы и руководителя его дипломатии. Южные немецкие государства— Бавария, Гессен, Вюртемберг — заключили с Северогерманским союзом соглашения. И для Бисмарка, и для массы немцев такое положение было лишь прологом к единой Германской империи.
«Неужели можно одну секунду сомневаться в том, что какой-то народ на месте немцев, в теперешнем их положении, поступил бы иначе»? — совершенно справедливо заключал и Тургенев.
Германия включила в свои пределы Эльзас и Лотарингию не только по праву победителя, но и потому, что французский, например, город Страсбур был основан как немецкий Страсбург и присоединен к Франции лишь в 1681 году — через тысячу лет после основания! Имена создателей знаменитого Страсбургского собора — Эрвина из Штейнбаха, Ульриха из Энсингена, Иоганна Гюльца из Кельна — говорят сами за себя. А так называемая Страсбургская присяга, данная 14 февраля 842 года близ Страсбурга, оказалась одновременно памятником и старофранцузского, и древненемецкого языка, потому что тогда два младших внука Карла Великого клялись совместно действовать против их старшего брата Лотаря. Людовик Немецкий (будущий король Германии) клялся на немецком, а Карл Лысый (будущий король Франции) — на французском языке. Так что на эти земли права были, в общем-то, и у немцев, и у французов, спорные и равные.
Крах Второй Французской империи отдал первенство немцам.
После Седанской катастрофы Версаль стал штаб-квартирой прусского короля Вильгельма, В Зеркальном зале Версальского дворца 18 января 1871 года и была провозглашена Германская империя. Вильгельм оказался первым германским императором — кайзером. Прошло почти полвека, и положение двух стран поменялось противоположно: в Первой мировой войне потерпела поражение Германия. Великодушие не относится к добродетелям властителей европейских народов. Из поколения в поколение они жадны, жестоки и мстительны. Лишний раз это подтвердил премьер Французской республики Жорж Бенжамен Клемансо. Именно стены Зеркального зала избрал он в свидетели унижения теперь уже Германии — в отместку за Седан. Так в Версале был подписан последний в его «дипломатической» истории важный международный акт — Версальский мирный договор 1919 года. Это произошло после заключения предварительных условий мира во французском штабном вагоне в Компьенском лесу 11 ноября 1918 года. Пройдут еще двадцать лет, и опять капитулирует Франция. Гитлер прикажет притащить Компьенский вагон, чтобы подписать капитуляцию обязательно в нем. Но не забудем — тут он всего лишь следовал примеру Клемансо.
Государства выигрывали и проигрывали, народы исправно платили дань золотом и жизнями. Такое распределение обязанностей не было чем-то новым, но после франко-прусской войны масштабы и характер политики «железа и крови» становились совсем другими. Именно с этой поры началась новая история мира, потому что в мир пришел новый мощный фактор его преобразования — объединенная имперская Германия.
Примерно в те же годы окончательно сложился и еще один серьезнейший фактор — финансовый, банковский капитал, активно сращенный с торговой и промышленной жизнью капиталистического мира и управляющий им.
Академик Е.В. Тарле в конце 1920-х годов в книге «Европа в эпоху империализма. 1871–1919 гг.» писал: «Намечалась грандиозная внешняя борьба, столкновение самых гигантских сил, какие только видело человечество. Могущественно организованный финансовый капитал и в Англии, и во Франции, и в Германии, двигая, как марионетками, дипломатией, всюду пел систематически провокационную политику. Могущественные экономические силы более отсталых стран, вроде России и Италии, действовали в том же духе»…
Но… Но Евгений Викторович так и не пришел к генеральной, основополагающей мысли о том, что «столкновение самых гигантских сил» намечалось прежде всего государством, находившимся за океаном, что фактическую режиссуру в театре политических марионеток Золотого капитала играл Дядя Сэм.
Увы, не поняв этого, Тарле ошибся и во многом другом, увидев смертельного врага России в Германии, хотя именно она могла стать для России наиболее подходящим партнером по внешнем мире.
Ведь объединение Германии произошло не благодаря «железу и крови», по словам Бисмарка. Германию объединило стремление десятков миллионов немцев, осознавших, что их подлинная Родина — не Баден, Вюртемберг, Гессен или Дарм-штадт, а Германия, разобщенная на протяжении веков и поэтому на протяжении веков ослабленная. Теперь она объединялась, и в новой Европе очень многое зависело от того, как сложится судьба германо-российских связей. Именно их.
Наступали новые времена, и период от версальского триумфа Вильгельма до версальского триумфа Клемансо (только вот — Клемансо ли?) задал тон событиям на весь двадцатый пек. Поэтому нам просто необходимо, читатель, хотя бы «галопом проскочить по Европа» тех лет, чтобы разобраться в собственном времени.
Нет лучшего «романа» о молодом империализме, чем ленинский «Империализм как высшая стадия капитализма». Он полон фактов и цифр, которые никак нельзя назвать сухими — гак много в них слез, пота, крови, нефти и керосина, финансовых бурь, океанских вод, золотых дождей и водопадов политиканского красноречия. По накалу изображенных страстей страницы ленинского «романа» могут соперничать сразу с Шекспиром и Мольером одновременно. Возможно, читатели подумают, что я преувеличиваю? Отнюдь нет. Вот ведь и часто цитируемый Лениным, далеко не литературный берлинский журнал «Банк» считал, что «на международном рынке капиталов разыгрывается комедия, достойная пера Аристофана».
И этот же журнал не скрывал, каковы гонорары «актеров»: «уступка в торговом договоре, угольная станция (то есть, лишний порт в далеких водах для заправки грузовых судов, а при необходимости — и дредноутов. — С.К.), постройка гавани, жирная концессия, заказ на пушки»…
А последнее становилось все более нужным. Почти одно временно с версальскими речами Вильгельма в 1872 году английский еврей Дизраэли, лидер аристократичных консерваторов, бывший и будущий премьер-министр Ее Королевского величества Виктории и будущий лорд Биконсфилд, выступал в Хрустальном дворце в Сайденхэме близ Лондона. Бывшее главное выставочное здание Всемирной Лондонской выставки 1851 года было насквозь пронизано солнцем, и это не метафора. Железный каркас дворца заполняли стеклянные плиты — он задумывался как символ светлого, обеспеченного новыми возможностями общества. Однако Британии этого лондонского солнца было уже мало. Для Дизраэли существовало лишь светило, обязанное не заходить над Британской империей, к расширению которой он и призывал. Друг Ротшильдов знал, что говорил, так же как и его преемник лорд Солсбери, разъяснявший новую колониальную политику так: «Раньше мы фактически были хозяевами Африки, не имея надобности устанавливать там протектораты или нечто подобное — просто в силу того, что мы господствовали на море».
Теперь приходилось расширять и формально закреплять свое присутствие, потому что господствовать хотел не только британский лев. К тому же к концу XIX века положение лордов хотя и было внешне прочным, но только внешне. Сесиль Родс (по имени которого долгое время часть Африки называлась «Родезия») говорил в 1895 году своему другу, журналисту Стэнду: «Я посетил вчера одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком: „Хлеба, хлеба!“ — я, идя домой и размышляя об увиденном, убедился более чем прежде в важности империализма. Мы должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя есть вопрос желудка. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами»…
Родс, конечно, не договаривал, что если вы хотите быть империалистами, то вы обязательно должны хотеть и войны — империалистической, внешней. Во-первых, она быстро и на вечно помещает часть избытка населения в «новые земли» и обеспечивает быстрый оборот стали, меди, хлопка и солдатских пайков… Во-вторых, без такой войны не обойтись просто потому, что не одни ведь английские лорды задумывались над увиденным в рабочих кварталах. Давление масс начинала ощущать правящая элита всех развитых стран.
Во Франции крах Второй империи привел вначале к установлению не Третьей республики, а Парижской Коммуны. И после 1871 года понятие «версальцы» во Франции приобрело вполне определенное значение — это были те буржуазные войска, что пришли из Версаля в Париж и расстреляли надежды рабочих у стены кладбища Пер-Лашез. Остались могилы, однако не исчезли надежды и память. И поэтому у французских собратьев Родса по классу тоже болела голова о новых землях и рынках, тем более что они-то знали, что это такое — гражданская война.
Начинала постепенно закипать и Америка. 1-го мая 1886 года в Чикаго рабочие забастовали и вышли на демонстрацию с требованием восьмичасового рабочего дня. Взамен многие из них получили девять граммов свинца. Правда, первая «маевка» погоды еще не делала. Будущий президент США Теодор Рузвельт писал в том мае сестре Анне: «Мои здешние рабочие на ранчо — люди, занятые на изнурительной работе, их рабочий день длиннее, а заработная плата — не выше, чем у многих стачечников; но они американцы до мозга костей. Я бы хотел, чтобы они оказались со мной рядом против мятежников; мои люди хорошо стреляют и не знают страха».
Подход, впрочем, не отличался особой новизной даже для Америки. Президент Пенсильванской железной дороги Томас Скотт шестью годами ранее высказался следующим образом: «Покормите рабочих-забастовщиков пулеметными очередями в течение нескольких дней, и вы увидите, как они примут этот вид питания».
Пули, однако, были только временным решением проблемы. В начале XX века 1 % «американской нации» владел 47 % национального богатства. Для «самой свободной страны» со отношение несколько неожиданное. И могли прийти такие времена, когда даже «американцы до мозга костей» не пожелали бы заниматься от зари до зари изнурительным трудом ради того, чтобы полковник Рузвельт и ему подобные забавлялись па охоте уничтожением последних американских бизонов.
Достаточно быстро это понял и сам бравый полковник. Уже в 1897 году он пишет статьи, одна из которых прямо называется «Как же не помочь нашему бедному брату». Нет, Рузвельт — теперь уже губернатор штата Нью-Йорк — не изменился. Добиваясь уступок рабочим от промышленников, он держал наготове национальную гвардию. После того как его выбрали президентом, для резерва он держал федеральные войска. Все же это был прогресс: пули уже не приходили ему на ум как первый и самый надежный аргумент. В 1899 году он пи сал другу, лорду Спринг Райсу: «Мы должны решать огромные проблемы, возникающие из отношений между трудом и капиталом. В предстоящие пятьдесят лет нам придется уделять этому вопросу гораздо больше внимания, чем экспансии»…
Рузвельт лгал даже старому другу — капитал США уделил внимание рабочему вопросу только после того, как США в 1929 году оказались на грани социальной революции. Уводить от нее Америку капитал доверил тогда Франклину Делано Рузвельту — кузену Теодора Рузвельта. А вот экспансию начал уже он сам…
Именно США стали инициаторами первой империалистической войны за новые колонии: в 1898 году были завоеваны Куба, Пуэрто-Рико, остров Гуам и Филиппины. Впрочем, ранее, в 1893 году, янки оккупировали Гавайские острова. Рузвельт тогда еще не был президентом, но его младший друг, писатель и журналист Уильям Уайт писал: «Когда испанцы сдались на Кубе и позволили нам захватить Пуэрто-Рико и Филиппины, Америка на этом перекрестке свернула на дорогу, ведущую к мировому господству. На земном шаре был посеян американский империализм. Мы были осуждены на новый образ жизни».
Лицемерие всегда было такой же фамильной чертой американской элиты, как и напористая наглость. По словам Уайта выходило, что если бы не «слабаки-испанцы», то добрый Дядя Сэм сидел бы себе спокойно между двух океанов и никуда оттуда не порывался бы. Тут все было поставлено, конечно, с ног на уши. Не слабость Испании «повернула» Америку к экспансии, а капитал Америки, набрав силу, двинулся по пути к мировому господству, отшвырнув пинком одряхлевшую Испанию.
Испано-американская война началась с того, что американское военное судно «Мэйл» было якобы взорвано испанской миной. Когда много лет спустя затонувшее судно подняли со дна моря, оказалось, что взрыв-то был, но изнутри!
Элита Америки начинала считать себя элитой мира, однако в Старом Свете были люди, думавшие иначе, чем те же Рузвельт и Уайт. Лорд Керзон в 1892 году писал: «Афганистан, За каспийский район, Персия — это для меня клетки шахматной доски, на которой разыгрывается партия; ставка в ней — мировое господство».
Керзон имел в виду, конечно, господство Британии. И тогда оно было реальностью. К 1900 году Великобритания владела 33 миллионами квадратных километров (в 109 раз больше самого Британского острова!), на которых жили 368 миллионов человек. Четверть земного шара и четверть населения мира! Индия была здесь лишь главной жемчужиной в британской короне, а Суэцкий канал — английской удавкой на горле мировой торговли.
Соединенные Штаты тем временем готовились затянуть свободу Центральной и Южной Америки поясом Панамского канала. Однако полными хозяевами янки там еще не стали. Имея груды золота, они не имели пока мощного флота, и поэтому бразильские, например, железные дороги строились, в основном, на французские, бельгийские, британские и немецкие капиталы. Из-за нехватки линкоров Штаты орудовали тогда больше принципами политики «открытых дверей» и «равных возможностей».
Однако Соединенные Штаты все больше проникались сознанием будущей роли властелина мира XX века. Сверхдержавный настрой присутствовал не только в тайных планах, он проявлялся даже на уровне массового сознания. Великий О'Генри написал своих «Королей и капусту» в 1904 году — за десять лет до Первой мировой войны. И уже тогда его «звездно-полосатый» консул в банановой Анчурии говорил о США как о «самой великой, твердовалютной и золотозапасной державе мира»… Хотя этого в действительности еще не было! Мало того, США в то время были самым великим в мире должником!
Франция, хотя и потерпела Седанское фиаско (при необходимости выплачивать пруссакам солидные репарации), сумела отхватить второй «колониальный» приз — 11 миллионов квадратных километров колоний с 50 миллионами полурабов. На французском языке получала приказы треть Африки! Но Франция в этой гонке оставалась далеко позади Англии. Зато она отыгрывалась в Европе, о чем еще будет сказано.
Слово «гонка» выражает самую суть. Во второй половине девятнадцатого века паруса уступали пару. Флоты держав мчались по земному шару, как на регате. И мир был окончательно поделен между капиталом разных стран очень скоро.
Мы как-то склонны считать, что он был поделен между европейскими державами уже во времена сэра Френсиса Дрейка, королевы Елизаветы и Лаперуза. Однако что нужно было Европе в XVII–XVIII веках от огромного внешнего мира? Табак, чай, кофе, пряности, экзотические краски, ценные породы дерева, фрукты и еще кое-что по мелочам.
Поэтому до XIX века планета была, по сути, «бесхозной». Только прогресс техники и знаний вызвал к жизни множество новых потребностей, в том числе и колониальных захватов. Недавно открытая таблица Менделеева из чисто научного достижения на глазах превращалась в торговый прейскурант. Бросовые земли, изгаженные пятнами нефтяных выходов, начинали цениться подороже золотоносных жил…
В 1876 году — через 5 лет после Седана — колонии занимали лишь 10-ю часть Черного континента, а к 1900 году — уже девять десятых! В то время полностью была захвачена Полинезия, а в Азии доделили ранее неприбранное к рукам. Формально независимыми там оставались лишь Турция, Аравия, Персия, Афганистан, Китай и Сиам. Впрочем, и там «белые» капиталы резвились вовсю, исключая разве что Афганистан.
Россия обходилась без колоний — она даже отказалась принять в русское подданство земли, открытые в Южном полушарии Миклухо-Маклаем. Зато Российская империя царя Николая II не отказывалась быть полуколонией сама. Английские исследователи Тьюгенхэт и Гамильтон писали, что нефтяные поля Баку уже в 1888 году давали 2,5 миллиона тонн нефти на площади всего в несколько десятков квадратных километров. Некоторые скважины самопроизвольно фонтанировали на высоту более 90 метров. Семье Нобелей лишь одна из них давала более миллиона галлонов нефти в день. То есть каждый день — состояние.
Тьюгенхэт и Гамильтон сравнивали расточительность и богатство некоторых нефтепромышленников с атмосферой во дворцах золотоордынского Кубилай-хана. У одного был дворец из золотых плит, другой хранил нефть в цистернах из платины, все ввозили из России множество красивых женщин и имели наемные войска «кочи» из разорившихся грузинских дворян для защиты друг от друга.
Вот какую жизнь, читатель, вела за счет российских недр «золотая» нечисть. А что имела Россия? Англичане не скрывали истинного положения: скученность рабочих бараков и за каторжный труд — хлеб пополам с водой.
Россия, правда, получила к 1913 году ещё и… острый топливный «голод»: добыча нефти в ней уменьшилась по сравнению с 1901 годом на 2 миллиона тонн. Нефтепромышленники ссылались на «естественное истощение недр». В действительности, ради взвинчивания цен новые нефтеносные поля консервировались, на старых сокращалось бурение. Закрывались нефтеперегонные заводы.
Мир был поделён на территориальные куски, но капиталы проникали через любые границы беспрепятственно и брали в долговую кабалу не менее крепко, чем белый плантатор чёрных рабов в колодки.
Вот так брали и нашу богатейшую, но стреноженную идиотизмом властей Россию. Франции не очень-то повезло с колоииями вне Европы, и она взяла свое в самой Европе. Англия размещала за границей в два раза больше капитала, чем Франция, зато на каждый «европейский» английский миллиард приходились почти шесть миллиардов французских! И почти греть заграничных французских капиталов вкладывалась в Россию. А это почти автоматически обеспечивало французским рантье миллионы русских мужиков со штыками на их стороне в любом крупном конфликте.
Конфликт же зрел. Причем претендентов на одно мировое господство было даже не три, а целых четыре. В Большую тройку энергично прорывалась Германия, превращая ее в Большую четверку капитала. Сам по себе германский капитал был и более национальным, чем англо-французский (и уж тем более — американский), и немного «на отшибе» из-за самобытности и новизны. После полного разгрома французской армии при Седане кайзер Вильгельм Первый, поднимая бокал за своих сподвижников, сказал: «Вы, генерал Роон, отточили наш меч, вы, генерал Мольтке, управляли им, а вы, граф Бисмарк, своей политикой в течение нескольких лет вознесли Пруссию на теперешнюю высоту».
Несмотря на достаточно почтенный возраст и самого автора тоста, и его адресатов, сам такой тост говорил о государственной молодости — вялый монарх в окружении расслабленных царедворцев ничего подобного сказать не сумеет. В имперской Британии конца XIX века подобные энергичные тосты были невозможны, несмотря на весь империалистический пыл Редъярда Киплинга. Там все катилось по давно накатанной колее. Неугомонные личности вроде Сесиля Родса могли успешно подвизаться лишь на периферии мира, но не в Европе.
А немцы сумели развернуться — и как! — в Европе. Да еще силой оружия! И тост кайзера с неприсущей Вильгельму красочной выразительностью отражал очевидный факт: Рейх возрос на умно выстроенном милитаризме, составлявшем особенность лишь германского империализма. (Еще более энергичный, еще более богатый капитал США развивался, не имея мало-мальских военных угроз, и поэтому мог позволить себе роскошь показного миролюбия и пацифизма).
Париж, конечно, обворожительней Берлина. Поддаваясь его обаянию, кое-кто склонен восхищаться Францией и возводить напраслину на Германию. И вот романист Валентин Пикуль в манере легкомысленного парижанина сообщает, что бедный провинциальный немецкий Вертер возрос-де как на дрожжах на контрибуции с Франции в пять миллиардов франков, «на грабеже». И как-то остается за пределами романических строк, что эти контрибуции были обеспечены новейшими стальными пушками Круппа, созданными трудом и талантом немецких ученых, инженеров и рабочих. Забылось и то, что Франция, Англия, Голландия, Бельгия получали намного большие «контрибуции» на грабеже колониальных народов.
Русский же военный атташе во Франции граф Игнатьев позже справедливо признавал, что «франко-прусская война была выиграна не только Мольтке, но и германским унтер-офицером, сельским учителем»… Впрочем, и сам Вильгельм I сыграл тут, наверное, положительную роль. Вот его вполне достоверная (из «Большой советской энциклопедии» 1928 года) характеристика: «В личной жизни был очень скромен, бережлив, несловоохотлив, чрезвычайно пунктуален и добросовестен в работе». Качества, красящие и простого человека, а уж монарха — тем более.
Иногда немецкое национальное самосознание и гордость пробуждали средствами, вообще неординарными для XIX века. В Париже — за четыре года до первого версальского триумфа немцев — на Второй всемирной выставке 1867 года был устроен так называемый «европейский концерт». За первенство на европейской арене (пока что — всего лишь музыкальной) сражались военные… оркестры.
И вот как знаменитый русский критик Владимир Васильевич Стасов описывал итоги «сражения капельмейстеров»: «Первыми были признаны оркестры австрийский и прусский, — с этим нечего было делать, их превосходство было уже слишком ощутительно для самих французов… Услыхав австрийцев и пруссаков, сам император (Наполеон Третий. — С.К.) воскликнул: „Вот настоящие образцы военной музыки! Вот чего нам надо добиваться“…»
Пруссаки, правда, не дали французам времени ни для того, чтобы отточить музыкальное мастерство, ни для того, что бы отточить шпаги.
А вот ещё одна символичная деталь — в самый первый день франко-прусской войны пруссак Андерсен выиграл в Баден-Бадене матч против самых сильных шахматистов Европы.
Всё это вместе — упорная повседневная работа «верхов», народной немецкой массы, военная победа над Францией и пятимиллиардные репарации обеспечили бурный рост экономики Второго рейха. В 1873 году наступил кризис, потребление упало вдвое. Однако германское производство, а, значит, и германская мощь, росли. И с 1884 года начинаются уже германские колониальные захваты: Камерун, Того, Маршалловы острова. Появляются Германские Юго-Западная и Восточная Африки, в Океании — архипелаг Бисмарка, Земля Императора Вильгельма. В предпоследний год XIX века Германия, пользуясь испано-американской войной, включает в состав империи Каролинские, Марианские острова и западную группу островов Самоа. Посреди колониального бума в 1891 году оформился и ультра-националистический Пангерманский союз, чьи цели полностью определялись уже самим названием. Один из его идеологов, генерал Фридрих фон Бернгарди, заявил: «Мы должны обеспечить германской нации и германскому духу на всем земном шаре то высокое уважение, которого они заслуживают».
В желании, чтобы тебя заслуженно уважали, ничего плохого нет. Плохим было то, что сам же Бернгарди и пояснял: «Наши политические задачи невыполнимы и неразрешимы без удара меча»…
* * *
Ещё недавно на карте мира вообще не было германского рейха, а к началу XX века он стал третьей колониальной державой, хотя и уступал Франции в четыре раза по площади колоний и их населению. Вышла Германия на третью позицию и по вывозу капитала, почти сравнявшись в общем итоге с Францией. Причем половину капитала Германия размещала в Европе и тут лишь чуть отставая от Франции. Была и особенность: почти треть заграничных капиталов рейх направлял в Америку — 10 миллиардов марок.
А общепланетный финансовый капитал распределялся так… В мире было примерно на 600 миллиардов франков ценных бумаг. Из них на долю Англии приходились 142 миллиарда, Соединенных Штатов — 132, Франции — 110 и Германии -95. Если кого-то интересует Россия, то могу сообщить: 31 миллиард против 24 миллиардов Австро-Венгрии и 12 — Японии. За десяток миллиардов переваливали еще Италия — 14 и Голландия — 12,5 миллиардов.
Хозяева капиталов объединялись в международные картели и делили сферы влияния. Без особого шума и учредительных конгрессов оформлялся «Золотой Интернационал». По самой его природе о добром согласии речи тут быть не могло. Согласие было, но непрочное, злое. Уж очень неравномерно все это было распределено — колонии, капиталы, дивиденды и экономические возможности. Штаты — как промышленная и финансовая держава — могли быстро выйти на первую позицию, Германия — на вторую. А международный рельсовый картель две трети внешних рынков отдавал Англии. Керосиновый рынок был поделен между американским «Керосиновым трестом» Рокфеллера и хозяевами русской нефти Ротшильдом и Нобелем. Втиснуться между ними для Германии означало попасть между двумя жерновами. Зато возникающий электрический рынок поделили американская «General Electric» и германская «AEG». Первая получила Штаты и Канаду, вторая — Германию, Австрию, Россию, Голландию, Данию, Швейцарию, Турцию и Балканы. Владычица морей — Британия — явно оставалась «на мели»… Зато легко обходила две электрические сверхдержавы на колониальных курсах…
Но и на морях Германия кое-где уже обходила Англию. Две крупнейшие немецкие судоходные компании — «Северогерманский Ллойд» и «Гамбург-Америка линие», на портале гамбургской конторы которой красовалась надпись: «Поле моей деятельности — весь мир», — имели вместе 148 судов общей вместимостью 770 тысяч тонн. Три английские — «Бритиш-Индиастим навигейшн», «Уайт стар лайн» и «Кунард» — 155 судов вместимостью 700 тысяч тонн. Впрочем, вскоре обеими немецкими фирмами завладел Джон Пирпонт Морган. Тевтонский патриотизм — патриотизмом, а доллары — и в Германии доллары.
Общая картина была пестрой, и состоявшийся раздел мира будущего передела не отменял. Наоборот, он делал его неизбежным. Интересы представлялись разнородными, а одинаковым оставалось стремление к максимальной наживе и обеспечению спокойных для нее условий.
Поэтому на рубеже двух веков все основные участники будущего мирового конфликта однажды объединились-таки в идеально сплоченную, дружную коалицию. И вряд ли когда-либо до этого и позже история знала союз более прочный, согласованный и искренний, движимый едиными идеями. Где же произошло такое чудо? Отвечу сразу — в Китае.
Со второй половины девятнадцатого века в Китай за прибылью не ходили только ленивые. Особенно отличались янки, но и немцы, англичане и прочие прибирали прибрежный Китай с такой жадностью, что не выдержали даже многотерпеливые в своем конфуцианстве китайцы. Тайное общество с очень убедительным названием «И-хэ-цюань» («Кулак во имя справедливости и согласия») начало готовить восстание. В 1899 году оно началось. Вот тут и случилось «великое единение». Общество «И-хэ-цюань» позднее преобразовалось в «И-хэ-туан» («Отряды справедливости и согласия»). В «цивилизованных» странах восстание ихэтуаней назвали «боксерским», но китайские крестьяне, ремесленники, кули и мелкие торговцы дрались преимущественно голыми кулаками. Зато кулак интервентов во имя несправедливости был надежно защищен. И не кожей и шерстью боксерской перчатки, а сталью и свинцом. В интервенции приняли участие Германия, Япония, Италия, Англия, США, Франция, Россия и Австро-Венгрия.
Английский адмирал Сеймур командовал объединенной англо-американской эскадрой, германский фельдмаршал Вальдерзее — объединенными сухопутными войсками.
Борьба против ихэтуаней стала первой совместной акцией Золотого Интернационала. Она же впервые показала, что нет предела единству разноплеменных жрецов капитала в деле планетного противостояния народам, отстаивающим свои права на своей земле.
Восстание в Китае растянулось на два года, а на заре XX века его подавили — зверски. Да ведь и зверья собралось там по рядком: львы, бойцовые петухи, нормально-одноглавые орлы, двуглавые птичьи уроды, слоны, ослы и шакалы…
ГЛАВА 2 Бисмарк, Дизраэли, Витте и печник Ошанский…
Мир входил в двадцатый век, на который возлагали много надежд, поскольку прогресс науки и техники обещал действительно много. Уже в 1834 году Николай Васильевич Гоголь писал: «На бесчисленных тысячах могил возвышается, как феникс, великий XIX век. Сколько отшумело и пронеслось до него огромных, великих происшествий! Сколько свершилось огромных дел, сколько разных образов, явлений, разностихийных политических обществ, форм пересуществовало. Какую бездну опыта должен приобресть XIX век! Богатый и обширно развитый наш умный XIX век, одаривший человечество таким счастием в награду его трудных и бедственных странствий».
Век Гоголя не оправдал его аттестации полностью, но он действительно изменил мир неузнаваемо и впервые сделал до стоянием человека всю планету.
Что сказал бы Гоголь, глядя на плоды девятнадцатого века в преддверии века двадцатого? Очевидно, это был бы вдохновенный гимн предстоящему окончательному освобождению человечества от невежества и бедствий… Однако хрустальные мечты об изобильном, новом золотом веке развеялись в последнем столетии второй тысячи лет от Рождества Христова, словно дым от пожара Хрустального дворца, сгоревшего в 1936 году — за три года до начала Второй мировой войны. Не успел век окрепнуть, как в нем началась Первая всемирная война.
Почему так произошло? Можно сказать, что причин было четыре: над Британской империей не заходило солнце, кайзера Вильгельма не пускали в Париж, Бисмарк рассорился с Россией, а президент Рузвельт дал газетчикам основания изобразить себя в роли садовника на карикатуре с названием «Рузвельт сажает дерево империализма».
Конечно, главной причиной была та, что мировой капитализм не мог не попытаться решить свои проблемы мечом. Однако имели немалое значение жадность английской элиты, высокомерие французской, бездарность русской и особое положение американского капитала. Возможно, вы обратили внимание, что в перечислении отсутствует германский компонент. И не случайно. Германский рейх и германский капитал тоже были причастны к «созданию» этой чудовищной войны, но они в своих действиях по отношению к внешнему миру были наиболее убедительны. Следовательно, и наименее виноваты.
Кайзер Вильгельм II дважды извещал французов о желании посетить Париж с официальным визитом. Французы отказывали. Конечно, еще Маркс сказал, что поскольку Германия завоевала Эльзас-Лотарингию, Франция будет воевать с ней. Вместе с Россией. Хотя в фактическом отношении Маркс попал, что называется, в точку, ход рассуждений его был не так уж и верен. Однако он подметил точно, что Франция без России противостоять Германии не смогла бы. Как бы галльский петух не хорохорился, не с германским орлом ему было тягаться. За Францией было добрых два века истории только полностью централизованного государства (не считая еще трех веков единого), а Германия, возникнув как целостное государство чуть ли не под конец XIX века, обошла Францию по экономическому развитию за два десятилетия!
К такому народу нельзя относиться высокомерно или легкомысленно. А французы поступали именно так. И пангерманисты имели какое-то право заявлять в 1912 году: «Мы не можем верить, что только мы одни должны довольствоваться той скромной долей, которую уделила нам судьба сорок лет назад». Кайзер Вильгельм II тоже резонно жаловался королю Италии: «За все долгие годы моего царствования мои коллеги, монархи Европы, не обращали внимания на то, что я говорил. Но скоро, когда мой флот подкрепит мои слова, они станут проявлять к нам больше уважения».
Вильгельм имел в виду, конечно, короля Англии Эдуарда VII и русского Николая II. Что ж, и тут основания для немецких обид существовали: ни английская, ни русская европейская политика национальным интересам не соответствовали. Эдуард в начале XX века ездил по Европе, подготавливая ту политику, которая изолировала бы Германию и которую он называл «политикой окружения».
Англия всё более становилась жертвой своих необъятных колоний и связанного с ними богатства. Она казалась вечным колоссом, способным указывать даже Соединенным Штатам. Ценные бумаги, вложенные в колонии, к 1913 году приносили их владельцам 200 миллионов фунтов стерлингов годового дохода. А всего на сто фунтов в год уже можно было существовать. Мечты Сесиля Родса приобретали прочный материальный фундамент: империя худо-бедно, но обеспечивала простонародные желудки на Английском острове. Однако богатство же одновременно и разъедало основы могущества. Английское золото растекалось по земному шару, а результатом становилась нехватка его для наращивания внутренней мощи. В 1913 году США выплавляли 31,3 миллиона тонн стали, Германия — 17,3 миллиона, а Англия — всего 7,7 миллиона. Не имея таких колоний, как английские, немцы работали над созданием мощной страны внутри собственных границ. А англичане «несли бремя белого человека» по всему свету. Занятие прибыльное, но сама Англия хирела, новые отрасли промышленности развивались в ней медленно.
Примерно в таком же положении оказалась и Франция — мировой ростовщик. Во Франции рос слой рантье, стригших купоны с русских займов, что стимулировало парижских рестораторов, а не промышленность и военную мощь. Гоголь в прекрасном отрывке «Рим» ярко и точно описал ширящуюся пустоту французского общества: «При всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Вся нация — блестящая виньетка, а не картина великого мастера».
Первой европейской (и чуть ли не второй мировой) державой становилась Германия. По праву? Пожалуй, да. У капитала остальной Европы было два выхода: или сотрудничать с Рейхом, или воевать с ним.
Для Франции сотрудничество означало подчинение. Ни на что другое, тоже по праву, Франция претендовать не могла. И уже с восьмидесятых годов XIX века по мере укрепления Германии Франция все более прикрывалась «русским щитом».
Выгодно ли это было России? Александр II, Александр III, тунеядствующее дворянство и вздорная, провинциально воспитанная русская буржуазия считали, что — да, так как чрез мерное ослабление галлов чересчур-де усилит «тевтонов». Российские либеральные профессора уже видели русские линейные корабли на «просторах» Балтики, знамена «христолюбивого воинства» — над черноморскими проливами. И, соответственно, русского царя — монархом всех славян.
Однако в России было не все так прекрасно. Внутри нее лежали нетронутыми огромные богатства, земля Русская раскинулась так широко, а народы, ее населяющие, были так темны, что все, что требовалось России, — это обеспечить надежную оборону границ и заняться внутренними делами. Иностранное участие в таких грандиозных делах было неизбежным, но национально состоятельным тут мог быть один принцип: «Львиная доля — России, а вы и так урвете немало». Петр Аркадьевич Столыпин делал хуже, чем говорил, но сказал мудро: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». Великие потрясения великую Россию исключали. Но даже мирная Россия могла быть великой, лишь развивая свои богатейшие окраины. У нас ведь еще были совершенно не разработаны Север, Сибирь, Дальний Восток… Трижды прав был кайзер Вильгельм уже Второй, когда поднимал на своем флагмане сигнал «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана», намекая кузену Николаю II, что не чего России соваться в Европу. Другое дело — ее восточные окраины.
Конечно, намек тут был сделан не без лукавства, но в нем содержалось здравое зерно. Кайзер имел в виду, безусловно, войну. Однако на Дальнем Востоке России нужно было не воевать, а работать. И работать в пределах своих же границ. Ну стоило ли державе с нетронутыми богатейшими внутренними ресурсами залезать в Корею, соваться в Китай, конфликтовать с Японией? Николай II презрительно называл японцев «макакашками», а в Японии к началу XIX века уже практически не было неграмотных. Деталь? Да! Однако одна такая деталь могла удержать умное российское руководство от опрометчивых действий. Но о каком уме и руководстве могла быть речь, если во время русско-японской войны командующий флотом Тихого океана адмирал Бирилев на требование командира Владивостокского отряда подлодок о выделении 24 французских свечей зажигания к двигателю недрогнувшей рукой начертал: «Достаточно двух фунтов казенных стеариновых»? Это не анекдот, а новейшая история царской России, читатель!
Англия, Франция, Германия были на карте мира яркими заплатками, а Россия протянулась на полмира и сама была миром — самобытным и самодостаточным. Европейские державы уже исчерпали внутренние возможности и устремились в колонии. Но Россия-то не раскрыла, не разработала и сотой доли собственных национальных богатств… Имея ум и сердце, это понимал уже Ломоносов, однако российские самодержцы конца XIX — начала XX века не имели ни сердца русского, ни ума — хоть какого-то… Потому и проводили такую глупую дальневосточную политику, которая русской кровью прокладывала дорогу на Дальний Восток не столько русскому, сколько европейскому капиталу.
На Дальнем Востоке от имени России совершались преступные глупости. А как обстояли русские дела в Европе?
Умная русская европейская политика укладывалась в три слова: «Мир с Германией». Такой мир позволял решать попутно и кавказские проблемы, развивать Среднюю Азию. Проводить достойную, уважительную к себе «германскую» политику России было бы непросто, однако возможно!
Недаром Бисмарк видел будущее российско-германских отношений только мирным. Да, противоречия между двумя странами были немалые, хотя большая часть их имела не объективный, а буржуазно-капиталистический характер. Самым неприятным образом это проявлялось в конкуренции русских и прусских помещичьих хлебов на германском и европейском рынках. Были и другие острые моменты, но они как раз и возникали из-за обширности взаимных связей. Разумным было бы одно: сглаживать углы и налаживать дружбу.
А «градоначальники» всероссийского Глупова поступали прямо противоположно. Уже после Седана Александр II требовал от Пруссии ограничиться меньшими репарациями, чем она рассчитывала получить с Франции. Так и пошло… В 1875 году Бисмарк затевает превентивную войну против Франции, а Александр II своей политикой ее срывает. В результате Россия после русско-турецкой войны на Балканах сталкивается на Берлинском конгрессе с противодействием Австро-Венгрии и Англии, а Германия ее не поддерживает. К слову сказать, в Берлине судьбу южных славян недрогнувшей рукой кромсали лорд Солсбери и наш знакомец Дизраэли, уже ставший лордом Биконсфилдом. Этот же дуэт тонко рассоривал и русских с немцами.
Стремление к постоянному ослаблению России вообще было неизменной линией Дизраэли год за годом. Расчёт был дальний, на десятилетия. И ведь выходило! В 1879 году Вильгельм I и Александр II рассорились окончательно. Недалекий, но самолюбивый русский «царь-освободитель» разобиделся на Германию за её поведение на Берлинском конгрессе — словно у Германии не было к России встречных серьёных претензий.
Берлинский конгресс, подводивший итоги русско-турецкой войны 1877–1878 годов, описывают в разных странах по-разному, и в России издавна ставят его Германии в вину. Так, известный советский историк академик В. Хвостов считал, что Бисмарк вел себя двулично, разыгрывая «честного маклера». Ещё более резко выражается 2-е издание Большой советской энциклопедии: «Председатель Берлинского конгресса Бисмарк занял позицию, явно враждебную России и славянским народам Балканского полуострова».
На самом же деле Бисмарк и до конгресса, и после него был лоялен по отношению к единственному государству — Германии, и к единственному народу — немецкому. Можем ли мы быть за это на него в претензии, читатель?
Собственно, на ход и исход Берлинского конгресса влиял не Бисмарк, а секретное Рейхштадтское соглашение, подписанное Александром II и австрийским императором Францом Иосифом в богемском замке Рейхштадт за год до русско-турецкой войны — 8 июля 1876 года.
Тогда факт его заключения от российских славянофилов скрыли, что и неудивительно. Ведь по этому соглашению стороны (фактически, только Россия) обязывались не оказывать содействия образованию на Балканах «большого славянского государства». Тем самым Россия обеспечивала себе нейтралитет Австрии при войне с турками.
Итоги турецкой войны и завершивший ее Сан-Стефанский договор стимулировали иной поворот событий, чем то было обусловлено двумя императорами до начала войны.
Недовольство Австрии и вызвало к жизни Берлинский конгресс и пересмотр Сан-Стефанского договора, что плохо сознавали как тогдашние, так и нынешние славянофилы.
За четыре месяца до Берлинского конгресса Тургенев писал в письме из Парижа: «Контрданс наш с Англией только что начался; запутаннейшие фигуры — впереди. Бисмарк, по-видимому, хочет ограничиться ролью „тапера“: пляшите, мол, голубчики, а мы посмотрим».
Осуждения Бисмарка у Тургенева нет. Великий наш писатель мыслил трезво: своя рубашка ближе к телу, тем более, когда это и не «рубашка», а РОДИНА! ОТЕЧЕСТВО!! Которое нужно любить не только сердцем, но и умно любить…
Между прочим, вот итоговое (уже после конгресса) мнение генерала Дмитрия Алексеевича Милютина, одного из авторов Сан-Стефанского русско-турецкого договора, существенно урезанного Берлинским трактатом: «Если достигнем хоть только того, что теперь уже конгрессом постановлено, то и в таком случае огромный шаг будет сделан в историческом ходе Восточного вопроса. Результат будет громадный, и в России можно будет гордиться достигнутыми успехами».
Милютин был политиком-практиком, в отличие от профессорствующих и литераторствующих болтунов-славянофилов. Поэтому и он, и канцлер Горчаков понимали, что Россия на Востоке одержала такую победу, которая намного превышает наши возможности воспользоваться ею. Мы и так получили немало: Каре, Батум, закрепление своих позиций на Кавказе.
Конгресс проходил с 13 июня по 13 июля (редкий случай откровенно провокационной символики) 1878 года по требованию Англии и Австро-Венгрии. Только что закончилась русско-турецкая война (та самая, когда «на Шипке было все спокойно»). Россия чуть не взяла Константинополь — Стамбул, то есть едва не получила контроль над черноморскими проливами. Если бы такая ситуация закрепилась (что в общем-то было нам абсолютно «не по зубам»), то «британскому льву» оставалось бы только утопиться с горя в Мраморном море — как раз между Босфором и Дарданеллами.
Чтобы такого не допустить, Британия еще в феврале 1878 года (между прочим, тоже 13-го) выслала в Дарданеллы эскадру из 6 кораблей и резко надавила тем самым на Россию.
Сильные позиции России в славянском мире были ни к чему и австриякам. Обеспечить такие позиции всерьез, то есть экономически, мы были не в состоянии, но даже рост нашего морального авторитета у «братьев-славян» вызвал в Вене панику. За неделю до конгресса англичане и австрийцы заключили соглашение о совместной (и несомненно антирусской) линии поведения в Берлине. Соблюдено было соглашение свято, но Бисмарк не помогал в этом австрийскому министру иностранных дел графу Андраши и вечному лорду Биконсфильду, то есть Дизраэли. Последний пересекал Ла-Манш 20 лет назад и по приезде в Берлин тут же заказал обратный специальный поезд до Кале, намекая на то, что он признает лишь одно направление работы делегаций великих держав — по лондонскому сценарию…
Формальный глава российской делегации — канцлер и князь Горчаков — блистал манерами. Но «первую скрипку» в переговорах играл «второй делегат» — граф Шувалов, с которым у Бисмарка установились уважительные и доверительные отношения. После конгресса о Шувалове говорили, что он якобы продал интересы России. Неумная аттестация… Да и неверная.
Что касается политической позиции германского канцлера, то ее наиболее верно, пожалуй, оценил сторонний в данном случае наблюдатель… Профессор Дебидур в своей «Дипломатической истории Европы» написал: «Бисмарк желал, чтобы Россия оставалась достаточно сильной, по крайней мере настолько, чтобы могла служить противовесом Австро-Венгрии, так как он не желал допускать, чтобы Германия попала в зависимость от Габсбургской монархии». Серьезного усиления России Бисмарк тоже, конечно, опасался.
Государства не люди. И за компетентными действиями глав государств стоят не личные пристрастия, а логика жизни народов. Увы, в России этого понять не захотели. Даже такой тонкий дипломат (а не только поэт), как Федор Тютчев, как и многие, рассчитывал на благодарность Германии за прошлую поддержку ее Россией в конфликтах с Францией и Австрией. Зато по сей день в нашей исторической литературе, особенно в творениях неославянофилов и неопанславистов утверждается, что в эпоху первых балканских кризисов Бисмарк хотел-де стравить Россию и Австро-Венгрию. На деле быть такого не могло уже потому, что подобный разворот европейской политической жизни вел Россию к союзу с Францией. Ведь в те времена конфликт Вены и Парижа был не просто традиционным — тогда его постоянно подпитывал «итальянский вопрос». И с чем и с кем оставалась бы тогда Германия? Хорошие отношения с Австро-Венгрией для ее уверенного будущего были желательными, а с Россией — жизненно необходимыми.
Нет, не так был глуп князь Отто фон Бисмарк-Шенхаузен, чтобы играть с огнем. Другое дело, что, стремясь к прочным связям с Россией, Бисмарк думал о немцах, а не о русских, и мелким бесом перед нами не рассыпался. Масштабы у него были не те — и телесные, и исторические…
Бисмарк вообще не провоцировал конфликты, поскольку они могли привести к тем или иным коалициям, преследовавшим его как «кошмар». Зато в России в коалициях не видели ничего плохого, хотя они были для нас вредны не менее, чем для Германии.
Уже упоминавшийся военный министр Александра II Д. Милютин — фигура, безусловно, выдающаяся. Реформатор русской армии после Крымской войны — одним этим сказано все. Однако во внешней политике он выдающихся способностей, увы, не проявил. Возможно, здесь сказалось отсутствие должного темперамента — генерал был человеком уравновешенным и прожил без малого сто лет (родился в 1816 году, умер в 1912 году). Он мог, например, вначале бестрепетно подготовить Сан-Стефанский договор, по которому Россия получала больше, чем могла удержать, а потом, после Берлинского конгресса, меланхолично признавать чрезмерность идей своего же детища.
Будучи человеком честным, но негибким, Милютин в поведении Бисмарка усматривал не естественную для немца линию, а «козни, опутавшие престарелого императора (Вильгельма I. — С.К.)». Примерно так же «мыслил» и сам Александр II. В 1879 году русский император пишет своему дяде — германскому императору — письмо, которое Бисмарк оценил не иначе как провокацию, да письмо ею и попахивало. Позиция Германии расценивалась там как враждебная России на том основании, что Бисмарк не ложился костьми за русские интересы. Но не всем же быть простаками, подобными русским, охотно подставляющим свои головы за чужие и даже чуждые национальные идеи! Бисмарк однажды сказал:
«Политика Англии всегда включалась в том, чтобы найти такого дурака в Европе, который своими боками защищал бы английские интересы»…
Академик же Тарле в 1951 году после Фултонской речи Черчилля без тени иронии утверждал в газете «Известия»: «Один из замечательнейших политических лидеров Великобритании, Вильям Питт Старший (лорд Чатам) сделал дружбу с Россией одной из основ своей политики. „I am a Russian“ („Я — русский“), — полушутя, полусерьёзно говорил он о себе»…
Тарле явно забыл о крыловских Вороне и Лисице, аттестуя так английского премьер-министра конца XVIII века, до, во время и после Семилетней войны 1756–1763 годов активнейше интриговавшего против России! Даром, что русским бокам за английские интересы пришлось принять на себя немало пинков.
Увы, у Милютина политического чутья оказалось не больше, чем у Тарле. «Обидевшись» на Германию и «опасаясь» её, он предпринял передислокацию (!) ряда войсковых соединений с юга и из центральных областей России в пограничные с Германией западные губернии…
Можно не сомневаться, что Уильям Питт Старший аплодировал ему из могилы на пару с Уильямом Питтом Младшим (тоже гадившим России где только можно и нельзя).
Неудивительно поэтому, что Бисмарк и Вильгельм I считали Милютина «германофобом». В действительности генерал таковым не был. Он просто был полон подозрений относительно усиливавшейся Германской империи, хотя, как и его коллега, министр иностранных дел Гирс считал необходимым всемерно поддерживать мир с нею.
Планы русского Генштаба при Милютине были рассчитаны на оборону. Однако оборона-то предполагалась от Германии, в ходе русско-германской войны! И такой «сверхосторожностью» Дмитрий Алексеевич оказывал Отечеству услугу, увы, медвежью…
Концентрация русских войск на германской границе очень беспокоила Берлин. В августе 1879 года Вильгельм I инициирует свою встречу с Александром II в Александрове, где был и Милютин. Вильгельм дал русскому министру высший орден Черного Орла и почти час беседовал с ним с глазу на глаз… Впоследствии собеседник германского императора сам сообщил содержание беседы, и явно без искажений.
— Почему вы, генерал, так подозрительны в отношении Германского рейха? — спросил Вильгельм.
— Позвольте, Ваше императорское величество, на прямой вопрос ответить прямо. Политика Германии враждебна России. Она во всем поддерживает врагов России — Англию и Австрию. А те подстрекают против нас Турцию.
Вильгельм особой эмоциональностью не отличался, но тут в его тоне вдруг проскользнули извиняющиеся нотки пополам с досадой:
— Но, генерал, Вы отлично осведомлены о том, что мы постоянно имеем угрозу со стороны Франции. Париж не может не думать о реванше…
Милютин еле заметно пожал плечами, а Вильгельм терпеливо разъяснил:
— Франция для Англии — соперник традиционный. Так же как и для Австрии… И поэтому нам приходится быть крайне осторожными, чтобы сохранить эту ситуацию. Мы не можем явно разорвать ни с Австрией, ни с Англией и вынуждены занимать нейтральное положение.
Милютин опять недоуменно пожал плечами и произнес:
— Позволю себе возразить, Ваше величество, что подобная пассивная политика недостойна Германии, которая ныне довольно могущественна и довольно высоко стоит в мнении целой Европы. Одним своим голосом, не обнажая меча, вы можете не допустить общеевропейской коалиции против России — векового своего друга и союзника.
Задумаемся, читатель, что, по сути, предлагал Милютин немцам? А вот что… Ещё за десять лет до этого разговора Германии как единого государства не было, и те же Франция, Англия и Австрия были едины в своем желании навеки вечные сохранить европейский расклад времени Вестфальского мира 1648 года. Другими словами — иметь Германию расчленённой и впредь.
Напряжённой внутригерманской работой и успешной внешней войной немцы обеспечили себе мощную историческую перспективу возрождения, что автоматически раздражало как Лондон, так и Вену, не говоря уже о Париже. После Крымской катастрофы Россия не считалась способной вести успешную наступательную войну против европейских держав. Даже в русско-турецкой войне за болгарскую свободу победа далась нам со скрипом. Поэтому Европа была уверена лишь в оборонительной силе русских.
И вот при таком положении вещей Милютин, одновременно выдвигая войска к границе с Германией, был склонен ожидать от Германии же такого поведения, когда та, сломя голову, «не обнажая меча», но угрожая им, устраняла бы возможность общеевропейской коалиции против России?
Не слишком ли многого требовали мы от «векового своего друга и союзника»? К тому же и коалиция-то составлялась против России не военная, а политическая. И не с целью вторжения в пределы России, а с целью пресечь продвижение России на славянские Балканы, то есть туда, куда нам, честно говоря, и не стоило бы соваться.
Этот-то последний момент и Милютин понимал, потому что вздыхал — дай, мол, Боже, освоить то, что позволяет Берлинский трактат. Однако почему-то хотел, чтобы немцы одергивали англичан, пакостящих нам в Турции. А с чего Берлину было этим заниматься? Да еще и при подобном настрое не только военного министра Милютина, но и его царственного шефа, в ситуации, когда хорошие отношения с Германией не обходимо было сохранять любой ценой! Ведь в 1879 году в Лондоне, например, наше Отечество вызывало чувство, о котором В. Стасов писал так: «Это — необыкновенная ненависть к России и ко всему русскому, царствующая в целых слоях английского общества и в их выразительнице — английской печати».
Предполагать в конце 1870-х — начале 1880-х годов (да и позже), что Германия по доброй своей воле начнет первой войну с Россией мог только никуда не годный русский политик. Увы, они-то в России и преобладали, начиная с главного из них «по чину» — самодержца. А тут еще буйно расцветшие в российских столицах интеллигентское «славянолюбие» и панславистские амбиции сыграли с нами злостную шутку.
Уже Михайло Васильевич Ломоносов понимал, что могущество Российское должно прирастать Сибирью, Дальним Востоком, русским Севером — включая и Северный морской путь, русской Америкой… Ломоносов видел наше изобильное будущее как результат русской деятельности внутри русских же границ. А незадачливые славянофилы все тянули куда-то к «святой Софии», к «вратам Царьграда»… И если Германия нашей блажи не поддакивала, то для многих превращалась во врага.
Нет, были, были у Бисмарка основания ровно через месяц после александровской встречи двух монархов упрекать нашего посла в Берлине Сабурова в том, что «само русское правительство подало повод к охлаждению между Германией и Россией»… А костры казачьих разъездов в виду Восточной Пруссии русско-германских отношений не согревали.
* * *
В 1887 году Бисмарк опять пытается добиться европейской гегемонии, замышляя разгромить Францию. Теперь на пути встала Россия Александра III.
Уже в начале его царствования администрация Александра (ибо он хотя и мнил себя самодержцем, но управлял далеко не единолично) активизировала строительство стратегических железных дорог в Польше. Объективно это был, конечно, антигерманский акт, особенно если вспомнить, что Россия отчаянно нуждалась в развитии железных дорог внутри — в центре, а не на периферии государства. О некоторых «железнодорожных» пикантностях эпохи на рубеже царствования Александра III и Николая II у нас еще будет повод сказать пару слов. Но уже в начале 1880-х годов в России некие силы начинают раздувать антигерманизм. И весьма яркой фигурой в этом оказался знаменитый «белый генерал», герой русско-турецкой войны, тридцатидевятилетний генерал от инфантерии Скобелев-младший.
Михаил Дмитриевич Скобелев был, безусловно, выдающимся полководцем и незаурядным русским человеком. Но его политическая роль не украсила скоротечной биографии генерала и доброй службы России не сослужила. Вот типичный пример его образа мыслей: «Нужен лозунг, понятный не только в армии, но и широким массам. Таким лозунгом может быть только провозглашение войны немцам и объединение славян. Этот лозунг сделает войну популярной в обществе».
О том, укрепит ли такая война Россию экономически, будет ли способствовать усилению России, а не ее бесплодному истощению, Скобелев не думал.
Зато в своей роковой, так называемой «парижской речи» 17 февраля 1882 года перед студентами-сербами (за 4 месяца до смерти) генерал обрушился на Германию как на врага России.
Зато он видел другом Францию, хотя добрых старых галлов хлебом не нужно было кормить, если удавалось подсыпать угольков в костер, чтобы сжечь нормальные российско-германские отношения.
История «парижской речи» темна. Своему другу, Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, Скобелев говорил: «Я знаю, вы были против моей парижской речи. Но я сказал ее по своему убеждению и не каюсь». А в письме Ивану Сергеевичу Аксакову генерал писал уже иное: «Что сказать вам про приписываемую мне речь сербским студентам. Её я, собcтвенно, не произносил. Пришла ко мне сербская молодежь на квартиру, говорили по душе, не для печати». Но оказалось, однако, что для печати — разговор «по душе» вдруг опубликовала газета «France». To есть, речь и была, и не была, хотя генерал от варианта «France» не отказывался и тому же Аксакову сообщал: «В конце концов, все там сказанное — сущая правда».
Апологетические авторы, пишущие о Скобелеве, никогда не приводят его оценок Тургеневым. А они интересны… 9 июля 1882 года Тургенев написал из Буживаля в письме актрисе Марии Гавриловне Савиной: «Душа моя сегодня особенно опечалена: вчера прибыло известие о смерти Скобелева. Долго не хотелось верить, что наш Ахиллес так рано погиб — и что обманулись те, которые предсказывали ему великую будущность… Несчастлива Россия в своих великих людях. Народ наш, в глазах которого он был самым популярным современным лицом, едва ли поверит в естественность его смерти… Я бы не удивился, если б узнал, что немцы, его лютейшие враги, подверглись у нас избиению хуже еврейского».
Савина относилась к Скобелеву восторженно, и это сказалось на тоне Тургенева. В письме Анненкову он уже намного сдержанней: «А тут еще смерть Скобелева. Я ему, конечно, не сочувствовал, но горько и печально стало мне — как, вероятно, всем русским людям».
Да, живому Скобелеву Тургенев не сочувствовал! 25 февраля — сразу после скобелевской речи — он писал из Парижа постоянному своему адресату Анненкову: «Скобелев оказался таким же безмозглым, как Карл XII, на которого он физически очень похож. А между тем его как будто поддерживают в наших высших сферах — и тем ещё усугубляют царствующий там сумбур. Аминь, аминь, говорю Вам»…
Мы часто представляем себе Тургенева этаким поклонником Франции. Ну как же — Флобер, Мопассан, Гюго, Полина Виардо!.. А он имел одну страсть, которую, правда, не очень-то афишировал — Россию. И его резкая оценка парижского поведения Скобелева лишний раз подтвердила это.
Скобелев провоцировал войну, антагонистичную интересам России, и для Тургенева такое отношение обесценивало все прежние заслуги Михаила Дмитриевича.
Скончался Скобелев при обстоятельствах действительно странных: в номере у роскошной московской кокотки Ванды после кутежа, во время которого неизвестный поднес ему бокал шампанского. Хотя вскрытие констатировало паралич, сразу же поползли слухи о «немецких происках». Однако вряд ли так было на самом деле. Экстремистским антирусским кругам Берлина (а они там, конечно, имелись и были достаточно сильны) шум вокруг выходок Скобелева был только выгоден.
Скорее здесь можно усмотреть руку тайной организации придворной аристократии «Священная дружина», созданной после казни народовольцами Александра II в 1881 году. Руководил «дружиной», призванной охранять императора и бороться с революционерами, гвардейский гусар, полковник и граф Павел Шувалов — сын и племянник знаменитых братьев-дипломатов Шуваловых, с которыми так близок был Бисмарк.
Скобелев менее всего был борцом за свободу народа, но мешал аристократам тем, что мог стать столпом и опорой любой антидворцовой оппозиции. Академик Тарле писал о нем: «Честолюбец высшего порядка, мечтающий не столько о Суворове, сколько о Наполеоне». Его антигерманские речи тоже были, конечно, тем «лыком», которое ставят в строку.
Так или иначе, Скобелев умер. Но оставил враждебным к России германским кругам вечно удобный повод делать лояльное отношение к России непопулярным.
Бисмарка же (его Скобелев после Берлинского конгресса терпеть не мог) речи генерала весьма встревожили. И ему вместе с Шуваловыми пришлось немало потрудиться, чтобы как-то исправить положение к лучшему. Однако в России все активнее действовали профранцузские (фактически — антирусские) политические и экономические шулеры. И поэтому российско-германские отношения постоянно лихорадило, а тон задавал нередко сам Александр III. После февральской «речи» Скобелева он отозвал последнего в Петербург, но вышел генерал из царского кабинета после двухчасовой (!) аудиенции веселым и довольным, хотя два часа назад подходил к «царским вратам» крайне сконфуженным. И для Берлина подобный факт, конечно, не остался тайной.
После кончины Скобелева русский император направил его сестре очень сочувственную телеграмму, в которой не было и тени «официальщины», зато были слова: «Грустно, очень грустно терять таких полезных и преданных своему делу деятелей».
Даже всегда прохладно относившийся к Германии академик Тарле позже признавал: «В Германии уже никогда не забывали ни речи генерала, ни телеграммы императора»…
* * *
Одно время, правда, просвет, вроде бы, наметился… 18 июня 1887 года усилиями братьев Шуваловых и Бисмарка был заключен так называемый «договор перестраховки». Россия и Германия обязывались не нападать друг на друга и сохранять нейтралитет, кроме случая нападения России на Австро-Венгрию, а Германии — на Францию.
Ну какое нам было дело до Франции! Увы, на большее Александр III с Германией не шел, но это была узколобая политика. Инициативное нападение России на Австрийскую империю выглядело бы глупым и бесцельным ходом. И поэтому почти невероятным даже для царизма. А вот военные действия Германии против Франции были реальны. Поэтому Россия своим договором страховала скорее Францию, чем Германию. Бисмарк это понимал, нажимая на нас. И начались русско-германские таможенные трения. Тупая царская политика вредила и экономике, и будущему России.
Французский историк Антонэн Дебидур в молодости воевал с пруссаками и по отношению к Германии его нельзя обвинять в объективности. Но не более верно изображал он и франко-русские отношения. Согласно Дебидуру — а он был современником всех описываемых событий, — инициатива сближения принадлежала России, хотя на деле в этом была за интересована как раз милая сердцу Дебидура Галлия. Франция обеспечивала себе, во-первых, безопасность. Во-вторых, она вытесняла с Востока Германию. А России союз с Францией не давал ничего, кроме займов, способных стать сыром в мышеловке — да еще и небесплатным. В придачу мы получали абсолютно нам невыгодную вражду с немцами.
Наши связи с немцами установились не вчера. Можно вспомнить множество немецких по рождению, но русских по судьбе и заслугам перед Родиной немецких фамилий, хотя бы того же Эмилия Христиановича Ленца или академика Карла Максимовича фон Бэра, писавшего свои труды на немецком языке, но одним введением в народное потребление каспийской селедки (вместо «голландской») увеличившим национальное богатство России на миллионы тогдашних очень весомых и очень нам нужных рублей.
Возможно, читатель удивится — причём здесь селёдка? Дело в том, что по тем временам, в разруху Крымской войны, мы еще не умели приготовлять сельдь в промышленных масштабах самостоятельно. И впервые это удалось именно Бэру — не только великому русскому биологу, но и, как видим, практическому организатору конкретных хозяйственных дел, укреплявшему нашу экономическую независимость.
Бэр же был инициатором знаменитой (увы, ныне полузабытой!) транссибирской экспедиции Александра Федоровича Миддендорфа 1842–1845 годов. Одним из результатов экспедиции еще одного русского немца стало присоединение к России Амурского края. Впрочем, это был век девятнадцатый.
Однако ещё в петровские времена восемь лет шёл по просторам Сибири — с благословения великого Петра и по его приказу — Даниил Готлиб Мессершмидт, родившийся в Данциге, умерший в 1735 году в Петербурге, в нужде… Быстро освоив русский, он писал о себе: «Претерпевая великие труды и поездки, лишился здравия своего от нетерпимых многократных болотных и протчих вод, собирал в Сибири старинных мамонтовых костей, всяких каменьев и протч.».
Уроженец Лейпцига, Готлиб Шобер, тоже по воле Петра, исследовал Поволжье, Терек, Каспий. Умер в Москве.
Вот как оценил их заслуги перед Россией академик Владимир Иванович Вернадский: «С них начинается естественнонаучное изучение России, они являются родоначальниками того великого коллективного научного труда, который беспрерывно и преемственно продолжается с 1717 года до наших дней… Шобер и Мессершмидт были немцами, но отдали России всю свою жизнь… Их имена должны быть запомнены нами — продолжателями начатого ими дела».
Немка Екатерина II удержала Россию от немецкого засилья, от властвования над русскими императора Петра III, желавшего быть «прусским поручиком». Манифестами от 4 декабря 1762 года и от 22 июля 1763 года Екатерина приглашала иностранцев селиться в свободных местах России. На русские земли потянулись переселенцы из Вестфалии, Пфальца, Баварии, Саксонии, Швабии, Эльзас-Лотарингии. К концу XIX века у нас жили почти полтора миллиона немцев, в одном только Поволжье было 190 их колоний. Немецкий вопрос в России имел и плюсы, и минусы, но был фактом. Причем фактом в потенциале положительным, потому что колонии были не раковыми опухолями, а примерами разумного хозяйствования и разумной жизни. Они не подавляли русских, а вносили в общий российский процесс что-то свое, России нужное и полезное. Что же касается государств, то союзные Германия и Россия взаимно дополняли бы друг друга во всех отношениях. И хотя пангерманисты заглядывались на Украину, в Германии было достаточно трезвых голов для того, чтобы понять: «Всяк при своем». По крайней мере, на русском Востоке.
* * *
В своей практической внешней политике Бисмарк далеко не всегда был последовательным проводником собственных же принципов. Как правило, государственному деятелю его принципы не должны мешать поступать реалистически, с учетом конкретной обстановки. И поэтому порой жестоко конфликтуя с Россией, он всегда был лоялен к ней.
Русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский в своем труде «Россия и Европа» написал о вечной вражде к нам Англии, о вечной готовности Франции встать рядом с Альбионом против российских интересов. Что же касается Пруссии, то Данилевский высказался однозначно: «Задача этого государства, столь блистательно им начатая еще во времена Великого Фридриха, столь блистательно им продолженная под руководством Бисмарка, но далеко еще не оконченная, — заключается, бесспорно, в объединении Германии, в доставлении немецкому народу политической цельности и единства. Цель эта недостижима без помощи и содействия России».
Так считал и Бисмарк. Когда ему сообщили, что принц Вильгельм (будущий император) хочет выучиться русскому языку, канцлер буркнул: «Это самое лучшее, что он может сделать». Однако Бисмарку же принадлежат следующие слова: «Есть одно благо для Германии, которое даже бездарность германских дипломатов не сможет разрушить: это англо-русское соперничество».
Но верхушка российского общества считала иначе…
Люди практического дела смотрели на многие вещи спокойнее… Так, в 70-е годы XIX века фирма Круппа, получив от прусского правительства заказ на орудия крупного калибра, столкнулась с большими трудностями. Справиться с ними помогли русские ученые-артиллеристы — специалисты по баллистике и порохам, а опытные стрельбы Крупп проводил на Охтенском полигоне… Ведь и самой России такой опыт был нелишним.
И от подобных доверительных отношений с немцами мы постепенно уходили в мутное, туманное будущее…
В том числе и поэтому от линии Бисмарка под конец XIX века все чаще отходила и Германия. Новый молодой кайзер Вильгельм II, несмотря на уроки русского языка и предостережения Бисмарка, назначил канцлером генерала Георга-Лео фон Каприви де Капрера ди Монтекукули.
Генерал попытался договориться с Англией против возникающего франко-русского блока. Советская «История дипломатии» считает, что Каприви порвал «перестраховочный» договор с Россией, чем толкнул-де ее на союз с Францией. Но Каприви был канцлером три года — с 1891 по 1894-й, а сближение императоров Александров с Францией началось гораздо раньше.
Уже в 1888 году Россия «заглотила» первый французский заем. Так что и здесь события оказались переставленными — Каприви мог вбивать клин между рейхом и Россией потому, что этому близоруко помогал сам царизм. Впрочем, не только царизм…
Николай Карлович Гирс происхождения был шведского, а душу имел русскую. К началу девяностых годов ему уже исполнилось семьдесят лет, и почти десять он сидел в кресле министра иностранных дел России. Он был умен, опытен и потому выступал за осторожное сближение с Германией. «Даже видимость того, что Россия ищет дружбы Франции, скорее ослабит, чем укрепит наши позиции», — резонно считал Гирс.
Был он, впрочем, также и послушен. И поэтому ему пришлось вскоре заключить франко-русский пакт, как того требовали Александр III и российская (хотя далеко не русская) биржа. Заключить вот в какой обстановке…
Практически весь мировой капитал боялся прочного русско-германского союза, боялся, пожалуй, больше, чем чего-либо другого. Такой союз делал невозможной большую континентальную войну в Европе, мог сорвать множество замыслов. Противостоять же военной силой такому союзу было бы очень сложно. Англия и США не имели сухопутных армий, а Франция… Вот Франция-то как наиболее обеспокоенная сторона и ринулась обрабатывать Россию в пользу заключения прямого военного союза с ней. Естественно, против Германии.
Даже тугодумный Александр III колебался. Позиция же Гирса была категорически отрицательной. Судьбы многих будущих прибылей повисли в сером воздухе петербургского мая 1891 года… А Франция все настоятельнее хотела быть уже не только ростовщиком для России, но и ее старшим воинским начальником.
В качестве кредитора французские Ротшильды обещали устроить России очередной заем. Через русских евреев они финансировали почти все железнодорожное строительство в стране и контролировали большую часть банковской системы. И вдруг… Альфонс Ротшильд заявил, что с радостью разместил бы в Европе заем российского правительства, но «не сможет этого сделать, пока в России не прекратятся преследования несчастных евреев». Если учесть, что в Петербурге на одного банкира русского приходились четыре банкира соплеменника Альфонса, то претензии были «обоснованными».
Впрочем, российские друзья парижского шантажиста намекали царю, что если Александр заключит договор, то для союзника могло бы быть и послабление. Александр колебался… Гирс же был тверд. Тогда Ротшильд расторг договор с царём, и…
И уже в июле 1891 года бородатый самодержец, сняв фуражку (чтобы не отдавать честь), слушал «Марсельезу». А французский флот, приглашенный с «визитом дружбы», швартовался под звуки революционного гимна у фортов Кронштадта. Кредиты были получены, летом 1892 года в Петербурге прошло первое совещание начальников русского и французского генштабов. К началу 1894 года франко-русская военная конвенция была подписана и взаимно ратифицирована. Теперь, начав войну с Францией, Германия автоматически получала и войну с Россией.
Сломать русско-германские отношения было нелегко. До статочно сказать, что первый торговый договор между двумя монархиями был заключен лишь в конце XIX века. Не потому, что не было торговли, а потому, что раньше она шла «по-родственному». Уж очень сильными были династические и экономические связи.
Однако Александр III позволял себе в разговоре припугнуть молодого Вильгельма II тем, что он, мол, наводнит Германию казаками. В устах мало склонного к шуткам русского императора такие угрозы производили на немцев устрашающее впечатление. К тому же немцы не забывали о факторе «ночной кукушки». Ведь женой Александра III — русской императрицей — была датчанка, к Германии относившаяся традиционно враждебно.
России вообще всегда везло не только на «серых кардиналов», но и на подобных «серых кукушек». Резкий отворот от Берлина совершил Александр III, а помогал ему в этом министр финансов Сергей Юльевич Витте — счастливый муж разведенной еврейки Матильды Ивановны Нурок, по первому браку — Лисаневич, а также друг парижских Ротшильдов и петербургского банкира Адольфа Юльевича Ротштейна.
* * *
И Ротштейны и Ротшильды все более вертели политикой России, как хотели. 18 июня 1895 года давний сотрудник Гирса граф Ламздорф внес в свой дневник следующее: «Наш посол беспокоится за судьбу нашего займа и уверяет, что французские капиталисты не дадут ни копейки, если в займе будут участвовать англичане или немцы. Он приписывает все зло прежде временному разглашению сведений агентом Ротштейном; тот беседовал с Ротшильдом еще до обращения в кредитные учреждения…». А месяцем ранее до этого Ламздорф писал: «Парижский Ротшильд отказывается вести переговоры о частичном займе, поскольку не может этого сделать без лондонского Ротшильда».
России оставалось гадать: с какой — лондонской или парижской — ноги встав, европейский капитал будет свысока разговаривать с нами. Однако Витте не видел в том ничего угрожающего…
Владимир Карлович Ламздорф считал, что для России дружба с Францией «подобна мышьяку — в умеренной дозе она полезна, а при малейшем преувеличении становится ядом». Витте и его доверенные банкиры думали иначе, и Россия принимала французские займы с отчаянностью самоубийцы. Зато тот же Витте был очень тверд с немцами, а это обеспечивало нам таможенные войны с Германией и взаимные убытки. Витте воевал с немцами, требуя снижения пошлин на русский хлеб, в то время как русский мужик хронически недоедал. Зато Витте повышал пошлины на ввоз германских машин, чем способствовал сохранению нашей технической отсталости.
Что касается отношений с французами, то и здесь Россия терпела убытки. Ламздорф 1 июня 1895 года меланхолично помечал в дневнике: «Мы испортили наши отношения с соседней Германией и на более или менее длительное время устранили всякую возможность общих с ней действий в условиях доверия; все это ради того, чтобы понравиться французам, которые стараются скомпрометировать нас до конца, приковать только к союзу с собой и держать в зависимости от своей воли».
Ситуацию определяли не интересы России. По точному выражению одного комментатора деятельности Ламздорфа, «посуду били другие». Однако, несмотря ни на что, к началу XX века треть русского экспорта шла в Германию: зерно, сахар, мясо, масло, лес. И четверть германского экспорта — машины, оборудование, химические изделия — шла в Россию. Промышленное оборудование — это не «Шанель № 5», не «Кока-кола». Промышленные машины — это основа суверенитета, и их поставляла нам Германия.
Русский сбыт товаров в Германию укреплял русский рубль, немецкий сбыт в Россию развивал русскую экономику и обеспечивал стабильный рост экономики немецкой. Тем не менее Витте тормозил перезаключение торгового русско-германского договора вплоть до того, что сам кайзер вынужден был написать личное письмо Николаю II, где предложил покончить с волокитой.
Договор был продлён. Немцы предоставили нам крупный заем, но в общей политике это не меняло уже почти ничего. Любителей помогать русским бить немецкие «горшки» прибавлялось в Европе со всех сторон. Россию разворачивали к Франции очень мощные силы внутри и вне страны.
Ламздорф был одним из них. В 1905 году он писал послу в Париже Нелидову: «Для того, чтобы быть в действительно хороших отношениях с Германией, нужен союз с Францией. Иначе мы утратим независимость, а тяжелее немецкого ига я ничего не знаю».
Ламздорф не знал, что самый страшный хомут — тот, в который запрягают для поездки на войну. А в такой «хомут» запрягала нас Франция, ведя себя крайне высокомерно после неудач России в русско-японской войне. Тот же Нелидов предупреждал офицеров Генштаба капитанов Половцева и Игнатьева, приехавших в Париж в служебную командировку: «Учтите, что здесь в моде mot d'ordre (лозунг) „La Russie ne compte plus!“ („С Россией больше не считаются“).»
* * *
Так обстояло дело на континенте. Но оставалась же ещё и Англия… Со времен друга Ротшильдов — Дизраэли-Биконсфилда — еврейское видимое, то есть личностное, участие в политической жизни британцев становилось все более ощутимым, хотя история его уходила как минимум во времена Оливера Кромвеля.
Эта новая политическая черта английского общества проявилась не только в прижизненной роли Дизраэли, но еще более зримо — в посмертном его почитании. День его смерти — 19 апреля 1880 года — на десятилетия стал для королевского двора и тори-консерваторе в «Днём подснежника». Почивший лорд особенно уважал этот цветок.
Лейб-публицист Сесиля Родса — редактор иоганнесбургской «Star» Монипенни — скорбел о Дизраэли лишь чуть меньше, чем лейб-публицист самого Дизраэли — многолетний редактор «Times» Бакли. Что все это означало для Англии в канун нового века?
Ну, во-первых, усиление транснациональных, то есть для Англии — антинациональных тенденций во внешней политике. То, что было выгодно лондонским Ротшильдам, было выгодно и Ротшильдам парижским, и Варбургам берлинским, и Варбургам заокеанским. Но далеко не всегда было выгодно даже всем английским лордам. О народе можно было и не говорить.
Между прочим, Гилберт Кийт Честертон — не только создатель образов патера Брауна и Хорна Фишера, но и самобытный философ, писал: «Бенджамен Дизраэли справедливо сказал, что он на стороне ангелов. Он и был на стороне ангелов — ангелов падших (то есть, напомню, — Сатаны. — С.К.). Он не стоял за животную жестокость, но он стоял за империализм князей тьмы, за их высокомерие, таинственность и презрение к очевидному благу».
Особую пикантность словам Дизраэли о его приверженности ангелам придавало, пожалуй, то, что лорд встал на их сторону во времена бурных споров, вызванных опубликованием «Происхождения видов» Чарльза Дарвина. Тогда-то лордом и было заявлено, что по Дарвину-де человек либо обезьяна, либо ангел, и сам Дизраэли — «на стороне ангелов».
Если вспомнить, что дьявола порой именуют «обезьяной Бога», то с поправкой Честертона вся эта история приобретает дополнительную, хотя и несколько забавную глубину.
Политика князей тьмы, «обезьян Бога», становилась политикой Дизраэли, а та становилась политикой Англии, то есть политикой еврейских космополитических банкиров.
Вот, читатель, любопытная история… Суэцкий канал, обошедшийся в 400 миллионов франков и 20 тысяч жизней египетских феллахов, был официально открыт для судоходства 17 ноября 1869 года. Проект канала принадлежал французу Лессепсу, строили канал французы и преимущественно французы им владели — к крайнему неудовольствию Англии. 44 % акций (176 600 штуками из 400 000) владел египетский король — хедив Измаил-паша.
Суэцкие акции были «золотыми», но «вдруг» в 1875 году Дизраэли «неожиданно узнает» о том, что хедив готов свою долю акций продать. Кредиты на закупку можно было провести через парламент, но разве мог Дизраэли забыть о Ротшильдах! Вместо государственного беспроцентного финансирования деньги под проценты взяли у них — якобы в целях ускорения сделки. За 100 миллионов франков английское правительство стало вначале совладельцем канала частично, а после оккупации Египта англичанами в 1882 году — фактически полностью. Советская «История дипломатии» резюмировала: «Теперь… контроль над каналом был английскому правительству обеспечен».
Так-то оно так, но вот правительству ли? Граф Арчибальд Филипп Примроз Розбери был влиятельным лидером либералов. С 1892 по 1895 год он — вначале министр иностранных дел, а потом премьер-министр Англии. Граф относился к группе «либералов-империалистов», был сторонником репрессивных мер в Южной Африке, обеспечивавших интересы… Кого? Да все тех же Ротшильдов.
И ещё бы Розбери не хотел войны с бурами! Ведь в тридцать лет, в 1878 году, он стал мужем единственной дочери всесильного Ротшильда Лондонского — Ганны. Вот почему через полтора десятка лет граф Ламздорф сетовал 22 мая 1895 года: «Парижский Ротшильд отказывается вести переговоры о частичном займе, поскольку не может это делать без лондонского Ротшильда, а тот, будучи родственником Розбери, имеет собственные замыслы».
К слову, читатель, кроме лондонских и парижских были еще и Ротшильды венские, где они через крупнейший банк «Кредит-Анштальт» контролировали экономику Австро-Венгрии.
В 1895 году кабинет Розбери пал, но новый кабинет Солсбери тоже был связан с Ротшильдами если не родственными, то дружескими и деловыми связями. Такой ротшильд-фактор почти автоматически пристегивал английскую политику к американской.
Конечно, развернуть тяжеловесный дредноут Альбиона к бывшей его колонии было делом непростым и нескорым, но для ротшильдов и варбургов совершенно необходимым, потому что Североамериканский континент, надежно укрытый от военных потрясений, уже давно рассматривался ими как будущая главная резиденция мирового капитала.
Для британской Англии долговременные нормальные (как минимум — нейтральные) отношения с Германией были бы разумными. Для ротшильд-Англии — абсолютно недопустимыми. Борьбой этих двух мощных тенденций и определялась непоследовательность и раздвоенность английской политики…
Американка Барбара Такман, написавшая в 1962 году интересную книгу о начале Первой мировой войны «Guns of August» («Пушки августа»), считает, что Германия могла бы иметь союз с Англией, если бы не отвергла «заигрывания министра колоний Джозефа Чемберлена».
Советский автор книги о Джозефе и его сыновьях Лев Кертман убежден в обратном: ни о каком согласии не могло быть и речи, потому что, мол, Германия была «главным империалистическим конкурентом Великобритании». Неправы тут, нужно сказать, оба.
Кстати, тезис Кертмана еще раньше высказал академик Тарле. Он также считал, что союз Германии с Англией неизбежно делал бы Германию «солдатом Англии на континенте» с перспективой войны против России постольку, поскольку Россия-де была связана союзом с Францией.
Если Евгений Викторович что и доказал, так только то, насколько вредной и неестественной для России была ее ориентация на Францию. Ведь без союза с Францией не могло быть и резкого ухудшения отношений с немцами.
Возможный же союз немцев и англичан, хотя был бы не лучшим для России вариантом, но и не смертельным, Конечно, в таком случае России, например, были бы закрыты пути в Персию и еще кое-куда… Ну и что? Нам нужен был иной путь — в глубь России, в глубь себя…
* * *
Объективные условия для сближения Англии и Германии были, но не на той базе, которую имели в виду Такман, да и сам Чемберлен. Чемберлен раз за разом считал, что возможно «генеральное соглашение между Германией, Англией и Америкой». Однако смысл имел бы лишь союз Англии и Германии против Америки.
Как бы то ни было, Англия развивалась естественно. И хотя она крепла за счет колоний, но из своего дома она выходила во внешний мир сама. Германия тоже развивалась и крепла, используя внутренние силы прежде всего собственного народа. Это же можно было сказать и о других народах Земли, кроме… двух — еврейского, саморассеявшегося по планете, и американского. Америка создавалась как своего рода «черная дыра», в которую проваливались части разных народов, всемирные ресурсы и золото… Своими успехами Америка была обязана чужим народам как минимум не меньше, чем собственному.
Англия же и Германия оказались наиболее развитыми странами мира благодаря качествам самих английского и немецкого народов. Обе нации имели право сказать: «Мы развили нашу Родину сами, даже если средства для этого брали у других!». Американский же человеческий «коктейль» мог лишь драчливо заявлять: «А пошли вы все к черту!», потому что Америка развивалась в условиях искусственных, тепличных и уже поэтому неестественных. Объединение англо-немецкой европейской естественности против еврейско-американской искусственности дало бы могучий потенциал развитию нового мира.
Также естественно (пусть и медленно, с задержками и просчетами) развивающаяся Россия могла бы вскоре стать в таком мире той третьей опорой, которая окончательно придала бы устойчивость подлинному прогрессу человечества.
Возможна была и иная последовательность: вначале германо-русский союз, а потом уже — присоединение к нему Англии.
И если и был в таком возможном раскладе «четвертый лишний», так это — Франция.
Когда Чемберлен нащупывал возможности союза с рейхом, Вильгельм II сообщил об английском предложении Николаю II и поинтересовался, что он может получить взамен от России, если откажется от «английского варианта»? Было ясно: Вильгельм хотел знать, не отойдет ли Россия от ориентации на Францию? Увы, советчики царя придерживались твердого мнения относительно Франции.
Профранцузско-антигерманская линия русской политики постепенно укреплялась. И все тот же Тарле позже был уверен, что царь поступил верно, не попавшись на удочку германского кузена, ведь немцы же всерьез о германо-английском заговоре против Европы и не помышляли, поскольку, мол, в этом случае Германия становилась континентальным наемником бриттов.
Как знать! Если бы царь договорился с кайзером, то даже англо-германский союз мог означать всего лишь изоляцию Франции. Россия имела бы выгоду от упрочения отношений с немцами и от роли «третейского судьи», потому что, «отстранившись» от Франции, Россия оказывалась бы в положении естественного арбитра — регулятора европейской ситуации. Россия могла бы стать той «осью», на которой висело бы коромысло европейского равновесия, где колебались германская и английская «чаши весов».
Иными словами, любой союз, скрепленный российско-германским рукопожатием, означал бы европейский мир, умаление Франции, ограничение инициативы Англии и гегемонию Германии в Европе. А почему бы и нет? Германия этого заслуживала, а России это не вредило бы. Наоборот, ей это было бы только выгодно!
Неестественные, но могучие силы кажущегося прогресса сопротивлялись такому возможному будущему и сознательно, и инстинктивно. И их сопротивление было тем успешнее, чем больше разногласий возникало между великими европейскими народами.
Англо-германские противоречия были, конечно, налицо. Если раньше «мастерской мира» считалась Англия, то теперь это определение подходило уже скорее Германии. Германский экспорт рос так быстро, что к концу XIX века удивление англичан, смешанное с досадой, сменилось, по их собственному признанию, паникой. Англичане мешали немцам в Турции, а немцы им — в Южной Африке.
И такие конфликтные точки множились: Дальний Восток, Китай, Стамбул и Багдад. Расстояния на земном шаре оставались прежними, но резко выросли скорости перемещения людей, грузов, оружия и информации. Конфликт между двумя соседями мог возникнуть за тысячи миль от них и стать известным в столицах враждующих сторон не позднее чем через сутки. И раз уж Британская империя была всемирной, а Германский рейх стремился к тому же, то и сталкивались они лбами постоянно.
Пангерманский союз был настроен решительно антианглийски (он, правда, вообще был настроен «анти-…» по отношению к любой стране, кроме собственной), а лондонская «Сатердей ревью» не менее категорично утверждала: «Германия должна быть уничтожена»…
Всё это так. Однако объективно главным империалистическим конкурентом и Англии, и Германии оставались все-таки Соединенные Штаты. Конечно, Англия могла попытаться решительно ослабить Германию, столкнув ее с Францией, но тогда она оказалась бы один на один с Америкой, надежно защищенной океаном от военного нападения.
Конечно, Германия могла утверждать себя в Европе и далее силой меча. Но в конце концов она проигрывала бы той же далекой Америке, не растрачивающей силы в истощающей лихорадке войны.
Америка была за океаном. Германия же и Англия находились друг от друга на расстоянии почти вытянутой руки. Их конфликт мог легко перерасти во взаимное уничтожение. Вариант не самый разумный с любой точки зрения.
Увы, как раз разума {даже не гуманистического, а практического, дальновидного) у англичан и немцев не хватило, хотя они не раз вступали в переговоры и даже заключали временные соглашения. 29 марта 1898 года переговоры Джозефа Чемберлена с германским послом графом Паулем фон Гатцфельдом проходили в… лондонском доме банкира Ротшильда. Но это ничего не меняло в главном.
А Ротшильд в роли миротворца? Ничего удивительного и противоречивого не было и тут, если понимать, что дело было исключительно в тактике, а не в стратегии извлечения при былей.
Ротшильды — это южно-африканская золотая и алмазная промышленность. Крупный бирмингемский промышленник Джозеф Чемберлен — второе лицо в кабинете после премьера Солсбери, был также связан с нею. Значит волей-неволей и с теми же Ротшильдами.
Лорд (лорд, читатель!) Ротшильд стал покровителем безжалостного энтузиаста «империи желудка» Сесиля Родса и одним из основателей Британской южно-африканской компании. Это было чуть ли не государство со своим знаменем, гербом, почтовыми марками. Но коммерческой «империи» Ротшильда мешала независимость бурских республик. На Трансвааль и его бурского президента Крюгера давили политически и оружием.
У Германии же на Африку был собственный расчет, и кайзер Вильгельм II поддерживал буров. Его приветственная телеграмма Крюгеру после неудачного набега англичан на Трансвааль наделала в Европе много шума. «Нация никогда не забудет этой телеграммы», — восклицала английская «Morning Post», словно Вильгельм поздравлял не людей, отстоявших свою свободу, а поработителей.
Но в тот момент Ротшильду нужно было срочно договориться с немцами, и его компаньон-министр Чемберлен оказывался отличным вариантом, тем более что дело заключалось не в одной лишь Африке. Интересы акционера «Королевской компании Нигера» Чемберлена конфликтовали и с французскими колонизаторами, мешавшими и немцам. А кроме того ближайшего союзника в кабинете Чемберлена — герцога Девонширского — обеспокоило состояние дел в Китае, потому что на китайском рынке оперировали текстильщики Ланкашира, а в этот текстиль вложил свои капиталы герцог. Положение же Германии в Китае было очень прочным.
При таком переплетении корыстных интересов временные союзы стали неизбежными, и такие «высокие государственные соображения» не могли не быть приняты во внимание министрами то ли Его Величества короля, то ли Его могущества капитала. Подобные перипетии придавали «высокой политике» и «высшим государственным интересам» дополнительную многозначность и противоречивость.
Так, в начале XX века Родс и Ротшильды решили-таки провести и провели победоносную войну с бурами. Германия отнеслась к ней спокойно. Почему? Да потому, что «в обмен» английские финансовые воротилы не возражали против планов «Дойче банк» и германского правительства построить Багдадскую железную дорогу и усилить германское влияние в Турции.
Немец Сименс едет в Константинополь с дочерью, а за компанию с ними и дочь Джозефа Чемберлена. 10 марта 1899годав Берлин приезжает злейший враг буров Сесиль Родс, а кайзер Вильгельм благосклонно его принимает…
Ничего особенно нового здесь не происходило. Эгоистичность верхов была от них неотделима испокон веку. Но масштабы возможностей были теперь так по-новому велики, что изменяли общество неузнаваемо. Стратегическая цель не менялась: постоянная и максимальная выгода. Тактические средства тоже оставались прежними — временные союзы. А вот стратегическое средство вырисовывалось ранее небывалое: мировая война. И достаточно скоро.
15 декабря 1887 года Энгельс написал в Лондоне слова, на званные Лениным через тридцать лет пророческими: «Для Пруссии—Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме всемирной войны. И это была бы война невиданного ранее размера, невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу. Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, — сжатое на протяжении трех-четырех лет и распространенное на весь континент, голод, путаница нашего искусственного механизма в торговле, промышленности и кредите, крах старых государств и их рутинной государственной мудрости, — крах такой, что короны дюжинами валяются на мостовой. Такова перспектива, если доведенная до крайности система конкуренции в военных вооружениях принесет, наконец, свои неизбежные плоды. Вот куда, господа короли и государственные мужи привела ваша мудрость старую Европу».
Это вам не наивные причины Дебидура — «честолюбие какой-либо династии или необдуманный порыв народа», а проникновение в суть. И проникновение тем более выдающееся, что серьезный англичанин Генри Ноэл Брейлсфорд даже в марте 1914 года в книге «Война стали и золота» ошибся, написав: «Эпоха завоеваний в Европе закончилась; и если не считать Балкан и, может быть, окраин Австрийской и Российской империй, то можно с максимально возможной в политике достоверностью сказать, что границы наших современных национальных государств установлены окончательно. Лично я полагаю, что между шестью великими державами не будет больше войн».
Что же, «ура» Энгельсу? Безусловно, но… Но Энгельс был несправедлив к Германии — никакая война, кроме всемирной, была уже невозможна и для Англии, Франции, а особенно для Америки. Более того — не Германия стремилась к войне в первую очередь. Неумно лезла в мировую свару и царская Россия, но она лишь дополняла общую картину. Хотя у России была только ей присущая особенность — она заведомо рассматривалась как «серая скотинка» для «убоя». А старались для этого многие.
Скажем, в российской исторической традиции Витте считают фигурой крупной и патриотической. Ссылаются и на мнение Ленина, хотя оценка Лениным деятельности Сергея Юльевича такова: «Блестящий бюджет Россия уже видала (при Витте). Тоже была „свободная наличность“, тоже было хвастовство перед Европой, тоже усиленное получение займов от европейской буржуазии. А в результате? Крах».
Крах — слово точное. Перед войной в 1914 году России только для оплаты французским пайщикам очередных купонов займов требовалось полмиллиарда франков в год! Для того чтобы расплатиться, организовывались новые займы. Проценты нарастали на проценты. Общая сумма долга России Франции достигла 27 миллиардов франков. А для народного хозяйства денег не хватало.
Да и хозяйство-то было не впечатляющим, что бы там кто ни говорил о мощном-де «прогрессе» России в начале XX века. В 1988 году в Нью-Йорке была опубликована брошюра Бориса Бразоля «Царствование императора Николая II в цифрах и фактах». Автор пытался доказать, что после революции Россия оказалась, якобы, в упадке — даже железных дорог строила всего по тысяче километров в год, а при царе — по 1 575 километров!
Верно… Но вот грузооборот вырос уже к 1940 году почти в 7 раз, пассажирооборот — в 5 раз… А новое станционное хозяйство? А мосты? А тысячи километров по тундре, пустыне, тайге? А заново построенные дороги после войны?
Бразоль сообщал, что «царский» километр железной дороги стоил дешевле «советского» — всего 74 тысячи рублей. Но «Статистический сборник МПС за 1913 год» давал цену кило метра в 117,3 тысячи рублей для 1910 года и в 123,4 тысячи рублей для 1913 года. Однако царские дороги стоили действительно относительно недорого, потому что были плохи: легкие рельсы, слабый балласт, плохие шпалы…
Главное же — Россия вообще строила не так уж и много — городов, домен, больниц, жилых домов. Россия билась, но все больше запутывалась в паутине и внешних, и внутренних кровососов. И хотя конторы и офисы этих финансовых «пауков» находились по разные стороны государственной границы, обе их разновидности были одинаково чужды России и ее интересам.
Витте порой ставят в заслугу введение в России золотого обращения. Одним из реализаторов идеи был приглашенный Витте из Австро-Венгрии А. Ротштейн, который практически этим и занимался. Но вот слова Государственного контролера Петра Христофоровича Шванебаха: «Переход к золотому обращению совершился у нас главным образом путем накопления золота внешними займами». И поддерживать такой «успех» можно было тоже только новыми займами. Что получалось? Золотой запас был, вроде бы, солидным. Золотое обеспечение бумажных денег составляло около 120 %! В результате Запад… высасывал русское золото, а для кредитования национальной промышленности средств не хватало.
Все это было настолько очевидно, что мнения Ленина и Шванебаха, как видим, практически совпадали.
Тогда же Ленин писал о казенном публицисте Гурьеве из правительственного официоза «Россия». Газета «Земщина» определяла его как «публициста с еврейско-либеральным оттенком», и Ленин издевался: «Неужели и официальная „Россия“ является еврейско-либеральным органом?». Ленин же пояснял: действительный статский советник Гурьев был личным секретарем у Витте. А редактором «России», к слову, был бывший профессор права Демидовского лицея… Илья Яковлевич Гурлянд. Так что оттенок определялся все же верно.
* * *
С именем Витте часто связывают рост железных дорог и реже — рост пьянства на Руси. А ведь это он (правда, он ли один?) провел весьма занятную финансово-социальную новацию с казенной монополией на водку. Вот как описывал ее последствия потомственный монархист В. Шульгин: «Картины, разыгрывавшиеся перед магазинами „монопольки“, были отвратительны. Раньше люди пили в кабаках и корчмах. Там они сидели за столами и кое-чем закусывали. И как-никак не только орали пьяные песни, но иногда и беседовали. Кабак был в некотором роде клубом, хотя и низко пробным. После реформы кабаки закрылись. Потребители водки пили ее прямо из горлышка на улице, и упившиеся лежали тут же»…
Итак, до Витте простому человеку было где выпить и закусить. После Витте можно было только «налакаться». Замечу в скобках, что примерно по той же схеме уже в советское время с какого-то момента запретили употребление спиртного в столовых. Социальный результат этой меры очень напоминал «виттевский».
Стараниями Витте бюджет становился все более паразитическим и наполнялся не столько за счет прироста производства, сколько «пьяными» доходами. Чистый доход винной монополии возрос с 188 миллионов рублей в 1900 году до 675 миллионов в 1913 и составил около 30 % доходной части воистину «пьяного» бюджета.
Бывший Председатель Совета Министров и министр финансов Российской империи Владимир Николаевич Коковцов в своих воспоминаниях пишет, как весной 1913 года Витте одно время морочил ему голову с неким проектом отрезвления России, но так никакого проекта и не представил. Зато в конце года разразился в Государственном совете по этому поводу чисто истерической, по словам Коковцова, речью, закончив ее истошным «Караул!»… Речь, конечно, была чистым камуфляжем и явно предназначалась «для истории» — мол, не Витте споил Россию, он ее «отрезвить» хотел.
«Это слово „караул“, — вспоминал Коковцов, — было произнесено таким неистовым, визгливым голосом, что весь Государственный совет буквально пришел в нескрываемое недоумение не от произведенного впечатления, а от неожиданности выходки, от беззастенчивости речи»…
Пожалуй, в представленном кратком наброске с натуры личность Витте обрисована до забавного точно. Сергей Юльевич был хамелеоном — в жизни, в политике, в воззрениях. Возможно, именно его абсолютная бессовестность в сочетании с быстрым умом и дворянским происхождением привлекли к нему внимание еврейской буржуазной элиты в России уже на ранних этапах карьеры будущего графа… Ведь Витте пришел в государственную политику России с частной службы в акционерном обществе Юго-Западных железных дорог. А российские железные дороги — это еврейские магнаты Блиох, Гинцбурги, Варшавский, Поляковы. За свою долгую карьеру Витте не раз вступал в видимые конфликты с еврейскими деловыми кругами (с тем же Поляковым), но без теснейшего и теплого с ними сотрудничества его карьера просто не состоялась бы.
Причем, если пойти по пути авантюрных предположений, то прорыв Витте на высшие ступени официальной бюрократической лестницы можно представить как очень хитрую много ходовую комбинацию железнодорожной элиты. Комбинацию, где Сергей Юльевич сыграл роль пешки, уверенно продвигаемой опытным игроком в ферзи.
Витте сделал молниеносную карьеру. Закончив математический факультет Новороссийского университета в Одессе (!), он почти сразу начал служить на частных железных дорогах. В 1888 году тридцатидевятилетний Витте — управляющий Юго-Западными железными дорогами, где председателем правления был Блиох. По этим дорогам нередко ездил сам император Александр III — из Петербурга в Крым и обратно. Литерный царский поезд ходил со скоростями курьерскими. Ходил из года в год, и никаких происшествий с ним не случалось.
Рассказ о том, что произошло далее, абсолютно достоверен — он взят из мемуаров самого Витте.
По службе Витте приходилось такие поезда сопровождать, но к особе императора его не допускали. Все, что мог узреть Сергей Юльевич, — так это заношенные штаны Александра, которые латал ночами царский камердинер Котов (царь обнов не любил и занашивал одежду до ветхости).
Всё шло заведенным порядком и особого внимания на служащего Блиоха никто не обращал. Причем даже с Витте «на борту» поезда скорости не сбавляли.
И вдруг… Вдруг в августе 1888 года управляющий дорогами Витте начинает категорически требовать снижения скорости хода императорского поезда, ибо иначе он-де не гарантирует безопасности. Казалось бы, есть сомнения, проведи нужные дорожные работы. Но нет — Витте требует снижения хода, и министру путей сообщения адмиралу Посьету приходится переделывать график движения, увеличив его на три часа. В результате в Фастове на Витте обращается непосредственно высочайшее неудовольствие. Вначале, впрочем, его передает начальник царской охраны генерал Черевин, но Витте начинает возражать Черевину в тонах чрезмерно громких. И тогда… И тогда из салона выходит САМ Александр III и перебивает «ретивого служаку»:
— Да что Вы говорите. Я на других дорогах езжу, и никто мне не уменьшает скорость, а на Вашей дороге нельзя ехать просто потому, что Ваша дорога жидовская.
Витте примолк, зато заговорил Посьет:
— Дорога Ваша, голубчик, не в порядке. На других же дорогах мы ездим быстро и никто государя везти медленно не осмеливается.
И тут Витте взвился:
— Знаете, Ваше высокопревосходительство, пускай делают другие как хотят, а я государю императору голову ломать не хочу, потому что кончится это тем, что Вы таким образом государю голову сломаете!
И исполнилось по его слову! Прошли два месяца. Срок до статочный для того, чтобы не вызывать лишних подозрений, но недостаточный для того, чтобы «усердие» Витте забылось. И 17 октября 1888 года около станции Борки под Харьковом (конечно же, не на Юго-Западной, а на Харьково-Николаевской дороге) поезд с Александром III и его семьей полетел под откос…
Витте, назначенный одним из экспертов, описывая происшедший инцидент, сочинил целую былину о том, как богатырь-император на своей спине удерживал крышу столового вагона, спасая домашних и прислугу. Эта живописная картина кочует из книги в книгу, но в действительности царскую семью вместе с императором спасли стены вагона, сдвинувшиеся «домиком» и задержавшие падение крыши.
Таким же живописным оказалось и экспертное заключение Витте в целом. И с ним не согласились ни А. Кони, при ехавший из Петербурга, ни директор Харьковского технологического института, инженер-технолог и профессор механики В. Кирпичев.
Витте печатно оспаривал мнение Кирпичева, заявляя, что тот-де «не знает железнодорожной практики». А ведь инженерное чутье у оппонента Витте было заложено, что называется, в генах. Кирпичевы — целая династия ученых-инженеров. Брат Михаил — химик, сотрудник Менделеева. Брат Нил — генерал, профессор Николаевской военно-инженерной академии, а в советское время — преподаватель Военно-инженерной академии имени В. Куйбышева. Сын Михаил — советский ученый, теплотехник, академик. Так что насчет «некомпетентности» Кирпичева наводил Сергей Юльевич тень на плетень.
Однако дело было сделано — Александр вспомнил о «строптивце»-«прозорливце», рубящем царям правду-матку в глаза. И… Витте был предложен пост директора департамента железнодорожных дел министерства финансов.
Может, впрочем, царю о Витте и напомнили, а насчет поста подсказали. Ведь почему-то инженерного пророка не в МПС (министерство путей сообщения) определили, а к финансам.
Отсюда и пошло…
Витте, всей своей судьбой связанный с еврейским финансово-промышленным капиталом, оказался настолько на своем (для этого капитала) месте, что поневоле призадумаешься: не слишком ли кстати разыгралась вначале в Фастове, а затем под Борками эта «карьерно-катастрофическая» история? Ведь «карманный» Витте нужен был блиохам дозарезу: в России разворачивалось грандиозное железнодорожное строительство, и нечистые загребущие руки на нем можно было нагреть лучше, чем на чем-либо другом.
«Фокусничал» Витте на постах министра финансов и премьер-министра много. Он лишил ссуд Государственного банка наиболее здоровые финансово-промышленные группы фон Дервиза, Алчевского, Мамонтова.
В 1899 году с его подачи возникло и «дело» Саввы Ивановича Мамонтова — русского мецената и председателя правления общества Московско-Ярославско-Архангельской дороги. Мамонтов затеял новый крупный железнодорожный проект на Севере — для России крайне полезный. Витте вначале его притворно поддержал, а потом сам же и «потопил», лишив поддержки. Да еще и возбудил против Мамонтовых уголовное дело. По суду присяжных они были оправданы, однако разорения избежать не смогли. Был похоронен и перспективный экономический проект развития русского Севера. В России открыто говорили, что за крахом Мамонтова стоят происки еврейских банкиров.
Защитники Витте пытались доказывать, что, мол, «инвестиционное раскручивание экономики путем казенных субсидий имеет логические пределы» — должны действовать механизмы саморегуляции. Но ведь даже эти «логические пределы» были в России далеко не достигнуты.
Витте изображал себя поборником «честного бизнеса», но железную дорогу Пермь — Котлас (часть линии Петербург — Вологда — Вятка, которую он не дал построить Мамонтову) позже строил родственник жены Витте — инженер Быховец. А на смену Мамонтову в правлении Архангельско-Ярославской дороги пришел другой ее родственник — врач Леви.
Долгое время Витте управлял и Министерством путей со общения. В выпущенной в свет в 1989 году политической биографии Витте, написанной историком А. Игнатьевым, представлено, как Витте проводил-де «политику сосредоточения железных дорог в руках государства путем выкупа частных до рог и казенного железнодорожного строительства».
А вот результат этой «благородной» работы на благо государства. В Германии к 1913 году казенная железнодорожная сеть составляла 94 % от общей, а в России — только 67 %. Германские дороги были неубыточны, а российские — убыточны. Но лишь для казны. Что же касается частных акционеров, то они за 29 лет — с 1885 по 1913 год — получили почти 4 миллиарда рублей чистого дохода. Золотом.
Такой вот был Витте «государственный деятель» и «славянофил» (как его аттестуют некоторые биографы на том основании, что он в юности тиснул пару статей в газете Аксакова «Русь» и записался в «Священную дружину» графа Шувалова, из которой, присягнув на верность, быстренько вышел).
Много позже в предисловии к мемуарам уже покойного мужа Матильда Ивановна-Исааковна Витте жаловалась: «При дворе, среди консерваторов, у либералов, в демократических кругах — всюду на графа Витте смотрели как на человека „чужого“. Он искал блага своей родине, идя собственными путями, и поэтому имел мало постоянных попутчиков».
Итак, блага искал, возможности для делания блага имел огромные, но попутчиков на пути служения Родине у него было мало. По мнению графини, один лишь граф Витте о России и радел, а рядом была еще одна понимающая его радетельница — она сама. О Ротштейне и Ротшильдах, для кого Витте чужим не был, графиня не упомянула, надо полагать, исключительно из чувства ревности.
В действительности Витте оказался гением приспособленчества, услужливости и угадывания «откуда ветер дует». И то, как прочно этот идеальный хамелеон связал себя с младых ногтей именно с интернациональными еврейскими финансовыми кругами, лучше многого показывало, кто в России все более властно и своекорыстно «заказывает музыку».
И это не голословное утверждение, читатель. Вот как на кануне Первой мировой войны описывал изменение внутри-российской ситуации с начала 80-х годов XIX века журнал «Еврейская старина»: «В выходцах из черты оседлости происходила полная метаморфоза: откупщик превращался в банкира, подрядчик — в предпринимателя высокого полета, а их служащие — в столичных денди. Образовалась фаланга биржевых маклеров, производивших колоссальные воздушные обороты. Один петербургский еврей-старожил восхищался: „Что был Петербург? Пустыня; теперь же ведь это Бердичев!“…»
А вот ещё одно свидетельство, интересное настолько, что я просто приведу отрывок из воспоминаний графа Игнатьева «Пятьдесят лет в строю», относящийся к 1896 г.:
«На одном из дежурств по полку (граф тогда только что вышел в гвардейский кавалергардский полк. — С.К.) ко мне прибежал дежурный унтер-офицер по нестроевой команде и с волнением в голосе доложил, что „Александр Иваныч померли“. Александром Ивановичем все, от рядового до командира полка, величали старого бородатого фельдфебеля, что стоял часами рядом с дневальным у ворот, исправно отдавая честь всем проходящим.
Откуда же пришёл к нам Александр Иванович? Оказалось, еще в начале 70-х годов печи в полку неимоверно дымили и ни кто не мог с ними справиться; как-то военный округ прислал в полк печника из еврейских кантонистов (были такие военные воспитанники, обязанные позже отслужить. — С.К.), Ошанского. При нем печи горели исправно, а без него дымили. Все твердо это знали и, в обход всех правил и законов, задерживали Ошанского в полку, давая ему мундир, звания, медали и отличия за сверхсрочную „беспорочную службу“. И вот его не стало…
Я никак не мог предполагать того, что произошло в ближайшие часы. К полковым воротам подъезжали роскошные сани и кареты, из которых выходили нарядные элегантные дамы в мехах и солидные господа в цилиндрах; все они пробирались к подвалу, где лежало тело Александра Ивановича. Оказалось — и это никому из нас не могло прийти в голову, что фельдфебель Ошанский много лет стоял во главе петербургской еврейской общины. На следующее утро к полудню полковой манеж принял необычный вид. Кроме всего еврейского Петербурга сюда съехались не только все наличные офицеры полка, но и многие старые кавалергарды во главе со всеми бывшими командирами полка. У гроба Александра Ивановича аристократический военный мир перемешался с еврейским торговым и финансовым. После речи раввина гроб старого кантониста подняли шесть бывших командиров полка… Таков был торжественный финал старой истории о дымивших печах».
Сам Игнатьев видел в рассказанной им истории всего лишь забавный курьез, но дыма, как известно, без огня не бывает. Гвардейские печи «задымили», а потом четверть века жить не могли без Ошанского, надо полагать, не зря. Похоже, кому-то очень уж нужно было, чтобы за «дымовой завесой» гвардейских печей десятилетиями скрывалась неприметная, но, как видим, отнюдь не незначительная фигура.
И картину Игнатьев невольно нарисовал скорее зловещую, чем курьёзную. Императорский Санкт-Петербург воистину становился «Нью-Бердичевом».
Во главе Ленского золотопромышленного товарищества оказывается сын барона Евзеля Гинцбурга Гораций и сын Горация — Габриэль. В 1908 году к русской золотодобыче подключается такой своеобразный «англичанин», как барон Джеймс де Гирш и его банкирский дом. Гирш орудует также в Южной Африке, что означает — на пару с Ротшильдами. Не обошлось и без могущественного москвича Самуила Полякова (чья дочь была замужем за де Гиршем), а также парижанина (бывшего петербуржца) барона-банкира Жака Гинзбурга. Дмитрий Рубинштейн выходит в банкиры последней «нью-бердичевской» императрицы Алике. И с 1891 года неофициальным, а с 1894 года — уже официальным агентом российского Министерства финансов во Франции на долгие годы (до самой войны и позже) становится действительный тайный советник (чин II класса!), кавалер ордена Белого Орла, французский финансист Артур Рафалович. Впрочем, читатель, непосредственно русскую землю Рафаловичи тоже без благодеяний не оставили — в Одессе имелся банкирский дом «Рафалович и сыновья». Лучшим другом Рафаловичей был помещик Абаза, чей племянник «организовал» России войну с Японией.
Возвращаясь же к Витте, можно подытожить: не уважая и не признавая новую «бердичевекую» ипостась «града Петрова», ни один финансист — ни частный, ни казенный — долго на своем месте не усидел бы. С другой стороны, возникшему союзу Петербурга, Парижа и Лондона невозможно было не привлечь к затеваемой европейской войне русского мужика в качестве разменной монеты для оплаты крупных комбинаций.
ГЛАВА 3 Россия и Германия: стравить!
Комбинации же задумывались серьёзно. То, что война лишь продолжает политику другими средствами, мир знал еще со времен Клаузевица. Будущая мировая война тоже была, естественно, средством. И в качестве такового она должна была обеспечить выполнение сразу трех задач.
Надо было, скажем, сбить социальную напряженность. В третью, впрочем, очередь.
Во вторую очередь война должна была дать невиданные ранее дивиденды. Особую для капитала прибыльность военных государственных заказов хорошо объяснил американский публицист Гершль Мейер: «Даже тогда, когда 75–90 % производственной мощности компании используются для гражданского производства, и только 10–25 % — для военных заказов, имен но последние играют решающую роль для предпринимателей. Гражданская продукция покрывает расходы на материалы, амортизацию, заработную плату, жалованье служащим, аренду и прочее. А военная продукция дает чистую сверхприбыль».
Всё верно: ведь здесь платит особый — нерыночный потребитель. Цены на военную продукцию определяются не себестоимостью, а возможностями казны. Казна же развитых государств становилась бездонной за счет наращивания государственного долга. Кредиторами выступали рядовые налогоплательщики, только проценты с долга выплачивали не им, а они сами. Кровью.
Но даже сверхприбыль играла вторую роль. В первую очередь война предполагалась как средство быстрого передела мира. Да, германский пример был наиболее ярким, но не решающим. Молодой рейх оказался нашпигован, как добрая немецкая кровяная колбаса тмином, не только идеями агрессивного пангерманизма, но и могучими крупповскими двенадцати дюймовыми стволами. Достаточно взглянуть на старую фото панораму орудийного цеха десятых годов на заводе Круппа, где стальных «хоботов» только в пределах видимости насчитывается с полсотни, чтобы понять: насколько война для капитала Германии была делом решенным. Но решенным в том случае, если колониальные державы не уступят им часть планетной добычи полюбовно.
Русский дипломат Николай Николаевич Шебеко доклады вал в 1911 году в МИД о планах развития Багдадской железной дороги: «В настоящем своем фазисе сооружаемый путь представляет уже прекрасный сбыт для изделий германских фабрик и заводов, так как весь железо-строительный материал доставляется из Германии. В будущем законченном виде дорога даст возможность германской промышленности наводнить своими продуктами Малую Азию, Сирию и Месопотамию, а по окончании линии Багдад — Ханекин — Тегеран, также и Персию».
Эти пути на Восток немцы пролагали не огнем факелов и сталью мечей, а огнем домен и рельсовой сталью! А у пангерманской идеологии были убедительные материальные обоснования.
Академик Тарле отзывался о мощи Антанты в степенях только превосходных: «Соединенные силы Антанты были так колоссальны, ее материальные возможности были так безграничны…» и т. п. Однако статистика говорила об обратном.
В 1913 году удельный вес рейха (без Австро-Венгрии) в мировом машиностроении составлял 21,3 %. А всей Антанты — Великобритании, Франции и России, вместе взятых — 17,7 %, Итог впечатляющий, но… бледнеющий перед силой США, имевших 51,8 %!
Была и другая статистика. В 1900 году почти 75 % американского экспорта шло в Европу, а в 1913 году — только 59 %! И основной причиной стало усиление Германии. Выходило, что капитал США терял свое влияние в Европе с темпом более 1 % в год!
А ведь у Дяди Сэма была серьёзная «фора»: ему не приходилось много тратиться на содержание вооруженных сил, на сооружение «оборонительных валов», «линий», крепостей. На ведение, наконец, разорительных войн на протяжении веков…
Собственно, читатель, эти-то цифры и соображения заранее программировали все: географию, течение и итог первой великой дележки мира и сверхприбылей путем войны.
Ход рассуждений здесь был простым и подлым. Начнем с географии… Серьёзная война могла начаться только в Европе между европейцами. И с обязательным участием Германии, уже перевалившей через отметку одной пятой мирового современного производства. Победить должны были Штаты, как страна, дающая половину мирового производства. Но что делать с вольнолюбивыми ковбоями и фермерами? С не забывшими воли промышленными рабочими Америки, не говоря уже о «нижнем» среднем классе? На все проблемы вне звездно-полосатой родины им всем было глубоко наплевать. Покрасоваться с карабинами тут, под боком: в Мексике, на Кубе — ещё куда ни шло. А вытянуть их в далекую Европу на великую вой ну — такую, чтобы прибыль получилась с большой буквы, в мировом масштабе, было непросто. Почти невозможно.
Значит, нужно вести войну чужими руками, но под американским контролем. Выбора не было — война начнется рука ми англо-французов с привлечением мужичков недотепистого «адмирала Маркизовой лужи и Цусимского пролива» Николая Александровича Романова.
Был ясен и ход войны, и её исход. И странно, что это отрицалось и отрицается многими. Я уже не раз ссылался и буду ссылаться на академика Е. Тарле уже потому, что пишу о том же периоде, о котором написал свою книгу и он. Параллельные сравнения напрашиваются сами.
Обратимся к мнению Тарле: «Конечно, для капиталистических классов всех стран, особенно всех великих держав, был элемент риска; математически непререкаемой надежды на по беду не было ни у кого»…
Тарле неправ в корне. Что касается Соединенных Штатов (и только их!), то они имели нечто большее, чем надежды. Риск для них был сведен к нулю, зато победа рассчитывалась с математически непререкаемой точностью.
Заранее не приходилось сомневаться, что в случае войны Германия Антанту будет бить. И что США начнут поддерживать Антанту вначале «по факту». А вот когда Германия Антанту почти побьет, США вмешаются уже открыто и сведут окончательный баланс. В свою пользу, конечно.
Тарле не понял сути даже после окончания войны, а вот хитрая, но проницательная лиса Талейран, понаблюдав в свое время за Америкой вблизи, дал точный прогноз будущего за сто двадцать лет до действительных событий. Он предупреждал: «На Америку Европа должна смотреть всегда открытыми глазами и не давать никакого предлога для обвинений или репрессий. Америка усиливается с каждым днем. Она превратится в огромную силу, и придет момент, когда перед лицом Европы, сообщение с которой станет более легким в результате новых открытий, она пожелает сказать свое слово в отношении наших дел и наложить на них свою руку… В тот день, когда Америка придет в Европу, мир и безопасность будут из нее надолго изгнаны».
Именно так всё и произошло, но всё это нужно было ещё хорошенько подготовить. Ведь приходилось иметь дело не с оловянными солдатиками, а с судьбами доброго полумиллиарда живых людей.
* * *
И нужно было обязательно изолировать Германию от России и одновременно не дать Германии мириться с Англией. В этой двуединой задаче враги европейского мира преуспели вполне. Было их немало, но есть среди них одна по-особому загадочная фигура. Тайны долгой подготовки войны проявились в ней так отчетливо, что по сути перестали быть тайнами. Случай этот настолько уникален, что на нем нужно остановиться отдельно.
Я имею в виду, читатель, наиболее, по определению первого издания Большой советской энциклопедии 1930 года, крупного представителя закулисной дипломатии в эпоху Вильгельма II барона Фридриха Августа фон Гольштейна. Это имя почти незнакомо современной советской историографии и из после дующих изданий БСЭ «выпало» (что удивительно и загадочно само по себе). О Голыптейне упоминает академик Хвостов в на писанном им в начале шестидесятых годов втором томе «Истории дипломатии», но и он подлинное значение таинственного барона не обозначил. Впрочем, современные западные историки тоже почему-то историю барона из вида упускают.
Гольштейн родился в год смерти Пушкина — в 1837. Начинал он как ближайший сотрудник Бисмарка, а значительно поз же активно содействовал его отставке. В двадцать три года Голь-штейн приехал в Петербург на должность младшего атташе при после Бисмарке. В тридцать семь лет он был вторым секретарем посольства в Париже и стал известен благодаря показаниям на процессе 1874 года по делу своего бывшего шефа — посла Германии во Франции графа Г. Арнима, соперника и противника Бисмарка. Говорили, что Гольштейну, выполняя задания Бисмарка, приходилось даже собирать пыль под диваном в приемной посольства, чтобы подслушивать беседы фон Арнима.
С 1880 года барон, остававшийся всю жизнь холостяком, обосновался в министерстве иностранных дел в качестве советника политического отдела. Забавно, что автор биографии Бисмарка Алан Палмер утверждал: Бисмарк способствовал продвижению «честного и амбициозного» барона по служебной лестнице до тех пор, пока тот не стал самым знаменитым «серым кардиналом» со времен отца Жозефа, состоявшего при Ришелье. Палмер сам не заметил, как попал впросак! Ведь «серые кардиналы» тем и отличаются, что не имеют никакого официального веса при абсолютном фактическом влиянии. По служебной лестнице они никогда не поднимаются именно в силу своего особого положения.
Таким же был и Гольштейн. Он наотрез отказывался от всех повышений и до ухода от дел в 1906 году формально оставался все тем же скромным советником, а на деле — заправлял всей внешней политикой.
Бисмарк получил отставку от нового кайзера, молодого Вильгельма II, весной 1890 года, и уже тогда роль Гольштейна в этом была одной из главных. Почему Гольштейн так настойчиво хотел отстранить Бисмарка, если он не метил высоко сам? И почему затем Гольштейн действовал в тени, за кулиса ми, почти тридцать лет — как раз самые важные для дипломатической подготовки мировой войны десятилетия?
Ответ отыскивается в основных результатах политики Голь штейна. Уже при отставке Бисмарка он выступил ярым противником перезаключения договора о «перестраховке» с Россией. Он даже спрятал в решительную минуту текст договора от сына Бисмарка — Герберта. Собственно, «новый курс» канцлера фон Каприви де Капрера ди Монтекукули был курсом Гольштейна. И эту антирусскую линию, идущую вразрез с принципами Бис марка, он выдержал до конца своей деятельности.
Но он же сорвал и намечавшееся англо-германское сближение. Он уверял Вильгельма II, что Англия никогда не пой дет на соглашение с Францией и Россией. Через пару десятков лет таким же (почему-то!) образом провоцировал немцев английский министр иностранных дел сэр Эдуард Грей, уверяя, что Англия останется нейтральной, в то время когда она готовилась объявлять Германии войну.
Статс-секретарь, а затем канцлер Бернгард фон Бюлов имел номинальный политический вес, а реально все решали пометы барона на полях дипломатических депеш. Если он писал: «Дешево!», то проект отставлялся в сторону. Именно в руках Гольштейна были важнейшие дипломатические назначения, он вел собственную переписку с германскими представителями за границей. Иногда он даже сносился через голову послов с их секретарями и явно заслужил свое прозвище «великий незнакомец» наряду с уже избитым «серое преподобие» («graue Eminenz»)…
Е. Тарле, подробно описывая Германию Вильгельма II, личности Гольштейна много внимания не уделил, но уровень его влияния понимал, потому что написал: «Все четыре канцлера, занимавшие этот пост между отставкой Бисмарка и на чалом мировой войны, т. е. и Каприви (1890–1894 гг.), и князь Гогенлоэ (1894–1900 гг.), и Бюлов (1900–1909 гг.), и Бетман-Гельвег(1909–1917 гг.), были в сущности орудиями и исполнителями воли императора, точнее — мысли стоявших за ним лиц, вроде барона Фрица фон Гольштейна»…
Но кто стоял за Гольштейном? Тарле — обычно очень чуткий к психологическим и личностным аспектам исторических событий, — этим вопросом почему-то не задавался. Более того, он даже не заметил, что противоречил сам себе, когда утверждал: «Уже наличность таких выдающихся людей, как князь Лихновский, Брокдорф-Ранцау, Бернсторф, Кидерлен-Вехтер, Маршаль фон Биберштейн, не дает ни малейшего права… говорить об общей неудовлетворительности германской дипломатии». Гольштейна в перечне нет, хотя названные дипломаты были младшими современниками и коллегами «серого барона», а в искусстве дипломатии ему, скорее всего, уступали.
Правда, в одном месте своей «Европы в эпоху империализма» Тарле дал хотя и сжатую, ущербную своей краткостью, но важную характеристику барона. «Отметим, к слову, что в 1890–1907 годах за спиной императора стояло одно лицо, громадная роль которого только сравнительно недавно (Тарле писал это в 1927 году — С.К.) выявлена, — барон Фриц фон Гольштейн, скрывавшийся в тени… Этот человек, очень работоспособный и дельный, в сущности и составлял доклады, представлявшиеся канцлерами императору, и, в совершенстве изучив натуру Вильгельма, искусно подсказывал императору его резолюции, подсказывал самим построением доклада. В 1925 году выяснилось документально, что Гольштейн вел широкую биржевую игру и был в постоянных сношениях с биржей; он отражал интересы наиболее агрессивно настроенных сфер крупного капитала Он был очень важной, хотя и скрытой пружиной, посредством которой капитализм создавал империалистическую внешнюю политику».
Но Тарле тут же прибавлял: «Это — только деталь, конечно. Империалистическая, агрессивная тенденция в германской внешней политике была неизбежна».
Замечу, что артистическая натура либерала Тарле плохо выносила германский практицизм, зато была доброжелатель на к англо-французскому образу мыслей. Небеспристрастный взгляд — ограниченный. И поэтому Тарле не смог понять, что агрессивная тенденция во внешней политике Германии была действительно неизбежной, а вот антирусская тенденция была совсем не обязательна.
Линия Гольштейна проводилась как подчеркнуто антибисмарковская, то есть, в конечном счете антироссийская. Но какова же была здесь роль лично кайзера? Ведь Вильгельм не раз и не два пытался договориться с Николаем II (а ещё раньше — с Александром III). Да в том-то трагедия и была, что как в Петербурге, так и в Берлине активно действовали силы, готовившие открытый военный антагонизм двух ранее дружественных стран. Фактор Гольштейна здесь если и был деталью, то принципиальной. Тарле невольно дал образ очень точный — Гольштейн был пружиной. Пружина задает движение, без нее не работает весь механизм, но ее в свою очередь заводят! И уже не деталью, а сутью эпохи становилось то, что в Германии даже вопреки намерениям монарха некто заводил пружину для движения против России.
«Венцом» (не по значению, а по времени) официальных усилий барона стал подрыв позиций Германии в Марокко и конфликт по этому поводу с Францией. Данный факт исчерпал кредиты доверия к Гольштейну у Вильгельма, и барон был вынужден уйти в отставку — за три года до своей смерти. Почти семидесятилетний «добряк» (по оценке Палмера) оказался весьма мстительным, и через журналиста Гардена раззвонил о гомосексуальных забавах в интимном кружке ближайшего друга кайзера и второй «скрытой пружины» международных антирусских кругов — графа Филиппа Эйленбурга. Обстоятельство занятное. Вряд ли престарелый барон собирал свой «компромат» опять под диванами. Скорее он отыскивал его на диванах в кружке графа Филиппа. Если учесть тесную связь влиятельного масонства с аристократическим гомосексуализмом, то политическая физиономия Гольштейна приобретает вполне определенный оттенок — космополитический.
Между прочим, ещё в начале своей «антикарьерной» карьеры фон Гольштейн, ведя 26 апреля 1871 года переговоры с военным делегатом Парижской коммуны Клюзере о возможном признании коммунаров германским правительством, сорвал их в пользу версальской контрреволюции. В общей картине жизни барона — мелочь, но многозначительная и тоже разоблачающая.
Редкие и скупые советские оценки Гольштейна объясняют его «просчеты» приверженностью к окостенелым доктринам и схемам, но вряд ли удачливый биржевой спекулянт, ловко превращающий дипломатические тайны в золото, оказался так уж неспособен к ломке своих взглядов. Нет, просто схема, в которую была вписана политика Гольштейна, никакого от ношения к интересам Германии не имела изначально, потому что она изолировала Германию, вела ее к войне и создавала ей образ будущего «поджигателя войны».
При внимательном рассмотрении «великий незнакомец» оказывается особо доверенным лицом транснациональных сил. Так что «graue Eminenz» не направлял внешнюю политику рейха. Нет, это им, как рулем, целенаправленно, десятилетиями, ее подправляли в нужном Золотому Интернационалу направлении. Курсовых же целей было две: разрыв с Россией и недопущение альянса с Англией.
Бисмарк, хотя и поздно, разобрался в «под-над-диванном» бароне. И предостерегал кайзера от «человека с глазами гиены». Увы, Гольштейн интриговал и властвовал беспрепятствен но. Причем властвовал до самой смерти, потому что до послед них дней был частным советником фон Бюлова и внес свою долю в последний Боснийский кризис 1908–1909 годов, ставший преддверием скорой войны. Состоял он в следующем.
Австро-Венгрия аннексировала славянские провинции Турции — Боснию и Герцеговину. Сербия начала протестовать, по тому что рассчитывала на эти земли как на часть будущего южнославянского государства. Россия поддержала Сербию, а Германия — австрияков. Англо-французы остались в стороне, не желая подыгрывать России и тем самым усиливать наше влияние на Балканах. В результате авторитет русских упал, и разногласия между русскими и немцами получили дополнительную подпитку. Гольштейн сыграл в этом существенную роль.
Будучи, безусловно, выдающейся личностью, он действо вал с безукоризненным знанием своего ремесла, дипломатической истории, придворной жизни и тайн. Его положение было таким, что, как правило, не ему, а он грозил отставкой, и угроза каждый раз срабатывала.
Жил он таинственно, открыто почти ни с кем не встречаясь, избегал журналистов и всякой публичности. Не существует даже его подлинной фотографии. Зато подлинную его роль проявила сама история.
«Гольштейны» были и во Франции, и в России, и в Англии. И везде их руками обеспечивалось одно — война. Но лишь германский Гольштейн оказался настолько загадочным, что его вызывающая загадочность превратилась в свою противоположность.
* * *
С именем, как ни странно, именно Фрица Гольштейна, связан почти мимолетный, но очень интересный и так и не понятый верно эпизод российско-германских отношений. Летом 1905 года, когда до начала Первой мировой войны было ещё почти 10 лет, у острова Бьорке в финляндских шхерах встретились два императора — Вильгельм II и Николай II.
О свидании императоров писали не раз, но подлинные его детали явно остались только между двумя основными фигура ми Бьоркского рандеву. С другой же стороны, о Бьорке хотя и упоминали неоднократно, но без понимания того, что же тог да произошло и почему. Так каким же был смысл Бьоркской встречи, читатель?
Вряд ли можно разобраться во всем этом, если не смотреть на мировую внешнюю политику начала XX века как на хотя и еще неустановившийся окончательно, еще противоречивый в частностях, но уже единый в главном процесс, который скрыто, но напористо организовывал во всех странах одновременно наднациональный мировой капитал.
В первые годы начавшегося века расстановка фигур буду щей большой игры живыми солдатиками начала определяться окончательно. Мировой капитал имел прочные позиции во всех основных «политических» державах, то есть в США, Англии и Франции.
Для начала XX века было верным мнение о том, что промышленный капитал более национален, чем банковский. В Германии бурно развивалась прежде всего внутренняя производящая экономика, и уже поэтому крепнущая Германия контролировалась Золотым Интернационалом в наименьшей мере. Над Россией контроль вроде бы уже установился, но говорить о его прочности еще было рано.
Получалось так, что назрела необходимость окончательно оторвать Россию от Германии и сделать их политический союз совершенно невозможным.
Легко сказать, но как сделать? Ведь вне России происходило такое, что как раз наоборот, могло отвратить Николая II и русских от «демократической» Европы и сблизить их с «монархической» Германией.
Обычно главным политическим противостоянием тех лет считают англо-германское, но у крупного капитала нюх по тоньше, чем у присяжных историков, — даром, что исторической дальновидности у того же капитала нет ни на грош. Мы уже знаем, читатель, что капитал задумывал грядущие мировые потрясения, и Европа неизбежно должна была стать их ареной просто потому, что в ходе подобных событий нужно было обязательно ослабить Германию внутри нее самой с по мощью континентальной войны. А она была невозможна без того, чтобы не только Германия и Франция враждовали, но и Германия и Россия были разобщены.
Избрали и новую штаб-квартиру капитала — неуязвимые территориально и геополитически Соединенные Штаты. Да, пока что между ними и Англией существовали отношения должника и кредитора, и США, вплоть до Первой мировой войны, были крупнейшим в мире должником, а Англия — крупнейшим мировым кредитором. Точнее, по верному замечанию академика В. Хвостова, кредитором была английская финансовая олигархия, английской ее можно было назвать с большой натяжкой как в смысле формальной национальной принадлежности, так и с позиций ее мироощущения — космополитического и эгоистического.
Миром начала века правила вроде бы Англия, но миром XX века должны были править Штаты. И перспективным основным мировым противоречием тогда выступало бы уже не англо-германское, а американо-германское.
Вот что писал 1 января 1898 года германский посол в Вашингтоне Хольлебен: «Противоречия между Германией и Соединенными Штатами в экономических вопросах, все более и более обостряющиеся со времени великого подъема, испытанного Германией в качестве экономической силы, поскольку речь идет о настроениях в США, вступили в острую стадию. Сейчас Германия в здешней прессе и в обывательских разговорах является безусловно самой ненавидимой страной. Эта ненависть относится в первую очередь к стесняющему конкуренту, но она переносится также на чисто политическую почву. Нас называют бандитами и грабителями с большой дороги (это американцы-то, укравшие целый континент и прибирающие к рукам все, что только плохо лежит! — С.К.). То обстоятельство, что недовольство против нас заходит так далеко и проявляется сильнее, чем против других конкурентов, объясняется здесь страхом перед нашей возрастающей конкурентоспособностью в хозяйственной области и перед нашей энергией и возрастающей мощью в области политической».
Оценка Хольлебена, читатель, не только ярка и точна. Она ценна еще и тем, что доказывает: не очень-то «должник» опасался своего «кредитора», и Англию в США — как серьезного в перспективе конкурента — не рассматривали. Зато там очень опасались Германии.
А ведь Германия даже в конце XIX века была лишь слабой тенью Германии десятых годов XX века!
Общие констатации Хольлебена хорошо иллюстрировались и практически. Весной и летом того же 1898 года разгорелась испано-американская война. Вообще-то выражение «разгорелась» не очень верно: огонь американских канонерок выжигал остатки былого влияния Испании в регионе, как степной пожар выжигает сухую траву — неудержимо и дотла. Штаты быстро занимали Карибские острова, высадились на Филиппинах.
Однако в Манильскую бухту была послана из Китая и германская эскадра. 12 июня 1898 года она стала на якорь в виду американской эскадры, по мощи уступавшей немцам. Янки благодушны лишь когда видят перед собой покорных холуев. Но тут в прессе США поднялась волна «благородного возмущения». И было отчего — часть лакомых кусков «испанского пирога» немцы от США оттяпали. Правительство Испании сбыло с рук и так уплывающее из них и в Берлине продало Германии Каролинские и Марианнские острова.
Тогда же Ленин со своей всегдашней беспощадной точностью отметил: «Соединенные Штаты имеют „виды“ на Южную Америку и борются с растущим в ней влиянием Германии».
* * *
Впрочем, с германским влиянием активно боролась и Англия. Английскую элиту все более беспокоил рост как общей, так и (особенно) морской германской мощи. Англия входила в очередной конфликт с Германией по вопросу о Багдадской железной дороге, но это был именно очередной и далеко не единственный конфликт далеко не в единственной точке земного шара.
Но и отношения Англии с Россией, и так никогда не бывшие сердечными, портились. Англия открыто поддерживала Японию, да и вообще традиционно «пакостила», порой скрыто, а чаще — открыто. 30 января 1902 года был заключен антирусский англо-японский союз и, опираясь на него, Япония развязала русско-японскую войну 1904–1905 годов.
Скажем также, к слову, что в апреле 1904 года синдикат английских банков совместно с американо-еврейским банкирским домом «Кун, Леб и компания» и банкиром Яковом Шиффом предоставили Японии кредит в 50 миллионов долларов. По заслуживающему доверия (в данном случае) свидетельству Витте, «тогда государь считал англичан нашими заклятыми врагами».
Правда, и в «союзной» Франции банкир барон Жак Гинзбург в самый разгар маньчжурской войны, по воспоминаниям графа Игнатьева, сумел провести заем для Японии. И вот на фоне всего этого началось взаимное встречное движение Англии к Франции и наоборот.
Всего семь лет назад между этими двумя колониальными супердержавами не то что союза — просто нормальных отношений не было и в помине. На языке у всего мира было слово «Фашода», а англичане и французы были на грани войны. Войны классически колониальной, которая велась бы не под стенами Лондона и Парижа, а за тысячи километров от них, но все же могла возникнуть. Или все же не могла?
Дело было так. В сентябре 1898 года у селения Фашода на Белом Ниле, в верховьях великой реки, столкнулись два военных соединения.
Французский колониальный отряд капитана Маршана пришёл сюда из французского Конго еще в июле, водрузил над развалинами старой крепости трехцветный флаг и теперь стоял на пути у английской экспедиции генерала Китченера, шедшей вверх по Нилу.
Встретились генерал и капитан не на светском приеме, так что субординация полетела к черту — капитан решительно от казался уступить старшему по званию, и мутные нильские воды начали вскипать от накала страстей.
Генерал командовал корпусом в 20 тысяч человек, капитан — отрядом в сотню бойцов, но суть была не в местном соотношении сил в конкретном африканском захолустье. Фашодский кризис нарастал не под стенами заброшенной крепостенки в Восточном Судане, а в европейских столицах.
Это была серьёзная проба складывающегося глобального колониального «расклада», но — политическая, когда потоком лились чернила газетных писак, а не кровь солдат, и в бой вводили не передовые части, а передовые статьи. В ходе Фашодского конфликта нащупывались связи, оценивались шансы будущих коалиций. И так как холопы еще не дрались, чубы трещали пока что у панов.
Франция оказалась вдруг в таком раздоре с Англией, что, как писал академик Тарле, даже в ультра-националистической французской прессе впервые за долгие-долгие годы стали за даваться вопросом: кого скорее следует считать вечным, на следственным врагом Франции — Германию или Англию?
Дошло до того, что начинали составляться проекты при влечения Германии к войне с Англией на стороне Франции и… России. Но Германия в тот момент могла больше получить от полюбовного соглашения с Англией на колониальной ниве, и Франции пришлось уступить.
Генерал отдавил-таки капитану мозоли — даром что Маршан шел к Фашоде через джунгли и болота Центральной Африки целых два года.
Собственно, военная стычка Франции с Англией могла укрепить лишь Германию, что отнюдь не входило в расчеты стратегов будущей мировой войны. Поэтому Англии и Франции вместо взаимного мордобоя пришлось переходить к взаимному, хотя и сомнительному согласию.
Забавно, но даже историки-марксисты всерьёз называли одним из факторов намечавшейся «дружбы» бывших фашодских недругов личную дипломатию английского короля Эдуарда VII. Он, мол, был сторонником англо-французского и англо-русского (!) сближения, зато неприязненно относился и к Вильгельму, и к Германии.
Об Эдуарде историки не забыли, а то, что по обе стороны Ла-Манша политику определяли лондонские и парижские Ротшильды, почему-то из виду упустили. Однако главным был как раз тот факт, что союзу банкиров остро понадобился англо-французский союз.
Франция хотя и хорохорилась, но дряхлела. Французская экономика теряла динамичность, Франция — достойную перспективу. А ведь, напомню, без Франции как единственной реально антигерманской континентальной великой державы не могла начаться будущая большая война.
Францию нужно было надежно прибирать к рукам путем подконтрольного союза. Английский король был здесь лишь коронованным зиц-председателем — не более того. Да особенно трудиться ему и не пришлось — Франция охотно шла на попятный в прошлых спорах, и 8 апреля 1904 года было под писано англо-французское соглашение, формально касавшееся раздела сфер влияния в Африке (и еще кое-где по мелочам), а фактически было закладной доской в будущем здании антигерманского глобального союза. Соглашение получило в печати название «сердечного согласия», по-французски «Entente cordiale». Отсюда и пошла Антанта.
Но России такое «согласие» выходило боком. Все более привязанная к Франции займами и политикой финансового Петербурга, Россия хмуро смотрела на перспективы оказаться привязанной еще и к Англии. Россия терпела поражение в войне с Японией, Франция ей не помогала, а бездействовала, да еще руками Жака Гинзбурга помогала Японии. Англия была открыто враждебна.
Друзья проверяются в беде, и даже в такой локальной беде, как дальневосточный конфуз, поведение Европы волей-неволей заставляло задумываться даже ленивого на мысль монарха Ники (Николая II. — С.К.), тем более что кайзер Вильгельм настойчиво его к этому подталкивал.
* * *
Итак, мировому наднациональному капиталу, с одной стороны, нужно было в зародыше подавить возможность теперь уже германо-российского согласия, а с другой — окончательно пристегнуть Россию к «согласию» собственному.
И метод для этого выбрали настолько же умелый, насколько и рискованный. Хотя, впрочем, при точном учете психологии императоров Вильгельма и Николая, а также в свете того, что внешнее недоброе влияние на русскую политику было мощным и глубоким, риск был не очень уж и велик и даже во все исключался. Пожалуй, избранный метод можно охарактеризовать как «контрминный». Что делает умный и умелый солдат, если противник ведет под него подземную мину? Ну, конечно же, начинает вести свою контрмину для того, чтобы упреждающе взорвать чужую мину и полностью расстроить вражеские расчёты.
Такой контрминой финансового Запада и стал для надежд Вильгельма II германский (впрочем, германский лишь внешне) план нового европейского политического расклада.
Тут нам, читатель, надо без спешки порассуждать, потому что документов о данном факте истории никто не оставил, да и не мог. Такие замыслы бумаге не доверяют. Но вот что говорит нам логика…
Германии был нужен союз с Россией, который стал бы неизбежно и союзом против Франции как континентального врага рейха, и против Англии, как его же глобального врага.
В таком союзе Россия, обретая стабильность на западной границе, могла бы наилучшим образом использовать все выгоды взаимного товарообмена с немцами. А это уже немало, если учесть, что для России единственно разумной внешней политикой была бы та, которая обеспечивала бы мир и ускоренное освоение внутренних богатств.
Однако Россия была связана соглашениями с Францией и так просто разорвать их не могла — полученные и все еще не оплаченные займы держали царизм крепко. Вильгельм это понимал, но слишком уж полагался не только на себя и на здравый смысл Николая II, но и на своих советников.
В конце октября 1904 года он пишет Николаю II о «комбинации трех наиболее сильных континентальных держав». Подразумевались, естественно, Германия, Россия и Франция, но Францию кайзер упомянул, что называется, для проформы. Он вряд ли сомневался, что если бы удалось подвигнуть Николая на общий союз, то это привело бы к разрыву России с только что выстроенным «сердечным согласием».
Подход здесь был простой: не примкнет Франция — беда невелика. А даже если и примкнет — тоже горе невеликое: играть ей в Европе все равно придется вторую скрипку. Собственно, говоря по чести, ни на что иное французы и не могли рассчитывать, вопрос был лишь в том, кто в одном из двух возможных тройственных ансамблей с участием французов и русских будет примой — Англия или Германия?
Союз с Альбионом означал для Франции войну с немца ми, союз с Германией и Россией — тоже войну, но явно более приемлемую — вне Европы, на колониальных фронтах. Так что смысл в затее Вильгельма существовал. А особенно разум ной она выглядела в своем стремлении к прочному миру с Россией.
Одного кайзер не учёл — интернациональной разветвленности, говоря современным языком, — сети «агентов влияния» и согласованности их действий, в том числе и в его Фатерлянде. Вот почему в русских делах он охотно начал действовать по плану… Гольштейна и при участии Гольштейна. Да, да, читатель, убежденный русофоб, барон Фриц фон Гольштейн вдруг проникся мыслью об общности судеб двух монархий.
Эта-то деталь и позволяет предполагать в идее будущего Бьоркского свидания двойное дно, подстроенное Гольштей-ном, а точнее — при его посредстве. Чудес в мире политики, управляемой финансистами, не бывает, так что любовью к русским барон Фриц воспылал явно неспроста. «Timeo danaos et dona ferentes», — говаривал в «Энеиде» Вергилий, и совет великого древнеримского поэта бояться данайцев, даже приносящих дары, был вполне уместен для случая с Гольштейном.
События же разворачивались так. 27 октября 1904 года русский посол в Берлине Остен-Сакен доносил министру иностранных дел Ламздорфу: «Я был очень удивлен, когда два дня тому назад стороной меня уведомили, что барон Гольштейн, первый советник министерства иностранных дел, желает меня видеть. Вы, конечно, припомните, дорогой граф, что эта важная особа, может быть, истинный вдохновитель политики берлинского кабинета, для официальных послов оставался невидимым».
Встретившись с бароном российско-остзейским, барон берлинский повел те же речи, что и кайзер в своем письме царю: мол, стоит подумать о том, как создать союз Германии и России, втянув в него французов, которые испугаются-де перспектив остаться на континенте в одиночестве.
Описывая Бьоркский эпизод, академик Тарле позднее утверждал: «Что Франция испугается и примкнет — Гольштейн, а за ним и канцлер князь Бюлов и особенно Вильгельм не сомневались». Ну, канцлер с кайзером, может, так и думали, хотя вряд ли, потому что слишком уж было очевидно, что если Франция даже и «испугалась» бы, то «примкнуть» ей её новые «сердечные друзья» из-за пролива (а еще и из-за океана) не позволят никак. Впрочем, определенные надежды монарх с князем могли и иметь, поскольку, как уже говорилось, определенный резон для Франции в идеях кайзера был.
Но вот уж насчёт чего не стоит строить иллюзий, так это относительно наивности (по оценке Тарле) барона Гольштейна. Тарле описывает Вильгельма как натуру ограниченную, недалекую, непрозорливую. Что ж, пусть даже так (хотя и вряд ли именно так). Но Гольштейн-то под такую характеристику не подпадает абсолютно. Он-то был хладнокровно расчетлив и знал европейскую ситуацию досконально.
Почему же тогда Гольштейн действовал именно так, как он действовал? Разумное объяснение напрашивается одно: расчет был на то, что Вильгельм увлечется подброшенной (якобы Гольштейном) идеей, без того уже годами бродившей в его голове.
Затем нужно организовать встречу кайзера с царем в максимально неофициальной обстановке и подсунуть «Ники» через «Вилли» такой договор, который на первый взгляд крепко соединял бы Германию и Россию, а в действительности противоречил бы обязательствам России по отношению к Франции.
Политическая и дипломатическая бездарность русского царя и его равнодушие к серьезной повседневной государственной работе для закулисных режиссеров капитала тайной не были. Поэтому можно было твердо рассчитывать на то, что Николай как бездумно подпишет российско-германский договор, так бездумно же от него и откажется после того, как его отговорят ошеломленные русские министры или заранее осведомленные русские «агенты влияния» или те и другие одно временно. Ведь в Петербурге уже нередко было сложно разобраться, кто сановник, а кто агент. Одна личность Витте поводов для раздумий давала достаточно.
Реакцию кайзера на «вероломный» отказ царя предугадать было нетрудно. Контрмина взрывалась и разрывала в клочья не только бутафорский «договор», но и возможность уже не фальшивого, а подлинного, без посредничества гольштейнов и витте, союза России и Германии.
Вышло всё, читатель, как по нотам. Весной 1905 года канцлер Бюлов (явно после разговоров с Гольштейном) посоветовал Вильгельму предложить Николаю встретиться во время очередной прогулки кайзера по Балтике. Место и время свидания были выбраны умело: обстановка неделовая; русские министры, обязанные по законам Российской империи контрассигнировать царскую подпись, будут далеко, за исключением некомпетентного морского министра Бирилева (того самого, заменявшего на Тихом океане французские свечи зажигания казенными стеариновыми).
Ни о каком предварительном противодействии со стороны политических советников царя не могло быть и речи, потому что даже Вильгельм действовал втайне от собственной свиты.
10 (по новому стилю — 23) июля 1905 года Николай отправился на встречу с Вильгельмом. Вот как описаны эти два дня в его дневнике:
«10-го июля. Воскресенье.
Встали в 9 часов с жаркой погодой с тёмными тучами. <…> Ровно в час вышел на „Полярной звезде“ в Бьорке, куда при был в 4 часа. Стали на якорь у ост. Равица. Были две грозы с сильнейшим ливнем, но температура приятная. С 7 час. ожидали прихода „Гогенцоллерна“ (яхта кайзера. — С.К.), кот. запоздал на два с 1/2 часа. Он подошел во время нашего позднего обеда. Вильгельм приехал на яхту в отличном расположении духа и пробыл некоторое время. Затем он увез Мишу и меня к себе и накормил поздним обедом. Вернулись на „Полярную“ только в 2 ч.
11-го июля. Понедельник.
Проспал подъем флага и встал в 9 1/4. Погода была солнечная, жаркая, со свежим SO. В 10 ч. прибыл Вильгельм к кофе. Поговорили до 12 ч. и втроем с Мишей отправились на герм, крейс. „Берлин“. Осмотрел его. Показали арт. учение.
Завез Вильгельма к нему и вернулся на „Полярную“. Было полчаса отдыха. В 2 часа у нас был большой завтрак. Слушали музыку Гвар. Эк. (Гвардейского Экипажа. — С. К.) и разговаривали все время стоя до 4 1/2. Простился с Вильгельмом с большой сердечностью. Снялись в 5 час. одновременно и до маяка Веркомоталы шли вместе; затем разошлись. <…> Вернулся до мой под самым лучшим впечатлением проведенных с Вильгельмом часов».
Подсчитаем… 10 июля монархи встретились около десяти вечера и были вместе менее четырех часов, причем провели время так, что наутро «Ники» проснулся не без труда. Затем — опять совместного времени на все про все примерно шесть часов, включая кофе, переезды, учение, пение и прощание. Договор был подписан, что называется, между двумя чашками кофе. С русской стороны его контрассигнировал шестидесяти летний адмирал Бирилев. Но как! Царь пригласил его в каюту и предложил поставить подпись под текстом, который перед этим прикрыл рукой. Впрочем, может, ничего он и не прикрывал, а просто Бирилев присочинил позже в свое оправдание, а потом оно и пошло гулять из монографии в монографию.
Но так или иначе, от министра иностранных дел Ламздорфа и от Витте прикрыться не получалось, а те встали на дыбы: договор-де неприемлем и разрушает всю систему внешних отношений империи.
То, насколько эта система отвечает русским интересам, не обсуждалось. Правда, Витте, возвращаясь из Америки после мирных переговоров с Японией, был принят кайзером и, как мы увидим, «с сочувствием» отнесся к идеям венценосного со беседника о желательности союза континентальных держав.
Да ведь, если внимательно читать Бьоркский договор, то он отнюдь не программировал войну. Скорее наоборот — он от европейской войны страховал. Статья первая гласила: «В случае, если одна из двух империй подвергнется нападению со стороны одной из европейских держав, союзница ее придет ей на помощь в Европе всеми своими сухопутными и морскими силами».
Иными словами, если Германия нападала на Францию, Россия могла быть в стороне, но вот если Франция нападала на Германию, Россия обязана была прийти на помощь. Да, Россия была связана соглашением с Францией, но ведь там не декларировалось (хотя и подразумевалось) обязательство поддержать агрессию Франции против Германии. То есть, дух и буква Бьорке действительно программировали европейский мир. Обстоятельство похвальное.
Далее, статья третья определяла, что договор вступает в силу «тотчас после заключения мира между Россией и Японией», а статья четвертая предусматривала, что «Император Всероссийский после вступления в силу этого договора предпримет необходимые шаги к тому, чтобы ознакомить Францию с этим договором и побудить ее присоединиться к нему в качестве союзницы». Как видим, договор заключался не за спиной Франции.
* * *
«Скучно на этом свете, господа!» — сетовал Гоголь. Казалось бы, много воды утекло в финских шхерах мимо острова Бьорке, упокоились все, причастные к Бьоркской затее. 12 мая 1951 года в печать был подписан 6 том второго издания Большой советской энциклопедии. И там на странице 441 черным по белому напечатали: «Статья 4 обязывала Россию не сообщать Франции о договоре до его вступления в силу, и только после вступления договора в силу Россия имела право (?! — С.К.) предоставить Франции соответствующую информацию с тем, что бы побудить ее присоединиться в качестве союзницы».
Уж не знаю зачем, но энциклопедическое издание злостно перевирало эту давнюю и давно вроде бы сданную (?) в архив историю. Ведь статья 4 не «обязывала Россию не сообщать» ничего французам до вступления договора в силу, а всего лишь определяла тот срок, после которого Россия не просто «имела право» информировать Францию, а обязана была ее известить. Различие все же существенное.
Тем не менее Ламздорф, а позже и Витте, от договора пришли, по словам Тарле, в ужас. Я не думаю, читатель, что в двойной игре нам нужно подозревать Ламздорфа. В письме послу Нелидову в Париж Ламздорф горько жаловался одновременно и на бьоркскую «передрягу», и на «странные авантюры послед них двух лет». Старый дипломат считал, что России лучше бы не связываться вообще ни с кем. Оно бы и верно, но на деле-то приходилось выбирать из двух вариантов.
Обойтись без тесных связей с какой-то крупной европейской державой России было нельзя никак — очень уж мы от стали в экономическом и технологическом развитии. И выбираться надо было при помощи более развитого и хотя бы минимально лояльного к России партнера.
Англия отпадала сразу. А по сравнению с Францией Германия была, несомненно, лучшим выбором. Ламздорф плохо (точнее — никак) не ориентировался в проблемах технического прогресса, поэтому он плохо сознавал неизбежность выбора союзника. Однако в закулисных антирусских махинациях Ламздорфа не заподозришь.
А что же Витте? До 5 сентября он был в Америке, потом вернулся в Европу, где несколько раз встречался в Париже с финансистом Э. Нейцлиным и еще с одним занятным финансистом — шестидесятитрехлетним М. Рувье. Скончавшийся в 1911 году Рувье был не просто банкиром, но еще и политиком: он занимал сначала пост министра финансов в 1889–1892 и в 1902–1905 годах и премьер-министра — в 1887 и 1905–1906 годах. Перерыв в его политической деятельности в конце XIX века объяснялся вынужденной причиной: Рувье был замешан в мошенничестве Панамской компании (знаменитая «панама»). И, вероятно, в эпоху подготовки намного более масштабных мошенничеств вновь кому-то понадобился.
Виттевские парижские «амуры» с Рувье доверия к Сергею Юльевичу не прибавляют, особенно если принять в расчет, что и в Америке Витте беседовал не только с японцами в американском Портсмуте и не только с активистками женского общества охраны памятников старины. Уж чего-чего, а влиятельных интернациональных мошенников в Новом Свете было, пожалуй, даже поболее, чем в Старом! И все, что мы знаем (или все, что мы не знаем) о пребывании Витте в Америке, дает основания думать, что за океаном будущий граф подозрительных контактов не избегал.
Можно предположить, что и сроки Бьоркского свидания были закулисно согласованы со сроками возвращения Витте и лишь немного разнесены по времени — для маскировки.
Судите сами! Вот какова последовательность событий, Бьоркский договор подписан, третья статья прямо увязывает начало его вступления в силу с заключением мира с Японией, то есть, по сути, с возвращением Витте.
До возвращения выдержана приличная пауза, в течение которой и Николай II, и Вильгельм пребывают в уверенности, что все будет более-менее в порядке. Ламздорф — фигура не влиятельная, а Витте в свое время высказывался за континентальный союз (хотя делами, а не словами, подрывал его основу — германо-российские отношения).
Наконец Витте сходит на берег с океанского парохода. Увидеться с ним желают и английский король Эдуард VII, и кайзер. Однако Николай отправляет Витте в Париж депешу с прямым повелением заехать по пути домой именно к императору Вильгельму. 10 сентября Витте уже в Берлине и встречается там с канцлером Бюловым. Тон бесед таков, что Бюлов уверен в успехе Бьоркского договора.
Затем Витте — гость в охотничьем замке кайзера «Гросс Роминтен». Вот впечатление Вильгельма в телеграмме Бюлову: «Встреча превзошла все ожидания. Витте был чрезвычайно откровенен и искренен».
В Роминтене Витте познакомился с текстом Бьоркского договора, тут же прослезился и «от волнения и восхищения не мог произнести ни слова». Потом все же воскликнул: «Хвала Господу! Благодарение Господу! Наконец-то мы избавились от отвратительного кошмара, который нас окружал». Слова эти дошли до нас, правда, в редакции кайзера, так что сей царственный «репортер» мог немного эмоций и подбавить. Однако то, что Витте встретил Бьоркский документ «на ура», лучше записок кайзера доказывают факты: уехал Витте из Роминтена обласканным и довольным.
Он увозил высший германский орден Красного Орла (орден Черного Орла кайзер пожаловал ему еще в 1897 году) и портрет хозяина замка с собственноручным автографом: «Портсмут — Бьорке — Роминтен». Нешуточное дело: Вильгельм лично проводил на вокзал подданного своего кузена!
Кайзер уверен, что Витте — его единомышленник и обсуждает с ним международные задачи России и Германии. Витте поддакивает. А почему бы и не повалять в Германии ваньку? Основное-то дело ждало Сергея Юльевича в Петербурге.
Он появляется там, наговорившийся с Рувье (и не с ним одним) всерьез, а с кайзером — лицедействуя. И тут все поворачивается иначе: из энтузиаста бьоркских договоренностей Витте становится их уничтожителем. Но опять-таки — как! В позднейшем изложении самого Витте его «переубедил» Ламздорф. Что ж, возможно тот его и убеждал искренне. Но вот «сопротивлялся» ему Витте, явно лицемеря для того чтобы создать впечатление «изменения своей позиции» под «весомостью» объективной-де реальности и ранее-де «принятых Россией обязательств».
Витте разыграл незамысловатый (для Ламздорфа иного и не требовалось) фарс и при встрече с министром иностранных дел сделал вид, что незнаком с условиями соглашения в Бьорке. Тут нам не нужно ничего домысливать — сцену описал сам Витте.
Ламздорф протянул Витте текст:
— Прочтите, что за «прелесть»!
Витте взял отлично знакомую ему бумагу, выдержал паузу и «взорвался» в «благородном негодовании»:
— Как! Да это — прямой подвох, не говоря о неэквивалентности договора. Ведь он бесчестен по отношению к Франции, ведь по одному этому он невозможен! Разве государю неизвестен наш договор с Францией?
— Как неизвестен! Отлично известен. Государь, может быть, его забыл, а вероятнее всего, не сообразил сути дела в тумане, напущенном Вильгельмом, — ответил Ламздорф.
Витте вновь принялся рассуждать о бесчестности бьоркского союза. Судя по всему, общение с Морисом Рувье оказало на Витте глубоко облагораживающее влияние, и он не мог после знакомства с такой «кристальной» личностью мыслить иначе, как человек чести.
Отбросив же иронию, сообщу тебе, читатель, что «пере убежденный» Витте, узревший «вдруг» всю «неприглядность» тех идей, над которыми он несколько дней назад проливал слезы счастья в Роминтене, с жаром стал доказывать необходимость немедленного уничтожения договора с Германией.
И тут же привлёк на свою сторону ещё и дядю царя — великого князя Николая Николаевича, имевшего влияние на Николая II, но не имевшего мало-мальски серьезного политического кругозора. Поскольку Роминтен был позади, теперь нужно было убедить императора совместно с Ламздорфом (который боялся и союза с Францией, и союза с Германией, и боялся ослушаться) и с Николаем Николаевичем (который ничего не боялся, но ничего и не соображал, зато был легко управляем извне), что Бьоркский договор необходимо ликвидировать.
Да, недаром Николай II на следующий день после расставания с Вильгельмом сделал 12 (25) июля в дневнике такую запись: «С утра жизнь вошла в обычную колею. Радостно было увидеть детей, но не министров».
Чуяло сердце.
Почему трезвый, предельно циничный и расчетливый Витте говорил в Роминтене одно, а в Петербурге другое, прямо противоположное? Почему изображал перед Ламздорфом «неведение»? Ну, а если бы он сказал главе российской дипломатии правду? Ведь тогда Ламздорф сразу же задал бы неизбежный и естественнейший вопрос: «Ну и как вы, Сергей Юльевич, находите этот договор? Что вы сказали о нем императору Вильгельму?». И тут Витте пришлось бы лгать более крупно и рискованно. Но почему он лгал вообще? Допустим, в Роминтене у него просто не хватило духу разочаровывать гостеприимного и сыплющего орденами хозяина. Но к чему было паясничать перед Ламздорфом? Да и перед Николаем…
Некоторые биографы Витте все объясняют его желанием быть угодным венценосцам, но высшего сановника, заботящегося о личном положении более, чем о выгоде державы, иначе как негодяем назвать трудно. А с негодяя всего станется.
И странная двойная метаморфоза Гольштейна и Витте (один из русофоба стал вдруг «русофилом», а другой из пропагандиста идеи союза трех континентальных держав превратился в уничтожителя практических шагов к такому союзу) лишается всякой загадочности, если исходить из того, что и тут и там был спектакль, расписанный на две роли, и обе — антирусские. Да и антигерманские.
Витте был в этом спектакле особенно отвратителен и провокационен. Кромсая Бьоркский договор, он одновременно писал в Берлин, что царь не только хранит верность принятому решению, но теперь еще больше убежден в необходимости достигнуть намеченной в Бьорке цели. Он писал также, что Ламздорф якобы тоже поддерживает заключенный союз. Мол, нужно только время, чтобы подготовить почву для перемен во французской позиции. Иллюзии поддерживались для того, чтобы их крах был как можно более болезненным и непоправимым.
Затем Николая вынудили написать берлинскому кузену, что договор необходимо дополнить декларацией о неприменимости его в случае войны Германии с Францией, так как у России есть перед Францией обязательства. Германский император в телеграмме от 29 сентября 1905 года резонно ответил царю, что «обязательства России по отношению к Франции могут иметь значение лишь постольку, поскольку она (Франция) своим поведением заслуживает их выполнения». Не по могло и это.
Вильгельм, когда ему сообщили о явном отказе России от подписи «самодержца всероссийского», был в шоке. Кайзер, правда, и тут ещё пытался отговорить Николая от отступления от бьоркского курса, писал ему: «Что подписано, то подписано», но царь органически не был способен на решительные и самостоятельные действия.
Он уступил Витте.
Хотя лишь в 1907 году — в ответ на попытки немцев при знать договор «молчаливо существующим» — Петербург ответил, что договор не только рассматривается как несуществующий, но и никоим образом не может быть возобновлен. В том же 1907 году Россию присоединили к Антанте.
* * *
Академик Тарле написал о Витте целую книгу, в которой факт Бьоркского договора представил лишь как неловкую, фантазийную интригу-авантюру Вильгельма. Заканчивая рассказ о конце Бьоркского эпизода, Евгений Викторович с забавным пафосом констатировал: «Вильгельм снова убедился, как и в 1892–1894 годах, что С ВИТТЕ ЕМУ НЕ СПРАВИТЬСЯ. Не императору Вильгельму с Эйленбургом и Бюловым было и браться за эту замысловатую задачу — обмануть графа Витте, когда это никогда не удавалось дружной и коллектив ной умственной работе самых испытанных банкирских синдикатов и концернов, самых закаленных в боях, самых могущественных мировых бирж».
Забавно здесь не только то, что обычно ироничному Тарле напрочь отказало чувство меры, и он изобразил сомнительную намного более, чем незаурядную, личность «портсмутского» графа в виде этакого суперфинансиста, суперстоика и супертитана, единолично побивающего всю мировую биржу.
Ещё более забавно, что Тарле не ошибался — хотя и иначе, чем думал. Мировой бирже действительно никогда не удава лось «обмануть графа Витте» по той простой причине, что она им всегда управляла!
Одному из тех, кто был к этому причастен — директору Парижско-Нидерландского банка Нейцлину, — о реноме Витте заботы было мало. И как мы сейчас это увидим, ему не было нужды приглаживать облик российского премьера.
Витте вернулся в Россию, уже охваченную революцией. Маньчжурская страда и Цусимская трагедия русских мужиков во имя дивидендов парижских рантье завершились. Теперь Россия впервые требовала от царизма уплатить по процентам с крови и пота, пролитых под Мукденом, в Цусимском проливе и под Порт-Артуром.
Отсрочить законный платеж буржуазно-помещичья империя уже не могла без «данайских даров» европейских банкиров.
Для определения условий нового займа в Петербург съехались представители банкирских групп Франции, Германии, Англии, Америки и Голландии. Как видим, этот «Интернационал» умел объединяться, невзирая на официальные межгосударственные отношения и без призывов Маркса и Энгельса.
16 октября, то есть через месяц с небольшим после их последней встречи, Витте увиделся с главой французской делегации Нейцлиным.
Нейцлин потом вспоминал, как Витте ТРИЖДЫ, ПОДЧЕРКИВАЯ КАЖДОЕ СЛОВО, повторил: «Скажите Рувье твердо и настоятельно, что ничто не произойдет в отношениях между Францией, Россией и Германией без ведома или за спиной французского правительства». А потом добавил: «ЕСТЬ ЕЩЕ ВЕЩИ, О КОТОРЫХ Я НЕ МОГУ ВАМ ГОВОРИТЬ, но скажите твердо Рувье, что он может положиться на слова, которые я поручаю вам передать».
Обычно так ведут себя не премьер-министры великой державы, а люди зависимые, несамостоятельные. Иными слова ми, люди, очень напоминающие агентов тех или иных сил. В самом деле, почему бы Витте свои слова, адресованные Рувье, передать не по «испорченному телефону» через Нейцлина, а через него же в запечатанном письме? ан нет, выходит, много было между Витте и Рувье (а не между Россией и Францией!) такого, что бумаге не доверяется.
Витте был лжив, лицемерен и склонен к актерству уже в силу обстоятельств своей карьеры с самих ранних ее этапов. И он был связан с банковским капиталом России, что автоматически означало — и с иностранным банковским капиталом, как патроном капитала «российского» (точнее — петербургского).
По мере роста влияния Витте росло влияние на Россию этого внешнего капитала. Было, пожалуй, справедливо и об ратное: укреплялся в России иностранный капитал, укреплялся и Витте.
С какой это делалось целью? Ответ можно найти, пожалуй, в письме графа В. Коковцова Николаю II от 19 января 1914 года: «Граф Витте вносит все новые и новые, не возникавшие в Государственной думе предложения, явно рассчитанные на одно — разрушить то, что стоит до сих пор твердо, — наши финансы».
К политической биографии графа Витте можно подобрать одно ключевое слово: ЗАЙМЫ. А истинный синоним понятия иностранных займов для России был тоже единственный: ПАУ-ТИНА. Так что дифирамбы Тарле Сергей Юльевич не заслужил ни в малейшей степени. Его роль была всегда резко отрицательной и антинациональной. Конечно, исключением он не был — подобную роль играли почти все сановники царизма, связанные с финансами Российской империи и фигурировавшие на политической арене со второй половины XIX века вплоть до краха старой России в 1917 году.
Но Витте был исключителен в том смысле, что имел выдающееся влияние на процесс такого финансового закабаления Руси, при котором первоначальные займы вначале давали толчок русской экономике, а затем опустошали ее по классической кровососной схеме. Кроме того, займы шли во многом на покрытие военных приготовлений, то есть и здесь обеспечивали интересы не России, а Франции, а затем Антанты и США. На конец, займы помогали бороться с революцией — с законны ми требованиями народов России.
Тема займов в советской (и уж тем более в западной) историографии глубоко не рассматривалась, да и нам углубляться в нее сейчас не с руки. Но непосредственно к бьоркскому эпизоду примыкают и по времени, и по смыслу хлопоты Витте относительно международного займа 1906 года, имевшего главную подоплеку. Ту, о которой Витте говорил Нейцлину без обиняков: «Французы и правительство в первую очередь должны понять, что они все потеряют здесь, если у нас будет настоящая революция». Это — ценное признание. И оно полностью опровергает миф о том, что первая русская революция руководилась антироссийскими «еврейскими» кругами.
Сам Витте в воспоминаниях пишет о пребывании в Париже после возвращения из Портсмута в Европу в начале сентября 1905 года следующее: «Меня сопровождал г-н Нейцлин, директор банка Paris et Pays Bas, который являлся представителем синдиката французской группы для совершения русского займа без включения в этот синдикат еврейских банкирских домов, которые уклонялись от участия в русских займах со времени кишиневского погрома евреев, устроенного Плеве, несмотря на мои личные отношения с главою дома Ротшильдов, который всегда являлся главою синдиката по совершению русских займов, когда в нем принимали участие еврейские фирмы».
Если учесть, что в проведении русского займа 1906 года активно участвовал, например, Жак Гинцбург, заявления Витте представляются несерьезными. Но ведь и сам Нейцлин возглавлял отнюдь не антисемитскую банковскую группу. В нее входили: Лионский кредит (!), Парижско-Нидерландский банк. Национальная контора, Генеральное общество, банкирский дом Готтингера, другие менее крупные банки. В большинстве банков так называемой «русской группы» влияние еврейского капитала было или преобладающим, или по край ней мере существенным. Так что россказни как самого Витте, так и его биографов о том, что он несколько раз, в том числе через Артура Рафаловича, «безуспешно» зондировал настроения лондонских и парижских Ротшильдов, дают нам повод только лишний раз улыбнуться.
Ротшильды уходили из дела русских займов только для того, чтобы остаться. Остаться где прямо, а где и опосредованно, через дочерние или родственные банки, через участие в при былях Нобелей и других своих интернациональных партнеров по грабежу России.
Двуличие Витте не покинуло его и в конце жизни. В марте 1914 года «Новое время» опубликовало ряд бесед с «анонимным» русским государственным деятелем, в ком любой петербургский конторщик, не чуждый «политических рассуждений», легко узнавал нашего графа.
Так вот, Витте заявлял, что всегда считал, что главным рычагом русской иностранной политики является возможно более тесное соединение с Германией.
Дело войны было уже прочно налажено, клин между Россией и Германией был вбит основательно, и теперь Витте мог вновь затесаться в «германофилы» без риска помешать черному делу будущей войны. Возможно, преследовал Витте (и его патроны) еще одну цель. Весной 1914 года намечались переговоры с Германией о новом торговом договоре, и Витте твердо рассчитывал, что эта миссия будет возложена на него. И можно догадываться, как лучший друг французских банкиров Сер гей Юльевич постарался бы «укрепить» российско-германские торговые связи. Слава Богу — не вышло…
Показательно, что когда война началась, Витте осенью 1914 года очень хлопотал о публикации в «Историческом вестнике» своего доклада 1894 года об устройстве военного порта на Мурмане.
По Балтике до Лондона — 1300 километров, а от Мурмана, вокруг Скандинавии, — 3 000 километров. Понятно, что при скудости тогдашнего экономического развития русского Севера Мурманский порт был нужен России только на случай войны с Германией. И царь выбрал тогда вариант морской базы в Либаве. Теперь, когда притворяться уже не было смысла, весенний «германофил» торопился доказать, что он-де предвидел тевтонские козни еще за двадцать лет до их расцвета…
И своему бесстыжему хамелеонству Витте остался неизменно верным до конца, последовавшего в 1915 году.
Бьорке остался эпизодом, потому что был задуман его истинными творцами как эпизод. Вильгельм хотел видеть в нем поворот к новому порядку вещей, когда лидерство в Европе перешло бы от Англии к Германии, Николай, хотя и не сильный политическим умом и действием, но порой умеющий ситуацию понять, видел здесь стабильность для России.
Но силы, порождавшие деятелей типа Гольштейна и Вит те, с самого начала обеспечивали быстрый «взрыв» Бьоркских соглашений после того, как заблаговременно проведенный фитиль был подожжен и догорел до конца.
Конец идей Бьорке стал одновременно и логической точкой в попытках изменить движение от будущей европейской войны к возможному европейскому миру.
Конечно, Вильгельма отнюдь не стоит рассматривать лишь как жертву происков Гольштейна и подлинных патронов последнего. Импульсивность кайзера, его поверхностность и самоуверенность сыграли свою роль. Если бы он не ухватился за лукавую идею почти экспромтного договора под фанфары гвардейского экипажа и шампанское «поздних обедов», а разрабатывал жилу германо-русского союза вдумчиво, как серию убедительных бесед не за спиной Ламздорфа, России и Германии, а на фоне общего резкого и хорошо подготовленного перелома германских общественных настроений в пользу только и исключительно России, если бы все это подкреплялось еще и более активной кредитной политикой, то… Все могло бы пойти и в разрез с планами гольштейнов.
Но не будем снимать вины и с честных по отношению к своей Родине германских дипломатов, политиков и германского общества. Они ведь тоже не проявили дальновидности и оказались неспособными на широкое противодействие закулисным проискам закулисных наднациональных сил.
* * *
Соединение ротшильд-фактора с гольштейн-способом давало прекрасные, для капитала, конечно, результаты еще до войны. Академик Тарле без тени сомнения верил, что британский кабинет «в целях экономии» искренне предлагал Германии ограничить морские вооружения. Однако какие там «экономия» и «ограничения»! В 1907 году, во время 2-й Гаагской конференции по вопросам войны и мира Британское адмиралтейство писало: «Производство военных кораблей тесно связано во всеми отраслями производства и торговли и поэтому приковывает к себе законное внимание и интересы, И крупным ударом по этим интересам является любое предложение ограничить рост морского вооружения. Такое ограничение серьезно отразится на одной из главных отраслей национальной индустрии».
Немцы говорили то же самое: «Приостановление на год строительства флота выбросит на улицу множество людей». Адмирал А. Тирпиц предупредил рейхстаг, что отсрочка с финансированием приведет к тому, что «мы будем вынуждены уволить большое число людей, и вся отрасль нашего корабле строения будет расстроена».
Его английские коллеги подтверждали: «Англия имеет высший интерес в развитии кораблестроения, в торговле во имя жизни и процветания».
Двенадцатидюймовые снаряды в полтонны весом были, конечно, весьма своеобразным залогом мирной торговли.
А новые серии мирных сухогрузов, как средство поддержать экономику, лордам адмиралтейства почему-то на ум не приходили. Уже в восьмидесятые годы их соотечественник профессор международной истории Лондонского университета Джеймс Джолл, описывая истоки Первой мировой войны, считал, что гонка морских вооружений запустила экономические процессы, которые «трудно было остановить». Профессор явно поставил баржу впереди буксира. Это экономические процессы империализма запустили гонку вооружений.
Гонка вооружений привела к войне — в точном соответствии с пророчеством Энгельса. Как мы знаем, в 1904 году было заключено соглашение между Англией и Францией. В 1907 году к нему присоединилась Россия и образовалось Тройственное согласие (на бумаге, впрочем, тогда не закрепленное).
«Антанта» значит «согласие», но понять цену этому «согласию» нельзя без уже знакомого нам слова «Фашода»…
До лета 1914 года оставалось семь лет, и они прошли в дошлифовывании ситуации на «абразиве» ряда конфликтов и провокаций разного рода.
Так, 31 августа 1907 года были подписаны русско-английские конвенции по Персии, Афганистану и (не улыбайся, читатель) Тибету. Министр иностранных дел Российской империи А. Извольский и посол сэр Артур Николсон обменялись идентичными нотами.
На смену Ламздорфу пришёл Александр Николаевич Извольский, который до этого был посланником в Копенгагене. Еще со времени конфликтов вокруг Шлезвига и Гольштейна (не барона, а провинции) датские придворные круги были на строены резко антигермански. Извольский эти настроения воспринял, да и семя падало тут на вполне подготовленную почву. Он был личностью занятной. То ли масон, то ли нет. Одно время — министр-резидент в Ватикане.
Человек ловкий и изобретательный, он укреплял русско-французский союз и такими — по тем временам новыми — методами, как организация в Париже выступлений балетной антрепризы Сергея Дягилева.
Извольский сыграл в истории русской дипломатии отнюдь не положительную роль, и подготовке мировой войны он, конечно, поспособствовал. Был он и сторонником сближения не только с Францией, но и с Англией.
О русско-английских переговорах ходило много разных слухов, а обстановка секретности вокруг них нервировала, естественно, и германских политиков, и широкие народные массы в Германии. Такая реакция была вполне понятной, поскольку по окончании переговоров в европейской прессе широко заявлялось, что Россия, мол, даже в случае победоносной для себя войны с Англией не смогла бы получить такого «подарка», который она получила без войны.
А «подарок» был «ещё тот». Во-первых, Англия добилась от России отказа от активной политики по отношению к Афганистану. Афганцы традиционно ненавидели англичан и, что существенно, успешно им сопротивлялись. Также традиционно Афганистан неплохо относился к России, которая не могла и не хотела его завоевывать, зато могла с ним экономически сотрудничать, а в перспективе и политически поддержать. Российская подпись под конвенцией с Англией лишила нас такой вполне разумной перспективы. Академик В. Хвостов считал, правда, что конвенция и Англии не позволяла «аннексировать Афганистан, ликвидировав его как государство». Однако на деле этого не позволяла Англии самоотверженная борьба афганского народа, не склонявшего головы и не складывавшего оружия, владеть которым афганцы умели.
То, что Петербург и Лондон взаимно обязывались совершенно отказаться от действий в Тибете вплоть до отказа от посылки туда научных экспедиций, могло бы выглядеть неудач ной шуткой, если бы эта «шутка» не существовала в виде меж государственного соглашения. Нам, даже к началу XXI века толком не освоившим Сибирь, «преграждали» путь в Тибет, куда с трудом добирались экспедиции Пржевальского, Роборовского, Козлова, да еще художников Верещагина и Рериха.
А самым «весомым» результатом стало соглашение о раз деле сфер влияния в Персии (Иране).
Тарле удивлялся «великодушию» и даже «простоватости» англичан за то, что «Англия отдавала (? — С.К.) России северную, самую богатую часть Персии, брала себе меньшую и худшую южную часть и этим самым давала России возможность занять очень твердую стратегическую позицию для дальнейшего движения на юг, к Персидскому заливу, в случае, если бы отношения с Англией когда-либо впоследствии испортились».
Тарле не иронизировал, и зря. Ведь таким «щедрым» жестом нам предлагалось вместо ненужных авантюр на Корейском полуострове ввязываться в новые непосильные авантюры теперь уже на Ближнем Востоке…
Какая там «твердая стратегическая позиция»! Непрочный камень, стоя на котором рискуешь свалиться и свернуть себе шею. Какое там «движение к заливу»! Не к Персидскому заливу, а в болото заводило нас любое движение вовне, а не во внутрь наших естественных геополитических рубежей, пролегавших не далее чем по южному краю Каспийского моря.
Так что «подарочек» был, что называется, с изъянцем… И с двойным дном. А как ход, так и итоги переговоров были рассчитаны на окончательное пристегивание России к Антанте, к лондонской и парижской биржам. Второй целью было дальнейшее рассоривание русских с немцами.
Россию раззадоривали немецкими планами постройки Багдадской железной дороги — мол, они угрожают будущему русскому владычеству в Северной Персии. На самом деле такая дорога была бы удобным путем для некоторых потоков азиатского русского экспорта, при этом ни о каком будущем нашем «владычестве» в Персии речи быть не могло.
Ленин, между прочим, оценил англо-русское соглашение 1907 года верно — готовятся к войне с Германией. Но и противоположный фланг умных русских политиков смотрел так же. Петр Дурново (о нем мы еще вспомним позже) справедливо полагал, что всякая политика, дружественная Англии, тем самым враждебна Германии, а ссориться с Германией и особенно воевать с ней Россия не может. Точнее, может, но без успеха для себя. Да и незачем это России, потому что ни какого непримиримого столкновения интересов у России и Германии нет.
Вот над таким мнением Тарле слегка поиздевался. Немцам же после опубликования конвенций было не до иронии. Они не без оснований публично заявляли: «Рейх в опасности! Англия завершила политическое окружение Германии».
Ещё до обмена Извольского и сэра Артура подписями, с 3 по 6 августа 1907 года, прошло первое после Бьорке свидание Вильгельма и Николая II — на этот раз в Свинемюнде. Атмосфера его была тоже «морской», то есть ненадежной. Извольский, сопровождавший царя, пытался подсунуть немцам гак называемый Балтийский протокол с пунктом об «устранении Англии с Балтики». Чудны дела Твои, Господи! Но дела Сатаны — ещё чуднее… Англофил Извольский вдруг выказывал (перед немцами) явную враждебность к Англии. С чего бы это? Немцы (в Свинемюнде с кайзером был фон Бюлов) рассудили верно: Извольский хочет их спровоцировать, а потом показать «недружественный» текст с немецкой подписью англичанам. В итоге Берлин принял проект Протокола, вычеркнув из него все антианглийское. Но в любом случае Протокол заранее оказывался пустой бумажкой, потому что подлинно деловой дух уходил из российско-германских отношений как таковых…
В Боснийском кризисе 1908–1909 годов, к которому успел приложить слабеющую, но указывающую в нужном направлении руку фон Гольштейн, Россию вновь прочно и ловко при стегнули к проблемам балканских славян. Затем произошла ещё одна проба сил — в Марокко.
* * *
В 1911 году с прибытия германской канонерской лодки «Пантера» в марокканский порт Агадир начался франко-германский Агадирский кризис, где «Золотой Интернационал» попробовал Тройственное согласие на крепость.
Прыжку «Пантеры» предшествовала оккупация французами марокканской столицы Феца. В Марокко у Германии (особенно у монополии «Братья Маннесман») были серьезные вложения капитала. И Германия потребовала компенсаций. Франция пригрозила войной, к чему ее вначале активно подталкивала Англия.
Показательно, что французский социалист Жан Жорес в те времена вел активную пропаганду против правительства, заявляя, что рисковать из-за Марокко неисчислимыми жертвами войны с Германией — бессмысленное преступление. Элита Франции считала иначе, но повод для войны был действительно мелковат.
Кончилось тем, что в испанском городе Алхесирасе прошла международная конференция, где «пантерным» идеям Германии серьёзно прищемили хвост. Россия в конференции участвовала, но плелась позади англо-французской Антанты.
Для «Золотого Интернационала» это было тогда хотя и опасной — на грани взрыва — но опять-таки лишь пробной игрой. Перед тем как «заваривать» всеобщую свару, нужно было многое опробовать и оценить, в том числе и готовность России идти против собственных интересов. Империя Рома нова уже завязла в паутине виттевских внешних долгов, как неосторожная муха, но тут даже она начала дергаться и просить у Франции пойти с немцами на мировую. Уж очень опасным для царя было бы ввязывание в войну из-за чужой колониальной распри.
И комбинация «Фец — Агадир» как проверочная полностью удалась. После нее стало ясно, что для вовлечения в вой ну России нужно искать другой повод.
А о том, насколько Франции важно было удержать русский фактор в своих руках, говорит такая деталь. Хотя Россия оказала французам на Алхесирасской конференции по Марокко лишь вялую поддержку, в поощрение она получила в апреле 1906 года новый заем в 2 миллиарда 200 миллионов франков (843 миллиона рублей), спасавший царизм, расшатанный первой русской революцией, от финансового краха…
Прыжок «Пантеры» оказался полезен и тем, что помог лучше понять резервы англо-германского согласия. Реально они были невелики — во время Агадирского кризиса Англия в конце концов заявила, что выступит на стороне Франции. Британский министр иностранных дел Эдуард Грей (о котором мы еще поговорим подробно) оценивал ситуацию так: «В случае войны между Германией и Францией Англия должна была бы принять в ней участие. Если бы в эту войну была втянута Россия, Австрия была бы тоже втянута. Следовательно, это было бы не дуэлью между Францией и Германией, а европейской войной».
Тем, кто стоял за Греем, европейская война, в которой Германия и Россия, Германия и Англия сражались бы друг против друга, была необходима. Однако начинать ее в 1912 году было бы для международного капитала неразумно. Хотя после Фашодского кризиса прошло уже немало лет, вооружение еще не было подкоплено в достатке, да и «колониальный» повод к европейской войне выглядел в глазах народов совсем уж сомни тельным.
Поэтому, вмешавшись в ситуацию на стороне Франции в чисто политической, а не военной фазе Агадирского кризиса, Англия страсти до поры утихомирила.
Тем не менее Англия, хотя и входила в Антанту, имела собственные силы, способные всерьез договориться с Германией, если бы кайзер пошел, например, на снижение темпов морских вооружений. Такой шаг со стороны Германии был бы расценен в Англии как явно миролюбивый… Но сделать его мешали немцам… сами же англичане. А точнее — те английские «подданные», подданной которых все более становилась сама Англия.
Тирпиц соглашался поладить с англичанами при условии, что рейх уменьшит программу строительства дредноутов с четырех до трех, а англичане свою — с восьми до четырех. При всех неудобствах для Англии тут было о чем говорить. Директор той самой «Гамбург — Америка линие» Баллин, который соперничал с англичанами на трансатлантических линиях, склонялся к идеям сближения с былыми конкурентами. Его поддерживал банкир Эрнст Кассел, личный друг короля Эдуарда VII.
Кассел вместе с лордом К. Ревелстоуком и нефтяным дельцом К. Гюльбенкяном в 1910 году основали Национальный турецкий банк и в союзе с германским «Дойче банком» собирались финансировать железнодорожные и нефтяные ближневосточные проекты. Это были, конечно, империалистические замыслы, но на весы войны и мира они бросали не двенадцатидюймовые «гири» снарядов, а рельсы и буровые колонны.
Если бы Англия заняла в любом политическом конфликте позицию просто нейтралитета, то военного продолжения у та кого конфликта не было бы. И как раз такой, то есть мирный вариант стабилизации Европы не устраивал интернациональный капитал с любой точки зрения.
Всю свою жизнь верно служивший этому капиталу Уинстон Черчилль в 1912 году, будучи первым лордом Адмиралтейства, лицемерно предлагал Германии устроить «морские каникулы», то есть прервать постройку судов на год-полтора. В 1913 году он свое предложение так же лицемерно повторил. Правдив же и искренен он был в марте 1912 года, когда заявил в парламенте, что отныне будет строить новые дредноуты на 60 % больше, чем Германия.
«Клячу» будущей войны начинали постепенно подстегивать кнутом… И Англия была среди активнейших «кучеров», хотя старательно придерживалась позиции «я — не я, и лошадь не моя, и я — не извозчик».
Но вот как позже оценивал тот период знаменитый лидер думских крайне правых курский помещик Mapковвторой. Николай Евгеньевич представлялся личностью своеобразной, слыл, так сказать, классическим выражением «оголтелого» монархизма. Богатый землевладелец, он был неотделим от самодержавия, потому что с его падением терял всё (всё он и потерял).
В эмиграции Марков написал книгу «Войны тёмных сил», где все напасти общества выводил из масонского заговора. Не имеющий ни малейшего представления о том, что социальный процесс определяется объективным экономическим фактором не менее, а то и поболее, чем любыми субъективными групповыми усилиями, Марков то и дело попадал пальцем в небо. Но человеком он был по-своему неглупым и уж, во вся ком случае, информированным. С его мнением нельзя не согласиться: «Как только масонское влияние увлекло русскую дипломатию в объятия управляемого масонами „коварного Альбиона“, тотчас обострились русско-германские отношения, и Россия оказалась втянутой в мировую войну».
Марков переоценивал (а точнее, совершенно неверно оценивал) значение русско-французского союза и считал, что он-то и удерживал Европу от войны. Но зловещую роль Англии и «темных сил» он уловил верно.
Однако Англии пришлось выдерживать натиск и с другой стороны. Если в 1907 году в ней бастовали 147 498 рабочих, то в 1909 — уже 300 819, в 1911 — 931 050. Рост приличный… 11 августа 1911 года. «Daily Mail» писала: «Стачечники — хозяева… положения… Гражданская война — к счастью, сопровождающаяся лишь незначительными насилиями — в разгаре».
Вряд ли такие новые черты английской жизни устраивали английскую элиту, привыкшую быть хозяином положения. И если Ленин выдвинул впоследствии лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую в интересах труда, то капитал был тоже не дурак и вел дело к тому, чтобы превратить начинающуюся гражданскую войну в войну империалистическую. Ведь такая война едоков убавляет, а рабочих мест прибавляет.
* * *
Однако планировать первый военный импульс со стороны Англии было не лучшим решением для капитала. Вернее было бы воспользоваться Францией. А ещё лучше — Россией.
В 1912 году вначале премьер-министром Франции, а потом, в 1914 году, ее президентом стал Раймон Пуанкаре. Человек французских магнатов тяжелой индустрии, поверенный концерна Шнейдера в ле Крезо, уроженец отторгнутой у Франции после Седана Лотарингии, Пуанкаре ориентировался исключительно на войну, как и пушки производства «Шнейдера-Крезо».
«Пуанкаре — это война», — говорили умные люди сразу после того, как «Золотой Интернационал» капитала поставил его во главе окончательных военных приготовлений. К слову, одного этого прозвища («Пуанкаре-война») достаточно для того, чтобы увидеть лживость утверждения о единоличной-де ответственности Германии и ее кайзера за развязывание мирового конфликта.
Для того, чтобы расценить приход к власти Пуанкаре как верный симптом готовности капитала Франции к скорой вой не, были и более серьезные основания, чем броские словесные ярлыки. Сама личность Пуанкаре, весь его политический на строй идеально подходили для войны постольку, поскольку он был подчеркнуто равнодушен к проблемам внутренней политики, отдавая всего себя политике внешней. Причем политике агрессивной, реваншистской и наступательной.
Пуанкаре потому и стал перед войной президентом Франции, что его президентство обязано было стать «военным».
Среди сотни-другой первых закулисных и публичных фигур, которые во имя личных корыстных интересов приближали мировую бойню, Пуанкаре, пожалуй, — наиболее последовательный и цельный выразитель идеи войны. И его прозвище в некотором смысле было математически точным. Ведь оно возникло после высказывания «Мой двоюродный брат — это война», слетевшего с уст кузена Раймона Пуанкаре — великого французского математика Анри Пуанкаре.
Стефан Пишон, бывший в 1906–1911 и в 1913 годах министром иностранных дел Франции, считал, что если бы в Елисейском дворце в 1914 году был не Пуанкаре, а Клеман Фальер (президент Франции до 1913 года), то и войны бы не было.
К войне, к её подготовке приложили руку и Пишон, и Фальер, но не в них и даже не в Пуанкаре дело. Мнение коллеги Пуанкаре Стефана Пишона важно потому, что еще раз опровергает миф, называющий единственной виновницей войны и её инициатором Германию.
ГЛАВА 4 Балканы и капканы…
Еще до «войны Пуанкаре» прошли две скоротечные Балканские войны, позволившие расставить декорации пролога Первой мировой войны. Заодно были проверены некоторые тактические идеи и новые методы ведения военных действий, которые в полной мере развились уже в скором будущем.
Почему-то считают, что первую Балканскую войну между славянским в своей основе Балканским союзом (Болгария, Сербия, Черногория, Греция) и «младотурецкой» Турцией благословил и подтолкнул царизм. Но это объяснение и поверхностное, и неверное, хотя внешне все так и было.
Славянские войска воевали не русским, а французским оружием, турецкие — немецким (и генерал фон дер Гольц фактически командовал ими). Балканские славяне были нам наиболее близки и по языку, и по сердечной склонности, особенно сербы. Тем не менее России на Балканах делать было нечего уже потому, что за десятилетия своей балканской политики она снискала только славу и приобрела в балканских столицах могилы русских солдат и бульвары, названные именами русских генералов. Морально Россия имела тут «непробиваемые» позиции, а вот материально, фактически…
Балканский союз был выразителем интересов славянства только в речах его лидеров. Николай Николаевич Беклемишев, интересный русский аналитик, сказал в 1914 году накануне мировой войны: «Балканский союз состоялся именно для перевода земель Европейской Турции к более платежеспособным организациям, которые обременялись при этом новы ми обязательствами вследствие необходимости военных займов. Само собой разумеется, что значительную часть обязательств Турции предназначено было перевести на славян, как наиболее покладистых плательщиков, и этим перераспределением надлежало заняться технической комиссии в Париже».
Спрашивается, при чем здесь Россия? И где тут ее выгоды — хоть экономические, хоть политические?
Лучшей помощью «братьям-славянам» стало бы наше внутреннее развитие, которое позволило бы окрепшей России в будущем возглавить славянский мир.
Что же касается возможного перехватывания влияния и охлаждения балканских славян к русским, то это доказывало бы, во-первых, непрочность их чувств к нам, а, во-вторых то, что и раньше не стоило здесь огород городить.
Увы, балканской сфере русской политики тон задавали иные настроения. Русский посланник в Белграде Гартвиг — ярый германофоб, славянофил и сторонник всемерной поддержки Сербии — едва ли был прав в своих воззрениях. Потому что слишком уж часто России приходилось отдуваться за тех, кто не очень-то за это был нам и благодарен…
Ещё в начале XX века А. Кони — современник русско-турецкой войны 1877–1878 годов — написал о том времени интересные воспоминания, где говорилось: «„Братушки“ оказывались, по общему единодушному мнению военных, „подлецами“, а турки, напротив, „добрыми честными малыми“, которые дрались как львы, в то время как освобождаемых братьев приходилось извлекать из кукурузы…».
А вот мнение Тарле (тут оно точно, поскольку его любимых англо-французов не задевает): «Крымская война, русско-турецкая война 1877–1878 годов и балканская политика России 1908–1914 годов — единая цепь актов, ни малейшего смысла не имевших с точки зрения экономических или иных повелительных интересов русского народа».
Не лишним будет привести и оценку русской восточной политики Генерального штаба генерал-майором Евгением Ивановичем Мартыновым: «Для Екатерины овладение проливами было целью, а покровительство балканским славянам — средством. Екатерина на пользу национальным интересам эксплуатировала симпатии христиан, а политика позднейшего времени жертвовала кровью и деньгами русского народа для того, чтобы на счет его возможно комфортабельнее устроить греков, болгар, сербов и других, будто бы преданных нам единоплеменников и единоверцев».
«Эх!», — прибавлю уже я сам… Да если бы, уважаемый читатель, те силы и деньги, которые мы «ухнули» на Балканах во имя подвигов Скобелева, да за десять лет до этого вложить в Русско-американскую компанию на Аляске — тогда ещё РУССКОЙ Аляске, то не пришлось бы эту Аляску нам за гроши продавать. А ведь кое-кто Александра II держит чуть ли не за великого государя… «Эх!» — скажу я еще раз…
Генерал Мартынов употребил горькие слова «будто бы преданных нам» не с пустой головы. В его оценке, в оценке Кони особых преувеличений не усматривается, если знать, что бое вые потери русской Дунайской армии составили за время войны, примерно, 40 %, союзной румынской армии — менее 15 %, а участие в освобождении Болгарии от турок «болгарского ополчения» было эпизодическим. Сербия тогда тоже выставляла против турок войска, но скромные как по количеству, так и по их боевой активности.
Едва ли преувеличивал Кони, когда писал: «Мрачной иронией дышало пролитие крови русского солдата, оторванного от далекой курной избы, лаптей и мякины, для обеспечения благосостояния „братущки“, ходящего в сапогах, раздобревшего на мясе и кукурузе и тщательно запрятывающего от взоров своего „спасителя“ плотно набитую кубышку в подполье своего прочного дома с печами и хозяйственными приспособлениями».
Однако опыт тогдашнего «освобождения славян», который стоил России 200 тысяч (в то время!) жизней, впрок нам не пошел. Царизм по-прежнему заглядывался на Царьград — Константинополь — Стамбул и рассчитывал, что «братушки» будут в таком походе подмогой.
Теперь уже, в десятые годы XX века, в Петербурге вновь раздавались громовые речи о «славянском единении» и необходимости «поддержать братьев против нехристей».
Мнение Беклемишева о сути Балканского союза мы уже знаем. А вот что говорит о Балканских войнах XX века Е. Тарле: «Сербия и Болгария живут… земледелием и скотоводством, и для них… вопрос о Македонии (один из основных поводов к войне с Турцией. — С.К.) был… вопросом о новой пахотной земле и новых пастбищах… Для Сербии приобретение Салоник было равносильно выходу к морю, в чем так нуждались экспортеры сербского скота и сырья».
Такова подлинная подоплека дела, читатель. В чем же тут интерес России? Его нет.
* * *
Первая Балканская война началась 9 октября 1912 года, а 30 мая 1913 года уже закончилась победой славян. По настроению и формальным результатам войну можно было назвать национально-освободительной, но подлинная суть выражалась словом «репетиция». Балканские страны сыграли здесь роль солдатиков, а Россия — подставного распорядителя.
И отныне Россия и славянские Балканы были связаны зримо. Не только гимназические учителя, но и мальчишки-газетчики теперь твердо знали: славянских братьев мы в обиду не дадим — ни «турке», ни «немчуре». Если учесть, что нью-бердичев…, то есть петербургская кадетская «Речь» была в руках Гессена и Винавера, бойкие «Биржевые Ведомости» — Проппера, разухабистый «День» — Когана и Биккермана, популярная дешевая «Копейка» — Городецкого, московские «профессорские» «Русские Ведомости» — Иоллоса (известный сионист Жаботинский был здесь заграничным корреспондентом), то «истинно русский дух» во всех слоях общества поддерживался постоянно и согласованно. В массовом русском сознании из Германии активно делали врага.
Спровоцированный смысл первой Балканской войны хорошо виден из того, что не успели бывшие союзники отпраздновать победу, как началась вторая Балканская война — теперь между поощряемой немцами Болгарией и остальными участниками Балканского союза, к которым присоединились Румыния и… Турция.
Всё было закончено быстро: с 29 июня до 10 августа 1913 года Болгария потерпела поражение, и часть ее новых земель совместно общипали «братья»-сербы, греки и турки. Турецкие акции несколько укрепились, и теперь Париж мог не опасаться разрушения Турции, в которой 63 % (почти две трети, между прочим!) иностранных капиталовложений было французского происхождения.
* * *
Уже в приведенных балканских сюжетах фигурировала тема проливов. И ещё одним стойким заблуждением стала обычная уверенность в том, что в начавшейся вскоре мировой вой не Россия воевала как раз за обладание черноморскими проливами и именно проливами собиралась-де расплатиться Антанта с Россией в случае общей победы. Увы, читатель, и «за проливы» русские Иваны платили жизнью в счет будущих прибылей все тех же Ротшильдов. Проливы нужны были им и Нобелям как хозяевам русской нефти. Проливы нужны были французскому капиталу, владевшему Донбассом и тяжелой промышленностью Юга России.
«Русскими» проливами блокировались и германские интересы на Ближнем Востоке — уже во славу Ротшильдов английских (а с ними — нефтяного магната Детердинга и компании). Впрочем, англичане больше рассчитывали на то, что босфорско-дарданелльский «улов» Николая Романова разделят на всех.
Не «светило» нам ничего и на самих Балканах, хотя в России тогда думали иначе. Есть интересный документ — «Записка статского советника А. М. Петряева». Александр Михайлович Петряев знал Балканы хорошо — он там долго служил консулом. Будучи уже товарищем министра иностранных дел в 1917 году, он писал: «Англия и Франция не будут способствовать образованию на берегах Адриатики большого славянского государства, тяготеющего к России. Они, несомненно, предпочтут создание независимого Хорватского королевства, которое всецело подпадет под их влияние».
Но Петряев ошибся. Югославия создалась на основе объединения Сербии и Хорватии как раз при поддержке Антанты. В мае 1915 года не в славянском Петрограде, а в туманном Лондоне был образован Югославянский комитет во главе с хорватом Анте Трумбичем, который сыграл выдающуюся роль в послевоенном южнославянском государственном устройстве. С помощью, напомню, англичан.
Даром, что английский министр иностранных дел Грей не возмутимо говорил русскому кадетскому лидеру Милюкову вовремя его лондонского визита в 1916 году: мол, как там устроятся сербы с хорватами, это их внутреннее дело, а еще оно, мол, касается России — не Англии.
Не лишней для нас окажется и память о том, что Болгария «братушек» в 10-е годы XX века была теснейше экономически связана с Германией и Австро-Венгрией. Так что, рассориваясь с последними, Россия отношений со славянами-болгарами не улучшала.
А ведь Болгария как политически, так и экономически была для нас доступнее (а, значит, и перспективнее), чем, например, Сербия.
И будет правильным сказать, читатель, что Россия воевала с двумя реальными целями: сделать, во-первых, Германию из дружественного государства смертельным врагом и, во-вторых, окончательно дать повязать себя внешними влияниями и долгами, чтобы стать вотчиной транснационального капитала.
* * *
Генри Ноэл Брейлсфорд в «Войне стали и золота» писал: «С 1854 по 1906 годы Сити бойкотировало Россию. Заем 1906 года последовал за явно инспирированными статьями в „The Times“, которые предсказывали политическое соглашение (оно и последовало в 1907 году — С.К.). Финансы (то есть — Ротшильды английские и французские. — С.К.) и дипломатия в современном мире стали друг другу необходимы. Если бы какая-либо держава или группа держав удерживала монополию на мировом денежном рынке хотя бы в течение нескольких лет и сознательно использовала ее в политических целях, она в конце концов диктовала бы свою волю России… Россия уязвима, так как она зависит от своей репутации на западных рынках совершенно так же, как любая из республик Латинской Америки».
* * *
Кроме займов, неплохо срабатывало и другое средство, о ко тором с горечью писал известный нам генерал Игнатьев: «Россия издавна дорого платила за свою техническую отсталость, представляя лакомый кусочек для иностранной промышленности: без затраты капиталов, одной продажей патентов, что и носило громкое название „техническая помощь“, можно было снимать любые барыши с русских заводов. „Техническая помощь“ являлась одним из самых надежных средств для об ращения России в колонию и хорошим подспорьем для иностранного шпионажа».
Конечно, в самой России об этом помалкивали, и для «патриотически» настроенной российской публики сочинили имеющую хождение по сей день сказочку о том, как прекрасно заживет после победы над «гуннами» «христолюбивая» Русь. Время добавило к ней одну присказку: «Эх, если бы не проклятые большевики»…
Вся «идиллия» разбивается о железные статистические данные. Накануне Октябрьской социалистической революции в 1917 году государственный долг России превышал 60 миллиардов рублей, что составляло семнадцать довоенных годовых государственных бюджетов. Внешний долг насчитывал 16 миллиардов, из них около 9 — краткосрочная задолженность.
Что это значило? В случае «войны до победного конца» одна из «победительниц» — Россия почти сразу должна была бы выплатить Западу почти три довоенных бюджета, не считая того, что из 19 миллиардов краткосрочных внутренних обязательств казначейства на долю англо-франко-заокеанского капитала тоже приходилось немало.
Ну как тут не вспомнить Ленина: «Есть ли экономическая возможность в эру „финансового капитала“ устранить конкуренцию даже в чужом государстве? Конечно есть: это средство — финансовая зависимость и скупка источников сырья (чем как раз усиленно занимались в России англичане и французы. — С.К.), а затем и всех предприятий конкурента».
Так что как уж там было бы при сепаратном мире царской России с Германией, не знаю, но вот при ее совместной «победе» вместе с Антантой «мирное» завоевание России последней было бы обеспечено!
Позже, познакомившись с запиской Дурново, мы увидим, что кое-кто из русской правящей элиты подобную угрозу видел еще до войны, но… Но даже обращения прямо к Николаю II были тщетными.
* * *
Перед войной золотой запас России весил более двух с половиной тысяч тонн. Внешний долг, возникший как результат военных расходов, сразу «съедал» четыре пятых этой золотой горы, добытой русскими людьми из русских же недр.
Вот за какое будущее Россия Романовых и Витте отправляла на западные рубежи империи миллионы Иванов в серых шинелях, оторвав их от миллионов Марий. И лишь яркие цветы иван-да-марьи, распустившиеся по весне над ушедшими в землю солдатами, напоминали потом о загубленных впустую жизнях, судьбах и любви.
* * *
Балканские войны позволили расставить предпоследние точки. Все активные основные участники будущего конфликта на серии встреч и переговоров ещё раз посмотрели друг на друга и враг на врага. Кто-то был готов более, кто-то — менее, но уже было возможно начинать.
Кайзер Вильгельм, уверенный и в себе, и в Германии, имел все основания для этого. Даже знаменитый французский политический деятель Эдуард Эррио — убежденный антагонист Германии на протяжении своей долгой жизни — признавал: «Германия противопоставляет нам, помимо грозной армии, внушительную организацию. Она извлекает пользу из всего, черпая во всех областях практики и ума». И Германия действительно была готова отмобилизоваться, народ действительно был сплочен и организован,
А Россия? С одной стороны, российские «верха» хорохорились. С другой, состояние дел в России можно было уяснить, ознакомившись хотя бы с таким перлом казенной мысли, как решение царского правительства от 15 декабря 1909 года, где заявлялось следующее: «Усовершенствование способов пере движения в воздушном пространстве и практические испытания новых изобретений должны составлять по убеждению Совета министров преимущественно предмет частной само деятельности».
К началу войны у нас, благодаря таланту и энергии Игоря Сикорского, появился, правда, «Илья Муромец», но общая кар тина получалась безрадостной: Германия производила во время войны до 2 000 самолетов в месяц (здесь и далее указан максимально достигнутый месячный уровень), Франция — 2 500, Англия — 2 700, США — 2 650 и даже Италия — 1000. А Россия — 215 (двести пятнадцать!).
Что же до Николая Романова, то он терял последние остатки уважения даже у честных людей из привилегированных классов. Летом 1908 года русский царь впервые в истории прибывал с визитом в Швецию. Русская миссия во главе с посланником бароном А. Будбергом и военным агентом Игнатьевым всходит на борт шведского катера, поднявшего русский посольский флаг. В ту же минуту стокгольмский рейд затягивается дымом: в нашу честь салютуют военные корабли и древние крепостные верки.
Русская эскадра запаздывает, но вот и она — с царской яхтой «Штандарт» впереди. Будберг готовится пересесть на нее, и тут командир ближнего шведского миноносца вдруг сообщает в рупор:
— С яхты передают: «Посланника на борт не принимать!».
Самолюбивый Будберг багровеет, дисциплинированные Игнатьев и морской агент Петров молчат, недоумевая. Уже на берегу они узнают: их не хотели допускать к высочайшему завтраку.
А за год до этой царской выходки шведы на том же рейде встречали Вильгельма II и наблюдали, как застопорившая ход яхта «Гогенцоллерн» принимала посланника Германии. Вильгельм вышел к трапу, снял фуражку и на глазах шведской эскадры трижды его облобызал.
Однако стокгольмский эпизод был лишь промежуточным звеном. В России уже давно говорили: «Ходынкой началось, Ходынкой и кончится»… А как началось-то?
В мае 1895 года Николай II и императрица Александра Федоровна («Аликс») короновались в древней столице — Москве. Среди коронационных торжеств числилось и народное гуляние на Ходынском поле. От «царей» были обещаны кулек с конфетами, булкой и куском колбасы да «коронационная» па мятная кружка.
«Гостинцев» заготовили 400 тысяч, а подвалило «на праздник» около полумиллиона! В обычное время здесь проводились учения войск, поле было перекопано и перерыто канавами и окопами. Их прикрыли досками, но что эти доски значили, когда напирала полумиллионная толпа? Люди приходили заранее, за сутки, скапливались, стояла дикая жара.
Начали раздавать кульки, толпа подалась, закричали пер вые задавленные. И через пару часов с поля увезли только трупов около 1300 (по официальным данным, а по неофициальным — около четырёх тысяч). Всего же пострадали десять тысяч человек.
У нас есть документ, принадлежащий перу лично Его Императорского величества. Николай был человеком скрупулезным и дневник вел до самого своего расстрела. Вот записи тех дней…
«18 мая. Суббота.
До сих пор всё шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. На Ходынском поле произошла страшная давка, причем ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в 10 1/2 ч.; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2 завтракали и за тем Алике и я отправились на Ходынку. Собственно, там ни чего не было; музыка все время играла гимн и „Славься!“ Обе дали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к Montebello (французский посол в России. — С. К.). Было очень красиво устроено. После ужина уехали в 2 ч.
19 мая. Воскресенье.
С утра началось настоящее пекло. В 11 час. пошли к обедне. В 2 ч. Алике и я поехали в Старо-Екатерининскую больницу, где обошли все бараки и палатки, в которых лежали несчастные, пострадавшие вчера. Уехали прямо в Александрию, где хорошо погуляли. В 7 ч. начался банкет. В 9 1/2 ч. поехали к д. Сергею. Пили чай.
20 мая. Понедельник.
День стоял отличный. Поехали к обедне (не к панихиде! — С.К.) в Чудов монастырь. В 3 часа поехал с Аликс в Мариинскую больницу, где осматривал вторую группу раненых. Тут было 3–4 тяжёлых случая (то есть, „царям“ показали считанные жертвы. — С.К.). Обедали с Мама. В 10 1/2 поехали на генерал-губернаторский бал.
21 мая. Вторник.
Встали поздно с чудным утром. В 11 1/2 поехали к Ходынскому лагерю (не на поле — скорбеть, а на парадный смотр. — С.К.). После молебна все части прошли отлично. В 3 1/4 отправились в Александрию, где гуляли и пили чай. В 10 3/4 поехали на бал в Дворянское собрание».
И всё… Более о трагедии нет ни слова. Зато идет потоком; катались на лодке, ели, пили чай, мед, обедали, ужинали. И лез же кусок в горло!
Это потом Россия припомнит ему и кадрили под стоны умирающих, и обеды под слезы сирот.
Кайзер же пользовался в стране огромной популярностью… В марте 1913 года наш кораблестроитель академик Алексей Крылов вышел в плавание на немецком пароходе «Метеор» в качестве председателя Особой комиссии по исследованию успокоительных цистерн Фрама. К сожалению, эти успокоители качки на море в сфере политики не срабатывали, но общая работа хорошо объединяла русского инженера и старшего механика «Метеора» немца Шредера.
По вечерам они коротали время за долгими беседами, и как-то Шредер оживленно сказал:
— О, наш кайзер умеет найти путь к простым сердцам!
— И к вашему сердцу старого морского волка тоже? — шутливо спросил Крылов.
— Алексей Николаевич, судите сами… Однажды мы компанией собрались в Гамбурге в скромной пивной за кружкой пива. Знаете, как это бывает: снаружи дождь, промозглый вечер, а за столом — старые приятели и добрая немецкая песня. Вдруг… отворяется дверь и входит кайзер.
— Один?
— Один, и даже без зонтика, в мокрой шинели.
— И вы?
— Мы, конечно, вскочили, молчим.
— А он?
— А он усмехнулся и говорит: «Что это вы замолчали? Спойте-ка мне „Вахту на Рейне“, да угостите кружкой пива»…
— И вы угостили?
— Ах, Алексей Николаевич! Никогда я не пел так весело! В тот вечер я выпил лучшую кружку в своей жизни!
— А потом?
— Потом он сидел задумавшись, и сказал: «Спасибо, друзья! Вы хорошо проводите своё время»… И вышел.
В таких эпизодах не обходилось, конечно, без театральности — кайзер порисоваться любил. И сословный склад жизни от пивных «экспромтов» не исчезал. На торжествах по поводу спуска очередного дредноута кайзера окружали не корабельщики с рабочими мозолями, а элита во фрачных парах и белоснежных платьях, блистающая бриллиантами. В толпе, наблюдающей это со стороны, стоял порой и молодой австриец Адольф Шикльгрубер с «кайзеровскими» усами и про себя возмущался несправедливым распределением ролей на празднике жизни. Он считал, что истинные его создатели тоже имеют право на свою долю почета и славы, но пока лишь восторженно смотрел на то, как стальная громада сползает со стапеля, роняя с обшивки капли «крестильного» шампанского.
Пройдёт ещё год, и он окажется в окопах войны, которую со стороны Германии будет олицетворять Вильгельм. Но Вильгельм ли ее начал? И хотел ли кайзер именно войны, а не германской военной мощи?
В фигуре Вильгельма II было много противоречий, неотделимых от любого империализма, а от германского — тем более. Особенности характера кайзера лишь придавали этим противоречиям особый колорит. Академик Тарле — со слов некоторых современников, да и по собственному разумению — утверждал, что основой личности Вильгельма был-де инстинкт самосохранения. Мол, он ни разу не летал на самолете, не спустился на субмарине под воду, чего от него ожидали.
Тарле был человеком сугубо гражданским, интеллигентствующим, от боевых самолетов и от подводного флота далеким, и явно упускал из виду, что во времена перед Первой мировой войной взлетевшие самолеты далеко не всегда благополучно приземлялись, а лодки — не всегда всплывали вновь. То есть зря рисковать собой Вильгельм (как глава государства) просто не имел права.
Биография Вильгельма содержит немало весьма загадочных моментов. Вот, например, один из них. 28 октября 1908 года английская «Daily Telegraph» опубликовала беседу с кайзером. Странным образом статью пропустила цензура и канцлера, и министерства иностранных дел. Потом, правда, были путаные объяснения, что ее, мол, просто не прочли, словно речь шла о некой малозначащей бумажке. А между тем публикация «Daily Telegraph» вызвала реакцию более чем бурную. Вильгельм жаловался на враждебность Англии к Германии, говорил о желательности дружбы двух стран и сообщал, что в эпоху бурской войны отклонил секретное предложение Франции и России о совместном выступлении против Англии.
В Германии по поводу «неосторожного», «опрометчивого» интервью тоже поднялась газетная буря. Оценил как политический и дипломатический дилетантизм подобный шаг кайзера и Тарле. А ведь в действиях Вильгельма скорее усматриваются его умный, согласованный с МИДом зондаж и попытка расстроить только-только сложившуюся Антанту. Использование руководителем такого уровня для зондажных целей прессы было по тем временам делом новым.
Нет, Вильгельм был непрост. И очень непрост… Граф Игнатьев, хорошо знавший Берлин, о Вильгельме пренебрежительно не отзывался, хотя симпатий к нему тоже не испытывал. «Среди бесцветных монархов начала века типа Николая Второго, — писал Игнатьев, — Вильгельм, несомненно, выделялся природной талантливостью, скованной узкими монархическими идеалами, и при своей опасной фантастике служил хорошим прикрытием для совсем не фантастического развертывания дерзких планов»…
Замечу уже я сам: так и дерзкие планы-то составлялись не без кайзера.
Тот же Игнатьев, наблюдая как-то в Берлине ежедневный вахт-парад с оркестром, проходящий под окнами его гостиничного номера, верно угадал, что «эта внешняя муштра составляла часть системы боевого воспитания не только армии, но и всего немецкого народа».
Метод срабатывал, и Тарле, выставляя Вильгельма исключительно недалеким, поверхностным фанфароном, сам, пожалуй, не очень-то глубоко проникал в суть далеко не простой проблемы выстраивания жизни реального государственного организма. А Вильгельм был далеко не дилетантом. Он, на пример, разошелся с Бисмарком во взглядах на социальный вопрос. Бисмарк намеревался потопить рабочее движение в крови, а Вильгельм настаивал на социальных реформах сверху и даже выдвигал мысль о международной конференции по социально-политическим вопросам.
И властвовал он не в покорно почесывающей затылки «Расее», а в цивилизованной европейской державе. Чтобы понять сегодня, как различались монархи обеих стран, сами Россия и Германия, достаточно знать, как распорядились они в грядущей войне своим самым ценным в философском и в чисто военном отношении достоянием — людьми.
Германский резервист был воякой получше, чем молодой солдат срочной службы. Тем более был хорош запасной немецкий унтер-офицер. Однако и русский «унтер» запаса не очень-то ему уступал. А порой и превосходил по командным, боевым качествам и воспитательным способностям (из царских унтеров потом получались неплохие советские генералы). В образовании разница, конечно, была, но долгие годы нелегкой «царевой» службы позволяли вырабатывать вполне профессионально подходящих младших командиров.
И вот этот «золотой запас» русской армии всеобщая мобилизация погнала в строй рядовыми. Почти готовые офицеры и взводные в первые же месяцы войны сложили свои головы в Галиции, в Восточной Пруссии. Учить теперь русского новобранца было некому.
А немцы поступили «с точностью до наоборот». Их унтер-офицеры запаса, обогащенные вдобавок к прошлому армейскому еще и жизненным опытом, стали надежным костяком германских войск. Как видим, Вильгельм и его генералы, в отличие от «кузена Ники» и его бездарных генералов, хорошо понимали, что «кадры решают всё».
* * *
Милитаристская пропаганда в Германии была поставлена на широкую ногу — с учетом театральных склонностей её «первого солдата». Так, с началом мировой войны он приделал к своему автомобилю сирену с лейтмотивом «вечно ищущего нового» бога Мотана из вигнеровской оперы «Кольцо нибелунгов».
Автомобиль кайзера мчался по Берлину, его обгоняли мотивы «грядущей победы», вполне одобряемые немецкой массой.
Тяга к позе и эффекту сослужила немцам недобрую службу. Поводов тыкать в свою сторону пальцем они дали более чем достаточно. Генерал Брусилов летом 1914 года отдыхал в немецком Киссингене. Уже начался сараевский кризис, немцы проклинали сербов, а заодно и вступающихся за них русских. На центральной площади Киссингена был воздвигнут макет Московского Кремля и под гром сводного оркестра подожжен со всех сторон. Брусилов вспоминал: «Дым, чад, грохот рушившихся стен. Колокольни и кресты накренялись и валились наземь. Толпа аплодировала и неистовству ее не было предела. Над пеплом наших дворцов и церквей, под грохот фейерверка загремел немецкий национальный гимн». Картина впечатляющая, ничего не скажешь. И среди документов дипломатии найдется достаточно подтверждений, что тем летом немцы были готовы воевать уже не с макетами. Рассказ Брусилова явно правдив. Тупой шовинизм, увы, одинаково отвратителен во всех странах. Не пройдет и месяца, как поощряемая властями толпа вандалов в Петербурге раз громит и разграбит не макет, а посольство Германии. Безвозвратно погибнут ценные художественные коллекции посла Пурталеса.
Горящие макеты Кремля еще аукнутся немцам на большом историческом отдалении. О них упомянет неугомонный Пи куль. Но как! Подправить в нужном направлении исторический факт легко. Для этого нужно его вырвать из живой жизни ТОЙ эпохи. Пикуль так и сделал: рассказал о рушащемся в немецкий огонь русском соборе Василия Блаженного — бутафорском, а рядом упомянул Бисмарка, и… И фактомонтаж готов: немцы-де в своих мечтаниях жгли русские кремли уже в бисмарковские времена.
А после этого как-то забывается, что не макетный, а на стоящий Кремль сожгли (было такое в нашей истории) «милые, обаятельные» французы. В 1812 году.
Но до «монтажей» Пикуля в 1914 году было еще далеко. Пока что воинственные спектакли на германских площадях позволяли франко-русской Антанте уверять, что войну вот-вот начнет Берлин.
Академик Хвостов в «Истории дипломатии» как убедительнейшее доказательство того, что «именно Германия начала войну в августе 1914 года», цитирует письмо германского статс-секретаря Г. Ягова послу в Лондоне: «В основном Россия сейчас к войне не готова. Франция и Англия также не захотят сейчас войны. Через несколько лет Россия уже будет боеспособна. Тогда она задавит нас количеством своих солдат; ее Балтийский флот и стратегические железные дороги уже будут построены. Наша же группа слабеет (имелось в виду одряхление Австро-Венгрии. — С.К.). В России это хорошо знают и поэтому безусловно хотят еще на несколько лет покоя». Высказывания фон Ягова стали классически известными, их цитируют многие, однако…
Однако фон Ягов писал приведенные слова князю К. Лихновски — убежденному англоману и англофилу! Позже Ягов даже обвинит Лихновски в излишнем потворстве Англии. Но и сам Ягов во время войны был сторонником замирения с Англией, заключения сепаратного мира с нами. Он сетовал: «Жаль, что в России нет авторитетной власти и мужик должен истекать кровью»…
Если агрессивно (по отношению к России) были настроены исключительно немцы, то как тогда нужно понимать то, что не кайзер, а славянские «Млада Босна», «Народна одбрана», сербская офицерская тайная организация «Союз или смерть» (известная и как «Чёрная рука») создали ситуацию, при которой пришлось вывести в окопы Россию? 28 июня 1914 года в Боснии, в Сараево был убит наследник австрийского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд, приехавший ту да на маневры австрийской армии.
* * *
К покушению были причастны сербская контразведка и ее начальник полковник Драгутин Дмитриевич — он же вождь «Чёрной руки» по кличке «Апис» («пчела», лат.).
Аписом звали и священного быка древнеегипетского бога Осириса. Быка связывали с культом мертвых: он способствовал увеличению количества приносимых жертв. (Интересно, что Пикуль, явно не зная точного смысла слова «apis», приписал ему как раз «бычью генеалогию»),
И именно вторая символика полностью себя оправдала. Культу мертвых Дмитриевич-Апис послужил, правда, не в одиночку: еще в мае он получил провоцирующую телеграмму из… русского генерального штаба, извещавшего сербский ген штаб о предстоящем нападении Австро-Венгрии на Сербию. Ложно сообщалось, что это решено на совещании (действительно прошедшем) Вильгельма и эрцгерцога в богемском замке Конопище под Прагой. А маневры — только ширма для сосредоточения войск на сербской границе.
Русский военный агент (атташе) граф Игнатьев писал позже: «Много таинственного и необъяснимого, в особенности в русских делах, оставила после себя мировая война». Вспоминая предвоенные впечатления от своего генштаба, граф размышлял и так: «Чем, например, можно объяснить, что во главе самого ответственного секретного дела — разведки — оказались офицеры с такими нерусскими именами, как Монкевиц, по отчеству Августович, и Энкель, по имени Оскар?». Советский же историк Михаил Покровский прямо считал, что убийство Франца-Фердинанда было спровоцировано русским генштабом. Что ж, очень может быть, но с одной поправкой — определенными кругами в русском генштабе, связанными с определенными круга ми в России и вне ее. Знал, похоже, о подготовке покушения и сербский премьер Пашич.
Но не менее весомы и мнения о том, что убийство было организовано в Вене. Если проследить за последними часами жизни обреченного эрцгерцога, то становится похоже на то, что и это — правда.
Принятые «меры безопасности» гарантировали одно: опасность. Медленная езда по кривым улочкам, толпы народа и… специально расчищенное от людей место для бомбиста. Первое в тот день покушение было неудачным. Бомба перелетела под колеса заднего автомобиля и ранила адъютанта.
Вместо того, чтобы прекратить разъезды, ответственный за безопасность фельдцехмейстер Потиорек вновь везет Франца-Фердинанда по улицам и даже не прикрывает его телохранителями на подножках. С левой стороны наследника с женой добровольно страхует граф Гаррах, но Таврило Принцип всаживает в них серию пуль с правой подножки. Как раз, когда Потиорек приказывает шоферу затормозить.
Франц-Фердинанд был женат на славянке (чешке) — графине Хотек (Принцип застрелил и её) — и имел планы создания западного славянского государства в рамках единой империи. Гитлер в «Mein Kampf» даже назвал его «великим другом славян». Будущий фюрер тут, конечно, выдал эрцгерцогу чересчур определенную характеристику.
Уж не знаю, почему потянуло на откровенность бывшего английского дипломата Эдуарда Грея, но в своих «Воспоминаниях» он признавался: «Миру, вероятно, никогда не будет рассказа на вся подноготная убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда. Возможно, в мире нет и даже не было человека, знающего все, что требовалось, об этом убийстве». Откуда, спрашивается, знал Эдуард Грей, что о покушении «никому» «ничего» «не известно»?
Так пишут обычно люди, не только хорошо осведомленные, но и причастные. Слова Грея дают основания предполагать в событиях такую параллельность действий самых различных сил, когда все нити действительно ускользают из рук любого от дельно взятого человека…
За сутки до Сараевского убийства у себя на родине, в си бирском селе Покровском, тяжело ранили знаменитого Григо рия Распутина. Бывшая его приверженка (а, может, и любов ница) Феония (Хиония) Гусева ударила его в живот ножом, потом убегала от гонявшихся за ней мужиков с криком «Всё равно убью антихриста!», а позднее пыталась зарезать себя.
При аресте у Гусевой изъяли номер газеты «Свет» со стать ей о Распутине крупного масона Амфитеатрова, с 1905 года жившего в Париже. А на другой день в Сараево Гавриле Принципу повезло больше: он убил эрцгерцога.
Перекрестное сопоставление данных не позволяет сомневаться, что:
а) Распутин действительно врачевал царевича-гемофилитика, и это несколько извиняет мать Алексея как мать, но нисколько не обеляет ее как императрицу;
б) Распутин был, что называется, «шармером» и умел людей — особенно с неустойчивой психикой (как и было у императорской фамилии), очаровывать;
в) Распутин был очевидной и весьма гнусной куклой в руках «темных сил», навязших в зубах «левых», «правых» и «центра».
Но…
Также не приходится сомневаться в том, что Распутин в вопросе о войне мыслил верно и ненужной для России войны с Германией не хотел. Не хотел сам, помимо чьих-то влияний. В здравом смысле ему, малограмотному, но сметливому мужику, отказать нельзя. Он рассуждал просто: «Германия — страна царская. Россия — тоже… Драться им друг с дружкой — это накликать революцию. Революция, значить — царям „по шапке“. А куды ж тады Грегорий?».
Точно так же (дословно так же, с поправкой лишь на различие словарей мужика и монарха) с вершин образования и трона рассуждал Вильгельм II в своих письмах к «Ники». Там он настойчиво отговаривал Николая от дружбы с «республиканской» Францией, срубившей голову Людовику XVI.
Дело было, конечно, не в республиканизме, но «Вилли», очевидно, не без оснований считал, что такие аргументы дойдут до «Ники» быстрее. Для нас же тут существенно одно — кайзер толковал о мире. Пусть даже как гарантии от революций, но мире!
Царь реагировал кисло. Однако влиянием на Николая Распутин обладал явно поболее, чем на Вильгельма. В царском дневнике имя «старца» попадается не очень уж часто: Распутин для царя был так же свят, как и Бог, имя которого всуе упоминать не рекомендуется. И «святой черт» мог оказаться частным фактором, влияющим на общее изменение политики, то есть отказ Николая в решительный момент от войны, несмотря на внешнее давление окружения. Ведь «Грегорий» был элементом внутренней жизни упрямого и своевольного императора, и по этому «распутин»-фактор стоил многого!
По свидетельствам знающих участников эпохи, Распутин решающим образом сорвал участие России в первой Балканской войне, сыграв здесь положительную роль как политик. Логика была той же: «куды, мол, нам соваться, кады здеся, дома не все в порядке», хотя и в этом факте извращенность, бесцельность русского самодержавия проявились очень убедительно.
Есть такой «король русского боевика» Александр Бушков. С историей он обращается, как любитель пива с икрястой воблой: раз-два и разделано в лучшем виде — пей-гуляй душа… Но глаз у Бушкова порой бывает не только острым, но и верным. В своей через край залихватской книге «Россия, которой не было», он задаётся вопросом, существовала ли для Российской империи возможность избежать русско-германской войны, и считает, что вероятность такая была, а ключ — в Гришке Распутине.
Вообще-то, «ключи» от войны — всегда «золотые», а не личностные, но Бушков не ошибается в том, что война не была неизбежной. Хотя Россию добрый десяток лет готовили к войне именно с Германией, «германская» война даже ранним летом 1914 года и даже после Сараево была отнюдь не очевидной для огромного большинства русского общества (включая широкую армейскую массу).
Война свалилась на русскую голову так же неожиданно, как в августе свалился бы на неё снег. И при определенных обстоятельствах Гришка, возможно, смог бы стать «соломин кой», которая сломала бы спину «верблюду» войны.
Находятся желающие рассматривать Распутина как исключительно нравственную фигуру, вождя неких «духовных христиан» и радетеля-де за землю русскую. Все это, конечно, глупости. А вот очень может быть не глупости то, что Гришку действительно могли пырнуть ножом накануне выстрелов Принципа по согласованному плану. И, может, недаром сов падение двух событий давно привлекало внимание исследователей на Западе. Особенно — в Германии, где порой заявляют, что в войне двойным образом виновен Петербург.
Автор интереснейшей книги «23 ступени вниз» Марк Константинович Касвинов над подобными версиями потешается, но и сам пишет неубедительно: история, мол, «движется под час слишком алогичными, иррациональными ходами».
Мысль странная! История движется иногда действительно так, но лишь для тех, кто не видит того, как ее движут. И кто… И зачем…
А покушение на Распутина очень уж удачно совпало по времени с сараевскими выстрелами. Позднее он говорил, что не будь случая с «окаянной» Феонией, не было бы и войны.
И если есть основания усматривать руку определенных русских кругов в действиях Аписа, то уж тем более логично до пустить их участие в покровских событиях. Касвинов считал, что больше исторического смысла было бы при перемене результатов: если бы Фердинанд уцелел, а Распутина зарезали. Похоже, Распутина просто недорезали по расейской привычке к халтуре. Ведь еще декабристов вешали так, что те срывались и сетовали: «Эх, Россия! И повесить-то толком не умеют». За сто лет ничего не изменилось: толком не сумели зарезать.
Так или иначе, но в общей схеме событий такие детали лишь драматизировали фон и придавали ему пикантность. Сутью же было то, что военный взрыв был потребностью но ной империалистической эпохи.
Англия утрачивала первенство и желала поправить свои дела, физически уничтожив военную мощь главного европейского конкурента — Германии.
Франция стремилась к реваншу за Седан и возврату утраченных земель.
США… Ну, США уже почти вышли на первую мировую позицию, а теперь за счет войны рассчитывали прибрать Европу к рукам.
И каждый из этой троицы достигал своих целей только войной! Только война могла уничтожить германский флот и подорвать колониальные требования Германии. Только военный реванш возвращал Франции Эльзас и Лотарингию. И только война, причем, длительная, делала Штаты господином Европы и мира.
Кстати, Бенито Муссолини — тогда ещё социалист, пацифист и редактор органа социалистов «Аванти», понимал расстановку сил лучше статского советника Петряева. В день Сараевского убийства он сразу сказал коллеге-журналисту Мишелю Кампана: «Ситуация ясна. Центральные державы, атакуя Сербию, нападают, таким образом, на Англию и Францию. Всеобщий конфликт неизбежен». Как видим, умный перспективный политик Россию даже не упомянул.
Нет, войну задумывали в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лон доне и Париже. А в Петербурге? Что ж, техническую реализацию чужих руководящих идей действительно могли взять на себя чиновный Санкт-Петербург с биржевым «Нью-Бердичевым» на пару.
Что касается Берлина, он, пожалуй, желал не войны как таковой, а «места под солнцем». Если бы старые колониальные державы потеснились, если бы Россия, вместо подготовки к войне с Германией, активно с ней сотрудничала в налаживании экономического сосуществования, то Вильгельм и Капитал Германии вполне могли предпочесть войне такое мирное развитие ситуации, когда роль Германии в мире обоснованно возрастала бы.
* * *
Однако для нас, читатель, важно сейчас не то, кто и как организовал убийство эрцгерцога и что этому сопутствовало. Интереснее понять, почему его совершили именно на Балканах? Хотя и без того ясно: чтобы непременно втянуть в войну Россию, для которой Балканы (и только Балканы) стали единственной «болевой» точкой в Европе.
Можно, конечно, сказать, что Сербия таким образом хотела подключить нас к своим проблемам, однако объяснить произошедший «сараевский» разворот событий просто расчетом сербов на помощь России в конфликте с Австрией не получается.
И уж тем более во втягивании России в войну нельзя обвинить кайзера и Германию.
Да, начальник австро-венгерского Генерального штаба Конради считал, что немцы призваны насаждать культуру среди славян (Мольтке-младший говорил, впрочем, о будущей борьбе германизма и славянства как о борьбе двух культур).
Но даже компетентные в военном деле генералы далеко не всегда разбираются в политике, и уж тем более в экономике. А экономика объективно обеспечивала дружественные русско-германские отношения…
Основополагающий германский план начальника германского генштаба А. Шлиффена (умершего в 1913 году) предполагал ударить по Франции лишь в первую очередь, а после ее разгрома перейти к России.
Однако основой плана стали обходные движения — своего рода «стратегические Канны». В Европе так реально и получилось: немцы вошли в сердце Франции через Бельгию. А вот в России того времени немцам «ход конем» делать оказалось просто негде, тем более что до собственно России немцам нужно было бы пройти русскую Польшу.
Поэтому Шлиффен отнюдь не намеревался наносить России решительный удар. Он был уверен, что поражение Франции образумит царизм, и все ограничится военной демонстрацией. Короче, более реальным оказывался германский меморандум с названием: «Война против Франции». Вот для того, чтобы сама обстановка вынудила немцев дописать его, вставив крупные буквы «… и РОССИИ», прозвучали сараевские выстрелы. Только придав противостоянию с австро-германским блоком «общеславянский» смысл, можно было рассчитывать на широкое одобрение в России войны с Германией.
Думаю, читателю будет интересно узнать, что почти за год до сараевской провокации, в разгар первой Балканской войны Ленин писал в «Правде» 23 мая 1913 года: «Германский канцлер пугает славянской опасностью. Изволите видеть, балканские победы усилили „славянство“, которое враждебно всему „немецкому миру“. Панславизм, идея объединения всех славян против немцев — вот опасность, уверяет канцлер и ссылается на шумные манифестации панславистов в Петербурге. Прекрасный довод! Фабриканты орудий, брони, пушек, пороха и прочих „культурных“ потребностей желают обогащаться и в Германии, и в России, а чтобы дурачить публику, они ссылаются друг на друга. Немцев пугают русскими шовинистами, русских — немецкими»…
Сказано великолепно, но Ленин смотрел с позиций истин но русского человека, с выдающимся государственным разумом к тому же. Он прекрасно понимал, насколько война вообще, и тем более война с Германией, России не нужна — Россия была не готова даже к полноценной оборонительной войне.
И поэтому Ленин свою мысль о русских и немецких шовинистах закончил так: «И те, и другие играют жалкую роль в руках капиталистов, которые прекрасно знают, что о войне России против Германии смешно и думать». Ленин же считал: «Война Австрии (не Германии. — С.К.) с Россией была бы очень полез ной для революции штукой, но мало вероятно, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие».
Увы, у последнего Романова отсутствовали и чуткий политический разум, и чувство Родины. Что уж говорить о Рябушинских, Гучковых, Коновалове, Терещенко, Бродском, вели ком князе Николае Николаевиче? Нет, эти желали скорейшей войны не менее германцев, а судя по всему, даже гораздо более.
Уже упоминавшийся русский монархист Марков-второй громил и со страниц своей «Земщины», и с думской трибуны «прогрессивный» блок, но видел далеко не все его связи, наивно считая, что «пока был франко-русский (имелось в виду — без Англии. — С.К.) союз, войны не было, войной и не пахло».
Марков не знал, что уже через несколько дней после 17 января 1913 года, когда Пуанкаре был избран президентом Французской республики, он заявил русскому послу в Париже Извольскому: «Для французского правительства весьма важно иметь возможность заранее подготовить французское общественное мнение к участию Франции в войне, могущей возникнуть на почве балканских дел».
Можно ли более кратко и более разоблачительно показать, что скорая война и сама географическая точка ее возникновения были предрешены не политикой Берлина, а политикой тех сил, к которым примыкала и французская элита, просто душно зачисленная Марковым в миротворцы?
Первым актом президента Пуанкаре стало отозвание из Петербурга посла Жоржа Луи и назначение на его место Теофиля Делькассе — одного из «отцов» Антанты с репутацией главного врага Германии.
Тарле осуждающе сообщает, что в Германии это восприняли «как обиду, угрозу, враждебную демонстрацию». Собствен но, так оно и было!
Назначение Делькассе было, как обычно, предварительно согласовано с Петербургом. И от этого выходка Пуанкаре приобретала особенно провокационный и зловещий характер.
А тут ещё Николай II с подачи Извольского и министра иностранных дел Сазонова, отступив от обычая награждать глав иностранных государств высшей в империи наградой лишь по особым случаям, тут же одарил Пуанкаре лентой Анд рея Первозванного.
Всё выглядело так, что на передний край антигерманского фронта выдвигалась Франция, а Россия составляла его второй эшелон…
* * *
И это было ещё не всё. В конце концов непосредственная европейская ситуация зависела от позиции Англии. Очень многие историки даже после войны так и не смогли избавиться от поверхностной уверенности в том, что все определялось неизбежностью «пробы сил» между Германией и Англией, поскольку именно эти две страны были индустриализованы в наибольшей мере. В 1907 году процент рабочих и служащих в торговле, транспорте и промышленности по отношению ко всему самодеятельному населению составил для Англии 45,8 %, для Германии — 40 %, а для США — всего 24,1 %. Фактор США, таким образом, считал второстепенным даже такой историк-энциклопедист, как Евгений Викторович Тарле.
А ведь растущее соперничество Англии и Германии было не столько причиной, сколько удобным «приводным рем нем» для механизма раскрутки войны в интересах США. И, собственно, даже не США, как государства американской нации, а США как новой и окончательной резиденции Золотого Капитала.
Именно Капитал заказывал теперь сценарии, расписывал роли и подбирал исполнителей и режиссеров.
Что же касается Англии, то английская сторона провела свою предвоенную партию блестяще. Она сумела незаметно полностью подчинить себе французскую и русскую внешнюю политику, хотя внешне возникало впечатление, что Англия в любой момент может и готова договориться с Германией.
Даже за год до войны, во время Балканских войн, Англия поддержала Австро-Венгрию и Германию против России, с которой уже была связана «сердечным согласием» Антанты. И внутри Антанты это вполне сошло ей с рук. Более того, сама Антанта до самого сентября 1914 года держалась только на «сердечном согласии», потому что документально, специальным договором до начала Первой мировой войны оформлена не была. Трюк со стороны Альбиона более чем ловкий.
Не менее ловко при посредстве Англии были своевременно устранены «японские опасения» России. Россия могла реально ожидать выступления Японии против нее, если русская армия будет связана войной в Европе.
Сомнения России устранил союз, заключенный с Японией одной из стран Антанты — Англией. И, конечно, англо-японский союз был одним из дополнительных факторов, гарантировавших участие России в будущей европейской войне.
А как умело была поставлена Англией «дымовая завеса» чуть ли не германофильства! Видя только ее, Германия была уверена, что Англия в ее конфликт с Францией и повязанной Францией Россией не ввяжется. Кайзер был воякой бравым, но обвели его англичане вокруг пальца, как безусого юнца…
Впрочем, «англичане» — понятие собирательное. В жизни это были конкретные люди. И нам, читатель, очень не мешает присмотреться к тому, кто, в отличие от германского Гольштейна, вполне официально руководил внешней политикой Англии с 1905 по 1916 годы…
Сэр Эдуард Грей (позднее — виконт Фаллодон) стал министром иностранных дел в сорок три года. Прекрасно воспитанный, старинного вигского (то есть либерального) аристократического рода, сдержанные черты худощавого и даже изможденного лица, тонкие, плотно сжатые губы, тихий (по определению Черчилля — «замогильный») голос. Убежденный антисоветчик, умер он как раз в год прихода Гитлера к власти — в 1933 году. По мнению хорошо знавших его людей, Грей был классическим, изощренным лицемером и имел лишь одну искреннюю страсть — изучение английских пев чих птиц, которым даже посвятил специальный труд. Вот очень живая его характеристика: «Сэр Эдуард не любил говорить много; то же немногое, что он говорил, он частенько предпочитал выражать неясно. Собеседник Грея часто не знал, как, собственно, нужно понимать речи британского министра: усматривать ли в них многозначительный намек либо же полную бессодержательность, то есть желание уклониться от выражения собственных мыслей». Бездетный вдовец, чаще всего необщительный, не знавший иностранных языков, он, по утверждению некоторых, «не любил внешнюю политику». Казалось бы, не лучший кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства. Но в своем кресле он сидел долго, прочно, и в годы, что называется, «роковые». А внешнеполитические дела держал в руках крепко.
Короче, виконт Фаллодон выглядел личностью хотя и не такой эксцентричной, как барон Гольштейн, но тоже достаточно своеобразной. И с теми же «родовыми» признаками поверенного могучих сил, которые, однако, предпочитали властвовать через посредников типа сэра Эдуарда. Лидер «либералов-империалистов», он был близок лорду Розбери — тому самому, родне Ротшильдов. Соответственно и основными задачами «английского Гольштейна» были:
1) пристёгивание к Англии (то есть в перспективе и к Америке) Франции и России;
2) проведение по отношению к Германии такой видимой линии, когда немцы не опасались бы в случае войны с Европейским континентом получить одновременно и войну с Англией.
Последнее иногда ещё называют «усыпить бдительность». То есть именно Грей прежде всего и подготовил Первую мировую войну с англосаксонской стороны. Позднее он утверждал, что «десять дней подряд» делал все, чтобы сохранить мир в июле 1914 года. И Грею на такое заявление резонно отвечали: «Да, вы десять дней подряд делали все, чтобы сохранить мир, но перед этим вы десять лет подряд делали все, чтобы вызвать войну».
Между прочим, и бывший Генерального штаба полковник русской армии, будущий маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников писал о «свойственных ханжам мазках Грея в обрисовке характера будущей мировой войны». Вот уж сказано, как припечатано.
Обманывал Грей (точнее — обманывали Греем) Германию и действительно с ханжеским размахом. В предвоенные годы Англия якобы шла на заключение конвенции с рейхом по со трудничеству на Ближнем Востоке… Шла и на соглашение о разделе португальских колониальных владений в пользу рейха.
«Иракскую» конвенцию должны были подписать 15 июня 1914 года, но потом акт подписания… «несколько отложили». «Португальское» соглашение было готово уже в мае 1913 года, потом в августе парафировано. Грей затягивал и затягивал его обнародование, а подписание назначил на… конец июля 1914 года. Именно неоправданное согласие посла Лихновски отложить опубликование договора по португальским колониям статс-секретарь фон Ягов ставил потом ему в вину как главный лондонский просчет германской дипломатии.
Хотя мог ли англофил Лихновски отказать «лучшему другу немцев» в его просьбе о «небольшой» (всего лишь до начала мировой войны!) отсрочке?
Война подоспела так вовремя и так «удачно» избавила будущего виконта Фаллодона от необходимости подписывать усиливающие Германию документы, что есть все основания утверждать, что далеко не кайзер горел желанием начать вой ну летом 1914 года.
Коллега Грея, первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль (которого у нас будет повод еще не раз помянуть недобрым словом), с присущей ему энергией бодро заявлял: «Ни разу в течение трех последних лет мы не были так хорошо подготовлены». Состояние английских вооруженных сил и промышленности Черчилль представлял, наверное, получше фон Ягова. И уверенность немецкого статс-секретаря в неготовности Англии доказывает одно: то, что англичане действительно обманывали и обманули немцев.
В дополнение к моральному портрету английского министра иностранных дел интересен такой факт. Когда творец Шерлока Холмса — Артур Конан-Дойль — в 1900-е годы выступил с гневным протестом против конголезской политики бельгийского короля Леопольда, заливавшего Конго кровью и слезами, сэр Эдуард считал, что шумиха вокруг Конго угрожает европейскому миру.
Хотя по здравом размышлении понимаешь, что не в мора ли здесь, пожалуй, дело… Оттолкнешь от Антанты Бельгию, а что если та — не дай Бог! — разрешит Германии транзит войск через свою территорию для удара по Франции?
И как же тогда с удобным поводом для Англии «вступиться» за «поруганную» Бельгию и вступить в войну? Ведь сэр Ар тур смотрел далеко вперёд…
Сразу после Сараевских выстрелов Грей в очередной раз демонстративно подчеркнул незаинтересованность Англии в развитии напряженности и сумел создать у немцев полную иллюзию того, что Англия в войне против Германии участвовать не будет. Подстрекательство было не столько тонкое, сколько совсем уж бесчестное. Потом историки будут объяснять поведение Англии ее тревогами по поводу растущей-де германской морской мощи, но вот как соотносились военно-морские силы на основном морском театре в Северном море. Англия имела в «Гранд-Флит» («Большом флоте») и «Флоте Канала» 20 дредноутов, 38 додредноутов (линкоров), 5 линейных крейсеров, 67 крейсеров, 192 эсминца и 68 подводных лодок.
Флот открытого моря Германии включал в себя 15 дредноутов, 22 додредноута, 3 линейных крейсера, 25 крейсеров, 137 эсминцев и 24 подлодки.
Общее же число наиболее тяжёлых кораблей сверхдредноутного, дредноутного и додредноутного типа у Англии выглядело еще внушительнее — 66 против 37 немецких. То есть за англичанами оказывалось явное преимущество — особенно с учетом французского флота (правда, слабого), отличной береговой обороны и хорошо защищенных морских баз.
Англичане более интенсивно наращивали флотскую мощь.
На Балтийском море русский Балтийский флот подавляюще превосходил немецкие силы, и поэтому немцы оказывались перед необходимостью перебрасывать часть кораблей из Северного моря на Балтику через Кильский канал (что они потом и делали).
Нет, дело было не во флоте. Во-первых, Англия желала войны лишь чуть менее, чем США. Янки война сулила только и исключительно многочисленные выгоды: подъем производства, снижение безработицы и социальной напряженности, финансовое закабаление Европы, усиление своего политического влияния и создание массовой армии. И все это — без малейшего риска для своей территории, без риска проиграть войну.
Но и Англия рассчитывала отбояриться лишь экспедицией на континент без ущерба для своей страны. А одновременно она предполагала разбить опасного германского конкурента, чьи товары все больше вытесняли английские на мировом рынке. Однако подобные соображения могли заботить и заботили элиту. Что касается рядового англичанина, то он воевать на суше с себе подобными (с европейцами) не умел и не любил. Недаром Бисмарк в свое время похохатывал: «Если бы Англия высадила на берега Германии десант, то я просто приказал бы полиции его арестовать».
Так что двинуть массы англичан «на континент» оказалось так же трудно, как подвигнуть на войну заокеанских «янки». О том, как справилась элита США с навешиванием «бубенцов воинственности» на рядового американца, мы в свое время уз наем. Но технология была применена та же, что и в Англии. Ее хорошо описал генерал В. Федоров, посетивший «Остров» в 1915 году с миссией адмирала Русина: «Газеты и журналы, плакаты и листовки, публичные доклады, патриотические манифестации, кино, театр»…
У Трафальгарской колонны Нельсона непрерывно шел поставленный с размахом балаган по записи добровольцев на фронт. В результате «китченеровская» армия (названная так по фамилии военного министра Г. Китченера) вырастала на глазах: за год с 200 тысяч до 1 миллиона.
Соответственно росло и военное производство, чему очень способствовал принятый сразу после начала войны «Декрет о защите государства».
Соответственно возрастали и централизация, контроль капитала за жизнью страны, ставшие приметой новой эпохи. Ранее хоть умирать можно было по своему выбору. Теперь и этой «демократической свободы» европейца все более лишали. И война, и тыл приобретали черты тотальности.
А в итоге росли прибыли элиты, то есть то, ради чего весь сыр-бор усиленно и разжигали.
В списке акционеров только одного оружейного концерна Армстронга, который с начала века выплачивал дивиденды не менее 10, а то и 15 %, были имена шестидесяти представителей знати или их жен, сыновей, дочерей, пятнадцати баронетов, двадцати сэров-рыцарей, восьми членов парламента, пяти епископов, двадцати крупных офицеров и восьми журналистов. Война компании могла принести одно — повышение годовых доходов в три, пять, а то и в десять раз. Было из-за чего стараться!
Английский журнал «Экономист» 13 февраля 1915 года, уже во время войны, в испуге проговорился: «Филантропы выражают надежду, что мир принесет международное ограничение вооружений. Но те, кто знают, какие силы фактически направляют европейскую дипломатию, не увлекаются никакими утопиями»…
Сэр Эдуард Грей утопиями не увлекался. Он и его патроны прекрасно понимали, что начинать войну имеет смысл только тогда, когда против Германии будет воевать Россия.
* * *
Сараево было воспринято различными кругами по-разному. Убийство наследника австрийского престола можно было, конечно, счесть за «casus belli», то есть повод к войне. Но вначале Европа отнеслась к нему с явным безразличием. Николай II в своем дневнике об этом событии не упомянул ни словом. В Кронштадте тогда гостила английская эскадра с королем Георгом V на борту, и царь оставил для истории лишь сведения о байдарочных катаниях и завтраках с Georgie.
Франция, правда, обсуждала убийство с жаром, но не эрцгерцога и его жены, а редактора «Фигаро» Кальметта, павшего от руки мадам Кайо, жены французского министра финансов и лидера радикальной партии Жозефа Кайо. (Скажем в скобках, что Кальметт опубликовал интимные письма Кайо в целях дискредитации).
На Кайо нападала не только «Фигаро», но и вся консервативная, клерикальная (то есть церковная) и умеренно-республиканская печать. И нападала по той простой причине, что Кайо, до того послушный, с какого-то момента начал очень мешать финансистам со своей идеей прогрессивно-подоходного налога. Кстати, в 1912 году Кайо «ставили на вид» и слишком дружественный тон по отношению к Германии. Его счастье, что в придачу к ненависти банкиров он имел еще и любовь незаурядной женщины. Во Франции это было кое-что, и мадам Кайо оправдали.
Франц-Фердинанд был убит 28 июня, а только 23 июля — через месяц — посланник Австрии в Белграде барон Гизль вручил австрийский ультиматум Сербии.
«Пти Паризьен» уделяла теме убийства герцога ровно вдвое меньше внимания, чем мадам Кайо. В Германии и Австрии видные военные в июле убыли в отпуска, чтобы не добавлять «электричества» в июльскую атмосферу, и без того бога тую грозами.
Во Франции промышленники и коммерсанты получали наличные доходы золотыми луидорами и золотом же расплачивались. Эдуард Ротшильд в загородном замке Лафферьер закатывал костюмированные персидские балы. А ранним летом 1914 года «весь», то есть избранный, Париж увидел бал драгоценных камней.
Супердамы заранее обменялись драгоценностями, чтобы блеснуть в прямом смысле слова платьем цвета камней, украшавших его сверху донизу. Очевидец писал: «Красные рубины, зеленые изумруды, васильковые сапфиры, белоснежные, черные и розовые жемчуга сливались в один блестящий фейерверк. Но больше всего ослепляли белые и голубые бриллианты».
Когда война стала фактом, то раздалось хоровое: «Как неожиданно!», «Война застала нас врасплох!». Французский еженедельник «Симан Финансир» 1 августа писал: «Понадобилась только неделя, чтобы привести Европу на грань катастрофы, еще невиданной в истории».
Значит, капитал провел свою многолетнюю работу квалифицированно и аккуратно. И при чем здесь «неделя», если французский посол в Сербии еще в 1911 году жаловался: «Французская держава по каждому пункту в мире поставлена в распоряжение к ле Крезо»?
А вот ещё одна «капля», в которой отражена эпоха… В августе 1913 году на 9-й конференции начальников Генеральных штабов Франции и России (тогда это были Жоффр и Жилинский) Жоффр потребовал во имя скорейшей концентрации русских войск для наступления на Германию проложить тысячи (!) километров новых железнодорожных путей — удвоить линии Барановичи — Пенза — Ряжск — Смоленск; Барановичи — Сарны — Ровно; Лозовая — Полтава — Киев — Ковель и по строить новый двухколейный путь Рязань — Тула — Варшава.
Ещё до 9-й конференции по требованию французов был учетверен участок Жабинка — Брест — Литовск («каких-то» сто километров) и построен двухколейный путь Брянск — Гомель — Лунинец — Жабинка (тут уже этих километров набиралось с тысячу).
Жабинка, Барановичи, Лунинец, Сарны, Ковель, Ряжск… Болотные, лесные, захолустные места… Тогдашнее экономическое значение — ноль. Зато — «стратегически важные на правления». На экономических картах маленькие точки бесследно проваливались в крупноячеистую сетку параллелей и меридианов, однако на картах штабных они занимали место самое почетное.
Нашей русской экономике очень пригодились бы тысячи стальных километров для объединения в целостный комплекс промышленных районов, житниц хлебных и рыбных, зон лесных и степных, А вместо этого — по воле чужеземного золотого клана и во имя его — русские мастеровые прокладывали по болотному бездорожью пути в никуда…А точнее — пути в вой ну. Загодя!
Нет, сказать, что все произошло так уж неожиданно, было бы опрометчиво. В январском номере органа военного министерства России «Разведчик» за 1914 год военный министр В.А. Сухомлинов писал: «Мы все знаем, что готовимся к войне на западной границе, преимущественно против Германии. Не только армия, но и весь русский народ должен быть готов к мысли, что мы должны вооружиться для истребительной (слог-то каков, читатель! — С.К.) войны против немцев и что германские империи должны быть разрушены, хотя бы пришлось по жертвовать сотнями тысяч человеческих жизней».
Это была, конечно, не только антигерманская, но и антирусская провокация. А разве не такой же провокацией было требование Пуанкаре расходовать французские кредиты на строительство стратегических железных дорог к германским границам? И разве не провокацией стал визит «Пуанкаре-войны» в Россию после Сараевского убийства?
Президент Франции приехал в Петербург на встречу с царем до австрийского ультиматума Сербии — 20 июля. И весь его визит выглядел как вызов Германии. Николай II в эти дни досрочно произвел в офицеры юнкеров выпускных классов военных училищ и громогласно заявлял, что Франции нужно продержаться десять суток, пока Россия отмобилизуется и «накладет» немцам «как следует».
Сухомлинов 11 июня 1915 года был с позором отстранен, 21 апреля 1916 года арестован и заключен в Петропавловку. Николай II его освободил. Летом 1917 года генерала все же судили, 12 сентября приговорили к пожизненной каторге, и он тут же сбежал… в Германию. Там-то, на вилле в Ванзее под Берлином, он после войны тоже не удержался от признания: «Если кто когда-нибудь… займется выяснением закулисной истории возникновения войны, тот должен будет обратить особенное внимание на дни пребывания Пуанкаре в Петербурге, а также и последующее время приблизительно от 24 до 28 июля».
Пуанкаре приехал явно на инспекцию, во-первых, и на обрубание всех швартовых, привязывающих Россию к миру, во-вторых. Все вышло, как и планировалось: «патриотический» антигерманизм достиг в России уровня, после которого надо сдерживать «коней» до поры.
Французы старались подгадить русско-германским отношениям не только на высшем — президентском, уровне, но даже по мелочам. 14 июля 1914 года на Лоншанском поле под Парижем прошел военный парад «в память взятия Бастилии революционным народом». Цветистый спектакль в чисто французском духе закончился, военные атташе готовились разъезжаться по домам. И тут нашего графа Игнатьева попросили сесть в открытый автомобиль вместе с его германским коллегой — мол, устроители опасаются враждебных выкриков толпы по адресу немца. Автомобиль тронулся, и публика со всех сторон заорала: «Vive la Russie! Vive les russes!» («Ура России, ура русским!»). Игнатьев отнюдь не жаждал войны России с Германией — совсем наоборот. И, уступив французам, он, конечно, сплоховал. Не сообразил, что немец оскорбится такой нарочитой демонстрацией «русско-французской тепло ты». Если бы он ехал в отдельном автомобиле, он злился бы на Францию, а так, как вышло, — невольно на Россию. Что французам и требовалось.
Мелочь? Нет! Подобным же образом французы будут па костить нам и через двадцать с лишним лет, сталкивая Германию и СССР на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Тогда французы совершенно намеренно отвели территорию под советский и немецкий павильоны друг против друга. А за тем заблаговременно, чтобы подзудить, показали макет советского павильона лейб-архитектору фюрера Шпееру. Эффект получился потрясающий: в результате вдохновенные, устремленные вперед мухинские «Рабочий и Колхозница» шагали прямо на немцев, а над русскими хищно нависал с высоты имперский орёл.
В предвоенную же пору 1914 года таких «мелочей» хватало и в Париже, и в Лондоне. В начале июля (6 числа) посол Германии фон Лихновски извещает Грея о только что закончившихся в Потсдаме австро-германских консультациях и «совершенно доверительно» добавляет:
— В Берлине считают, что ввиду слабости России не стоит сдерживать Австро-Венгрию.
— Да, Россия, увы, слаба, — «согласился» Грей. Он так сожалеющею покачал при этом головой, что не приходилось сомневаться: ему очень (ну просто очень!) хотелось бы, чтобы Россия была сильна, но куда, мол, денешься от фактов.
Берлин такие коварные английские «оценки» лишь окрыляли.
А вот уже русский военный агент в Англии докладывает в Петербург: «Английский Генштаб уверен, что Австрию толкает на войну Германия».
Ну, ещё бы — этот Генштаб, да в разговоре с русским, говорил бы в такие времена что иное! Провоцировать простаков в Англии умели всегда…
Одновременно Грей заверяет послов Австрии и Германии Мендорфа и Лихновски в строгом нейтралитете Англии и ее стремлении уладить австро-сербский конфликт миром. Восьмого же июля сэр Эдуард принимал русского посла графа Бенкендорфа…
— Я крайне озабочен серьезностью складывающегося положения, граф, — страдальчески сообщил шеф «Форин офис».
— Да, на этой покатости можно поскользнуться, если только не обладать сильным духом и решительной волей, — согласился Александр Константинович.
— Прекрасно сказано, — несколько оживился Грей. — И как раз поэтому я убежден, что России нужно решительно поддержать Сербию и защитить ее от произвола австрийцев. Ваш авторитет у славянства, ваша сила…
Бенкендорф вежливо помалкивал и лишь сделал неопределенный жест рукой — а вы, мол, господа, как же?
Грей намека, впрочем, не усмотрел, и Бенкендорфу пришлось задать этот вопрос вслух:
— Но ведь и Англии, очевидно, придется вступиться, если не с нами за Сербию, то за Францию?
Грей опять стал бесстрастен и развёл руками:
— Мы всегда на стороне обиженного и нуждающегося в помощи, господин посол. Но по нашим данным тогда в наиболее тяжелом положении окажется Россия. У меня есть точные сведения: в случае войны Вильгельм и Мольтке очень быстро переместят центр военных операций с запада на восток. Своего основного противника Германия видит в России…
Грей лгал в глаза. Ну и что? Пройдут два десятка лет, читатель, и политику провоцирования СССР против Германии будут проводить уже бывшие коллеги Грея по кабинету Ллойд-Джордж и Черчилль в беседах с нашим полпредом Майским. Другое время, постаревшие фигуры, но цели и методы английской дипломатии не изменятся. А пока что нужно подтолкнуть Россию царскую, потому что без России войну начинать нельзя во всех смыслах. Единственной же надежной гарантией тут могло стать или объявление Россией войны с Германией, или наоборот.
Но обязательно нужно было добиться, чтобы конфликт оформился вначале между этими двумя державами. Только после того, как они увязли бы во взаимных мобилизационных действиях после официального объявления состояния войны между со бой, можно было двигать дело Большой войны дальше.
Нельзя не упомянуть и еще один тонкий момент. В не раз уже цитированной мною книге «Европа в эпоху империализма» академик Тарле заявлял, что германский канцлер Бетман-Гельвег был активным сторонником войны. Но вот как оцени вал того же Бетмана начальник Штаба РККА Б. Шапошников в своем труде «Мозг армии»: «Трагическая личность — один из преемников Бисмарка на канцлерском посту — Бетман-Гельвег думал достигнуть намеченных целей исключительно мирным путем, проводя политику „без войны“. Бетман исходил из того положения, что идущее быстрым темпом развитие производительных сил Германии настолько перегонит остальные государства, что конкуренция их окажется исключенной».
Шапошников воевал с немцами на фронте. А вот Тарле отличался на бумаге, обвиняя Бетмана в том, что в 1914 году в Германии видели главного врага не во Франции, а в России, на том основании, что «победа над Францией казалась нелегкой, но вполне возможной; победа над Россией — и лёгкой и несомненной».
Насколько же академик был прав?..
Не приходится сомневаться, что если бы Германия ударила вначале по России (а не по Франции — как это было в реальности), то Франция активно не вмешалась бы. Ещё чего не хватало — лить кровь французских шевалье во имя жизней сиволапого мужичья!
Зато немцам была бы обеспечена поддержка австрияков. И это — не считая поддержки Евгения Викторовича, приписавшего немцам шапкозакидательские настроения по отношению к России.
Итак, «лёгкая победа», быстрый вояж по западным флангам Российской империи, аннексия Курляндии, русской части Польши, Лифляндии с Эстляндией. Затем — замирение с Росси ей на германских условиях — и Россия со счетов сбрасывается.
Потом можно было передохнуть, чтобы с приходом новых теплых дней ударить по уже одинокой Франции.
Ну разве это не есть та рациональная схема войны для Германии в случае, если бы немцы были настроены так антирусски и были настолько самонадеянны на счет России, как описывал Тарле?
А ведь в реальности немцы строго придерживались ориентированного на Францию плана Шлиффена и на русской границе держали лишь незначительные силы. Со слепой враждой к нам это как-то не вязалось. Может так было потому, что на шей силой пренебрегали? Нет — не настолько глупы и неосведомлены были немцы, чтобы не понимать, что в оборонительной войне Россия как минимум слабости не проявит.
Германия не хотела давать повода к усилению напряженности с Россией. Зато поводы для вражды то и дело давал сам Санкт-Петербург — как чиновный, официальный, так и биржевой.
Чего стоил один шум, поднятый осенью 1913 года вокруг турецкой миссии генерала Лимана фон Сандерса.
Турция обратилась к Германии с просьбой провести полную реорганизацию ее армии. Перевооружить новую армию европейского образца должны были германские оружейные заводы во главе с Круппом.
Конечно, радости для нас в таком сюрпризе было мало. Дружбы с Турцией у нас особой не наблюдалось, зато имелись реальные конфликтные зоны в Закавказье.
Но и немцев можно было понять. От таких предложений и возможностей уважающие себя державы не отказываются. Тут ведь и загрузка своей экономики, и привязка к себе Турции, и интересы Багдадской железной дороги. Так что шуми — не шуми, а Германия от соблазна не отступится. Это было яснее ясного…
Забегая вперед, скажу, что все усилия немцев не особо-то турецкую армию и усилили. Ведь сила современных армий определяется общим уровнем развития общества. А он у тогдашней Турции был еще слишком низким.
Однако вместо того чтобы сделать хорошую мину при плохой игре и максимально сгладить напряженность, обменяв ее на возможные германские уступки нам, Петербург взвился так, что исключительно по нашей инициативе запахло нашей войной с Германией один на один.
До какого-то момента Россию подзуживали еще и из Лон дона. Сэр Эдуард Грей многозначительно давал понять, что он-де не прочь подумать о совместном обращении трех держав (то есть Англии, Франции и России) к Порте…
Но до войны сэр Эдуард доводить дело еще не мог (так со рвалось бы все ее расписание), и поэтому в конце ноября он заявил, что коллективная нота протеста нецелесообразна.
В Берлине относительно умения Альбиона интриговать, конечно, не обманывались. Однако раздражение на Россию было велико из-за нервозности Петербурга, которая, конечно же, была искусственно вызвана Лондоном, Парижем, Нью-Йорком… Очень уж мелким был повод, и очень уж серьезным был итог — русско-германские отношения были испорчены как раз так, как этого и требовали интересы близящейся большой войны.
Итак, к началу 1914 года Германия уже могла понять, что Петербург способен пойти на нее войной. Настроения Франции были известны со времен Седана.
Позицию же Лондона в Берлине оценивали совершенно ошибочно, потому что Англия умело разыгрывала роль нейтрала.
Кайзер, его дипломатическая и генеральская команды мыслить умели, однако разве могли они оценивать расстановку мировых сил так, как эти силы были уже расставлены в действительности? Золотой Интернационал, преследуя свои интересы, уже взял за основу план возвышения США путем мировой войны. И не то что России и Франции, но даже Англии здесь отводилась роль мальчика для битья.
Могли ли так думать в Берлине о «гордом Альбионе», о могучей «Британской империи, над которой не заходило солнце»? Ведь Англии с позиций чисто национальных интересов было нецелесообразно ввязываться в европейскую континентальную войну впрямую.
В Берлине на это рассчитывали, а в Лондоне подобную иллюзию ловко поддерживали. Во имя чего? Ответ, хотя и был верным, звучал странно: во имя того, чтобы в результате «победоносной» для себя войны Англия… стала должником Америки и начала утрачивать свои мировые позиции.
Тарле с издевкой писал: «Впоследствии в Германии с раздражением спрашивали Бетман-Гельвега и других ответственных лиц: как им вообще пришло в голову так странно решать вопрос? Почему им показалось, что придется иметь дело не со всей Антантой?… На этот вопрос не было дано сколько-нибудь основательного ответа. И в самом деле, если дать ответ на этот вопрос было очень трудно даже в 1919 году, то понятно, что в 1913–1914 годах ошибался в этом отношении не только Бетман-Гельвег, но и лица, располагавшие более сильными интеллектуальными средствами, чем этот исполнительный и по-своему добросовестный бюрократ».
Иронизировал Евгений Викторович насчет германского канцлера и его коллег все же зря. В категориях национальной политики государства ответ действительно не отыскивался, а кайзер и его сотрудники были, с одной стороны, исключительно национальными деятелями, а с другой, — общественные науки не изучали. И поэтому не смогли вовремя (да и поз же) увидеть, что ситуацию определяет уже наднациональная политика наднациональных деятелей золотого клана. Мысля в категориях такой «политики», подлинным хозяевам Англии было вполне выгодно и разумно вести свою страну по невыгодному для нее как национального государства пути, пути прямой европейской войны с Германией.
Политика правящей элиты Англии была предательской по отношению к Англии Елизаветы и Нельсона, йоменов Робин Гуда и лондонских докеров, Чосера и Диккенса… Так могло ли националистическое, повторяю, руководство Германии вовремя осмыслить логику такого тотального национального предательства и предвидеть его масштабы?
* * *
Последняя неделя июля стала решающим, но логическим завершением тридцатилетних трудов гольштейнов, витте, греев, ротшильдов, пуанкаре, шнейдеров, круппов, армстронгов, барухов, дюпонов, сазоновых, гучковых, черчиллей и рузвельтов.
Уже знакомый нам Брейлсфорд писал перед войной: «Международные отношения фирм, торгующих вооружением, представляют соблазнительную тему для сатиры. Капитал лишен патриотизма. Германская фирма оказывается под руководством французских директоров. В Нобелевский трест и компанию Гарвей входили все ведущие фирмы по производству вооружений: английские, французские, германские и американские. Французская фирма Шнейдер и германская фирма Крупп (две крупнейшие пушечные фирмы мира. — С.К.) объединились в синдикат для разработки железных рудников в Алжире. Число лиц, наживающихся на вооружении и войне, относительно невелико по сравнению со всем населением цивилизованного мира. Но их индивидуальное значение круп нее, они работают в союзе с „обществом“ (Брейлсфорд имел в виду, естественно, „светское, высшее общество“. — С.К.), которое рассматривает империю как поле для карьеры своих сыновей (то есть, розбери и греев. — С.К.), и с финансовыми кругами (то есть Ротшильдами и др. — С.К.), которые считают ее сферой для инвестиций».
К общей картине единения Золотого Интернационала могу добавить конкретную деталь. Президент сверхаристократического Парижского скакового общества Иоахим Мюрат (прямой потомок наполеоновского маршала) по примеру многих дворянских родов породнился с еврейским капиталом, женившись на богатейшей приемной дочери эльзасского банкира Эттингера.
Теперь наступал их час. Но еще не наступил, потому что Россия была вне игры, и 23 июля ультиматум от Австро-Венгрии получила пока одна Сербия с временем на размышление — двое суток. Империя Габсбургов была самой слабой из великих держав, но прихлопнуть Сербию ей большого труда не составило бы. Мешало то, что министр иностранных дел России С. Сазонов заявлял: Россия не может позволить Австрии «говорить с Сербией угрожающим языком или применить к ней военные меры». Сербия действительно сразу же после получения ультиматума обратилась за помощью к России.
«Логика» была обоюдно странной. Вспомним, читатель, как академик Хвостов уверял через полвека, что в 1914 году войны хотела лишь Германия (читай — с Австро-Венгрией), а России нужно было подождать еще несколько лет, потому что она была не готова. Так зачем же тогда, спрашивается, сазоно-вы-романовылезли на рожон?
Зачем Николай II в феврале 1914 года безответственно за являл сербскому премьеру Пашичу: «Для Сербии мы все сделаем»? Зачем? Ведь его уже не раз предупреждали о безрассудности таких настроений — тот же лидер правых Дурново!
Даже если бы Австрия оккупировала Сербию, что бы произошло? Она заработала бы себе еще одну «национальную» головную боль, а их у Вены хватало и без сербов. Тем временем Россия усилилась бы, Австрия — ослабла, и вот тогда… Тогда можно было бы и двинуться в очередной освободительный поход на земли южных славян. Увы, в Петербурге летом 1914 года никто не мыслил здраво.
Сербия повела себя ещё более безответственно. Принято считать, что австрийский ультиматум состоял из таких пунктов, которые при их выполнении уничтожали Сербию как суверенное государство. Сэр Эдуард Грей иезуитски-«просто душно» «сомневался», может ли Россия посоветовать сербам согласиться с ультиматумом, и провокационно прибавлял: «Государство, которое нечто подобное примет, собственно, перестает быть самостоятельным государством».
Однако самостоятельно, суверенно лишь то государство, которое может защитить себя военной силой. А если не может — должно вести себя соответственно.
Впрочем, Грей лгал и по сути. Ультиматум местами был действительно жестким: сербы, например, должны были уволить из армии офицеров по спискам, представленным Веной. Но Сербии он все же не уничтожал и катастрофических угроз там не было. Наверное, поэтому полное содержание ультиматума далеко не всегда приводится даже в толстых исторических трудах.
Ведь знакомство с основным документом, из-за которого началась (как утверждают хором все и на Западе, и на Востоке) МИРОВАЯ ВОЙНА, рождает вопрос: «А имели ли сербы хоть малейшее моральное право отвергать такой ультиматум в то время?». Так или иначе, за 10 минут до истечения срока ультиматума, 25 июля в 17 часов 50 минут, сербский премьер Пашич вручил барону Гизлю ответ. Сербия принимала все пункты, кроме единственного.
Вчитайтесь, а затем вдумайтесь в отвергнутый пункт. После того как сербы приняли условия, если и не ликвидирующие не зависимость страны, то все же серьезно ее ущемляющие, они не согласились с тем, чтобы австрийская полиция участвовала на территории Сербии в расследовании по делу лиц, замешанных в сараевских событиях. При этом сербы сослались на то, что это-де противоречило бы сербской конституции.
Итак, сербы отвергли единственное требование австрийцев, которое было как раз наиболее естественным и законным, а одновременно и самым необременительным.
Если вспомнить, что свою судьбу Сербия была намерена защищать русским оружием, находящимся в русских же руках, то это был, во-первых, фактически ответ из России, дававший «добро» войне. Во-вторых же, по отношению к России со стороны Сербии такое решение было преступнейшей и непрощаемой подлостью! Ведь получалось, что будущая кровь русских мужиков обагрит сербское руководство еще в большей мере, чем российское…
Австрийцы тут же начали мобилизацию против Сербии, но на ее границе с Россией все было спокойно.
Ничего странного. Ни в Берлине, ни в Вене отнюдь не бы ли склонны расценивать происходящее как начало большой войны. Узнав о сербском ответе, Вильгельм писал статс-секретарю фон Ягову: «Уже нет оснований к войне»… Впрочем, одновременно он считал, что Австрии стоит оккупировать Бел град и часть Сербии в качестве «гарантии».
28 июля Австрия объявила Сербии войну, а в ночь на 29 на чала артиллерийский обстрел Белграда. В России Генштаб тут же стал торопить с мобилизацией. Царь склонялся к объявлению то полной, то частичной мобилизации, а Вильгельм телеграммами убеждал его не пороть горячку. Ее действительно можно было и не пороть, потому что Германия ни за что не нанесла бы первый удар по России. Ее целью в случае войны был Париж.
Иначе говоря, если бы царь и наследники Витте не торопились, то даже если бы Германия рискнула воевать, нам скорая опасность не угрожала. Можно было даже формально пойти на войну, спокойно отмобилизоваться и спокойно оградить свои рубежи. А там — посмотрели бы…
Пассивное содействие победе Германии над Францией да же после всех германо-российских недоразумений было бы России выгодно. Но в Петербурге «русские» газеты уже расписывали, как чубатые Кузьки Крючковы входят в Берлин. Царя уверяли, что если объявить лишь частичную мобилизацию (против Австрии), то она сорвет всеобщую (ещё и против Германии). Под всей патриотически-квасной пеной скрывалось истинное стремление: нужно поскорее призвать хоть какие-то мужицкие массы, поставить их под ружье и бросить на Германию, чтобы спасти Францию.
Зато Франция как-то сразу начала осторожничать: одно дело — бодро вышагивать на парадах, размахивая шпагой в сторону «пруссаков», и другое — со дня на день ожидать их вторжения.
30 июля французы мобилизовали пять пограничных корпусов и тут же то ли из трусости, то ли из предосторожности отвели их передовые части от границы с Германией на десять километров. Чтобы, не дай Бог, не дать немцам повод для по граничных инцидентов. Президент Пуанкаре представлял эти меры русскому послу Извольскому как доказательство миролюбия, а генерал Жоффр успокаивал русского военного агента Игнатьева тем, что это тонкий маневр, и он заранее был предусмотрен планом мобилизации.
* * *
Французы могли себе позволить такую «тонкую» игру, поскольку Сазонов с генштабом не забывали о проблемах «сынов свободы»… Фактически уже сразу после 23 июля в приграничных виленском и варшавском округах начались мобилизационные приготовления — ещё до официально оформленной реакции царя. Начальник Черниговского гарнизона полков ник Бонч-Бруевич (вскоре — видный штабной генерал) получил секретный пакет из Киева с приказом о немедленном приведении частей гарнизона в предмобилизационное состояние 29 июля в пять часов пополудни, что объективно вынуждало Германию быть начеку.
Наша мобилизационная активность в это время странно сочеталась с нашей дипломатической пассивностью как раз там, где русской дипломатии была необходима чуткость камертона, то есть в Вене и Берлине.
Уже после (!) сараевских выстрелов Сазонов почему-то (?!) разрешил временно оставить «свои» столицы берлинскому послу С. Свербееву и венскому послу Н. Шебеко. Интересно и то, что об этой немаловажной и многозначащей «детали» умалчивают практически все советские авторы. И только известный нам Марков-второй пишет: «В те самые дни, когда окончательно решался роковой вопрос, разразится ли мировая война или удастся ее хотя бы на время оттянуть, ни в Германии, ни в Австро-Венгрии не было императорских русских послов, — один наслаждался отпуском у себя в деревне, другой набирался впечатлений в Петербурге».
Однако в середине июля Свербеев уже был опять в Берлине и посетил статс-секретаря Ягова. Но в те дни, когда еще что-то можно было исправить, нашего посла на месте действительно не было. А теперь, когда уже мобилизовывались приграничные округа, Свербеев мог лишь уныло констатировать в шифрованной телеграмме Сазонову: «Узнав от меня, что мы действительно принуждены мобилизовать четыре военных округа… Ягов в сильном волнении ответил мне, что неожиданное это известие вполне меняет положение и что теперь он не видит уже возможности избежать европейской войны».
Уже в эмиграции Сазонов переврал мнение Ягова, выставив его этаким милитаристом-фаталистом, считающим, что раз уж конфликт неизбежен, так пусть он разразится поскорее. Зато он записал в пацифисты одного из творцов Антанты — Делькассе. Очевидно, Сергей Дмитриевич после всех треволнений и бурных лет числил себя тоже по «миротворческому» ведомству, напрочь отказываясь от своей доли ответственности за войну. Но факты говорят об обратном!
В 1910 году кайзер Вильгельм знакомился с новым русским министром иностранных дел и, отпуская его, сказал:
— Наконец мне пришлось встретиться с русским министром иностранных дел, который мыслит и чувствует как русский.
Сазонов поклонился в ответ, а Вильгельм прибавил:
— С национально настроенным министром нам, немцам, нетрудно будет жить в мире и добром согласии.
Теперь «национально настроенный» Сазонов боялся, как бы не опоздать с войной против немцев. Николай 28 июля спокойно поигрывал в теннис. По окончании дня он отметил в дневнике: «День был необычайно беспокойный. Меня беспрестанно вызывали к телефону то Сазонов, или Сухомлинов, или Янушкевич».
И 29 июля Сазонов после совещания с военным министром Сухомлиновым и начальником Генштаба Янушкевичем добивается от Николая II указа о всеобщей мобилизации. Его приостанавливают за несколько минут до того, как начальник мобилизационного отдела генерал Добророльский начал диктовать указ телеграфисткам столичного Главтелеграфа. Причиной стала очередная депеша Николаю от кайзера, предостерегавшего от обвала.
«Национально» же «настроенное» трио (министр и два генерала) утром 30 июля собираются вновь.
— Я имею точные данные, что германская мобилизация идет полным ходом, — заявил Янушкевич.
Это была неправда. Немцы объявили мобилизацию только 1 августа. Точнее, на границе с Францией некоторые мобилизационные мероприятия начались уже в последнюю неделю июля, но на русско-германской границе все было спокойно. Граф Игнатьев проезжал Германию 26 июля. Вот его впечатления: «В Эйдкунене, германской пограничной станции, я встретил знакомую и обычную обстановку, разве что только таможенные и железнодорожные служащие показались мне особенно предупредительными. Естественно, что весь день я не отрывался от оконного стекла, стремясь заметить хоть малейшие, но хорошо мне знакомые еще с академии признаки предмобилизационного периода: удлинение посадочных платформ, сосредоточение к большим станциям подвижного железнодорожного состава и тому подобное. Но уже темнело, а мне всё ещё ничего не удалось заметить»…
Зато что-то «заметил» Янушкевич, и они с Сухомлиновым дозвонились до царя. Николай, выслушав Янушкевича, был краток:
— Я прекращаю разговор.
— Ваше величество, Сергей Дмитриевич передает свою покорнейшую просьбу позволить сказать вам несколько слов.
— Хорошо…
Сазонов взял трубку:
— Ваше величество, я нижайше прошу аудиенции для неотложного доклада.
Николай помолчал и согласился:
— Приезжайте в три часа.
* * *
Сухомлинов ещё 12 марта 1914 года в «анонимной» статье в «Биржевых ведомостях» заявил (явно расходясь здесь с фон Яговым): «Россия готова».
Лидер кадетской партии Милюков считал, что «эта статья была фатальна» и стала «одним из толчков, вызвавших войну». Но дальше — больше… 31 мая (по европейскому счету 13 июня, что дает, к слову, занятную символическую инверсию: 31–13) во второй инспирированной Сухомлиновым статье в «Биржевке» заявлялось еще круче: «Россия готова, должна быть готова и Франция».
Казённый же заказ (наряд) на винтовки для самого нашего крупного оружейного завода — Тульского — был следующим: в январе 1914 года — пять (пять!) штук, в феврале — также пять, в марте — шесть, в апреле — пять, в мае — одна (одна!), в июне — опять одна, в июле — одна учебная винтовка.
Что, читатель, не верится? Мне и самому верится в такое с трудом. Но источник-то сведений — авторитетнейший — знаменитый наш оружейник, генерал (и царской, и Советской армий) Владимир Григорьевич Федоров, тогда член оружейного отдела Артиллерийского комитета.
В своих воспоминаниях Федоров писал позже: «За не сколько дней до объявления войны крупнейший завод выпускает одну учебную винтовку в месяц! Так готовилось военное министерство к вооруженному столкновению».
Забегая вперед, скажу, что с началом войны Федоров по дался аж в… Японию за остро необходимыми русской армии хотя бы старыми японскими «арисаками».
А пока война ещё не началась, и Сухомлинов в конце июля опять безмятежно подтверждает «полную нашу готовность». Теперь он смотрел в глаза Сазонову, закончившему телефонный разговор с царем, и с нетерпением ждал, что тот скажет…
— В три часа я в Петергофе, — успокоил его и Янушкевича Сазонов. — И вот что… Если я смогу его убедить, то звоню вам, генерал, — он повернулся к Янушкевичу, — а вы тотчас звоните на Главтелеграф.
— Хорошо, — возбужденно согласился Янушкевич. — А потом я уйду из дома, сломаю телефон и вообще вы меня не отыщете, если опять придет приказ все отменить.
Сазонов же уехал к царю. А через два часа, около пяти вечера 30 июля, он позвонил Янушкевичу:
— Теперь вы можете сломать свой телефон…
* * *
Пройдет год. Осенью 1915 года Янушкевич будет телеграфировать Сухомлинову: «Армия 3-я и 8-я растаяли… Кадры тают, а пополнения, получающие винтовки в день боя (!!! — С.К.), наперебой сдаются… Нет винтовок, и 150 тысяч чело век стоят без ружей. Час от часу не легче. Ждём от вас манны небесной. Главное, нельзя ли купить винтовок»…
А германская тяжелая артиллерия, не испытывая недостатка в снарядах, громила без устали безоружные массы мужиков, не имевшие не то что патронов, но, как видим, и самих винтовок…
ГЛАВА 5 Война решена, война началась…
Первым днём мобилизации было назначено 31 июля. В этот день в 12 часов 23 минуты по венскому времени в военное министерство Австро-Венгрии тоже поступил указ о всеобщей мобилизации против России, подписанный императором Францом-Иосифом. Сопоставляя время и учитывая разницу в час, можно предположить, что Австрия решилась не одновременно, а вслед за нами, хоть потом утверждалось и обратное. Впрочем, в войну с Россией австрияки пока не вступали.
Не обошлось в последние предвоенные дни и без кавалера высших германских орденов Чёрного и Красного Орла Витте.
22 марта 1906 года он в телеграмме берлинскому банкиру Мендельсону по поводу возможного германского займа писал о «мудрых принципах, провозглашенных в Бьорке»…
Принципы в Бьорке провозглашались, как мы помним, действительно неглупые, но Витте их сам же и торпедировал.
Теперь он создавал себе образ противника конфликта, но рецепт его был таким: «Надо вовремя прицыкнуть на этого сумасшедшего нахала Вильгельма». В каком смысле «прицыкнуть» и может ли грозный тон неготовой к войне (по словам самого же Витте) России образумить неплохо готовую к ней Германию — этого Сергей Юльевич не пояснял.
В полночь 31 июля к Сазонову пришел в очередной раз германский посол Пурталес. Утром его принимал сам Николай, но что значил Николай в России, если нужно было выручать её, а не вредить ей? Разговор с царем вышел пустым, и теперь Пурталес стоял перед Сазоновым.
— Господин министр, я уполномочен моим правительством передать Вашему правительству, что если к двенадцати часам первого августа Россия не демобилизуется, то Германия тоже объявит мобилизацию.
— Означает ли это войну? — спросил Сазонов.
— Нет, но мы к ней чрезвычайно близки.
* * *
Кайзер Вильгельм был импульсивен — спору нет. За треть века единоличной видимой власти он выработал стиль совершенно индивидуальный: эффективный реализм в деталях и энергичные иллюзии в общем видении вещей. Германия его юности была всего лишь юнкерской Пруссией, а Германия его поздней зрелости — могучим промышленным рейхом, чьи владения протянулись до экватора. И он очень был склонен считать, что Европа должна считаться с ним более, чем с собой, поскольку был уверен, что он лучше Европы знает, как можно обеспечить благо не только Германии, но и всего континента… И так ли уж кайзер был неправ?
Ещё до войны пастор Фридрих Науманн выдвигал идеи «Срединной Европы» при верховенстве Германии. Такая программа находила подкрепление во взглядах промышленников и финансистов Германии. Сразу после начала военных действий 9 сентября 1914 года эти планы как основные цели войны излагал в особой записке канцлер Бетман-Гельвег. Предполагалось создание среднеевропейского экономического союза в составе Австро-Венгрии, ослабленной Франции, Бельгии, Голландии, Дании, Польши, а также Италии, Швеции, Норвегии под «фактическим немецким руководством».
Как можно было оценивать такие идеи с точки зрения интересов и перспектив России?
«Срединная Европа» не угрожала России в том случае, если Россия занималась бы исключительно своим внутренним ростом. Мощная объединенная экономика континентальной Европы сразу раскалывала бы все англосаксонские планы мировой гегемонии, но эта же экономика могла помочь нам в строительстве могучей Российской державы, если бы внешние займы шли на эти цели, а не на строительство «стратегических» дорог по болотам.
Могла ли «Срединная Европа» стать результатом войны? В принципе — да, но только если бы в этой войне против Германии не участвовала Россия.
Возможно, Вильгельм, пастор Фридрих Науманн, канцлер Бетман в своих оценках шансов «Срединной Европы» теоретически и не ошибались… Однако практически в том реальном политическом раскладе, который реализовался к 1914 году, их взгляды были опасной мечтой. Воплотиться в реальность она-таки могла! Но лишь в союзе с Россией. А на такую возможность Вильгельм махнул рукой — в другую сторону давно тянул сам «Нью-Бердичев».
* * *
И этот противогерманский маневр проделывался там так ловко, что ход и смысл событий не улавливался даже теми, кому по возрасту, по положению и чину не мешало бы оказаться и более прозорливыми.
Так, знаменитый генерал Брусилов даже после Первой мировой войны был уверен в том, что «немец внешний и внутренний был у нас всесилен… В Петербурге была могущественная русско-немецкая партия, требовавшая во что бы то ни стало, ценой каких бы то ни было унижений крепкого союза с Германией, которая в то время демонстративно плевала на нас. Какая же при таких условиях могла быть подготовка умов народа к этой заведомо неминуемой войне, которая должна была решить участь России».
Тут Брусилову явно отказывает логика. Ведь если «внутренний немец» был так тотально «всесилен», то с чего бы это война с «немцем внешним» была «заведомо неминуемой»? И более верным было бы предположить обратное (увы, соответствующее реальности): как раз потому, что всесильными оказывались те, кому русско-германский союз был костью в прожорливом горле, абсолютно ненужная для России война и стала с определенного момента «неминуемой».
Не знаю, как уж там Германия на нас «плевала» — будучи нашим крупнейшим торговым партнером, поставлявшим, к тому же, промышленное оборудование для создания новейших отраслей производства, но знаю, что англо-французы на Россию не плевали. Они её — да, лобызали, причем в том же «приступе страстей», что некогда испыты вал небезызвестный Иуда Искариот по отношению к Иисусу Христу…
Между прочим, ещё раз о Брусилове… Аналитик В. Николаев сообщает, что генерал, состоявший в 20-е годы при РВС СССР для особо важных поручений, в одной из своих лекций назвал главных постоянных стратегических континентальных противников России — Англию, Турцию, Польшу… Зал удивился — а как же Германия, в войне с которой Брусилов так отличился? «С ней нам нечего было делить, — ответил автор „брусиловского прорыва“, — нас просто стравили…».
Ну что тут сказать, читатель? Пожалуй одно: «ЭХ!!!»…
Бессмертные боги могут относиться к тем, кто их предает, спокойно. У них в запасе вечность. А у людей? А у народов? Для нас, смертных, существуют критические моменты, когда мы или разрываем цепь губительных обстоятельств, или опутываемся ими еще крепче… Не интересы «немецко-русской партии», а интересы Российского государства диктовали одно решение: отказаться от конфликта с немцами. Ведь что грустно — интуитивно это понимал (потому и колебался) даже та кой слабый монарх, как Николай II.
Да как ему было не сомневаться в правильности антигерманского выбора, если в феврале 1914 года на стол императора легла записка Петра Николаевича Дурново — крупнейшего деятеля Министерства внутренних дел Российской империи. В 1884–1893 годах — директор департамента полиции, в 1900–1905 годах — товарищ министра, с сентября 1905 по апрель 1906 года — министр, затем напрочь от министерства отставленный — не без происков Витте. С 1906 года он был членом Государственного Совета.
Дурново подавлял русскую революцию, был лидером и знаменем крайне правых. Ленин называл его «дикой собакой» и раз за разом употреблял формулу «Дубасовы и Дурново»… Классовый облик Дурново вполне ясен — это был монархист и защитник интересов исключительно имущих. Он был настолько последовательно и органично олигархичен, что от него отшатывалась даже олигархия. Но записка Дурново содержала следующее:
«Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии — на морях, т. е. имен но там, где у России, по существу, наиболее континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов»… А что — разве это не так по сей день?
Прекрасно понимал Дурново и бессмысленность нашей борьбы за черноморские проливы, которые «выпускают» русский флот всего лишь в Средиземное море, запертое Гибралтаром и тогда контролируемое Англией.
Далее Дурново писал: «Скажу более, разгром Германии — в области нашего товарообмена — для нас невыгоден». И Дур ново не ограничился простой констатацией, а подробно описал суть взаимных экономических отношений: «Что касается немецкого засилья в области нашей экономической жизни… Россия слишком бедна капиталами и промышленной предприимчивостью, чтобы могла обойтись без широкого притока иностранных капиталов. Поэтому известная зависимость от того или другого иностранного капитала неизбежна для нас до тех пор, пока промышленная предприимчивость и материальные средства русского населения не разовьются настолько, что дадут возможность совершенно отказаться от услуг иностранных предпринимателей… Но пока мы в них нуждаемся, немецкий капитал выгоднее для нас, чем всякий другой. Прежде всего этот капитал из всех наиболее дешевый, как довольствующийся наименьшим процентом предпринимательской прибыли… Мало того, значительная доля прибылей, получаемых на вложенные в русскую промышленность германские капиталы, и вовсе от нас не уходит, в отличие от английских и французских капиталистов, германские капиталисты и сами со своими капиталами переезжают в Россию. Англичане и французы сидят себе за границей, до последней копейки выбирая из России вырабатываемые их предприятиями барыши. Напротив того, немцы-предприниматели подолгу проживают в России и быстро русеют. Кто не видал, например, французов и англичан, чуть не всю жизнь проживающих в России и ни слова по-русски не говорящих. Напротив того, много ли вид но в России немцев, которые хотя бы с акцентом, ломаным языком, но, все же, не объяснялись бы по-русски?»…
Что же касается экономических аспектов конфликта с немцами, то здесь Дурново мыслил прямо-таки как марксист: «Последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнет германского капитала покажется легким. Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, намного превышающих ограниченные финансовые ресурсы России. Придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан, разумеется, не даром… И вот, неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадем в такую финансовую и экономическую кабалу к нашим кредиторам, по сравнению с которой теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом».
Удивительно, но ширящиеся антигерманские настроения в «образованных» столичных кругах даже советские историки объясняли тем, что растущему-де российскому торгово-промышленному капиталу начинала мешать германская конкуренция. Мол, разрыва русско-германского договора 1904 года особо желали промышленники, так как этим-де устранялся импорт в Россию «германских фабрикатов».
Но «фабрикат» «фабрикату» рознь. Из Германии в Россию поступала подавляющая часть экспорта по статье «машины и масти машин». Одно дело — поставить «конкуренту» кровать, сваренную из прокатного «уголка», другое дело — поставить «уголок», и уж совсем иное — поставить прокатный стан, на котором этот «уголок» катают. Так что германские поставки угрожали не столько внутреннему сбыту русских товаров, сколько планам технологического закабаления России англо саксонским и французским капиталом.
А «славянские» обеды, которые весной 1913 года закатывали Рябушинские в компании со «славянофильствующими» кадетскими лидерами под одобрительные взгляды дяди царя — великого князя Николая Николаевича? Что ж, кричали там о «проливах», но пили-гуляли, по сути, во славу Франции, Англии, Бельгии… Отчего и предостерегал Дурново…
И при всей убийственной для деятелей «Нью-Бердичева» и Антанты точности анализа особым гением-пророком Дурново не был. Писал-то он об очевидном. Но много ли было среди российской элиты способных это очевидное видеть и тем более руководствоваться им? Брусилов чуди лось пронемецкое всесилие… Однако о каком всесилии можно было говорить, если ситуацию не переламывали даже документы и аргументы, подобные представленным Дурново?
Николай практических выводов из предупреждения Дурново не сделал, но сомневался… Да и как ему было не сомневаться, если предстояло окончательно решиться на очень многое… Ещё пару лет назад, оказавшись перед необходимостью заместить должность нашего посла в Берлине, он предложил его тогдашнему Председателю Совета Министров графу В. Коковцову, сказав:
— Вы знаете, что этот пост очень трудный, наша политика всегда была основана на дружбе с Германией, а теперь обстоятельства так сложились, что нужен человек опытный и выдержанный, как Вы, чтобы ограждать наши интересы.
Коковцов внимательно слушал, не пытаясь даже жестом выразить свою реакцию, и царь продолжил:
— К тому же император Вильгельм Вас, видимо, искренно жалует и расточал мне величайшие похвалы по Вашему адресу.
— Государь, я тронут Вашим доверием, но могу ли я дать совершенно откровенный ответ, или же Ваше решение окончательно? — спросил Коковцов.
— Нет, я не желаю стеснять Вас, Владимир Николаевич, и делаю это предложение потому, что верю в его пользу.
— Ваше величество, от поста посла в Берлине я не имею права отказаться, но опасаюсь оказаться в Берлине не на месте… Я не привык к дипломатическим тонкостям, а в Берлине учитывают каждое слово.
Николай слушал без видимого неудовольствия, и Коковцов решился:
— И, если честно, я также боюсь, что мое убеждение в сохранении мира во что бы то ни стало может встретиться с иными тенденциями у тех наших кругов, которые преследуют так называемую «национальную» политику…
Слово «национальную» Коковцов произнёс подчёркнуто, явно ставя его в кавычки, но Николай на это внимания обращать не пожелал, разъяснений не попросил, и вяло произнёс:
— Я не могу Вас насиловать, и я с удовольствием сохраню за Вами Ваше теперешнее положение. Передайте Сазонову, что он может прислать мне доклад о назначении его кандидата.
Выбор пал, как мы знаем, на С. Свербеева, человека, по оценке Коковцова, «поразительно ничтожного». И он оказался идеальным передатчиком идей «шефа» Сазонова и закулисных шефов «шефа».
В представленном полностью документальном эпизоде, как в капле грязной воды, можно обнаружить полный набор бацилл, отравлявших российский государственный организм: вялость и нерешительность царя, неумение даже верно, подлинно национально мыслящей части его окружения переломить эту вялость и активная суета якобы национальных сил, направляемых «англо-французской» Антантой.
Тем не менее Николай даже накануне обвала 1914 года сомневался. Кайзер при всей своей самоуверенности тоже колебался. Узнав о том, что Пашич почти согласился с ультиматумом Вены, он пишет статс-секретарю фон Ягову, что Австро-Венгрии следует ограничиться дипломатическим успехом и войны не начинать. Милюков потом утверждал, что Вильгельм «увлекся идеей войны с Россией», но забыл, что он сам в то время публично «увлекался» идеей войны с Германией, Кайзер же раздумывал. Провести мобилизацию ему было на много проще, чем Николаю. Генерал-полковник Гельмут фон Мольтке-младший как-то обмолвился, что германская армия пребывает в состоянии «постоянной мобилизации», но за ним стояла не готовность к агрессии, а продуманность, организация, хорошо развитая дорожная сеть и крайне высокие воинские качества запасников, даже более боеспособных, чем молодые солдаты срочной службы.
Нам после объявления мобилизации сложно было её начать и непросто остановить. На «техническую невозможность» демобилизации в Петербурге и напирали, но…
Конечно, это вечное российское «но» значило немало: не так уж и сложно было нашу мобилизацию при желании остановить…
Ведь к полудню 1 августа объявленная утром 31 июля мобилизация еще не вышла, конечно же, из стадии освоения мобилизационных предписаний должностными лицами и получения ими мобилизационных сумм. Приостановить еще не начавшиеся сборы было возможно, но (ещё одно «но») не для сановного Петербурга.
После войны велось много споров о том, можно ли было избежать войны, не поторопились ли в Берлине с последним ультиматумом. Спорили немцы-социалисты Бернштейн и Каутский, перебирали варианты наш Тарле и немец Дельбрюк, но значение имел только тот факт, что война была решена. И сараевские выстрелы лишь произвели сербы, а подготовили для них почву да-а-а-леко не они.
Война была решена, и русскую махину раскручивали вовсе не для того, чтобы в последний момент её остановить…
В семь вечера граф Пурталес вновь вошёл в кабинет Сазонова. Было видно, что он сильно волнуется.
Прямо с порога посол задал вопрос:
— Готово ли русское правительство дать благоприятный ответ на ультиматум Германии?
— Нет, мы не можем отменить общую мобилизацию, но по-прежнему расположены к переговорам для разрешения спора мирным путём.
— Господин министр, я опять спрашиваю, готово ли русское правительство дать благоприятный ответ на ультиматум Германии? Я хотел бы указать на тяжелые последствия, которые повлечет за собою ваш отказ считаться с этим германским требованием…
— Нет, господин посол, мобилизацию не остановить.
Пурталес вынул из кармана сложенный лист бумаги и дрогнувшим голосом произнес:
— Итак, я спрашиваю в третий раз, господин министр, готово ли русское правительство дать благоприятный ответ на ультиматум Германии?
— Увы, граф, я не могу дать вам другого ответа, кроме уже услышанного Вами…
Теперь у Пурталеса дрожали и голос, и рука с бумагой, но он закончил:
— В таком случае, мне поручено моим правительством передать Вам следующую ноту.
В ноте было объявление войны, и — по феноменальному не досмотру посольства — даже в двух вариантах, которые канцлер Бетман-Гельвег прислал из Берлина. Впрочем, тогда на это внимания не обратил даже Сазонов. Смысл был ясен, и дословно читать ноту Сергей Дмитриевич не стал. А Пурталес подошел к окну. Прислонился, глядя на Петербург из кабинета русского министра в последний раз, поднял руки с возгласом: «Кто бы мог предвидеть, что мне придется покинуть Петербург при таких условиях!» и… заплакал. Сазонов вдруг взглянул в будущее, и… тоже дрогнул. Он подошел к Пурталесу, и вместо холодного рукопожатия неожиданно обнял его. А потом уже экс-посол не твердыми шагами вышел из сазоновского кабинета…
Эту сцену весьма живописно (но с очень уж большой долей отсебятины, серьезно искажающей сведения того же Сазонова) описал Валентин Пикуль в «Нечистой силе». Ну, живость воображения литераторам не возбраняется. Хуже то, что Пи куль элементарно передернул даты, утверждая, что ко времени последнего разговора Пурталеса с Сазоновым «немцы уже оккупировали беззащитный Люксембург». Они-то его оккупировали, но только на следующий день, 2 августа. Увы, это не единственное намеренное «заблуждение» Валентина Саввича, выставляющее ситуацию в свете, выгодном для его схем, но не выгодном для обозрения фактов истории.
И чтобы поставить окончательную точку, сообщу, что Пи куль все отсутствующие у Сазонова «художественные детали», позволяющие обвинить Германию в упорном намерении воевать, просто списал у… французского посла Мориса Палеолога. А этот своеобразный дипломат уступал своему великому соотечественнику Дюма лишь в таланте писательском, но отнюдь не в таланте на выдумку.
Николай же в этот день скромно отметил: «Погулял с детьми. В 6 1/2 поехали ко всенощной. По возвращении оттуда узнали, что Германия нам объявила войну. Обедали… Вечером приехал английский посол Buchanen (Бьюкенен. — С.К.) с телеграммой от Georgie (Георга V. — С.К.). Долго составлял с ним ответ… Пили чай в 12 1/4».
Пройдёт совсем немного времени, и обильно потечёт первая русская кровь. Общественность Москвы — через сына московского промышленника Владимира фон Мекка — попросит Леонида Осиповича Пастернака (отца поэта) «нарисовать плакат для благотворительного сбора пожертвований в пользу жертв войны».
Пастернак — художник тонкий и впечатлительный, уловит «нерв» происходящего точно, даже пророчески, и в не многих красках выполнит выразительный литографированный плакат: раненый солдат в фуражке, прижимая ко лбу белую повязку, прислонился к стене и вот-вот упадет.
Перед плакатом, расклеенным в Москве в день сбора, стояли толпы. Женщины плакали. А потом из Питера приехал флигель-адъютант и сообщил автору: «Государь Вашим плакатом недоволен. Он сказал, что его, — тут светский красавец взвил спой голос до невозможной бравости, — его солдат всегда держит себя молодцом, а не так»…
А действительно! Почему бы, спрашивается, и не взвиться соколом истекающему кровью «нижнему чину», если его государь запись в своем дневнике о первом дне войны начал со слов: «Хороший день, в особенности в смысле подъема духа»?
После этого русским войскам само собой полагалось глядеть чёртом и под марши полковых оркестров бодро идти навстречу немецким пулеметным «ливням»… «Ливням», отсекающим от России прошлое и скрывающим за своей плотной свинцовой завесой будущее России. И без того неясное…
* * *
Предвоенная неделя истекла. Для России и Германии начиналась первая военная неделя. И уже воевали Австро-Венгрия и Сербия. К этому времени Германия, осуществляя идеи покойного Шлиффена, изыскала способ объявить 3 августа под вечер войну Франции и утром 4 августа вошла в Бельгию. Париж начал всеобщую мобилизацию еще 31 июля, узнав, что ее объявил Петербург. Впрочем, французы относили ее начало к 1 августа — тому дню, когда ее объявила и Германия. Пуанкаре и Жоффр беспокоились о «национальных соображениях морального порядка» и хотели, чтобы ответственность была впоследствии возложена на немцев. В минуту начала трагедии народов эти фигляры заботились лишь о чистоте своих манишек и генеральских перчаток. Но еще до начала военных действий они оказались причастны к гибели человека, призывающеюго не начинать войну. 31 июля в Париже во время произнесения речи против развязывания войны был убит знаменитый лидер социалистов Жан Жорес. Вот каким было подлинное настроение массовой буржуазной Франции, возлагающей ответственность за войну на кайзера.
Впрочем, французские политики — любители позы и фразы — не могли обойтись без лицемерия даже в разговорах друг с другом. 1 августа военный министр А. Мессими позвонил мэру Лиона Э. Эррио: «Отныне — это борьба цивилизации против варварства. Все французы должны быть едины в ненависти к врагу, У которого только одна цель: уничтожить нацию (во как хватил! — С. К.), выступающую перед лицом всего мира как борец за право и свободу».
Колониальным Индокитаю, Алжиру, Сомали, Тунису и Конго, Мадагаскару, Мартинике и Таити при этих речах оставалось только помалкивать. Марокканцев, правда, к борьбе «за свободу» привлекли, и им предстояло истекать кровью на полях у Марны.
В свете же стенаний о «цивилизации и варварстве» интересно описание бывшим французским послом в Берлине Жюлем Камбоном его последней встречи со статс-секретарем фон Яговым. После объявления войны Ягов пришёл к Камбону сам — попрощаться. Перед французским посольством ревела и свистела немецкая толпа, а Ягов лукаво посмотрел на француза и заметил:
— Что бы сказали эти глупцы, мой дорогой друг, если бы увидели, как мы с вами беседуем, сидя на одном диване…
* * *
Вскоре к войне присоединилась и Англия. Причем «пацифистская» и «нейтральная» Англия начала войну с рейхом первой — 4 августа. Вена объявила войну России лишь 6 (шестого, читатель!) августа. Итак, выходило, что Австро-Венгрия, в предвидении войны, с которой Россия и начала мобилизацию, вступила на «русскую» магистраль войны последней.
Однако так или иначе большая война (или — большая бойня или — выделка сверхприбылей — кому как) началась во всём её объёме. Надолго и всерьёз.
Уже после неё кое-кто утверждал, что якобы был момент, когда позиция Англии могла бы повернуть Германию исключительно на Россию. И англосаксонские историки увлеченно обсасывают вопрос: «Что было бы, если бы немцы в 1914 году отправились на Восток, ограничившись обороной на Западе?».
Им мало того, что в реальности были-таки рассорены и разведены по разные стороны исторического ринга два великих народа, призванные дополнять один другой. Хотя бы в предположениях им хочется увидеть только наше взаимоуничтожение, только наше взаимное обессиливание.
Потом страх перед германо-русским союзом и ненависть к такой перспективе прорвутся в антисоветской политике Запада, в людоедских пожеланиях американца Трумэна и англичанина Черчилля-сына, во лжи о Германии.
4 августа император Германии Вильгельм II произносил тронную речь в рейхстаге: «Настоящее положение является следствием недоброжелательства, питаемого в течение долгих лет к мощи и процветанию Германской империи. Нас принудили защищаться, и мы беремся за меч с чистой совестью и незапятнанными руками».
Первая фраза была правдивой полностью, вторая — лишь отчасти. Никто из имевших власть в мире благодаря рождению, выборам, деньгам или собственной ловкости, о чистой совести не мог и заикаться. Но все же за Германией была тог да, пожалуй, действительно немалая доля правоты. Недаром же нобелевский лауреат, норвежский писатель и политический деятель Бьернстьерне Бьернсон, которого называли «норвежским Вольтером» и «норвежским Гюго», за несколько лет до войны писал о немцах: «Это великий народ, счастливый своей непоколебимой верой в неоспоримость своих прав».
Личность незаурядная, Бьернсон знал, что такое патриотизм и национальное право. И он же размышлял о «германской» Европе. Можно ли было предполагать холуйские мотивы у человека, который всю жизнь боролся за независимость Норвегии от Швеции и за демократизацию общества, был автором слов национального норвежского гимна?
Приведу и ещё одно мнение ныне не цитируемого, хотя и двуличного, но несомненно умного Карла Радека: «Когда Вильгельм II понял, что локализовать войну (ограничившись конфликтом Австрии и Сербии. — С.К.) не удастся, он пытался дать контрпар в Вене, но было уже поздно».
Радек считал, что Вильгельм хотел лишь припугнуть царя и тем лишить сербов русской поддержки.
Ещё более ценным можно считать признание американки Барбары Такман, написавшей о Вильгельме так: «Когда Россия приступила к мобилизации, он (кайзер. — С.К.) разразился горячей тирадой со зловещими предсказаниями, обрушившись не на „предателей-славян“, а на своего хитроумного дядю (т. е. короля Англии Эдуарда VII. — С.К.)».
На полях «горячих» дипломатических телеграмм Вильгельм зло черкнул: «Мир захлестнет самая ужасная из войн, результатом которой будет разгром Германии. Окружение Германии стало, наконец, свершившимся фактом. Мы сунули голову в петлю… Мертвый Эдуард сильнее меня живого»…
Монарх Вильгельм, давно отождествивший себя с рейхом, не мог не придавать главенствующего значения личности другого монарха. Поэтому и роль Эдуарда он преувеличил. А вот наличие заговора против Германии увидеть сумел. И показательно то, что он винил в нем в первую очередь не русских, а европейскую Антанту.
К слову, даже Е. Тарле отмечал, что в июле 1914 года кайзера очень подзуживала крайне правая пресса Германии, упекая в излишнем миролюбии, уступчивости, нерешительности.
И кто знает, насколько такие «ультрапатриотические» призывы оплачивались долларами и фунтами?
Своё отношение к уже ведущейся войне на Востоке Вильгельм ясно высказал ответом на секретный запрос-меморандум командующего германскими войсками генерала Фалькенгайна в 1915 году. Фалькенгайн спрашивал: «Желательны ли переговоры с Россией о примирении?» Кайзер немедленно ответил безоговорочным: «Да!».
На Запад Германия была развёрнута всегда, и туда же её подтолкнула Англия. Но на Россию немцы вначале не наступали. Петербург-«Бердичев» сам отдал приказ на переход границы и поспешное вторжение в Восточную Пруссию исключительно в интересах поддержки французов.
Конечно, Германия годами готовила войну, как и остальные ее будущие участники. И все же только о Германии можно сказать, что во многом она оказалась жертвой обстоя тельств.
Сербия стала, несомненно, жертвой провокации.
А Россия пала жертвой бездарного руководства и внутреннего предательства ее интересов верхами, «сливками общества».
Военный теоретик Б. Шапошников, не раз нами упоминаемый, так оценивал начало войны: «Мобилизация на пороге мировой войны являлась фактическим ее объявлением и толь ко в таком смысле и могла быть понимаема… Если рассматривать ответственность за войну с этой точки зрения, то, безусловно, являются правыми те, кто возлагает вину за мировой пожар на Россию».
Непатриотичное рассуждение? Нет, всего лишь неполное. Потому что далее Шапошников говорит прямо: «Конечно, не русская мобилизация была причиной европейской войны» и ссылается на Ленина, хорошо сказавшего о начале войны ещё во время войны. Шапошников цитировал Ленина не только потому, что в 1920-е годы был уже командиром РККА, но и по тому, что Ленин бил, что называется, «в точку», констатируя: «Война есть продолжение политики. Нужно изучить политику перед войной, политику, ведущую и приведшую к войне… Обыватель ограничивается тем, что-де „неприятель нападает“, не разбирая, из-за чего ведется война, какими классами, ради какой политической цели. Важно, из-за чего ведётся данная война».
Шапошников же дал и образную, и, одновременно, профессионально точную обрисовку войны: «За немцами с берегов Шпрее остается честь установления термина „встречный бой“. Так вот, мировую войну в соответствии с её характером мы бы подвели под рубрику встречной войны. Может быть, на этом помирятся буржуазные дипломаты, политические деятели и историки в определении характера войны, а кстати, и раз делят пополам ответственность за войну».
Сказано отлично, но, всё-таки, может быть кому-то можно было отдать и «большую половину»? Ведь Шапошников сам писал, что «рука сербского Генерального штаба направляла револьвер Принципа, бросая тем самым вызов Австро-Венгрии на кровавую борьбу»… А кто направлял сербский Генштаб?
Нет, роль Германии была особенно неоднозначной, роль Австрии с самого начала была подчиненной.
Подлинными зачинщиками войны оказались Франция и Англия, послушные Золотому Интернационалу. Поэтому нам, читатель, остается бросить последний предвоенный взгляд еще на Англию и сэра Эдуарда Грея. Именно он завершил задуманное.
Эта «эдуардгреада» выглядела так. Накануне вручения австрийского ультиматума Сербии Грей отклонил предложение Сазонова о коллективном воздействии России, Англии и Франции на Вену. Ему нужно было, чтобы ультиматум был предъявлен. Содержание его для англичан не было секретом: кроме заблаговременной информации австрийского посла, основные положения ультиматума были изложены 22 июля в «Таймс» (контролируемой еврейскими кругами еще со времен Дизраэли-Биконсфилда). То есть тоже накануне.
В «день ультиматума», 23 июля, Грей принял австрийского посла Менсдорфа и стал рассусоливать о том-де ущербе, который нанесет война торговле четырех великих держав: России, Австрии, Франции и Германии. Англию он не упомянул, из чего австриец сделал благоприятный вывод: Англия воевать не будет. О Грее же Менсдорф доносил: «Он был хладнокровен и объективен, как обычно, настроен дружественно и не без симпатии к нам». А до вступления Англии в войну оставалось менее полумесяца.
Всю последующую неделю Грей, которого Сазонов даже в двадцатые годы аттестовывал «убеждённым пацифистом», неутомимо занимался одним: направлением Европы к войне. День после вручения ультиматума — 24 июля — он провёл в неустанных трудах.
Уже сам, лично, он сообщает русскому послу Бенкендор фу, что готов-де при посредничестве «незаинтересованных» держав (Англии, Франции, Германии и Италии) обсудить кри зис с Австро-Венгрией и Сербией.
Россия у Грея оставалась за скобками, но Сазонов — то ли по наивности, то ли затемняя истину — и этот лицемерный шаг Грея позже оценивал высоко (мол, Грей «согласился», на конец, с его предложением).
Грей, впрочем, сморщил при этом такую едва уловимую — не кислую, а лишь с джентльменской кислинкой, мину, что Бенкендорф назавтра доложил в Петербург: «Я не наблюдал ни одного симптома ни со стороны Грея, ни со стороны короля, указывающего на то, что Англия серьезно считается с возможностью остаться нейтральной. Мои наблюдения приводят к определенному впечатлению обратного порядка». Неглупы были русские немцы Бенкендорфы во все их времена!
Потом Грей вновь принял Менсдорфа. Вчера он отказался обсуждать австрийскую ноту по существу, заявив, что ему, мол, нужно увидеть документ воочию. Теперь австриец привез официальную копию.
— Сэр, вот аутентичный текст.
Грей начал «тщательно» вчитываться в уже хорошо знакомый текст без каких-либо эмоций на идеально выбритом лице. Потом отложил бумагу и вздохнул:
— Вы дали сербам слишком мало времени и были чересчур категоричными. Но документ — поразительный, поразительный…
— Что вы имеете в виду, сэр?
— Ах, господин посол, я имею в виду то, что Англия, к счастью, здесь лишь беспристрастный наблюдатель.
И, наконец, 24-го же числа наступает очередь посла Германии в Лондоне фон Лихновски. Тут Грей был просто-таки категоричен:
— Пока речь идёт о локализации столкновения между вами и сербами, это меня не касается…
— Понимаю вас, сэр, — согласился Лихновски.
— Но если бы общественное мнение России (!? — С.К.) заставило (Ха! — С.К.) русское правительство выступить против Австрии, то опасность европейской войны, по нашему мнению, надвинется вплотную, — вёл далее Грей.
— Европейской? — невольно поёжился Лихновски.
— Да… И всех последствий такой войны четырёх, — Грей слегка, но отчетливо повысил свой тихий размеренный голос, — великих держав совершенно нельзя предвидеть.
Лихновски чуть не спросил: «А Англия?», но и так всё было ясно. Четыре державы — это Россия, Австро-Венгрия, Германия и Франция… «Итак, Англия, слава Богу, ставит себя вне конфликта», — облегчённо подумал про себя Лихновски.
Через день, 26 июля, английская команда Золотого Интернационала пошла уже с королевского козыря. Георг V интимно беседовал с племянником — братом кайзера принцем Генрихом Прусским. Король говорил так, словно он со своим подданным сэром Греем читал с одного листа: войну-де нужно локализовать между Австрией и Сербией, а Англия будет ней тральной. Генрих передал брату, что эти слова явно «сказаны всерьёз».
Однако всерьёз говорилось другое. 27 июля на заседании кабинета Грей ультимативно потребовал участия Англии в войне и, в противном случае, пригрозил отставкой. Но это было уже просто кокетством — ВСЕРЬЁЗ возражать никто не собирался.
Уинстон Черчилль со свойственной ему выразительностью очень точно продемонстрировал врожденное двуличие и лицемерие образцового английского джентльмена — он сообщал жене, что энергичные военные приготовления обладают для него «отвратительным очарованием». Первое слово было попыткой самооправдания, второе — содержало истину.
Июльские маневры Королевских военно-морских сил по казали мощь Англии очень наглядно: для того, чтобы объединенные флоты проплыли мимо яхты Георга V на инспекторском смотре, понадобилось шесть часов. А в ночь на 29 июля уже без парадной помпы, с потушенными огнями британские дредноуты вышли из Портленда, прошли Английский канал (то есть Ла-Манш) и направились на боевую базу в Скапа-Флоу.
Теперь и для Британии наступал предвоенный финал. Каким же он был? Во всех трудах о Первой мировой войне заседание английского кабинета 27 июля, где Грей грозил отстав кой, выглядит прямо-таки шекспировским сюжетом. После доклада Грея, который якобы впервые обратил внимание кол лег на то, что на континенте вот-вот грянет война, воцарилось молчание. Его нарушил лорд Марли, которому в 1914 году исполнилось уже семьдесят шесть лет. Это был английский либерал старого закала. Он написал биографии Вольтера, Руссо, Кромвеля и собственного патрона — Гладстона. Написал Морли и двухтомную «Жизнь Кобдена». Фабрикант Ричард Кобден — убежденный сторонник фритредерства (свободы торговли), был своеобразным политическим деятелем середины XIX века. Он выступал против Крымской войны, против владения Гибралтаром. Морское владычество Англии считал узурпацией, а господство над Индией — авантюрой. В качестве первого шага к международному разоружению Кобден требовал одностороннего уменьшения британской армии и флота. Сам Морли, будучи статс-секретарем по делам Индии, взглядов своего героя не разделял и подавлял индийское освободительное движение жестоко. Но чего у него — как и у Кобдена — нельзя было отнять, так это любви к Англии как к державе, а не филиалу конторы Дяди Сэма и Ротшильдов. Морли числили в прогерманцах, но он был всего лишь пробританцем, который понимал, что хорошие отношения с немцами в интересах англичан.
Лорд Морли после доклада Грея высказался против войны с Рейхом. Его поддержали еще десять членов кабинета. Ллойд Джордж с несколькими министрами якобы колебались. С Греем были только премьер Асквит, Холден и Черчилль. Конфуз? Исторический момент? Нет, читатель, — спектакль. Хотя и без публики — друг перед другом.
Пару лет назад в 1912 году во время Агадирского кризиса в том же кабинете Асквита соотношение было обратным: на стороне мира с Германией оказались три человека, включая все того же Морли. И вдруг такая метаморфоза! А ведь и тот кризис был чреват для Англии войной. Более того, тогда имен но жесткая позиция Англии сдержала развитие конфликта.
На этот раз угроза выступить против Германии наверняка обеспечивала бы тот же эффект. То есть, не давая карт-бланш Грею на жесткую публичную антигерманскую позицию, несогласные с ним министры скорее приближали европейскую войну, чем отдаляли её. А то, что Англия вначале занимала нейтральную позицию, лишь оттянуло бы её выступление в поддержку франко-русской Антанты. Правда, Морли требовал мира с Германией.
Для большинства же в либеральном кабинете «колебания» и «пацифизм» были играми джентльменов. Лишний раз это невольно подтвердил сам Грей, ни в какую отставку не подавший. Развитие событий стало ясно до очевидности. Проявить свою позицию Англии нужно было тогда, когда не было бы обратного хода у России.
Кроме того, Германия, идя на войну, фактически шла против всей Европы (её союз с Австро-Венгрией общей картины не менял). Успех мог быть обеспечен лишь быстрым и эффективным ударом по Франции через Люксембург и угол Бельгии. Так что нарушение нейтралитета Бельгии было предрешено заранее. Про себя это понимали все, кроме разве что бельгийского короля Альберта.
Русский военный агент во Франции полковник В. Лазарев еще в 1906 году предлагал план действий французской армии против возможного наступления немцев по левому берегу Мааса, через Бельгию. Французский генштаб отнесся к идее пренебрежительно, но вышло так, как предугадывал Лазарев. Правда, для французов не было пророка и в своем отечестве, потому что возможность наступления немцев через Бельгию учитывалась и в отвергнутом ими плане француза Мишеля.
* * *
Как фактор Бельгии влиял на Англию? Простой взгляд на карту показывает, что обладание бельгийским побережьем вроде бы сразу давало Германии стратегические выгоды: от Бельгии (в отличие от Германии) до Англии через море рукой подать. Но через море. Гробить флот в попытках высадиться в Англии кайзер, конечно, не стал бы.
Впоследствии Ллойд Джордж бросил хлесткую фразу о том, что, мол, пока речь шла о Сербии, девяносто девять сотых английского народа были против войны, а когда речь зашла о Бельгии, девяносто девять сотых английского народа пожелали-де воевать. Язык у записного парламентского «льва» был подвешен, как нужно, но стоит ли принимать подобную болтовню всерьёз?
Во-первых, народ всегда и везде склонен в массе своей к миру, в чём глубоко прав. А, во-вторых, проход немцев через Бельгию безопасности Англии по существу не угрожал.
Зато как формальный повод для вступления Англии в вой ну — годился.
Сэр Эдуард спокойно выжидал неизбежного хода событий, тем временем ежедневно «уговаривая» упрямых «пацифистов» и князя Лихновски. Но 29 июля во время уже второй за этот день встречи с послом Германии Грей, наконец, заявил, что «британское правительство желает поддерживать прежнюю дружбу с Германией» только до тех пор, пока последняя не трогает Францию.
Заметим, что ко времени беседы Грея с Лихновски в Петербурге день завершился — сказывалась разница во времени. Грей имел свежие новости от Бьюкенена и знал, что Россия фактически уже мобилизуется, и ее конфликт с Германией предрешен. Поэтому он так резко и изменил тон, заявляя, что Англия примкнёт к Франции.
Лихновски смог лишь изумлённо спросить:
— То есть как?
— Если вы втянетесь в конфликт с Францией, мы будем вынуждены принять срочные решения и не сможем остаться в стороне.
Как видим, сэр Эдуард, в чью «государственную мудрость, внутреннюю честность и благородство» был прямо-таки влюблен русский кадет Милюков, сопротивление «пацифистов» внутри английского кабинета помехой не считал и гнул свою линию в полной уверенности, что все будет так, как нужно тем, кому это нужно…
Потрясённый Лихновски отбил экстренную депешу в Берлин. Вильгельм, прочтя ее, отреагировал на удивление прозорливо, надписав на лондонской телеграмме посла: «Англия открывает свои карты в момент, когда она сочла, что мы загнаны в тупик и находимся в безвыходном положении! Низкая торгашеская сволочь старалась обманывать нас обедами и речами. Грубым обманом являются адресованные мне слова короля в разговоре с Генрихом. Грей определенно знает, что стоит ему только произнести одно серьезное предостерегающее слово в Париже и в Петербурге и порекомендовать им нейтралитет, и оба тотчас притихнут. Но он остерегается вымолвить это слово и вместо этого угрожает нам. Мерзкий сукин сын!».
Это было написано ещё до петербургского ультиматума Пурталеса, так что даже за два дня до первого объявления военных действий кайзер действительно был склонен не начинать, как и в России Николай (лично он).
1 августа пока еще не стало рубежным днём. Но оборвать последние нити мира между Берлином и Петербургом было необходимо многим — в Париже, в Лондоне, за океаном. Уже паутинные, российско-германские связи все еще держали европейский мир, ненужный теперь в Европе никому, кроме ее народов. Да еще, пожалуй, Российской державе и Германскому рейху.
1 августа истончившиеся нити лопнули. Франция получила возможность сказать, что она начинает войну из-за союз ной России.
Германия пошла вперед на Францию, зацепив Бельгию.
Повод для Англии возник. Сэру Грею осталось на утреннем заседании кабинета 4 августа только развести руками — мол, обстоятельства диктуют… И кабинет уже дружно проголосовал за войну. Последовательными до конца остались двое: лорд Морли и единственный лейбористский министр Джон Берне. Они подали в отставку. Хотя позднее, в 1927 году — после смерти лорда, был опубликован его «Меморандум об отставке Морли». Из него стало ясно, что Морли ушёл больше из-за того, чтобы не мешать своим пацифистским прошлым военному кабинету. Выяснилось и другое — насколько плохо были осведомлены о контактах генштабов Антанты даже министры, если они получали лишь официальную информацию.
В тот же день Грей произнёс речь в палате общин: «Европейский мир не может быть сохранен, ибо некоторые страны стремились к войне. Франция вступила в войну, выполняя долг чести. Мы же ни перед кем ни обязаны, кроме Бога и собственных принципов. Мы свободны в выборе нашего курса. Однако французское побережье беззащитно. Нейтралитет Бельгии вот-вот будет попран. Можем ли мы стоять спокойно в стороне и наблюдать за совершением гнуснейшего преступления, навеки запятнавшего позором страницы истории, и превратиться таким образом в соучастника во грехе?».
Грей говорил медленно, напыщенно и фальшиво, но основной мотив все же невольно высказал: «Англия должна вы ступить против чрезмерного расширения какой бы то ни было державы». Вот в чем была суть.
Вечером Грей послал в германское посольство князю Лихновски письмо: «Правительство Его Величества считает, что между обеими странами с 11 часов вечера сего дня (т. е. 4 августа) существует состояние войны».
Барбара Такман в своих «Пушках августа» без тени иронии писала: «Минуты, когда отдельной личности удается повести за собой нацию, запоминаются навечно, и речь Грея стала одним из поворотных пунктов, по которым люди впоследствии отсчитывают ход истории». Если учесть, что правительство только видимым образом подстегивали со всех сторон: Остин Чемберлен, Бальфур, консервативная оппозиция, — то слова Такман выглядят просто насмешкой над трагедией миллионов людей, чьи жизни, отданные за годы войны, должны были принести миллионы долларов элите ее далекой от Европы страны.
Такман же была уверена, например, что лорда Китченера 4 августа чуть ли не сняли с парохода, отправляющегося в Египет, чтобы спешно назначить военным министром.
В сказках такое, конечно, бывает, но… Много ли стоит каюта первого класса от Лондона до Александрии? Золотой Интернационал не раз тратился и на более дорогостоящий театральный реквизит, а спектакль с «отъездом» Китченера (который, может быть, и не подозревал об участии в нем) явно был рассчитан на место в будущих монографиях. Ну можно либо лее выразительно показать, что леди Британия лишь уступила обстоятельствам, что ее «вынудили тевтоны, нарушившие нейтралитет несчастной Бельгии»? Вот, даже военного министра пришлось отыскивать наспех, экспромтом.
Это был один из тех отличных «экспромтов», которые потому так хорошо и удаются, что подготовлены весьма тщательно.
Впрочем, недалеко от Такман ушла и советская «История Первой мировой войны», сделав «глубокомысленный» вывод: «Британское правительство могло помешать начать войну в 1914 году, если бы недвусмысленно заявило о своей позиции…» и т. д.
Так-то так… Но как могло британское правительство по мешать начать войну, если подлинные властители Британии делали все для того, чтобы помешать Европе не начать ее и удержаться в пределах мира?!
«История Первой мировой…», правда, возложила-таки на Англию «значительную часть вины» за развязывание войны, в то время как на деле английская «часть» была решающей, подавляющей (прибавляя сюда же и вину США).
Возможно, позднейшие поколения советских историков находились под влиянием схемы Тарле. Оценивая предвоенную обстановку, он перебрал, казалось бы, все сложившиеся комбинации интересов — Сербии, Австрии, России, Германии, Англии и Франции, не забыл даже об Италии. И лишь об интересах Америки, как важнейшей виновницы войны, он не обмолвился при анализе тех дней ни пол-словечком.
Зато он раз за разом утверждал, что начать войну стремилась и Антанта, и австро-германский блок, но летом 1914 года ее выгодно было начать Германии.
Надеюсь, что мной сказано уже достаточно для того, чтобы сделать вывод обратный… Конечно, особенно Австро-Венгрия была не прочь решить свой конфликт с Сербией силой. Но только с Сербией! В войну с Россией Австрии ввязываться не хотелось.
Зато, скажем, Россия… Хотя при чем тут Россия Суворова и Ивана Безымянновеликого? Не Россия, а ее «национально мыслящая» «элита» тщательно заботилась о том, чтобы в нужный момент разгорающегося военного пожара идейного «керосина» в нужном месте хватило.
Вот лишь три предвоенных эпизода…
27 декабря 1912 года… Сазонов в Петербурге заявляет сербскому послу: «Сербы победят Австрию (Ого! — С.К.) и будущее принадлежит им». Сазонов передавал коллеге совместное франко-русское мнение. И оно к лету 1914 года дезавуировано не было. Морис Палеолог уверял начальника канцелярии Сазонова барона Шиллинга: «Никогда Россия и Франция не были в лучшем положении, чем теперь»…
Апрель 1913 года… Тот же Сазонов подстрекает очередных сербских гостей: «Вы, сербы, должны работать для будущего времени, так как вы получите от Австрии много земель».
А вот уже февраль 1914 года… Теперь уже сам Николай II обнадеживает сербского премьера Пашича: «Для Сербии мы все сделаем». Читаешь такое, и на языке вертится вопрос: «А для России»?
И у Тарле, и у многих других «зеркало» анализа оказывалось, увы, кривым. Реальные грехи Германии в нем неимоверно выпячивались. Грехи же Антанты — съеживались, выглядели мелкими. А бородка Дяди Сэма вообще терялась.
Германия в таком «зеркале» воинственно надувала щеки, а Антанта испуганно таращила глаза. Но не так было оно на деле…
Показательно, что местами вполне проницательная американка Такман вдруг «простодушно» доверилась свидетельству Ллойд Джорджа, который позже утверждал, что банкиры и бизнесмены приходили в ужас при мысли о войне, а управляющий Английским банком, посетив сэра Дэвида в субботу 1 августа, информировал-де его: «Сити решительно выступает против нашего вступления в войну».
Конечно, среди английской финансово-промышленной элиты были и здравомыслящие люди, понимавшие, что война скорее всего ослабит Англию и усилит США. Пока что центр кредитной системы мира был в Лондоне, а вот как будет после войны — оставалось лишь гадать. И если бы неблагополучного будущего для Британии никто в ней самой не видел, то там не было бы и влиятельных (но не решающих) сил, выступающих за англо-германскую дружбу. Однако если бы деловой Сити был действительно «против» (да еще и «решительно»), то войны бы и не случилось.
Что же касается Ллойд Джорджа, то он так прочно и добровольно увяз в оружейных махинациях крупнейшего между народного торговца оружием сэра Бузила Захарова, что уж сэр-то Дэви к войне был готов в любую минуту, как и его за кулисновсесильный партнер.
Личность Бэзила Захарова — мультимиллионера и финансового дельца — в нашей стране сейчас практически неизвестна. На Западе он тоже менее популярен, чем Ротшильды и Рокфеллеры. Оно и неудивительно: как писала о нем в 1933 году первая (во 2-м и 3-м изданиях о Захарове нет ни строчки!) Большая советская энциклопедия, он «избегал гласности, предпочитал работать за кулисой». Родом из Константинополя (отец — русский, мать — гречанка), он, по авторитетному свидетельству все той же первой БСЭ, «достиг богатства неизвестными путями».
То, как он был богат, явствует даже из нескольких дета лей его обнародованного «послужного списка»: поставка пулеметов России во время русско-японской войны; одалживание денег английскому королю Эдуарду VII; руководство (совместно с другим супербогачом — Детердингом) нефтяной англо-голландской компанией «Ройял Датч Шелл»… Был сэр Бэзил и фактическим хозяином английской оружейной фирмы «Виккерс». Обделывал общие дела и с германским «Круппом», и с французской «Шнейдер-Крезо», и с австрийской «Шкодой»…
Жил он долго. Родился в 1850 году, умер в 1930. И в 1914 году пребывал в относительной молодости — ему исполнилось шестьдесят четыре. После войны получил от «своего» правительства (Захаров числился французским подданным) орден Почетного легиона, от англичан — орден Бани, а от Оксфорда — степень доктора гражданского права (хотя знал он одну науку — право вооруженного насильника и гешефтмахера). Слыл до не приличного скупым и жадным…
Для Захарова было все равно, как это звучит — бизнес, профит, прибыль, гешефт, «навар»… Лишь бы этот навар был погуще… Подданство он имел французское, заправлял в английской «Виккерс», но вот одним из эффективных прототипов германских подводных лодок стала подлодка «Норденфельд», которую Захаров поставлял в Грецию и Турцию, а уж оттуда чертежи «как-то» попали в Германию…
Впрочем, один ли Бэзил был таковым!
Не раз уже упоминавшийся будущий генерал-лейтенант Красной Армии, а во время Первой мировой войны русский военный агент во Франции граф Игнатьев волею судеб оказался в центре деятельности, связанной с русскими военными заказами. Он оставил описание интереснейшего эпизода. Во круг Игнатьева (человека честнейшего, позднее отдавшего Советской власти двести двадцать пять казенных миллионов франков, которые мог без труда прикарманить с ведома французского правительства) крутились посланцы американского Моргана. Но граф понимал: предоставление монополии Моргану равносильно сдаче себя ему в плен.
Махинации Моргана беспокоили, как оказалось, и маршала Китченера. Китченер вызвал Игнатьева в Лондон, и там они втроем с русским военным агентом в Англии генерал-лейтенантом Ермоловым провели переговоры. Аудиенция уже была закончена, русские шли по коридору, но вдруг их догнал великан унтер-офицер и попросил Игнатьева вернуться.
Игнатьев вспоминал: «Китченер стоял посреди кабинета. Он вплотную подошёл ко мне и, глядя в упор, негромко, с большим внутренним волнением спросил:
— Подтвердите, полковник, что вы не сторонник соглашения с Морганом!»…
Игнатьев был всего лишь честным солдатом, а не царским министром или нью-бердичевским комбинатором. Как он мог гарантировать принципиальность российских «верхов», продажных почти поголовно? Ответив уклончиво, он поинтересовался:
— Позвольте узнать, почему вас так может интересовать этот вопрос?
«И без того красное, — писал Игнатьев, — обветренное лицо генерала стало пунцовым. Он нервно взял меня за пугови цу кителя и процедил сквозь зубы:
— Хотя бы потому, что этого как раз желает Ллойд Джордж»…
* * *
Ллойд Джордж — Морган… Ллойд Джордж — Захаров… Морган — Ротшильд… Ротшильд — Розбери… Розбери — Черчилль…
Это были лишь отдельные звенья одной общей цепи, в которую идущая война вплетала еще и 4 миллиона тонн (!!) колючей проволоки, опутавшей поля сражений…
Цепь обвисала на человечестве всё тяжелее, сковывала его всё более. И вместо нового, более осмысленного и доброго мира человек получал бессмысленную для всех, кроме захаровых и морганов, жестокую и долгую войну.
Война же была бесчестна настолько, что отвергала мало-мальски честных людей на верхах власти и продвигала вперед совсем уж бесчестных.
В июне 1916 года лорд Китченер на броненосном крейсере «Гемпшир» отправился в Россию. Западнее Оркнейских островов крейсер подорвался, к берегу выплыли только 12 чело век. Китченер был безжалостен, но прямолинеен и не устраивал многих. Почему он погиб, сегодня уже не узнать. Но погиб он для многих вовремя…
А в декабре 1916 года премьер-министром вместо «сработанного» Асквита стал нелюбимый Китченером Ллойд Джордж, тесно и прочно связанный, кроме Моргана, еще и с сионистскими кругами.
Был «на коне» и Черчилль. Во время выборов в парламент 1906 года манчестерские евреи сплотились вокруг него так активно, что на одном из митингов их лидер заявил: «Любой еврей, голосующий против Черчилля, будет предателем нашего дела».
Что же это было за «святое дело»? Каким может быть главное дело у честного человека? Двух мнений быть не может! Человек, достойный так называться, стремится сделать жизнь лучшей как можно большему числу честных и достойных людей. Но такой ли цели служили черчилли и ллойд джорджи?
ГЛАВА 6 Кому война — мачеха, а кому — мать родная…
Созидающая человеческая мысль уже со второй половины XIX века давала народам могучие возможности преображать жизнь и планету для их блага.
В 1869 году Америка построила Бруклинский мост, а Европа — Суэцкий канал. Через два года на заводе Круппа зажглась первая в мире мартеновская печь, а в 1883 году крупповские же рабочие в Эссене смонтировали первый прокатный стан.
В 1885 году в Чикаго вырос первый небоскреб, а через год «Нью-Йорк Трибюн» впервые была набрана на линотипной машине.
В 1889 году французы под руководством Эйфеля подняли над Парижем его новый символ, потрясший посетителей Па рижской всемирной выставки.
Ещё через год — в 1890 году — английские инженеры Фаулер и Бейкер протянули над заливом Ферт-оф-Форт железнодорожный мост длиной в полтора километра.
Русские строители в 1880 году закончили в Ташкенте Транскаспийскую магистраль, а в 1892 году начали строить Транссиб.
С 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах прошли первые Олимпийские игры. Правда, через четыре года, на рубеже двух столетий — в 1900-м — стараниями лорда Китченера (того самого) мир «обогатился» стратегией «выжженной земли» в англо-бурской войне в Южной Африке. В том же году был создан и первый концлагерь — там же.
1 августа 1914 года в Европе началась Первая мировая война, а 15 августа того же года в Америке открылся Панамский канал.
Капитал гордо заявлял, что все это (кроме, конечно, войны) — плоды его усилий. Но мосты, прокатные станы, каналы, лампочки накаливания, фонографы и рентгеновские аппараты — абсолютно все, что делало жизнь более осмысленной и изобильной, создавал труд. И только создание войны капитал мог по праву поставить себе в единоличную заслугу.
За двадцать восемь лет до августа 1914 года Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в журнале «Вестник Европы» писал: «Добрые гении пролагают железные пути, изобретают теле графы, прорывают громадные каналы, мечтают о воздухоплавании, одним словом, делают все, чтобы смягчить международную рознь; злые, напротив, употребляют все усилия, чтобы обострить эту рознь. Политиканство давит успехи науки и мысли и самые существенные победы последних умеет обращать исключительно в свою пользу»…
Так думал и чувствовал человек глубоко русский и одно временно гражданин мира не в пошло-барственном толковании этого понятия, а в понимании созидательном, грядущем. Щедрин тонко уловил нарастающее несоответствие производительной мощи человечества и общественного устроения этого человечества.
Русский поэт Максимилиан Волошин, уже современник мировой войны, сказал: «Это ведь ложь, что это война рас. Это борьба нескольких государственно-промышленных осьминогов. Они совершают свои гнусные пищеварительные процессы, а им посылают отборных юношей»…
Что же касается европейской «гуманистической» мысли, то Французская лига прав человека и гражданина устами своего президента Бюиссона в августе 1914 года обратилась «к нации»: «То, что разразилось сегодня, — это смертельный поединок двух религий: религии Силы и религии Права. Это освободи тельный крестовый поход демократии».
А пока лицемеры упражнялись в словоблудии, берлинская электрическая фирма «Санита» с Фридрихштрассе, 131, писала своему партнеру — женевской фирме «Феликс Бадель» — деловое письмо: «Наша модель раздвижного костыля — модель военная и представляет предмет первой необходимости. Мы хотим поэтому привлечь все ваше внимание к вопросу экспорта костылей за границу; у вас, без сомнения, имеется возможность вести дела с Францией и Россией и сбывать туда наши раздвижные костыли, которые скоро станут очень вы годным товаром».
Немцы сбывали костыли Антанте. Англичане выгодно торговали жирами, важными для производства взрывчатых веществ. Из своих колоний они поставляли эти жиры… Германии. Оттуда же шел в рейх и корм для скота.
В 1927 году бывший британский военно-морской агент в Швеции, отставной контр-адмирал Консетт, опубликовал книгу «The Triumph of Civil Forces» (в 1966 году она была пере издана под названием «The Triumph of Unarmed Forces» — «Триумф невооруженных сил»). Консетт привёл в ней документальные данные о торговле Англии со скандинавскими странами товарами, затем перепродававшимися в Германию. Шесть миллионов тонн меди, никеля, свинца, олова, цинка и полтора миллиона тонн продовольствия — вот о чем доклады вал в Лондон один только Консетт! А ведь Скандинавия была не единственным каналом перепродажи. Товары из-за океана и из стран Антанты шли в Германию и через Голландию, через Швейцарию…
Уже во времена второго Рузвельта — Франклина Делано — комиссия сенатора Ная не просто раскопала сведения о связях американских и германских трестов, но обнаружила сенсационные данные о выполнении в США военных заказов рейха во время войны. Шума было много, но шумели зря. Могло ли быть иначе, если число филиалов крупнейших монополий США в рейхе переваливало тогда за полсотни?
Кто-то в пропагандистских ведомствах, может быть, и рассчитывал на недолгую войну. Позже кое-кто хотел выставить недалекими идиотами немцев на том основании, что план Шлиффена предусматривал разгром Франции за 8 недель. Однако высшее руководство рейха отнюдь не играло в солдатики. В Германии за счет форсированного импорта были созданы военные запасы дефицитного сырья (хлопка, селитры, цветных металлов) на 6 — 12 месяцев — сроки войны, на которые ориентировались в Германии реально.
В странах Антанты такой заблаговременной экономической подготовки не проводили.
Тем, кто уже запланировал близкие сверхприбыли на военной дороговизне, было ни к чему накапливать запасы по дешевым довоенным ценам. Ведь их могли с началом войны просто реквизировать. Было проще выждать и закупать во время войны, «исполняя патриотический долг». А недостатка в сырье ни Англия, ни Франция не испытывали, за исключением короткого периода после объявления Германией неограниченной подводной войны в начале 1917 года.
Большой капитал заранее знал: война будет долгой, потому что руководить ею будет он. И как из любого выгодного предприятия, прибыль тут нужно было получать до тех пор, пока ее не начнут перевешивать возможные убытки в виде восстаний уставших народов.
В минуты горькой откровенности с самим собой это понимали и такие противоречивые фигуры, как Эдуард Эррио. В отличие от своего коллеги по партии радикалов Кайо, он — эрудит, знаток литературы, ценитель музыки — не был человеком банков и «двухсот семейств», хотя служил всю жизнь этой Франции. Так вот, Эррио писал: «Во Франции и в других странах держатели ценных бумаг, банкиры стояли над политическими деятелями, они были подлинными хозяевами Франции, незримыми, но вездесущими»…
Не успели во французском министерстве иностранных дел на Кэ д'Орсэ вчитаться в слова немецкой ноты, как тем же вечером 3 августа 1914 года в обстановке строгой секретности французское правительство попросило «Де Ротшильд Фрэр» занять сто миллионов долларов у Соединенных Штатов. Золотой конвейер двинулся…
Роль доверенного кредитора за океаном взял на себя Морган, заодно с обязанностями представителя французского правительства в военной торговле между Францией и США.
Но и Ротшильды свое получили: американские займы шли формально на их банк, а уж потом — в казну. Комиссионные же — только Ротшильдам. Их контора на рю Лафит на чала перекачивать и английские деньги, после того как лон донские Ротшильды выпустили в Англии облигации французского займа.
Попутно ротшильдовская «Ле Никель» продавала металл, добытый во французской Новой Каледонии, германским оружейным заводам.
Впрочем, патриотизм банкирских баронов был вне со мнений. Эдуард Ротшильд писал из Парижа британской родне: «Наш долг, как патриотов, предоставить в распоряжение правительства все, чем мы располагаем. Объединившись с вашим народом на поле боя, мы должны объединить и наши кошельки». Порыв был воистину трогательный: английские и французские солдаты в окопах обменивались вшами, а их более удачливые «соотечественники» — акция ми. При этом Эдуард оказался настолько патриотично дальновиден, что, «отдавая все» французской «родине», он сверх этого еще одновременно вкладывал крупные средства в акции нью-йоркской железной дороги и новых линий нью-йоркского же метро. И когда в 1917 году за своей долей окопных вшей отправились в Европу экспедиционные силы США, он был готов объединить свой кошелек с кошельком и этого «нового» союзника, участвуя в военном займе казначейства Штатов.
Генерал Мольтке ещё в 1910 году говорил бельгийскому военному атташе в Берлине майору Мелотту: «Что касается Англии, то германский флот создан не для того, чтобы прятаться в гаванях. Он пойдет в наступление и, возможно, будет разбит. Германия потеряет свои корабли, но Англия утратит свое господство на морях, которое перейдет к Соединенным Штатам. Только они окажутся победителями в европейской войне. Англия это знает, и, вероятно, останется нейтральной».
Мольтке родился и был воспитан в стране, где на чужих дядей не оглядывались, и поэтому он не мог представить себе, что в могучей Англии уже немалая часть элиты ориентируется на интересы не своей родины, а на интересы того Золотого Интернационала, который как раз и вел дело к будущему господству Америки.
Мировая война готовила это господство по всем направлениям. Ее участник, бывший офицер старой русской армии, советский военный историк генерал Е. Барсуков в капитальном труде «Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.)» писал: «Россия влила в американский рынок 1 800 000 000 золотых рублей, и притом без достаточно положительных для себя результатов. Главным образом за счет русского золота выросла в Америке военная промышленность громадного масштаба, тогда как до мировой войны американская военная индустрия была в зачаточном состоянии. Ведомства царской России, урезывая кредиты на развитие русской военной промышленности, экономили народное золото для иностранцев. Путем безвозмездного инструктажа со стороны русских инженеров (в одном Коннектикуте их работало около двух тысяч, читатель! — С.К.) созданы в Америке богатые кадры опытных специалистов по разным отраслям артиллерийской техники».
Ему вторят слова генерала А. Маниковского из его книги «Боевое снабжение Русской Армии в 1914–1918 годах»: «Без особо ощутительных для нашей Армии результатов, в трудней шее для нас время пришлось влить в американский рынок колоссальное количество золота, создать и оборудовать там на наши деньги массу военных предприятий, другими словами произвести на наш счет генеральную мобилизацию американской промышленности, не имея возможности сделать того же по отношению к своей собственной».
Но если бы иностранцам помогали только золотишком и умишком — это было бы еще полбеды. Беда была в том, что помогали и кровью. И уже в начале войны русская кровь обеспечила французам их самую важную в той войне победу на Марне.
Пятого сентября на равнине между Верденом и Парижем в районе реки Марна началась Марнская битва. В начавшейся войне Мольтке следовал схеме Шлиффена, ослабив ее, одна ко, материально. И это сразу наложило фатальную тень на все планы и шансы немецкого наступления…
Тут Германию подвела жадность её правящего класса. Высшие круги промышленно-финансовой буржуазии очень беспокоились за промышленные районы Эльзаса и Лотарингии мл левом фланге и настояли на его усилении за счет наиболее нужного, «прорывного» правого фланга — «бельгийского».
Это был, конечно, недопустимый промах. В пользу других фронтов Мольтке уменьшил первоначальную ударную группировку правого крыла с 25 армейских корпусов до 16. сокращались и резервы. Соотношение между правым и левым крылом уменьшалось по сравнению с замыслом Шлиффена с 7: 1 до 3: 1.
Так что «молниеносного» немецкого наступления во Франции не получилось, хотя и низким его темп назвать было нельзя. Выиграв пограничное сражение, войска кайзера к концу августа продвигались вперед на 13 километров за сутки. Для пешей армии очень даже неплохо.
До Парижа оставалась где сотня, а где и всего сорок (!) километров! Вдоль Марны фронт временно стабилизировался, но у немцев были все шансы его прорвать. Вместо этого через неделю наступавшие отступили, и со скорой победой Германии было покончено.
Чуда не произошло, потому что 20 августа 2-я русская армия генерала от кавалерии Самсонова разбила немцев в Восточной Пруссии у Гумбинена. Однако командующий соседней с Самсоновым 1-й Неманской армией Ренненкампф, который был хорошим карателем во время революции 1905 года и надежным партнером для еврейских дельцов, Самсонова не поддержал.
Трагедией самсоновцев стало и то, что наш фронт был еще непрочным, а «Нью-Бердичев» торопил — надо было выручать Париж, на который надвигался кайзер. Фронт был слаб; общее положение на Востоке для немцев складывалось критическое, 3 сентября на Австрийском фронте нами был взят Львов.
А 27 августа генерал Жоффр докладывал военному министру Мильерану: «Слава Богу, мы имеем благоприятные известия от русских в Восточной Пруссии. Можно надеяться, что благодаря этому немцы будут вынуждены отправить войска отсюда на Восток. Тогда мы сможем вздохнуть».
И французы вздохнули. В Марнское сражение втянулось с обеих сторон до 2 миллионов человек. И вот в такую горячую пору Мольтке пришлось снять более ста тысяч солдат с на правления главного удара на Западном фронте, чтобы пере бросить их для отпора русским войскам.
Чтобы лучше понять значимость этой цифры, напомню, что знаменитым маршем шестисот парижских такси военный губернатор Парижа генерал Галлиени перебросил в критический момент к линии фронта на Марне всего 6000 солдат. И они помогли резко изменить ситуацию.
А русская армия оттянула на себя силу, в десятки раз большую! И теперь жестоко за это расплачивалась. К 14 сентября остатки самсоновцев и Неманская армия были вытеснены из Восточной Пруссии.
Генерал Людендорф считал: «Наше наступление на Западе потерпело крушение, так как генерал Мольтке взял войска из победоносного положения, и благодаря этому 9 сентября 1914 года совершилась драма на Марне».
Но, может быть, Людендорф просто оправдывался? Нет! Французский генерал Ниссель подтверждает: «Всем нам от лично известно, насколько критическим было во время битвы на Марне наше положение. Несомненно, что уменьшение германской армии на два корпуса и две кавалерийские дивизии, к чему немцы были принуждены, явилось той тяжестью, которая по воле судьбы склонила чашу на нашу сторону»…
Ниссель покривил душой в одном — в конечном счете чаша в пользу Парижа и Антанты склонилась по воле Золотого Интернационала. Это он заставил Петроград залить кровью русских мужиков горящие акции ротшильдов и морганов.
За всё это мы, читатель, не получили даже благодарности. В ноябре 1917 года премьером «правительства спасения» и военным министром Франции станет Клемансо. Фигура — мерзкая, с которой мы еще, увы, столкнемся. Через год он напишет: «Брест-Литовский мир нас сразу освободил от фальшивой поддержки союзных притеснителей из России и теперь мы можем восстановить наши высшие моральные силы в союзе с порабощенными народами Адриатики в Белграде — от Праги до Бухареста, от Варшавы до северных стран… С военным крушением России Польша оказалась сразу освобожденной и восстановленной; национальности по всей Европе подняли голову, и на ша война за национальную оборону превратилась силой вещей в освободительную войну».
Клемансо носил прозвище «Тигр», хотя был скорее политическим шакалом. Итак, по его шакальей схеме, не Россия своей кровью поддержала Францию, начав войну, абсолютно ненужную России, а Франция была «вынуждена» поддерживать царизм. А надеждой сербов, остальных южных славян и чехов был, по Клемансо, не русский штык, а французская шпага. И, значит, не Россия своим Румынским фронтом удерживала Бухарест от мгновенного поражения?… Что касается Польши, Клемансо действительно поддержал панскую Польшу против России в ее стремлении к угнетению западных украинцев и белоруссов. А позже его политические наследники эту Польшу вначале десятилетиями подстрекали на безрассудства, а потом, когда страна была использована, как тряпка с керосином для поджога, они её просто выбросили.
«Забота» премьера второй мировой колониальной державы о «порабощенных народах» выглядела лишь чуть менее кощунственно, чем его спесь по отношению к России.
Увы, за Клемансо числились и более занятные метаморфозы. Он начинал как радикал и гордо именовал себя «сыном Великой французской революции», а позже, в свою бытность министром внутренних дел (в 1906 году) и премьером (с 1906 по 1909 годы) он неизменно стоял на стороне работодателей в их чисто экономических конфликтах с рабочими и брал на себя полную ответственность за то, что войска стреляли в демонстрантов.
Он считался ярым ненавистником Германии, но когда в конце XIX века против офицера французского Генштаба еврея Дрейфуса было выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу Германии, Клемансо в своей газете «Опор» Дрейфуса защищал.
Дом банкиров Ротшильдов при этом проводил активнейшую антидрейфусарскую политику, направо и налево финансировал антисемитские издания. Жан Жорес еще сказал тогда: «Они жертвуют своей расой, чтобы спасти свой класс».
Тёмную историю Дрейфуса раздули так, что Франция была поставлена чуть ли не на грань гражданской смуты. При чем, читатель, значительно позднее «ревнитель справедливости» Клемансо состряпал абсолютно клеветнический (тут уж сомневаться не приходилось) процесс против министра внутренних дел Мальви, обвинив того в «сообщничестве с противником».
И вот теперь Клемансо выдвигали на первый план, на роль вершителей судеб народов.
* * *
Мировая бойня — для одних, мировая алхимия, превращающая сталь и свинец в золото, — для других, к лету 1917 года длилась уже три года.
На Западе и Востоке война давно стала позиционной, и пулеметные ливни вместе с осколочным градом выбивали людей не хуже, чем заросли сорняков на бывших хлебных нивах.
Когда всё начиналось, от западных русских земель до Берлина было чуть больше трехсот километров относительно лег ко проходимой территории. Но вот что писал позже генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, бывший начальник штаба армий Северного фронта, брат ленинского соратника: «На кануне войны предполагалось, что с объявлением ее русские войска поведут через Силезию наступление на Берлин. Будь это сделано, мы, вероятно, оказались бы в германской столице. Но правый фланг русской армии почему-то устремился в Восточную Пруссию, и неумное это наступление погубило армии Самсонова и Ренненкампфа. Наступление же в Галиции завело несколько наших армий в Карпаты, где мы безнадежно застряли».
От тогдашней русской границы до Познани (тогда — немецкого Позена) — 70 километров равнины. И еще двести пятьдесят равнины же — от Позена до столицы Германии, Берлина. Зато слева — Мазурские болота, в которых сгинул Самсонов, а справа — Карпатские горы, где тоже не очень-то разгуляешься.
Только в середине ноября 1914 года русская Ставка вроде бы решила провести подготовку к глубокому вторжению в Германию с направлением на Позен (Познань) и Бреслау (Вроцлав). Завязалась Лодзинская операция, закончившаяся для обеих сторон безрезультатно, хотя нашим войскам пришлось не только отказаться от движения на Германию, но да же отступить.
У немцев оказалось «таранное» преимущество на главных направлениях, но их «таран» разбился о стойкость русских солдат. Со стороны же русского командования была продемонстрирована как минимум… глупость.
Техническая оснащенность русской армии по сравнению с англо-французской была по сути никакой. Тем не менее имен но российский генералитет активно использовал радиосвязь, и русские радиосводки регулярно перехватывали немцы. Собственно, выходило, что радисты русской армии обеспечивали германский генштаб разведывательными данными более исправно, чем весь аппарат разведки полковника Николаи. Куда там всяким Мата Хари! Радио, увы, не помогло нам наладить качественное управление войсками, зато немцы всегда из первых рук отлично знали обстановку, расположение русских частей и их предполагаемые действия.
Возможно, кто-то скажет, что я преувеличиваю? Увы, нет! Об этом достоверно свидетельствует наша академическая «История Первой мировой войны 1914–1918 годов».
Генерал Фалькенгайн позже признавал, что перехваченные радиограммы позволяли следить за перемещениями противника зачастую изо дня в день с самого начала войны на Востоке до середины 1915 года, то есть в самую горячую пору. Генерал писал: «Это главным образом и придавало войне здесь совсем иной характер и делало ее для нас совершенно иной, гораздо более простой, чем на Западе»… Подтверждал это и генерал Гофман: «Такое легкомыслие очень облегчало нам ведение войны».
Собственно, и успех-то немцев против Самсонова был обеспечен прежде всего радиоперехватами.
Почему же выходило так? Не потому ли, что далеко не всем в России нужна была быстрая, решительная победа на русско-германском фронте? Ведь такая победа, которая могла бы быстро закончить всю войну, подвела бы итог и сверхприбылям… Да не только в России, а по всему миру!
Генерал М. Бонч-Бруевич был отличным штабистом, а вот политический момент улавливал слабо. И поэтому считал, что «стратегические планы оказались невыполненными»…
Но со стратегией всё было в порядке. Только не у нас, а у тех, кто планировал стратегические цели войны «без дураков», без лишних слов, без штабных карт и без официальных, да и вообще без каких-либо бумаг.
Как-то французского политического деятеля Вильсона — компаньона Клемансо по темным железнодорожным аферам конца XIX века — подрядчик спросил, какой, мол, суммой за устройство выгодного заказа эти, скажем прямо, политиканы удовлетворятся.
Вильсон подошёл к окну, подышал на стекло, написал на затуманившейся его поверхности цифру, а потом стер. Таким же образом писались и «протоколы» совещаний Золотого Интернационала. Решения таяли в воздухе, результат же их был материальным и весомым — на вес золота.
«Домыслы!»… Да, читатель, есть у врагов прояснения исторической правды такое любимое словечко. Но сказанное об обдуманной преступности выбранных стратегических направлений для русского наступления — не домысел. Еще в 1913 году во время совещания русских и французских геншабистов генерал Жоффр убеждал в опасности вторжения в Восточную Пруссию: «Это самое невыгодное для нас направление…». А потом не сколько раз повторил: «C'est un guet-apens (Это — ловушка)».
Последнюю попытку воззвать к здравому смыслу французские военные круги сделали перед самой войной. 31 июля во Франции уже фактически шла мобилизация. Военный министр Мессими вызвал русского военного агента полковника Игнатьева и прямо в кабинете у министра Алексей Алексеевич составил телеграмму в Петербург, где третьим пунктом стояло: «Наиболее желательным для французов направлением нашего удара продолжает являться Варшава — Позен».
В России такой взгляд не был новым. Профессор Академии генштаба Золотарев, разработав теорию оборонительного значения линии Буг — Нарев, писал о выгоде угрозы жизнен ному центру Германии — Силезскому промышленному району. Стратегические теории Золотарева опрокидывала практика стратегии, чьи расчеты строились на песке, но песке особо города — золотом.
И вот тут случайности исключались!
О полковнике-предателе (сейчас, правда, иногда уверяют, что не предателе, а невинной жертве «стечения обстоятельств») С. Мясоедове, разоблаченном в начале войны немецком агенте, судимом военно-полевым судом и повешен ном в Варшавской цитадели, написано немало.
В жандармскую бытность Мясоедова на пограничной станции Вержболово его нередко приглашал на императорские охоты сам кайзер. Шум вокруг Мясоедова впервые поднялся в печати за два года до войны (особенно постарался Гучков), и тогда лучший друг прусских баронов ушел в отставку, довольствуясь дивидендами со своих паев в германских фирмах. Выручил его тогда военный министр Сухомлинов.
Он же с началом войны направил своего протеже к главнокомандующему армиями Северо-Западного фронта генералу Рузскому (фигуре тоже темной, загадочной).
Случайно или нет, но Н. Рузский, вместо того, чтобы вежливо отделаться от Мясоедова, направил его в «знакомые места» — в Вержболово, где бывший жандарм передавал сведения для друга-кайзера о нашей 10-й армии. «Расколол» Мясоедова начальник штаба фронта генерал М. Бонч-Бруевич, чего ему не простил ни Рузский, ни Сухомлинов, ни придворные круги, ни нынешние фальсификаторы истории…
Да, не знал Михаил Дмитриевич, что стратегия бывает всякая…
В том числе и вот такая… Российская частная промышленность саботировала военные заказы русской армии. Наш военный агент во Франции полковник Игнатьев регулярно выбивался из сил, пытаясь разместить у «Шнейдера-Крезо» очередной срочный заказ на орудийные патроны. Тормозил дело шеф русской артиллерии великий князь Сергей Михайлович. Задержки спустя какое-то время устранялись, но странным образом — обязательно по понедельникам.
Тайну петербургских «понедельников» объяснили Игнатьеву знающие люди в… Париже: «По субботам Рагузо играет в карты во дворце Кшесинской».
Поляк Рагузо-Сущевский — представитель Шнейдера в России. Балерина-прима Матильда Кшесинская (тоже полька), которую в то время прочно «ангажировал» августейший артиллерист, — «штатная» любовница августейшей семьи Романовых. Итак, «стратегическая линия» выстраивалась следующая: Шнейдер — Рагузо — Кшесинская — «комиссионные» — вели кий князь Сергей — заказ — Шнейдер…
Французские инженеры, работавшие до войны в России, искренне удивлялись: «Зачем вы обращаетесь к нам за содействием? Одни ваши петроградские заводы по своей мощности намного превосходят весь парижский район. Если бы вы приняли хоть какие-то меры по использованию ваших промышленных ресурсов, вы бы нас оставили далеко позади себя».
Инженерная братия (даром что была «из Европ») тоже проявляла непростительную наивность. Однако такими простецами были далеко не все…
* * *
Вот вопрос, который рано или поздно, но возникает обязательно: «А если бы выстрел Гаврилы Принципа не поставил бы точку не только на жизни австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда, но и на мирной жизни Европы? Что — не было бы Первой мировой войны?».
Ну, конечно, она была бы всё равно… Да ещё какая! Долгая, кровавая, окопная, бешено прибыльная… Точно такая, какая и была…
Цифры из доклада начальника Главного артиллерийского управления Маниковского, предоставленные военному министру, говорят, что на казенном заводе 122-миллиметровая гаубичная шрапнель обходилась в 15 рублей за снаряд, а на част ном — в 35! Разница в ценах на 152-милллиметровый фугасный снаряд была еще большей: 42 и 70 рублей. «Наша частная промышленность, — писал Маниковский, — взвинтила цены на все предметы боевого снабжения… В общем, гг. промышленники, и наши, и в союзных странах, проявили непомерные аппетиты к наживе»…
Генерал явно не понимал, что если уж аппетит к наживе появляется, то он всегда непомерный.
Не удержусь и порекомендую читателю монографию Владимира Яковлевича Лаверычева «Военный государственно-монополистический капитализм в России». Название говорит само за себя — перед войной и во время войны Большой Капитал даже в Российской империи начинал организовываться так же, как это давно произошло на Западе — в рамках легальных, с участием государства, структур.
Вдумчивое чтение этой монографии многое может дать в понимании того, была ли случайной и мировая война, и Великая Октябрьская социалистическая революция…
Но хватит и двух цитат: «Потребление сахара было на низ ком уровне из-за политики сахарозаводчиков». А дальше Владимир Яковлевич наглядно иллюстрирует этот общий тезис отрывком из доклада (от октября 1915 года) комиссии знаменитого генерала Батюшина. Батюшин — крупный русский контрразведчик времен Первой мировой войны. Между прочим, он одно время плодотворно работал под началом ученого-геодезиста, генерала М. Бонч-Бруевича — родного брата ленинского соратника и… тоже контрразведчика.
Оба генерала не раз больно наступали на любимые (то есть из кровавого золота) мозоли петроградского гадюшника. Причем Батюшин — настолько крепко, что обирающие и обдирающие Россию правнуки тех, кто обирал и обдирал ее в начале века, не могут успокоиться до сих пор и порой, упоминая о генерале, злобно перевирают его фамилию в мельче звучащее «Батюшкин»…
Батюшин докладывал: «Во всероссийском обществе сахарозаводчиков произошла перегруппировка и во главе всего дела встали два еврея — Гепнер и Абрам Добрый. Гепнер и Добрый (упоминается в докладе и сахарозаводчик Лазарь Бродский. — С.К.) дирижируют в Союзе сахарозаводчиков, устанавливают количество производства, цены на сахар, место его хранения и определяют количество товара, подлежащего выпуску на рынок. При обысках (в банках. — С.К.) и у киевских сахарозаводчиков Израэля Бабушкина, Иоэля Гепнера и Абрама Доброго были обнаружены материалы, уличающие как этих лиц, так и других, причастных к сахар ной промышленности, в злостной спекуляции сахаром, умышленном сокращении выпуска сахара на внутренний рынок империи, сосредоточении сахара в пунктах, где в этом не встречалось необходимости, вывозе сахара за границу во время войны в ущерб снабжения таковым населения и, наконец, в преступном противодействии снабжению сахаром армии»…
Вот так: кому война — мачеха, а кому — и сплошной сахар! Недаром, видно, Шарль-Морис Талейран-Перигор любил называть это самое словом «сладенькое»…
А ведь тут речь только о сахаре и сахарозаводчиках! Были же еще и банкиры Бродские, и хлеботорговцы Дрейфусы, и угольщики Рабинович с Коганом-Бернштейном, заправлявшие в угольной секции топливного отдела Центрального военно-промышленного комитета Российской империи. И это только в одной России!
Так что бедный студент Гаврила, «служивший» террористом, мог спокойно продолжать учебу — войну бы начали и без него…
* * *
А что бы произошло, если бы русского солдата не бросили затыкать собой на Востоке дыры французской обороны на Западе, а дали возможность подтянуть силы, и уж потом, когда Германия была бы близка к Парижу и увязла в Европе, мы бы ударили мощным «кулаком» в берлинском направлении?
Тогда бы война могла закончиться действительно к листопаду, как планировал Шлиффен и обещал войскам кайзер. Но не так, как планировалось и обещалось…
И что тогда? Россия на белом коне въезжает в Берлин, а Париж, кряхтя, подсчитывает синяки? Лондон толком в войне не поучаствовал, а уж о США и вообще нет разговора. Ротшильды, соответственно, не успели бы объединить кошельки ни с родней по эту сторону Атлантики, ни с партнерами по ту сторону. Сверхприбылей нет, лишний люд «в новые земли» не «переселен», Соединенные Штаты в «большой свет» не выведены и не могут установить свой контроль над истощенной и опутанной военными долгами Европой. Торговец оружием на все четыре стороны Бэзил Захаров тоже оказался бы не у дел.
Генерал Федоров, посланный в Японию добывать оружие для русских войск, был выдающимся и образованным оружейником, но политически его образовывала сама жизнь. Долгая, более чем девяностолетняя, она учила его хорошо и научила многому. И поэтому он, так и не изощрившись в понимании политической стороны дела, служил России советской не менее честно и полезно, чем России царской.
В своих воспоминаниях о том, как он скитался от Японии до Франции «в поисках оружия для русской армии», Федоров не дает политического анализа эпохи. Это — не его «епархия». Зато он всегда точно описывает то, что видит, а иногда делится раздумьями. И как раз эта честная солдатская бесхитростность делает записки Федорова очень удобными для историка. Тут есть те надежные точки-«кочки», пробираясь по которым с одной на другую, можно избежать опасности утонуть в бездонной болотной лжи пристрастных и недобросовестных мемуаристов.
Мировую войну Федоров провел «на колесах» — из Японии на Северо-Западный фронт, оттуда в Англию и Францию, потом опять фронты и оружейные заводы. Возможность сравнивать у Владимира Григорьевича была уникальной в точном смысле этого слова. Даже генерал Гермониус, нередко сопутствовавший Федорову в зарубежных миссиях, не имел «русского» фронтового опыта. Так вот, федоровские описания уровня оснащенности русской и англо-французской армий заставляют любого русского мужчину скрежетать зубами и вспоминать «ненормативную лексику».
У них — всё! Пушки, снаряды, патроны — в изобилии. В на чале войны английское военное министерство (то, которое к войне было якобы «не готово») решило довести норму пулеметов с 2 до 4 на батальон. Но министр военного снаряжения Ллойд Джордж предложил (вроде бы, шутя): «Возьмите максимум в 4 пулемета, возведите его в квадрат, умножьте результат на два, а произведение умножьте снова на два — на счастье».
Конечно, даже после таких расчетов английские батальоны не имели по 64 пулемета. Но и от реальности эта «арифметика» не так уж отличалась, к удовольствию друга Ллойд Джорджа сэра Бэзила Захарова.
И если бы только пулемёты! Федоров пишет об автоматах Фаркара-Хилла с магазином в 50 патронов, о новейших образцах ружейных гранат, окопных перископов, осветительных пистолетов и ракет, об оружейных чехлах, о мундирах на меху и кожаных шароварах для окопов.
Нет, это же какие масштабы производства — да при какой ещё и «скорости оборота» и быстроте «изнашивания» «товара»! А соответственно — какие же прибыли! Возможные, прав да, на Европейском театре военных действий лишь при долговременном, позиционном характере войны. Именно такая война и установилась на Западном фронте. Во французские окопы на вагонетках по траншейным железным дорогам подвозили не только бочки с вином, но даже горячую воду…
Русско-германский же фронт был далеко не так стабилен — тут маневренность войны была выше. Но здесь и маневренность работала на… затягивание войны, потому что программировала переброску немецких войск с Запада на Восток и тем укрепляла неподвижность линии фронта там!
Скорая победа за счет ряда мощных наступательных операций прекрасно оснащенных союзных армий на Западе? Э-э-э, нет! Такой вариант был нужен кому угодно, только не тем, кто реально определял ситуацию с точки зрения финансовой власти. Уже после войны, в начале тридцатых годов, американец Уильям Буллит (появляющийся на этих страницах в первый, но не в последний раз) и австрийский еврей Зигмунд Фрейд написали психоаналитическое исследование биографии 28-го президента США Вудро Вильсона, чье правление пришлось на годы Первой мировой. В предисловии к русскому изданию этого труда «новые русские философы» Старовойтов и Царев сообщили, что Америка у Вильсона ассоциировалась с матерью, Англия — с отцом, Германия, которая, оказывается, являлась объектом его «амбивалентной (то есть противоречивой. — С.К.) ревности и ненависти» — с младшим братом… Увы, и от Фрейда, и от его «российских» адептов ускользнуло, а с кем ассоциировался у Вильсона КАПИТАЛ США? Будучи профаном в психоанализе, рискну все же предположить, что С ХОЗЯИНОМ. Причем хозяином одновременно и бешено богатым и феноменально самодурственным. Европа лишь перед мировой войной дошла до бриллиантового «бала камней» с участием красивых человеческих особей, а в Штатах уже в 1883 году госпожа Вандербильт устроила бал для… собачек, чьи ошейники были усыпаны бриллиантами.
На другом прославившемся обеде собравшихся развлекали сигарами, завернутыми в стодолларовые банкноты. Бедняк на эту сумму мог протянуть тогда полгода.
Интересное мнение о магнатах Америки той эпохи оставил Энгельс. 19 апреля 1890 года в Лондоне он написал: «Во всей Северной Америке, где существуют миллионеры, богатство которых лишь с трудом можно выразить в наших марках, гульденах или франках, среди этих миллионеров нет ни одного ев рея, и Ротшильды являются просто нищими рядом с этими американцами».
Ротшильдов Энгельс обидел, конечно, зря. Так же, впрочем, как и евреев, которых тогда в Америке уже хватало, в том числе и миллионеров. Исаак Зингер вовсю продавал свои швейные машины, а Бернард Барух — акции конголезских компаний, разбухающие на глазах от крови черных рабов. Леви Лейтер и Робак торговали галантереей, бриллиантами и земельными участками. Якоб Шифф был совладельцем крупнейшего американо-еврейского банкирского дома и одновременно центра сионизма «Кун, Леб энд компани», основанного в 1867 году. К началу войны еврейский список властелинов Америки лишь возрос.
Но в чём Энгельс был прав, так это в обшей оценке перспектив отношений европейских и американских миллионе ров. Инициатива и власть все чаще оставались за Новым Светом. Причем если перед войной Европа еще могла как-то тягаться с ним, то после войны…
О том, что дала в смысле обогащения многих война, как всегда точно и просто сказал Ленин: «Американские миллиардеры были едва ли не всех богаче и находились в самом безопасном географическом положении. Они нажились больше всех. Они сделали своими данниками все, даже самые богатые страны. Они награбили сотни миллиардов долларов. И на каждом долларе — ком грязи от „доходных“ военных поставок».
Особое положение США выявлялось даже в такой детали, как характер народного питания. В 1915 году в воюющих странах приходилось следующее количество калорий на человека в день: в Англии — 2900; во Франции — 2749; в Германии — 2708; в России — 2514; в Австрии — 2486.
Американец получал 2925 калорий. Разница, вроде бы, не велика. Но если посмотреть на «животные» калории в этом рационе, то все становилось на свои места. В США их было 1054, в Англии — 975.
Немцы, французы и австрийцы имели в два раза меньше — 544; 544 и 456. Русский же видел мяса, масла, молока и яиц еще в два раза меньше — всего на 279 калорий. Не забудем и то, что неравномерность потребления в России была особенно большой.
Наибольшими были и экономические потери: к 1916 году Россия потеряла 60 % того, что имела в 1913 году, при 15 % потерях в Англии и 30 % — в Германии.
Итак, европейцы (особенно — русские) пояса подтягивали, а американцы — распускали. Чем ожесточеннее шла вой на в Европе, тем жирнее жила Америка. Уже через полгода после первых крупных европейских сражений на оружейных заводах за океаном работали 50 тысяч рабочих вместо 20 в мирное время.
А вот как менялась занятость на американских верфях: в марте 1917 года (накануне объявления войны Германии) — 25 тысяч; во второй половине 1917 года — 170 тысяч; в 1918 году — уже 300 тысяч работающих!
Продукция пороховых заводов США выросла вдвое. Причем если раньше фунт американского пироксилина обходился французам в 20 центов, то теперь — в 65. Ллойд Джордж поразил парламент сообщением: только за полмесяца континентальных боев британская артиллерия выпустила больше снарядов, чем за всю бурскую войну. Как выросли при этом дивиденды британских и американских акционеров «лев» английской политики умолчал.
* * *
Прибыли, однако, становились все более неверными. Объявленная немцами подводная война то утихала, то усиливалась, и серьезно нарушала поток поставок в Европу через океан. И уже нельзя было оставлять ситуацию без прямого военного контроля. За тридцать два месяца войны золотой род ник очень уж забился железом осколков, костями солдат, головешками пожарищ и затонувшими судами. Источник иссякал, а народы начинали волноваться. «Деловая» Америка все чаще задумывалась: «Не пора ли?»…
Забегая вперед, скажу, что 3 февраля 1917 года Вильсон объявил о разрыве дипломатических отношений с Германией, а 6 апреля — и о состоянии войны с ней. Приходило время завершать ту войну, от которой США уже получили много… И завершать таким миром, из которого те же США получили бы еще больше.
Далеко не во всём правый, но интересный и порой на удивление глубокий американский публицист середины века Дуглас Рид считал, что Первая мировая война произошла по тому, что сионисты решили разместить свой национальный очаг в Палестине. Для того, мол, чтобы подвигнуть Англию на завоевание нужных земель, все и началось. Рид приводит какие-то совершенно шалые цифры численности английских войск в Палестине — 1 192 511 солдат и офицеров.
Публицист явно не представлял, что это такое — миллион неплохо вооруженных и неплохих солдат в условиях ближневосточного театра военных действий уже в начале XX века. Он же утверждал, что отвлечение войск в интересах отвоевания будущей еврейской родины привело к поражению союзников в Европе.
В Англии за всю войну были мобилизованы примерно 5 миллионов мужчин, хотя далеко не все они были на фронте. Из них погибли: во Франции и Фландрии — 381 тысяча, в районе Дарданелл — 22, на Месопотамском фронте — 11 в Македонии — 3, в Египте и Палестине — 11 тысяч человек.
Уже отсюда видна несостоятельность цифр и утверждений Рида. Весной 1917 года в районе Палестины оборонялись 45 тысяч турок под командованием немца Фалькенгайна против 100 тысяч англичан, включая сюда и французские части. К марту 1918 года на 500-километровом Месопотамском фронте бы ли всего 447 тысяч англичан, из них — лишь 170 тысяч штыков.
Второй том достаточно точной в цифрах «Истории Первой мировой войны» сообщал: «На Сирийско-Палестинском фронте в конце апреля 1918 года намечалось осуществить наступление с целью разгрома турок. Однако мартовское наступление германской армии на французском фронте сорвало планы англичан в Палестине. Пришлось войска отсюда перебрасывать во Францию. Лишь после того, как на французском фронте обозначились некоторые успехи, англичане приступи ли к подготовке наступления».
В Палестине английские войска, получившие подкрепление, насчитывали 64 тысячи человек, а у турок — под командой теперь уже Лимана фон Зандерса — было 34 тысячи.
Сил, которыми располагали англичане, естественно, вполне хватило для того, чтобы после артподготовки в 4.30 утра 19 сентября 1918 года они двинулись на Дамаск, взятый 1 октября.
Позади остались библейские Назарет и Галилейское озеро. Если учесть, что в тылу находился и Египет с Суэцким каналом, то военное присутствие англичан на Ближнем Востоке было вполне оправданным и без нажима сионистов.
Объяснение Рида выглядит более чем упрощенным, хотя подмеченные им мотивы, безусловно, накладывали свой отпечаток на какие-то конкретные черты войны.
Но вряд ли просто совпадением было то, что в Англии с июля 1917 года министром военного снабжения стал близкий сионистам Черчилль. В Германии фактическим имперским руководителем военной промышленности стал немецкий еврей Вальтер Ратенау из электрогиганта «A.E.G.», а в США — американский еврей, нью-йоркский биржевик Бернард Барух возглавил самое важное из ряда специальных военных органов — Военно-промышленное управление — и скоро превратился в промышленного диктатора страны.
Что тут было ведущим: еврейская кровь или принадлежность к имущему классу? Конечно, классовый момент преобладал. Но то, что к началу XX века на вершины не только скрытой финансовой, но и официальной политической власти выходили евреи или люди, от них зависимые, предвещало особую сплоченность, особую активность, особую потаенность и эффективность действий той части имущего интернационала, для которой не только богом, но и подлинной роди ной была золотая прибыль.
Капитал все более лишался отечества и превращался в интернациональное сообщество под рукой Соединенных Штатов.
Европейские фигуры за годы войны кое в чем поменялись. В конце 1916 года ушел Грей. Со стороны же Америки финал готовили те же, кто обеспечивал пролог. В 1902 году профессор государственного права, сорокашестилетний президент Принстонского университета Вудро Вильсон публично провозгласил, что США должны добиваться управления всем ми ром. Однако тогда на первые роли имущая Америка выдвигала первого Рузвельта, посадившего «дерево империализма». Сухощавого, нервного и до совершенства ханжеского, лице мерного и двуличного профессора-принстонца пока держали в резерве.
И лишь когда фундамент войны был заложен, капиталу США потребовались таланты не напористого Рузвельта, а воспитанного Вильсона. В 1912 году его делают президентом США, и он сразу же начинает создавать себе репутацию «миротворца».
Описывая Вильсона, Тарле утверждал, что он «имел во внешней политике Соединенных Штатов юридически скромную, а фактически решающую власть». Однако сам же через три фразы сообщал: «Он был деятельным орудием финансового капитала».
Тот, кто обладает властью, не является орудием, а тот, кто служит орудием, не имеет власти. И поэтому Вильсон имел лишь широкие полномочия. Уполномочивать же его Большой Капитал мог только на войну. Тарле писал в 1927 году о Вильсоне так: «К мысли о возможности и выгодности войны для экономического и политического будущего Соединенных Штатов он привыкал все более уже с 1915 года, а особенно с начала 1916 года… Замечу, что и в германской, и в американской литературе до сих пор держится и такое мнение, что уже с самого начала мировой войны Вильсон считал вмешательство неизбежным».
Последняя фраза нуждается, конечно, в уточнении — не «с самого начала», а «задолго до начала», не «Вильсон», а «шефы и создатели Вильсона», и не «вмешательство», а «негласное и гласное руководство на всех этапах подготовки войны». Прав да, такого уточняющего мнения не высказывал никто — ни в германской, ни в американской, ни в какой иной литературе…
Можно лишь забавляться той лицемерной наглостью, с которой полковник Э. Хауз (мы с ним скоро познакомимся, читатель) в конце 1915 года мотивировал желательность-де «более активного участия» США в делах Европы. Он заявлял: «США не могут допустить поражения союзников, оставив Германию господствующим над миром военным фактором».
Но прискорбно то, что эту немудрящую побасёнку всерьез восприняли даже солидные советские академики от истории, утверждавшие, что мысль о вступлении в войну на стороне Антанты возникла у американского капитала лишь в ходе самой войны, неблагоприятно складывавшейся для Антанты, и что президент Вильсон, мол, тоже лишь постепенно проникался этой идеей…
Вильсон был доверенным лицом непосредственно промышленно-финансовых магнатов, а доверенным лицом Вильсона (хотя, впрочем, и магнатов тоже) считался полков ник Эдвард М. Хауз — личный эмиссар президента в Европе в 1914–1916 годах.
Вильсон отправил Хауза за рубеж весной предвоенного года с миссией ответственной и деликатной. Официально провозглашалось, что задача Хауза — предупредить вооруженное столкновение. Фактически он должен был провести инспекцию готовности европейских держав к войне. Начать ее в случае их готовности было делом техники.
Уже в мае 1914 года Хауз писал Вильсону: «Наибольшие шансы для мира — это достижение согласия между Англией и Германией, с другой стороны, для нас было бы несколько хуже, если бы обе эти державы слишком сблизились». Впоследствии архив Хауза был издан, но все самое существенное осталось, конечно, лишь в «архиве» всеведущего Господа Бога.
Первое издание Большой советской энциклопедии называет Хауза «Гаузом» и пишет о нем, как об «одном из интереснейших деятелей США во время президентства Вильсона».
Техасский помещик, родившийся в 1858 году, полковник техасской милиции, он начинал как железнодорожный деятель, подобно Витте.
«Сам Гауз не стремился к занятию каких-либо официальных должностей, довольствуясь ролью организатора и закулисного советчика… При непосредственном участии Гауза составляется кабинет нового президента и проводится в жизнь ряд важных финансовых законопроектов. Основные интересы Гауза лежали, однако, в области внешней политики»… — на писано в 1-м издании БСЭ.
БСЭ сообщает также, что Хауз выступил «негласным по средником» в деле обеспечения нефтяных интересов США и Англии в Мексике, что он «заявил себя сторонником активного вступления США в мировую политику» и что «его называли негласным компаньоном („silent partner“) Вильсона».
Не знаю как вам, а мне эта характеристика кого-то до боли напоминает. Не барона ли Гольштейна? И случайным ли было такое сходство? Что до меня, то я убеждён — нет, не случайным…
И Гольштейн, и Грей, и Хауз были схожи личностно. И поэтому их хозяева отводили им схожую — в силу их «серокардинальских» черт натуры — роль.
Весной 1914 года, занимаясь негласной подготовкой войны, Хауз навестил Старый Свет. Порой задерживаясь в Пари же, он курсировал между Берлином и Лондоном, потому что без Лондона (это в Штатах понимали хорошо) войны не было бы. Так что тут нужен был глаз да глаз.
Добираться до России нужды не ощущалось — с ней проблем не было.
В Берлине же Хауз помогал английским партнерам американского капитала вводить в заблуждение кайзера относительно нежелания Англии ввязываться в европейскую континентальную распрю.
Между прочим, позже в своих якобы дневниках Хауз поведал, что, мол, в разговоре с ним 1 июня кайзер доверительно предлагал США и Англии объединиться против «русских полуварваров» и воевать их аж до Сибири… И ведь что обидно — даже у нас нашлись люди, готовые Хаузу поверить!
В Лондоне Эдуард Хауз действовал в активном согласии с сэром Эдуардом Греем. Обычно нелюдимый и мрачный, Грей с Хаузом был внимателен и, по признанию последнего, неизменно «очаровывал» его.
Близкий одно время к Вильсону, Уильям Буллит сообщает, что Эдуард Хауз питал к Эдуарду Грею «почти сыновнее доверие». Если учесть, читатель, что Грей был на четыре года младше Хауза, факт подобной «любви» оказывается странным. Впрочем, оба были людьми «голубой крови», так что и «голу бая» родственность натур не исключалась.
Странным выглядело и другое. 1 июня 1914 года Хауз действительно имел беседу с кайзером о желательности европейского взаимопонимания и мира.
Кайзер проект одобрил, и полковник отправился в Англию. Путь недлинный, но с Греем личный представитель президента могущественнейшей державы встретился (официально, во всяком случае) лишь 17 июня, причем «безрезультатно».
28 июня в Сараево убит Франц-Фердинанд.
А 3 июля Грей якобы передает Хаузу — почему-то через молодого дипломата Тиррела, что собирается сообщить кайзеру о мирных намерениях Англии.
В Лондоне был нормально аккредитован посол Германии князь Лихновски, имевший, естественно, шифрованную телеграфную связь с Берлином. В Европе начинает «пахнуть грозой», и заокеанскому «миротворцу» нужно бы торопиться. Однако вместо того чтобы быстро известить кайзера о настроениях Англии через Лихновски, Хауз лишь… 7 июля пишет в Берлин письмо, попадающее в руки Вильгельма уже после австрийского ультиматума Белграду, то есть после 23 июля.
А через неделю начинается война. «Миротворческая» миссия себя оправдала. Через три дня после начала европейской бури — 4 августа — Вильсон провозглашает нейтралитет Соединенных Штатов и начинается прогрессирующее «объединение кошельков». Причем, вопреки принципу со общающихся сосудов, по ту сторону атлантических вод они наполняются, а по эту — опустошаются.
За время войны Хауз побывал в Европе ещё несколько раз, и каждый раз с «посредническими» миссиями, а вернее с новыми инспекциями теперь уже хода войны.
«Посредничал» полковник между англо-французами и немцами по тому же принципу, по которому сам сэр Эдуард Грей «посредничал» между немцами и русскими накануне 1 августа 1914 года. То есть вначале Вильсон через Хауза предлагал созвать мирную конференцию, угрожая в случае отказа Германии вступлением в войну США, а потом прикидывался колеблющимся и заявлял: «Мы, вероятно, посту пим именно так, но…».
Подстегнутые этими «вероятно» и «но…», немцы войну продолжали, а англичане стремились добиться военной победы, до того как США смогут рассчитывать на свою долю не только в качестве кредитора и военного поставщика Антанты, но и в качестве прямого ее союзника.
Америку это устраивало — опоздать она не очень-то боялась. США уже достаточно хорошо контролировали Европу, а Хауз здесь играл роль полномочного папского легата, соединяющего частные усилия посольств, миссий и агентств в одно целое.
Собственно, никогда не нюхавший армии «полковник» от носился, повторяю, к «бойцам» той же «когорты», в рядах ко торой служили и Гольштейн, и тезка Хауза — Грей. Второе имя голубоглазого блондина голландско-британского происхождения было «Мандель», а получил он его в честь ближайшего друга отца — еврея-коммерсанта из Хьюстона. Итак, проеврейские симпатии были обеспечены мальчику с колыбели.
Существенно и то, что зятем и советником Эдуарда-Манделя стал именно еврей доктор Сидней Мезес — автор ранних планов создания мирового сверхправительства и директор организации «Исследование», готовившей материалы для Вильсона и американской делегации на будущих «мирных» переговорах.
В 1912 году Хауз написал программный роман «Филипп Дрю: Администратор», где была глава с названием «Как дела ют президентов». В романе технология была следующей. Его герои «наметили добрую тысячу миллионеров, каждый из которых должен был дать по 10 тысяч долларов». «Лишь немногие дельцы, — говорилось в романе, — не считали для себя счастьем присоединиться к ним с завязанными глазами в деле охраны Капитала».
В жизни происходило примерно то же, что и в романе. Один из тех, с кем автор «Филиппа Дрю» был тесно связан, ведущий сионист США раввин Стефен Уайз, в 1910 году публично вещал избирателям штата Нью-Джерси: «Во вторник мистер Вудро Вильсон будет избран губернатором вашего штата; он не закончит срока губернаторской службы, так как в ноябре 1912 года он будет избран президентом США; после этого его переизберут президентом второй раз». Так оно и вышло.
«Он избегал гласности, обладая чувством циничного юмора, подогреваемого сознанием того, что он — невидимый и не подозреваемый никем, — не будучи богат и не занимая высокого поста, одним личным влиянием мог фактически отклонять течение исторических событий», — так отзывался о Хаузе человек, знавший его хорошо.
Буллит, в то время сотрудник Вильсона, знал многое о ведущей закулисной роли Хауза и поэтому удивлялся, как «тот же человек мог столь заметно проявлять видимую субординацию», что на заседаниях Комитета по созданию Лиги наций казалось: он «просто перевертывает листы партитуры для своего господина». Знакомый портрет, читатель, не так ли?
Сам Хауз писал: «Очень нетрудно, не неся никакой ответственности, сидеть с сигарой за стаканом вина и решать, что должно быть сделано».
Зигмунд Фрейд считал, что Хауз стал «заместителем» отца для Вильсона (который был на два года старше своего психоаналитического «папаши»). Что ж, во всяком случае американский президент заявлял: «Мистер Хауз является моим вторым „Я“. Он — мое независимое „Я“. Его и мои мысли — одно и то же»…
Тут, похоже, повторялась вывороченная наизнанку история с Эдуардом Греем, которого Хауз, превосходя годами, любил «сыновней любовью».
Показательно, что журналист Джон Сильвер Вирек написал позже книгу «Самая странная дружба в истории. (Вильсон и Хауз)»… За консультациями к раввину Уайзу Вирек явно не обращался, иначе слово «странная» он бы не употребил.
Хауз ещё в ранней молодости признавался, что всегда хотел иметь «своего» президента. Что ж, он получил «своего» президента и контролировал «своего» президента вплоть до конца Парижской мирной конференции после окончания войны.
О том, что контролировали и самого Манделя Хауза, можно, очевидно, и не говорить.
* * *
Золотой конвейер работал вовсю… Англия выкачивала золото из России, а Штаты — уже из Англии.
Но и прямые каналы возникали всё чаще. «Нешнл сити бэнк» Рокфеллера открыл в России свои отделения. Проявлял активность Морган. В 1916 году на слушаниях в сенатской ко миссии по обследованию военной промышленности президенту «Нешнл сити» Вандерлипу было сказано: «Вы как бы взяли Россию как вашу сферу влияния, а Морган взяли Англию и Францию?».
Однако то, чем занимались американские банкиры — предоставление займов нейтральной страной странам воюющим, международным законодательством было запрещено, и Вандерлип отмолчался. Но чуть не брякнул со злости на конку рента: «Да, Морганы укрепились именно там — через Ротшильдов».
Впрочем, Рокфеллеры тоже использовали это «через…», и тут, к слову, нелишне отметить, что, очевидно, с ними был связан дядя Троцкого по материнской линии, банкир и биржевик Абрам Лейбович Животовский.
Троцкий для русской революции — фигура чужеродная, даром что он действовал в ней очень активно. В конце концов Россия Троцкого от себя отторгла, но его феномен заставляет задуматься — насколько же многоходовыми могли быть антирусские комбинации.
В 1916 году в США был образован Совет национальной обороны. Американская привычка лицемерить сказалась и здесь, поскольку занимался-то этот Совет не обороной, а подготовкой к внешней войне. И было бы вернее назвать его Советом интернациональной агрессии.
В том же 1916 году Капитал обеспечил переизбрание Вильсона под лозунгами нейтралитета и воздержания от вступления в войну.
Режиссёры сработали грубо, но эффективно — на контрасте. Республиканцам было указано с пеной у рта требовать «вмешаться», а Вильсон хорошо поставленным профессорским голосом вещал о мире. Ничего более хитрого для американских простаков в Америке и не требовалось. Однако уже скоро сотням тысяч (а потом — и миллионам!) из них предстояло отправиться в Европу.
Очевидец — большевик Александр Гаврилович Шляпников — интересно и разоблачительно вспоминал, как американцев психологически готовили к войне уже летом 1916 года: «Газеты вели упорную кампанию за выступление Америки, а Вильсон пока ограничивался нотами и миротворчеством. Однако уже в то время для всякого, кто хотел видеть, было ясно, что американские капиталисты готовятся к войне. Хитро и ум но обрабатывали они так называемое „общественное мнение“, подготовляли всякими способами милитаристское настроение и солдатчину. Церкви, манифестации, газеты, парламент, звездный полосатый флаг, театр, школа, кинематограф и т. д. и т. п. — все было пущено в ход, все проповедовало защиту „американского отечества“, требовало создания армии и флота.
Если стариков, пришельцев из других стран, мало трогала и беспокоила судьба „американского отечества“, то выросшее в Америке поколение, до школьного возраста включительно, живо откликалось на эту шумиху. В одном из рабочих районов мне приходилось видеть американскую бутафорию „Гибель науки“ с нашествием анонимных врагов, разрушением городов и т. п. ужасами. И в этом пролетарском местечке дети с энтузиазмом встречали в каждом случае американский национальный флаг, неистово аплодируя».
Заключал Шляпников приведенные им картинки с натуры выводом верным и резонным: «Крепко держит свою власть над народом организованный американский капитал».
Так что переход от первого этапа — грома аплодисментов, ко второму — грому пушек, был делом чистой и уже тогда не плохо отработанной техники, впервые опробованной, как мы помним, в Англии…
ГЛАВА 7 «Лузитания», «пломбированный вагон» и «14 пунктов мира»
Да, массовый исход «миротворцев» в гимнастерках из Нового Света в Старый был обставлен в несколько этапов. Психологическим шедевром стала тут история с «Лузитанией». Именно её трагедия позволила организовать в Америке первое широкое возмущение Германией. Потопление фешенебельного (водоизмещением в 32 тысячи тонн!) английского лайнера немецкой подводной лодкой 7 мая 1915 года часто описывается искаженно, а ведь эпизод-то был неоднозначным, читатель!
Шла война — время для круизов не самое подходящее. «Лузитания» и стала транспортным судном, за которым немцы, не скрываясь, охотились. Накануне последнего рейса рядом с рекламой о скором отплытии «Лузитании» из Нью-Йорка в американских газетах публиковалось сообщение:
«Путешественникам, которые намерены пересечь Атлантику, мы напоминаем, что Германия и ее союзники находятся в состоянии войны против Англии и ее союзников, что зона военных действий включает воды, прилегающие к Британским островам, что в соответствии с официальным предупреждением имперского правительства Германии суда, идущие под флагом Англии или любого ее союзника, будут уничтожены в этих водах, и, таким образом, пассажиры этих судов, путешествующие в зоне военных действий, подвергают свою жизнь опасности.
Имперское посольство Германии в Вашингтоне
22 апреля 1915 года».
Я не знаю, чем можно объяснить то, что 1959 человек (а среди них — 124 американца) все же решились идти в этот рейс. Неясно, что для многих причиной были доллары и фунты стерлингов — «Лузитания» в очередной раз везла не только людей, но и военные грузы, снаряды, патроны.
Однако полной загадкой остается пребывание на борту мультимиллионера Альфреда Вандербильта, «короля шампанского» Джорджа Кесслера и других финансовых тузов, получивших персональные телеграфные рекомендации отказаться от рейса на этом судне! Под предупреждениями стояла подпись Morte (то есть в переводе с французского «смерть»).
Очевидно, и магнатов влекли в Европу неотложные интересы Долларов и Фунтов, дающих Власть и Силу.
У юго-восточного побережья Ирландии в 10 милях от берега лайнер был торпедирован лодкой U-20 капитан-лейтенанта Вальтера Швигера. «Лузитания» затонула так быстро, что погибли 1154 (по другим данным — 1196 или 1198) человека (из них то ли 114, то ли 139 — американцев).
Британское Адмиралтейство знало о местоположении лодки Швигера заранее. Ещё в 1914 году русские моряки потопили германский крейсер «Магдебург» и сумели поднять со та освинцованные книги кодов и радиошифров. Россия поделилась удачей с союзниками, и радиоперехваты очень помогали в противодействии германским подводникам.
Вот и на этот раз вначале на охрану «Лузитании» у английских берегов ей навстречу был направлен эскорт из крейсера «Джуно» и нескольких эсминцев. А потом он был отозван.
Гибель «Лузитании» была выгодна и необходима всему англосаксонскому крылу Золотого Интернационала — как Вильсону и его хозяевам, так и англичанам. Мотивы были настолько прозрачны, что молва тут же указала на молодого военно-морского (его «снабженческая» карьера была еще впереди) министра Черчилля. С гибелью «Лузитании» сэр Уинстон действительно сразу резко повышал свои акции на политической бирже хозяев мира. «Лузитания» не стала, правда, поводом к вступлению США в войну, но помогла в более ближних расчетах: резкие протесты США прорвали блокаду Британских островов лучше мощной эскадры.
Немцы были вынуждены сократить свою подводную активность, и американцы опять могли без особого риска снабжать Европу средствами для продолжения разорительных (для Европы) сражений.
* * *
Морская бойня притихла, сухопутная — продолжалась. Над окопами Западного фронта кружили шесть тысяч голу бей. Однако это были не «голуби мира», а курьеры — крылатые почтовые служащие английской секретной службы.
В окопах же нарастали ожесточение и усталость.
Бенито Муссолини рассорился с социалистами и напрочь забыл, что в 1913 году баллотировался кандидатом от них, обличая милитаризм, национализм и империализм. Ещё осенью первого военного года он ушёл из «Avanti», а 14 ноября начала выходить его «Poppolo d'ltalia». По обе стороны заголовка красовались цитаты из Огюста Бланки: «У кого есть железо, у того есть и хлеб» и Наполеона: «Революция — это идея, нашедшая штыки».
Железа и штыков хватало, с хлебом было хуже. Не предвиделись пока и революции. Весь 1915 и 1916 годы росли потери, росли и прибыли.
Не обходилось без провокаций. В Москве 28 мая 1915 года произошел второй (после И октября 1914 года) чудовищный погром немцев-москвичей. Разрушения производили по плану, с ведома полиции.
В Афинах французские агенты во главе с де Рокфеем инсценировали нападение «агентов Вильгельма» на французское посольство и устраивали взрывы на греческих кораблях, объясняя их «германскими торпедными атаками». Целью инсценировок было полное установление контроля Антанты над Грецией.
Полковник Лоуренс Аравийский призывал к бунту кочевые арабские племена, а сэр Эдуард Грей писал Вильсону секретные послания о «необходимости мира» и «искоренения милитаризма». Под последним подразумевался, естественно, милитаризм только германский, но никак не англосаксонский. Вильсон отвечал… Надо же было обеспечить работой будущих историков!
Англичане, чтобы подбодрить приунывших русских «союзников», пригласили в Англию делегацию из шести журналистов и писателей (были там В. Немирович-Данченко, К. Чуковский, В. Набоков).
Был и Алексей Николаевич Толстой. Потом он вспоминал: «Только и видно было добродушных — почти придурковатых — людей-рубах. Ты, мол, да я, мол, англичанин и русский — давай, парень, выпьем. Даже сэр Эдуард Грей, задававший тон всей политике, прикинувшись простачком, похохатывал. Другого стиля гостям не показывали».
Толстой за столом спросил Грея:
— Сэр, а вы часто бываете на континенте?
— О, нет, я там никогда не был, — мило улыбнулся тот в ответ.
— Почему?
— А я боюсь, что украдут мой чемодан! Ха-ха-ха…
* * *
22 сентября 1916 года Грей впервые употребил в переписке слова: «Лига Наций». И сразу стало ясно, что Лига задумывается в качестве дымовой завесы будущих военных приготовлений. А уж по части таких завес англичане навострились — их как раз в это время усиленно внедрял морской министр Черчилль. Но основное совершалось без словесных и дымовых завес…
Однако, читатель, иногда и хитрый негодяй может дать маху. Нет, Штаты уверенно и умело вели дело к такому исходу войны, какой сразу и задумывался. И все же одна деталь очень уж явно обнажила, что военный пожар в Европе вильсоны тушили керосином. Вышло это так…
12 декабря 1916 года Германия заявила о готовности «не медленно приступить к мирным переговорам». Со стороны немцев был тут, конечно, и двусмысленный маневр. Да и как же иначе, если войну ВСЕ вели неправедную, алчную и хищническую. Но Германия действительно была не прочь замириться на приемлемых условиях.
Хотя бои шли все время на французской территории, в Германии все явственней не хватало продовольствия и сырья. Сторонние наблюдатели говорили о «гениально организован ном голоде» — не в смысле его намеренности, а в смысле чет кого распределения скудных пайков.
Итак, Германия — по заявлениям Антанты — «агрессор», предлагала мир. Антанта, если она была искренне против войны, должна была как минимум сразу же поддержать предложение немцев.
Однако мог ли Вильсон (то есть Капитал США) допустить, чтобы война закончилась не тогда, когда это решат за океаном?
И 18 декабря «миротворец» вместо простой поддержки предложения Германии обращается к воюющим державам со своей нотой, желая выступить как посредник.
«Нейтральные» Штаты — в роли международного арбитра?
Такой вариант для немцев был по ряду причин неприемлем (об одной, и важнейшей, я скажу чуть позже)… И они резонно ответили Вильсону, что мир должен быть достигнут в прямых переговорах только между участниками войны.
Немцы были правы: «двое дерутся, третий не встревай!». Но англо-французы залезли слишком глубоко в американские долги.
Так что «мирная» нота США своей цели достигла: война продолжалась, потому что теперь у Антанты был повод Германии отказать, что и было сделано за день до нового 1917 года — 30 декабря.
* * *
Наступил 1917 год. В горах и на равнинах Турции ветры и дожди выбелили черепа то ли миллиона, то ли даже полутора миллионов турецких армян, вырезанных весной 1915 года. А сэр Эдуард Грей и «демократическая» Европа уже успели пере парить шутку Талаат-паши: «Армянского вопроса более не существует, так как армян более не существует». И переварить ее Антанте было не так уж и сложно, потому что с исчезновением с турецкой деловой «арены» армянских финансистов и дельцов их место занял не турецкий, не немецкий, а англо-французский капитал.
Во французской армии распространяли листовки: «Нас ведут на убой»…
В русской армии были введены телесные наказания солдат, и теперь смысл войны разъясняли русскому мужику розгами. Но царизм тщетно пытался вбивать «патриотизм» через, пар дон, солдатские зады, потому что в головах фронтовиков-окопников бродило иное: «Зачем? Для кого? Не пора ли кончать?»…
Из-за границы, несмотря на крайне ограниченный тоннаж судов, везли в Россию не станки для заводов, а колючую проволоку, которую без особого труда можно было делать и у нас.
А были бы станки — не было бы нужды оплачивать русским золотом работу чужих (заокеанских в том числе) станков.
К 1917 году снабжение армии все же кое-как наладили. Но к этому времени был выбит не только кадровый состав офицерства и солдатской массы, а и сам «кураж» войны. Запал первых лет прошел. Армия, все более превращаясь в народное ополчение и по духу, и по уровню подготовки, вдруг осознала: «Это надо не нам, а богатеям».
12 декабря 1916 года Борис Пастернак писал родителям: «Пробегая газеты, я часто содрогаюсь при мысли о том контрасте и той пропасти, которая разверзается между дешевой политикой дня и тем, что при дверях»…
А «при дверях» 1917 года уже стояли великие потрясения.
Штаты (и, к слову, Япония), пользуясь тем, что европейские колониальные державы дубасят друг друга, укрепляли свое присутствие по всему миру.
А вот Францию и Германию война обобрала донельзя. Англия тоже была на грани срыва в революцию. 24 апреля 1916 года в Дублине началось восстание ирландцев, подавленное Лондоном зверски: артиллерия смела огнём пол-города, сдавшихся расстреливали без следствия и суда сотнями. Выступление в Ирландии было более националистическим, чем классовым. Однако внутриполитическую ситуацию оно революционизировало серьёзно.
* * *
Впрочем, кое для кого всё шло, как по нотам (музыкальным и дипломатическим). Английский флот установил прочную «голодную блокаду» Германии, и единственным мало-мальски равноценным ответом для немцев была неограниченная подводная война, прерывающая морское снабжение уже Англии.
Препятствием для немцев могла стать только позиция официально нейтральных Соединенных Штатов. Германский посол в Вашингтоне граф Бернсторф предупреждал, что объявление беспощадной подводной войны автоматически вовлекает США в мировой конфликт.
Берлин верил и не верил. Ведь, избрав выдвигавшего «пацифистскую» программу Вильсона президентом, рядовой американец показал, что воевать он не склонен. Учитывал Берлин и то, что в Америке жили миллионы граждан немецкого происхождения, связи с Фатерляндом не оборвавшие.
Помнил вроде бы об этом и Вильсон. И официальная реакция США на германские планы неограниченной подводной войны отсутствовала.
С другой стороны, к 1917 году Германия получила кредитов от «нейтральных» Штатов на 20 миллионов долларов, а страны Антанты — на 2 миллиарда, то есть в сто раз больше! Такой «нейтралитет» не мог не настораживать…
Одного этого соотношения кредитов — 1: 100 в пользу Антанты — было достаточно для обоснованного недоверия Германии к Америке. Немцы уже однажды разумно отвергли лукавое американское предложение о «посредничестве», и в этот раз тоже надо было крепко подумать, прежде чем идти на та кую решительную меру, как эскалация подводной войны, косвенно затрагивающая и США…
И тут… 6 января 1917 года Ассоциация торговли и промышленности в Берлине устраивает обед в честь посла Соединенных Штатов Джемса Джерарда. Звучат речи о традиционной дружбе Америки и Германии, приветствуют друг друга Джерард и статс-секретарь Циммерман, лобызаются штатовские атташе и германские министры. А посол — сама любезность и благодушие…
Жест (безусловно — заранее взаимно согласованный, по тому что такие «обеды» экспромтом не даются) был задуман широко и с очевидным намеком. Все знали, что Джерард — лишь передатчик воли и настроений Вильсона. Далеко не все, по те, кому нужно, знали и то, насколько капитал США уже внедрился в Германию. Поэтому «банкет Джеральда» был расценен германским общественным мнением однозначно: Штаты дают понять, что в войну с рейхом они не ввяжутся.
31 января 1917 года. Циммерман в здании германского Аусамта (МИДа) вручил недавнему собутыльнику ноту, извещавшую о начале Германией с 1 февраля неограниченной подвод ной войны.
А 3 февраля Вильсон объявил в конгрессе о… разрыве дипломатических отношений с Германией.
Провокация Джерарда сработала, а Германия опять оказалась в положении стороны, инициирующей отрицательное развитие событий.
У историков можно встретить мнение о том, что, мол, «банкет Джерарда» и запустил механизм катастрофы. Но не будем наивными — этот банкет во время войны повлиял на общий ход дел так же, как перед войной сараевские выстрелы. Это был видимый, публичный повод. А основную диверсию против своего германского якобы собрата Капитал Америки провел, конечно, в кулуарах. И не в один день.
Кроме «банкета Джерарда», вторым «вашингтонским выстрелом» стало обнародование Вильсоном 28 февраля 1917 года так называемой «депеши Циммермана», которая шла по трансатлантическому кабелю. Кутерьма вокруг нее выглядит странно и туманно. Не сказать об этой депеше нельзя — эпизод считается классическим. Но вот объяснить его…
Получилось так. В январе 1917 года граф Бернсторф через полковника Хауза добился у Вильсона разрешения пользоваться для сношений с Берлином телеграфным шифром, не известным правительству США. Мотив — необходимость оперативного обмена мнениями о поисках путей мира.
Разрешение было дано, и 19 января Циммерман посылает из Берлина транзитом через Вашингтон депешу германскому посланнику в Мексике Экгардту. Однако еще в Лондоне эту оглушительно провокационную депешу расшифровали английские контрразведчики. И англичане через американского посла У. Пейджа передали ее Вильсону явно в расчете на то, что содержание такого документа будет очень кстати для всех, кто ведет Америку к вступлению в войну.
И вот что было в депеше… Экгардту предписывалось выяснить у президента Мексики дона Венустиано Каррансы готовность мексиканцев к войне со Штатами, если те объявят вой ну Германии. Мексике обещали финансовую поддержку и соблазняли ее перспективой вернуть себе Техас, Аризону и Нью-Мексико.
Внешне все выглядело феноменально нелепо. Мексиканской Моське предлагалось победить американского Слона с Ослом в придачу. Однако не все было просто — Мексика тогда бурлила. В 1910 году там началось мощное крестьянское движение Франсиско Панчо Вильи и Эмилиано Сапаты против ставленника Америки и Англии диктатора Порфирио Диаса.
В 1911 году Диас сбежал из страны, и его сменил либерал Франсиско Мадеро. Но даже он американцам не подходил, и в 1913 году опять-таки проамериканский генерал Викториано Уэрта сверг Мадеро, убив его.
Сапата и Вилья поднажали, и в конце 1914 года заняли столицу Мехико. Хунта Уэрты рухнула, и США перешли к прямой интервенции. Собственно уже в апреле 1914 года в мексиканском порту Веракрус высаживался американский десант, остававшийся там до октября.
Президентом Мексики стал тем временем опытный политик и крупный помещик В. Карранса. Он разгромил Вилью, но выступил против империалистической политики США и обещал провести земельную реформу.
В марте 1916 года части американской армии под командованием Першинга перешли мексиканскую границу, но лег кой прогулки у янки не получилось. Правительственные войска и партизанские армии П. Вильи и А. Сапаты, временно забыв гражданские распри, объединились и Першинга из страны вышвырнули.
Увы, мексиканцы ещё круче воевали друг с другом. Офицер-карранклан (сторонник Каррансы) расстреливал своего бывшего однокашника-вильиста, как вспоминал позже знаменитый художник Давид Альфаро Сикейрос, сам воевавший на стороне Каррансы, трещали пулемётные очереди, горячились кони, метались в горячке черной оспы и жарких боёв люди…
Повернуть плохо управляемую и легко возбуждаемую массу против американцев («гринго») считалось делом непростым. Но попытаться хотя бы оценить вероятность этого было для Германии делом соблазнительным.
Исключить угрозу вступления США в войну на стороне Антанты никто не мог. Такой вариант давно казался реальным для любого приличного аналитика.
Мексиканцы же способны были отвлечь янки на какое-то время, когда фактор времени для Германии становился решающим.
При всём при том депеша Циммермана была, конечно, актом крайне авантюрным — одна опасность утечки информации через ненадежную мексиканскую сторону перевешивала все возможные выгоды. Огласка же депеши могла стать (и стала) отличным поводом «разогреть» рядового американца до воинственной кондиции. Техас — это тебе не Эльзас — Лотарингия.
Так и получилось — фактор «телеграммы Циммермана» был использован Вильсоном максимально, и системно очень напоминал «фактор Гаврилы Принципа».
Выстрел в Сараево тщательно готовился сразу с нескольких сторон. А как с «депешей Циммермана»? Очень уж и она оказалась кстати…
Пятидесятивосьмилетний Артур Циммерман был хотя и «карьерным» дипломатом, пройдя все стадии консульской службы, но дипломатом для рейха нетипичным. В Аусамт он пришел не из аристократической, а из буржуазной среды. После войны полностью сошел с политической арены, хотя жил долго и умер в 1940 году… Так что и тут мы имеем пример судьбы странной, двойственной, в которой можно легко подозревать скрытые от посторонних глаз мотивы и поступки.
После публикации злосчастной телеграммы агентством «Ассошиэйтед Пресс» американские пацифисты объявили её провокацией англичан. Чтобы не раскрывать немцам умение англичан дешифровывать германский дипломатический код, технология перехвата обнародована не была, а директор английской морской разведки сэр Реджинальд Холл провел хитроумную операцию прикрытия подлинного источника ин формации.
Все эти обстоятельства скорее всего позволяли Германии от конфузной депеши откреститься и вслед за пацифистами Америки объявить ее провокацией. Однако 3 марта её подлинность была подтверждена на пресс-конференции самим Циммерманом. Шаг, ещё более непонятный, чем отправка депеши подобного содержания. Ведь сколько мы имеем примеров вранья на высшем государственном уровне в ситуациях менее критических и по поводам менее значительным… И остаётся лишь гадать: по чьему-то недосмотру или по чьей-то злой воле была состряпана эта провокация с точной адресацией и точным учётом реакции на неё общественного мнения Америки…
Во всяком случае пришлась депеша Циммермана очень ко времени. От США, как от страны нейтральной и от Европы далекой, народы Европы ожидали миротворческого посредничества. Но Дядя Сэм отводил себе роль решающей военной фигуры на решающем, финальном этапе войны. И нужен был окончательный повод для того, чтобы прекратить разыгрывать роль арбитра и превратиться в прямого участника «игры».
Миссии Хауза… Затем «Лузитания»… Затем «банкет Джерарда»… Затем «депеша Циммермана»…
Теперь США могли брать дело войны непосредственно в свои руки. Да и пора было… Подводная война уже угрожала Англии голодом, а тоннаж судов, потопленных с момента ее объявления, приближался к миллиону тонн. Америке приходилось спешить.
Второго апреля Вильсон обратился к Конгрессу с просьбой санкционировать объявление войны Германии. Шестого апреля война была объявлена.
Одновременно появлялась возможность более решительно вмешаться в русские дела…
* * *
В Россию уже пришел февраль 1917-го… Значит, в Россию уже пришла революция. Её буржуазный характер вполне устраивал и Антанту, и США. Однако дальше русская революция пошла так, что ход ее нравился американцам все меньше.
Ещё в конце 1916 года был убит Распутин, а в феврале 1917 года Николай II отрекся. Отрекся не под дулом нагана революционного матроса, а после опроса всех командующих фронтами и флотами.
Жестко против отречения высказался только Хан Нахичеванский, остальные сказали: «Уходи!»
Вот почему последний дворцовый комендант Николая генерал Воейков назвал основными виновниками падения самодержавия именно эту компанию во главе с бывшим главнокомандующим, дядей царя, великим князем Николаем Николаевичем.
Отречения царя требовали и кадет Милюков, и помещик Родзянко, и монархист Шульгин.
Поезд генерал-адьютанта Иванова, которого царь направил на усмирение Петрограда, застопорил в пути не красно гвардеец, а железнодорожный штатский генерал, кадет Ломоносов. Потом, впрочем, «думец» Шульгин запустил в оборот легенду о разобранных-де путях под Гатчиной, но если их кто-то и разбирал, то по указанию того же Ломоносова.
Так что я не вижу лучшего способа дать краткую оценку Февралю, чем привести слова Ленина: «Весь ход событий февральско-мартовской революции показывает ясно, что английское и французское посольства с их агентами и „связями“, чтобы помешать сепаратному миру Николая II с Вильгельмом II, организовали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и петербургского гарнизона для смещения Николая Романова. Англо-французский империалистический капитал, в интересах продолжения империалистической бойни, ковал дворцовые интриги, подстрекал и обнадеживал Гучковых и Милюковых»…
А теперь не цитаты, а факты… Мелкие, так сказать, «капли» исторической истины, по которым узнается вкус всей эпохи… Английский посол Бьюкенен носил неизменный значок со свастикой. И свастика украшала банкноты Временного правительства.
На пятитысячной купюре она была повторена три раза! Вряд ли это можно считать простым совпадением.
Ещё за год до революции полковник Генштаба Энгельгардт — кадетский член Военной комиссии Государственной Думы, честно признавался: «Распутинская и сухомлиновская клики сильны…». И тут же прибавлял: «Но мы с ними справимся». — «Каким способом?» — интересовались собеседники. — «Да, пожалуй, придется революционным. Только как бы „слева“ не захлестнуло…».
«Слева» и захлестывало. Такой вариант не устраивал ни Антанту, ни Америку. И общую европейскую ситуацию в августе 1917 года хорошо описывал Манифест VI съезда РСДРП (б): «Американские миллиардеры, наполнившие свои погреба золотом, перечеканенным из крови умирающих на полях опустошенной Европы, присоединили свое оружие, свои финансы, свою контрразведку и своих дипломатов для того, чтобы не только разгромить своих немецких коллег по международному грабежу, но и затянуть потуже петлю на шее русской революции».
Как известно, первое Штатам удалось, второе — нет. Но это не значит, что Штаты, как и российский Капитал, не старались. Шестого августа 1917 года крупнейший предприниматель заводчик Рябушинский откровенно огласил свою программу: «Костлявая рука голода и народной нищеты схватят за горло друзей народа, членов разных комитетов и советов».
Капиталисты России саботировали производство. В мае 1917 года были закрыты 108 заводов. Летом простаивали уже 40 % металлургической промышленности и 20 % — текстильной.
Пришёл октябрь. Еще в феврале этого года большевики не были ведущей партией масс. Формально они не были ею и после Октябрьской революции. На выборах в Учредительное собрание (кстати, через неделю после Октября) большевики по лучили по стране лишь 25 % голосов, а партия эсеров — более половины.
Однако Ленин был прав, утверждая, что страна доверяет именно большевикам, потому что в течение 1917 года только они быстро набирали влияние в массах, а остальные партии так же быстро его теряли. По стране большевики получили 25 %, а вот в столице, в Петрограде, где Ленин имел возможность наиболее отчетливо довести до народа свою позицию и где народная масса была наиболее сознательной, — они получили на вы борах в «Учредилку» 50 % — шесть мест из двенадцати!
Большевизм отражал устремления трудящейся массы. Вот почему Ленин смог завоевать ее умы и сердца и победить в жестокой внутренней борьбе…
* * *
Началось, правда, с поражений. Старая русская армия развалилась, новой ещё не было. В Брест-Литовске Россия и Германия подписали сепаратный мирный договор.
Троцкий его подписание вначале саботировал.
Бухарин был резко против мира.
Между прочим, и второй, и, особенно, первый, откровенно сыграли здесь на руку Антанте и США. Отказ Троцкого от немедленного мира провоцировал втягивание Германии в антисоветскую интервенцию, и этим Лев Давидович оттягивал немецкие войска с Западного фронта.
Деталь, нужно сказать, занятная, — особенно если знать, что английский дипломатический агент и разведчик Брюс Локкарт тоже стремился сорвать ратификацию и действовал в Петрограаде в этом направлении весьма активно.
В дни накануне ратификации Ленин писал: «И тяжкое же ремесло человека, которому приходится парить в баньке чесоточных». Имелись в виду те, кому Ленин ставил диагноз: «чесотка громких фраз»…
«Перманентно революционный» Троцкий идеально подходил под такой диагноз как тогда, так и в будущем. Но опять-таки только ли в р-р-еволюционности было дело, или играли свою роль более тонкие и менее «романтические» комбинации?
Из-за опасности германского наступления на Петроград дипломатический корпус был эвакуирован в Вологду, и Ленин в разговорах с Локкартом и американским представителем Робинсом сообщал им, что Советская Россия, если Антанта окажет нам военную помощь, готова продолжать войну в случае продолжения германской агрессии. Однако сам же Ленин прибавлял, что английское правительство этого ни за что не сделает. Ленин был прав: союзники оказали помощь, но не русской революции, а русской контрреволюции.
Ленин же, сразу обозвав договор «похабным миром», на стоял на его заключении и ратификации под угрозой выхода из ЦК. Ленина поддержал и Сталин. А буржуазные газеты опять подняли старую тему о «пломбированном вагоне»… Не можем обойти ее и мы, мой уважаемый читатель.
Историк Юрий Фельштинский в предисловии (1995 год) к материалам эмигранта Николаевского написал: «Сделав ставку на революцию в России, германское правительство в критические для Временного правительства дни и недели поддержало ленинскую группу, помогло ей проехать через Германию и Швецию… Как и германское правительство, ленинская группа была заинтересована в поражении России».
Здесь всё не так… Ставку на революцию в России сделала Антанта, и это она вдохновляла на революцию, замышлявшуюся как верхушечный переворот, российские буржуазные круги.
Через Швецию Ленину помогли проехать шведские социал-демократы.
Ленин вернулся в Россию не в «критические дни», а в разгар «медового месяца» Временного правительства с российским обществом.
И Ленин был заинтересован в поражении не России, а помещичье-капиталистической власти, справедливо считая та кое поражение условием перехода власти к представителям народа. И ни в каких отношениях с имперским кайзеровским правительством Ленин тоже не был.
Это уже позднее — в ноябре 1918 года — он поручал наркому иностранных дел РСФСР Чичерину предложить революционному германскому правительству помощь России для ведения Германией народной войны против вторжения иностранного империализма.
Но переговоры по прямому проводу с лидером немецких социал-демократов, членом Совета народных уполномоченных Гуго Гаазе ни к чему не привели.
Весной 1917 года до всего этого было еще далеко. Ленин приехал в Петроград 16 апреля 1917 года из Швейцарии действительно транзитом через Германию и Швецию. Но такой маршрут был задан ему и его товарищам… англичанами. Вот как это вышло…
Февральская революция объявила всеобщую политическую амнистию. Теперь эмигранты могли вернуться домой без того, чтобы тут же угодить в каталажку. Но Англия не пропускала тех революционеров, которые выступали против войны. Поэтому путь Ленину из Швейцарии через Францию и Англию на Швецию и дальше был закрыт во имя торжества «английской демократии» над «прусским милитаризмом».
При проезде Ленина через Англию его бы просто арестовали. Англичане так тогда и поступили с некоторыми российскими политэмигрантами.
* * *
Не забудем, что Золотой Интернационал уже готовил подключение Соединенных Штатов к финальной стадии войны, и преждевременное ее прекращение было для вильсонов, ллойд джорджей, клемансо, черчиллей и барухов просто недопустимо.
Отношение же германского правительства к проезду русских революционеров, выступающих против войны, было прямо противоположным английскому.
Как могли немцы в апреле 1917 года отказать в возвращении на родину тем, кто обличал мировую бойню, если еще в декабре 1916 года Германия была готова немедленно приступить к мирным переговорам?
Имперские министры не настолько хорошо разбирались во взглядах лидера большевиков, чтобы понимать, что они-то, представители истощаемой войной Германии, хотели мира во имя спасения германского империализма, а Ленин призывал к миру во имя уничтожения любого империализма (в том числе и германского).
Всю пикантность ситуации при проезде транзитом через Германию Ленин прекрасно понимал, но иного пути добраться до бурлившей России не было. Поэтому он настоял на праве экстерриториальности — то есть проезде без контроля пас портов и багажа и недопущении в вагон кого бы то ни было из чиновников (отсюда и пошел ездить «пломбированный вагон» по страницам петроградских газет).
Переговоры с немцами вел лидер швейцарских левых социал-демократов Фриц Платтен. Он же был и руководителем поездки и сопровождал вагон при проезде через Германию.
Русская (точнее, петроградская) буржуазия сбросила царя, чтобы продолжать войну. И вдруг приезжает энергичный чело век с лозунгом: «Никаких уступок „революционному“ оборончеству! Да здравствует социальная революция!». Как ослабить его влияние? Ну, конечно, сообщить, что приехал «немецкий шпион».
Однако для «германского агента», якобы получившего «миллионы золотых марок» от «германского генштаба», Ленин повел себя странно. Во второй половине апреля в Петро град приехал известный датский социал-демократ Фредерик Боргбьерг, связанный с немецким правым социал-демократом Шейдеманом (через полтора года он войдет в последнее имперское правительство Макса Баденского).
Боргбьерг от имени Объединенного комитета рабочих партий Дании, Норвегии и Швеции предложил социалистическим партиям России принять участие в конференции по вопросу о заключении мира. Созвать её предлагалось в Стокгольме в мае 1917 года.
6 мая на заседании Исполкома Петроградского Совета, где большинство было тогда у меньшевиков, Боргбьерг откровенно сказал: «Германское правительство согласится на те условия мира, которые германская социал-демократия предложит на социалистической конференции…».
Шито тут всё было, конечно, белыми нитками, читатель! Ясно, что «условия мира германской социал-демократии» от первого до последнего пункта напишут германский Генштаб и канцлер Бетман-Гельвег. Так что один-то агент германского Генштаба без кавычек в мае 1917 года по Петрограду разгуливал — это был датчанин Боргбьерг.
Как же «помог» ему в этом деле Ленин? А вот как… 8 мая Исполком Петросовета заслушал мнения партийных групп. За поездку в Стокгольм высказались трудовики, бундовцы и меньшевики. Большевики же — по требованию Ленина — объявили участие в такой «мирной» затее полной изменой интернационализму.
А Апрельская конференция большевиков, проходившая с 7 по 12 мая, разоблачила Боргбьерга как… агента германской: империализма. Ленин, выступая на ней 8 мая, сказал:
— Я не могу согласиться с товарищем Ногиным. За всей этой комедией якобы социалистического съезда кроется самый реальный политический шаг германского империализма. Тут не может быть и тени сомнения, что это предложение немецкого правительства, которое не делает таких шагов прямо и которому нужны услуги датских Плехановых, потому что на та кие услуги немецкие агенты не годятся. Положение Германии самое отчаянное, вести теперь эту войну — дело безнадежное. Вот почему немцы говорят, что готовы отдать почти всю добычу, ибо они все-таки стремятся при этом урвать кое-что…
Зал слушал внимательно, хотя не все лица выражали одобрение и понимание. Вроде бы речь о мире, а Ленин — против. Ленин же продолжал:
— Несомненно, что когда английские и французские социал-шовинисты сказали, что они не идут на конференцию, — они уже все знали: они пошли в свое министерство иностранных дел, и им там сказали: мы не хотим, чтобы вы туда шли… Вот почему, товарищи, я думаю, что нам эту комедию нужно разоблачать. Все эти съезды не что иное, как комедии, прикрывающие сделки за спиной народных масс…
Вот тебе и «пломбированный вагон»! Вот тебе и «немецкий шпион»! А ведь как удобно было бы укрыться за спиной Боргбьерга действительному агенту немцев…
Впоследствии отставные «социалистические» политики Февраля об истории с Боргбьергом вспоминать не любили, а если и вспоминали, то с явным намерением затемнить неприглядный для них эпизод.
Так, Владимир Бенедиктович Станкевич (точнее — Владас Станка), приват-доцент кафедры уголовного права Петербургского университета и лидер фракции трудовиков («энэсов» — «народных социалистов»), покинувший Россию в 1919 году и с 1949 года живший в США, написал о Боргбьерге следующее: «Подлинное же мнение большинства германской социал-демократии привез представитель датских социалистов Боргбьерг. Он появился как-то таинственно, произнес небольшую (!? — С.К.) речь с явными недомолвками, потом на неделю куда-то стушевался. Потом появился опять и заявил, что может приблизительно изложить мнение германских социалистов. Но это мнение отнюдь не произвело впечатления ответного рукопожатия, а скорее, попытки спекульнуть на русской революции».
В общем, по Станкевичу, выходило, что приезжала, мол, какая-то мелкая подозрительная «шушера», которую никто (и особенно «трудовики» во главе со Станкевичем-Станкой) не воспринял всерьез. А ведь пятидесятилетний Боргбьерг к тому времени был уже двадцать лет депутатом датского парламента, главным редактором центрального органа партии — газеты «Социал-демократ». К Октябрю он отнесся враждебно, а в двадцатые и тридцатые годы занимал в королевском правительстве Дании посты министра социального обеспечения, а потом — образования.
Поэтому Станкевич говорил тогда с ним «без дураков», прекрасно представляя себе все немалые фактические полномочия датчанина.
* * *
Английские, французские и бельгийские «социалисты большинства» от предложения Боргбьерга отказались, как и Ленин, но по другим причинам! Полностью подчинившись «работодателям», они уже напропалую сотрудничали с правительствами, а те, естественно, желали довести войну до пол ной победы над немцами.
Ведь США уже вламывались в Европу и были отлично подготовлены для того, чтобы быстро обеспечить победу…
Не поддержали германскую (а не датскую, скажем прямо) идею и немецкие левые социал-демократы Роза Люксембург и Карл Либкнехт, сидевшие тогда в тюрьме.
Итак, кайзеровская Германия и царская Россия были обречены как «справа», так и «слева». Собственно, они были обречены уже три года назад. Вильгельм это предвидел, Николай, несмотря на прямые предостережения Дурново, — нет.
Теперь, сделав своё дело, русский царизм ушёл под давлением русской элиты, а элиту сметала стихия народного возмущения.
Пора было уходить и кайзеру, что и произошло осенью 1918 года. В наступающем хаосе Германия оказывалась во власти нескольких разнородных сил, общим у которых было только стремление к низвержению монархии. Одни стремились к этому во имя трудящихся, другие — во имя Капитала. Такое противостояние стало сутью жизни и в послереволюционной России.
Вот такая деталь. Весной 1917 года трудовики-энэсы и другие «социалисты» были готовы договариваться с прогерманским политическим курьером. Однако после того, как Октябрь отстранил их от власти, они начали изображать Германию (не имперскую Германию, а Германию как таковую) средоточием враждебности к России.
После заключения Брестского мира В. Барановский, В. Болдырев, А. Верховский, А. Гоц, И. Пораделов, А. Потресов, В. Розанов, В. Станкевич-Станка, В. Сурин и Н. Хенриксон издали в Петрограде сборник статей «Народ и армия».
Меньшевик Розанов (однофамилец философа) писал: «Германия была нашим неприятелем в войне, теперь она стала нашим врагом. Эта вражда — на целый исторический период. Она не временна и не случайна, она не связана с той или иной комбинацией власти у нас, она не ограничивается Гогенцоллернами с их Гинденбургами. Она — нечто большее и нечто более тяжелое: нашим врагом является целая страна, вся Германия со всей ее современной государственной культурой».
Мирный, казалось бы, человек, медик, а сколько в его словах злобы… И по ним видно, что либеральная, буржуазная, интеллигентствующая Россия даже при своем издыхании тянулась куда угодно: к англосаксам, к французам, но только не к той стране, вражда с которой всегда ослабляла Россию, а партнерство с которой укрепляло ее прежде всего экономически. Да и политически…
Германию вражда с Россией ослабляла ещё более, чем Россию, что хорошо стало видно на примере Брест-Литовского мира.
История его драматична — достаточно вспомнить, что в ходе дискуссии о допустимости его заключения Ленин был готов уйти из ЦК и обратиться непосредственно к партийной массе. «Левые», выступая против мира, не видели того, что Ленин чуть позже разъяснял публично: мир — это передышка для войны.
Ленин напоминал, что бывало немало договоров о «веч ном мире», которые не протягивали и года (с Брестским ми ром так и получилось).
Победоносный для Германии и унизительный (по определению Ленина, «похабный») для России мир ослабил Германию решающим образом.
Получилось по присказке об Иване (в нашем случае — Гансе), который медведя-то поймал, да тот его не отпускал. Вот и имперская германская элита вместо того, чтобы заключить честный демократический мир «без аннексий и контрибуций», пожадничала и, навязав России 3 марта 1918 года в Брест-Литовске очень тяжелые условия мира, одновременно подписала будущий смертный приговор Второму рейху.
Если бы Германия полностью демилитаризировала приграничную с Россией зону и тем резко усилила свой Западный фронт, то ее шансы на сведение войны на Западе к более-менее приемлемому для немцев итогу были бы не такими уж без надежными.
Вместо этого Германия к лету 1918 года оккупировала всю Украину, часть Белоруссии, Донскую область и Крым, высадила войска на Таманском полуострове, обосновалась на Кавказе, заняла Киев, Баку, Тифлис, Кутаис, Одессу, Таганрог, Ростов, Псков, Курляндию, Эстляндию и Лифляндию.
Буржуазная Центральная Рада Украины обязывалась поста вить рейху 1 миллион тонн хлеба, 50 тысяч тонн живого веса рогатого скота, 400 миллионов штук яиц и прочее по мелочам.
По добавочному Русско-германскому договору от 27 августа 1918 года, подписанному в Берлине в дополнение к Брестскому договору, РСФСР должна была выплатить Германии только золотом полтора миллиарда!
Итак, блестящий для Германии результат? А это как сказать…
«Миллион» — слово, конечно, громкое. А теперь разделим… Скажем, 400 миллионов штук яиц на 67 миллионов немцев рейха. Не выходит и по шести штук на человека. Негусто…
Так ведь и этого немцы не получили. В различных источниках данные приводятся разные, но даже если брать максимальные цифры, то оказывается, что без малого десять тысяч вагонов по 20 тонн хлеба на вагон да плюс 39 тысяч голов скота (то есть вряд ли более 15 тысяч тонн живого веса) — вот и все, что вывезли немцы с Украины реально.
Итого: килограмма по три хлеба да по двести граммов мяса на один голодный немецкий рот — примерно на пол-года… То есть ежедневная «украинская» хлебная прибавка к столу немецкой семьи из четырех человек составляла где-то 80 граммов на все про все (20 граммов на человека). О мясе говорить вообще не приходится.
В течение полугода вывозили немцы и сахар — по чайной ложечке на человека в день. Не обопьёшься…
«Золотые» же миллиарды остались лишь на бумаге — ровно через два с половиной месяца после августа 1918 года Советская Россия аннулировала Брестский договор вместе со всеми к нему «добавочными».
Выиграла Германия на Востоке крохи — в прямом смысле слова.
Зато в разгар решающей для немцев летней кампании 1918 года на восточноевропейском фронте находились до трех десятков германских дивизий из двухсот сорока, имевшихся у Германии. А на Западном фронте численность американских войск превысила к тому времени миллион человек. В германской же армии в большинстве батальонов были расформированы четвертые роты. Вооружения и боеприпасов хватало, но уже не хватало людей.
В июле немцы попробовали переломить течение войны, начав «сражение за мир» в районе Марны, уже давно принимавшей в себя больше крови, чем воды. Наступление захлебнулось, а союзники подготовили мощный контрудар и «вторая Марна» осталась решительно за ними.
Вновь, как и в начале войны, отвлечение германских сил на Россию (но теперь уже исключительно по вине самой Германии) в конце войны программировало крах Германского рейха и бедствия для немецкого народа.
Россия же, вместо того чтобы залечивать урон от войны империалистической, была вынуждена вести войну гражданскую.
Германия, вместо того чтобы замириться с Россией на основе справедливого мира и последним концентрированным ударом покончить с войной на Западе, истощала себя в бес плодном противостоянии с Россией.
Хотя — почему «бесплодном»? Плоды-то раздора были, но пользовались ими общие враги и кайзеровской Германии, и Советской России…
* * *
В самом начале 1918 года — 8 января — Вильсон выступил в конгрессе с «14 пунктами мира», известными как «пункты Вильсона». Они обнаруживали неплохое понимание предыстории и перспектив политической ситуации, которая была выгодна Капиталу.
И как раз поэтому можно с уверенностью сказать, что последним, кто имел к «14 пунктам» хоть какое-то отношение, был их «автор».
Свидетель на сей счёт есть авторитетный — Уильям Буллит. Он, конечно, не оспаривает авторство бывшего шефа, а незаметно для себя проговаривается: «Вильсон оставался удивительно невежественным в вопросах европейской политики, географии и национального состава. Даже после произнесения им величественных речей, посвященных международным событиям, его знание Европейского континента оставалось элементарным».
Четырнадцать же пунктов были составлены квалифицированно — теми, кто понимал и организовывал весьма тонкие «тонкости» в незнаемой Вильсоном Европе.
Имея в виду как раз таких знатоков, Ленин за год до появления 14 пунктов писал: «Американские миллиардеры и их младшие братья (в Голландии, Швейцарии, Дании и прочих нейтральных странах)… начинают замечать, что золотой род ник оскудевает».
Понимание того, что из военной «лавочки» уже много не выжмешь и нужно открывать «лавочку» послевоенную, и вызвало к жизни «пункты мира».
ГЛАВА 8 Время разбрасывать бомбы, время собирать выручку…
Да, с мировой войной Капиталу нужно было поскорее кончать. Советская Россия явно подавала «дурной пример», попытки контролировать ее не удались, а попытки уничтожить с самого начала оказались очень уж неопределенными по своим конечным результатам.
С одной стороны, возникала опасность «большевизации» Европы, с другой — к середине 1918 года США уже почти обеспечили военное поражение германских конкурентов.
Пока, правда, лишь «почти». Интересен случившийся в ходе войны эпизод, известный лишь со слов компетентного участника. Весной 1918 года немцы опять близко подошли к Парижу. Французскую столицу уже обстреливала дальнобойная (на 100 километров) «Большая Берта», ее бомбили в ночных налетах бомбардировщики, можно сказать, на виду у всей Европы. Менее известным было то, что в Париже за бастовали 400 тысяч рабочих. Союзники были в панике. США тоже. Американские солдаты, только начав свои плавания к Старому Свету, могли ненароком опоздать. И вот тут-то «полковник» Хауз срочно обратился к влиятельному корреспонденту агентства Херста Карлу фон Виганду с поручением.
Виганд был не просто газетчиком — у него имелись серьезные связи, он дружил с кайзером. И теперь его собирались послать с особой миссией в Швецию, а оттуда в рейх для… вы работки предварительных условий сепаратного мира Европы и США с Германией!
Сепаратного — потому что тогда у Германии появлялась возможность возобновить наступление на Восточном фронте на Россию, теперь уже советскую.
Мира — потому что победа США могла рухнуть накануне победы.
Но немцы успехи наступления закрепить не смогли, а Клемансо сумел уговорить рабочих. Необходимость в посредничестве Виганда отпала.
Не войдя в исторические анналы, эта история с несостоявшимся миром не вошла, естественно, и в дневник «полковника» Хауза. Ее со слов Виганда вписал в свой дневник американский посол в Берлине в тридцатых годах Додд.
Профессор Додд в её правдивости сомневался, потому что, мол, нигде о ней не читал. Ещё бы! Это как раз и была та прав да, которая тает и бесследно исчезает в воздухе, как слова важного, но нигде не фиксируемого разговора…
А американцам пришлось, что называется, «пришпорить коней». В мае на военном совете союзников в Версале союзные премьеры: английский Ллойд-Джордж, французский Клемансо и итальянский Орландо составили телеграмму Вильсону: «Положение крайне серьезно. 162 союзные дивизии должны сдерживать напор 200 германских. Без американских подкреплений минимум по 300 тысяч человек ежемесячно на победу надеяться нельзя».
И Дядя Сэм начал посылать в Европу нужное количество голов — сотни тысяч жизней в обмен на сотни миллионов дол ларов. К осени в Европу отправляли уже по 330 тысяч солдат ежемесячно.
Реальное их участие в боевых действиях, к слову, было не таким уж и значительным, что подтверждают данные о людских потерях войск США. Основная их доля пришлась на период с июля по ноябрь 1918 года и составила 34 тысячи солдат и офицеров. Всего же безвозвратные боевые потери США составили около 40 тысяч человек.
Как и всегда, Америка не столько воевала, сколько «давила» психологически. Но давила она, нужно признать, с размахом.
В итоге Германия быстро утратила даже минимальные шансы не то что на победу, но и на более-менее почетный мир. И вот ведь как интересно получается!
Америка сделала всё для того, чтобы Германия внешнюю войну проиграла. Америке был ни к чему рейх, угрожающий вначале оттоптать янки пятки, а потом и показать им спину.
И вот теперь, после того как Штаты почти уничтожили Германию, подрезав германскому Капиталу крылья, Америке же приходилось заботиться о внутренней политической победе этого Капитала над общим врагом — Трудом — и… сохранить при этом германский потенциал европейского противостояния на будущее.
Помощников из Старого Света в этих делах у Штатов хватало. Долларов тоже.
3 октября 1918 года в Германии, еще при кайзере, по указанию Вильсона было образовано «коалиционное» правительство. Глава — аристократ, принц Макс Баденский, но в состав уже вошли «демократы» Шейдеман и Бауэр.
5 октября это правительство обращается к Вильсону с просьбой о перемирии, на что 8 октября следует жесткий ответ. Фактически от немцев требовали капитуляции.
9 октября на заседании кабинета министр иностранных дел задает вопрос генерал-квартирмейстеру Людендорфу: «Может ли фронт продержаться хотя бы три месяца?». Людендорф поправил усы и резко ответил: «Нет!».
* * *
Людендорф потребовал перемирия ещё 28 сентября. Но он имел ввиду именно перемирие, а не катастрофическую капитуляцию. Поэтому, когда Макс Баденский снесся с Вильсоном и немцы узнали, что им предлагают форменное самоубийство, гот же Людендорф настоял, чтобы маршал фон Гинденбург обратился к войскам. Седоусый маршал ответил: «Ответ Вильсона требует капитуляции, а потому для нас, солдат, неприемлем».
Армия же продолжала разваливаться. Людендорф 26 октября подал в отставку, а 4 ноября в Киле восстали моряки.
9 ноября рабочие Берлина объявили всеобщую забастовку по призыву «Союза Спартака».
10 ноября Вильгельм навсегда бежал в Голландию. Его личный друг директор «Гамбург Америка линие» Л. Баллин, узнав об этом, покончил жизнь самоубийством.
В Германии нарастал хаос.
В истории конца Первой мировой войны, как и в истории её начала, её хода, есть много мест не то чтобы темных, но скорее своеобразных. Например, чаше всего думают, что левый «Союз Спартака», образовавшийся в конце 1916 года, был так назван по имени античного героя…
Может так, а может и не так. И может быть, все объясняется тем, что кто-то знающий вспомнил об орденском имени основателя мощного франкмасонского ордена иллюминатов Адама Вейсхаупта, потрясавшего Германию в конце XVIII века. Вейсхаупт у иллюминатов был «Спартаком», историк Вестенридер — «Пифагором».
«Вольные братья-каменщики» и люди, к ним близкие, всегда (а в XX веке — особенно) любили двусмысленности. Посему сказать точно, тень какого Спартака чтили в Германии в 1918 году, теперь просто невозможно.
Во всяком случае многое в масонстве в начале ХХ-го века стало смотреться как-то иначе, чем ранее. Так Людендорф — уже после войны — громогласно заявлял, что в военном поражении Германии виновно франкмасонское влияние в армии.
Но в Германской армии оно было скрытым, а вот во французской нелояльности к масонству пресекалась открыто… А что же Россия?
Знаменитая Елена Кускова, жена лидера кадетов Прокоповича и сама видная кадетка, в глубокой эмигрантской старости написала воспоминания, в которых приоткрыла немного завесу таинственности: «Движение это (масонское. — С.К.) было огромно. Везде были свои люди. Князьев и графьев было много. Были и военные — высокого ранга. До сих пор тай на огромна. К Февральской революции ложами была покрыта вся Россия, Здесь, за рубежом, есть много членов этой организации. Но — все молчат. И будут молчать».
Впрочем не будем углубляться в «масонскую» тему. Безусловно, масонство — наиболее очищенная от национального и конкретно государственного интереса форма организации «золотой» мировой элиты. И это — очень серьезный и давний фактор в политической истории мира. Масонство формировалось, вырастало, совершенствовалось и видоизменялось не один и не два века. Однако дело не в фартуках и мистике, а в кошельках и экономических интересах. Интересы Капитала вообще вненациональны, а точнее — наднациональны.
Но в Германии, в силу особенностей ее новейшей истории, капитал имел весьма выраженную национальную окраску.
И вот теперь осенью 1918 года этот национальный (по преимуществу) германский Капитал капитулировал перед Капиталом интернациональным.
А последнему рейхсканцлеру кайзеровской Германии принцу Максу оставалось лишь направить к победителям парламентеров.
Вечером 7 ноября 1918 года автомобиль германской делегации под белым флагом пересек линию фронта. Немцев посади ли в спецпоезд, и утром они уже подходили к штабному вагону маршала Фоша на станции Ретонд в Компьенском лесу. Фош руки им не подал и с отсутствующим видом полюбопытствовал:
— Чего вы хотите, господа?
— Мы хотим получить ваши предложения о перемирии.
— О, у нас, — Фош издевательски развел руками, — у нас нет никаких предложений такого рода. Нам очень нравится продолжать войну.
— Мы считаем иначе. Нам нужны ваши условия прекращения борьбы.
— Ах, так это вы просите о перемирии. Это другое дело.
* * *
Компьенское перемирие ещё не было подписано, а его условия уже ориентировали Германию на вражду с новой Росси ей. Статья 12-я предусматривала, что германские войска должны покинуть русскую территорию только тогда, когда «союзники признают, что для этого настал момент, приняв во внимание внутреннее положение этих территорий».
Если кому-то было что-то непонятно, то публичные комментарии к «14 пунктам», с которыми Вильсон выступил в Нью-Йорке 27 сентября 1918 года, все объясняли вполне определенно.
6-й пункт из 14, «озвученных» их «автором» еще 8 января, касался России: «Урегулирование всех затрагивающих Россию вопросов, которое обеспечит России самое полное и свободное сотрудничество других наций в предоставлении ей беспрепятственной и ничем не стесненной возможности принять не зависимое решение относительно ее собственного политического развития и ее национальной политики».
О том, как США и «другие нации» «помогали» нам сделать свой свободный выбор в гражданскую войну, можно написать отдельную книгу.
А можно просто сообщить о том, что Вильсон прокомментировал 27 сентября 6-й пункт так: все белогвардейские правительства на территории России должны получить помощь и признание Антанты; Кавказ — это часть проблемы Турецкой империи; Средняя Азия должна стать протекторатом англосаксов; в Сибири должно быть отдельное правительство, а в Великороссии — новое (то есть не советское).
У народов России на эти американские комментарии был взгляд, отличающийся от вильсоновского.
В Германии же 9 ноября установилось правительство, с Вильсоном согласное, под «руководством» правого социал-демократа Эберта. Рано утром 11 ноября условия перемирия бы ли подписаны. В честь такого события в 11 часов в Париже прогремел артиллерийский салют в 101 залп.
А 13 декабря 1918 года в Париж на «мирную» конференцию прибыл из Вашингтона главный «миротворец».
Правда, до того как «умиротворить» Европу и мир, предстояло решить вопрос с Германией. Хотя немцы и не очень-то дружно вели дело к социалистической республике, но «краснела» Германия быстро.
И в начале 1919 года в Берлин со срочным заданием направляются офицеры Его Королевского величества. Облегчало им жизнь только то, что в самой Германии оказалось просто найти желающих помочь. Вчерашние враги объединили усилия, и 15 января 1919 года цель была достигнута: в Берлине зверски убили Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Проблем у Капитала в Германии сразу поубавилось.
Вскоре все и вообще пошло на лад. 6 февраля в Веймаре открылось Национальное учредительное собрание, а 13 (дату опять-таки выбрали такую то ли случайно, то ли намеренно) февраля Шейдеман там же сформировал первое правительство «веймарской коалиции».
Началась бесславная и бездарная история Веймарской республики.
* * *
А в Париже 18 января в зале Министерства иностранных дел Франции на Кэ д'Орсэ речью французского президента Пуанкаре открылась Парижская мирная конференция. Француз сразу же выдвинул идею расчленения Германии на ряд мелких государств. Французским патронам Пуанкаре и Клемансо явно хотелось повторить давнюю историю Вестфальского мира 1648 года, завершившего Тридцатилетнюю европейскую войну и закрепившего раздробленность Германии. Конечно, это были пустые мечтания — ни Лондон, ни Вашингтон такой вариант не устраивал.
Зато их устраивало и радовало другое… Посол Англии в Париже лорд Берти записал в своем дневнике: «Нет больше России! Она распалась. Если только нам удастся добиться не зависимости буферных государств, граничащих с Германией на Востоке, т. е. Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т. д., то, по мне, остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку».
Заметим, читатель, что английского лорда особенно заботило то, как бы отгородить «санитарным кордоном» Россию не просто от Европы, а именно от Германии. В геополитике этот лорд явно знал толк! Но и Дядя Сэм ему, нужно сказать, не уступал. За океаном тоже хорошо понимали, как Россия потенциально опасна для интернационального Капитала.
Поэтому её и пытались нарезать на куски, как ветчину перед сытным обедом.
Ещё 23 декабря 1917 года Клемансо, Пишон и Фош от Франции, лорды Мильнер и Сесиль от Англии заключили тайную конвенцию о разделе сфер влияния в России: Англии — Кавказ, Кубань, Дон; Франции — Бессарабия, Украина, Крым.
США формально в конвенции не участвовали, хотя фактически держали в руках все нити, особо претендуя на Сибирь и Дальний Восток… Они рассчитывали и на общую гегемонию, и на конкретную добычу.
Географическая карта, подготовленная госдепартаментом США для американской делегации на Парижской конференции, показывала это со всей наглядностью графического документа: Российское государство занимало там лишь Средне русскую возвышенность.
Прибалтика, Белоруссия, Украина, Кавказ, Сибирь и Средняя Азия превращались на «госдеповской» карте в «самостоятельные», «независимые» государства.
Графическая иллюстрация сентябрьских комментариев к январским «мирным» пунктам получалась хоть куда! Иллюстрировала она и еще одно обстоятельство: Америка всерьез стала рассматривать себя как вершительницу судеб мировой цивилизации. Ничем иным нельзя было объяснить то, что она замахивалась на будущее громадной, потенциально первой — первой не в силу внешних захватов, а в силу внутреннего развития — мировой многонациональной державы.
Екатерина Великая называла нашу Родину Вселенной, а психопатичный американец-профессор, поставленный в президенты, намеревался послать (вдумайся, читатель!) в революционную Россию отряды из молодежных христианских ассоциаций «для морального обучения и руководства русским на родом»!
Независимо от реализуемости этих претензий можно было сказать, что в искусственной истории искусственной американской империи началась новая эпоха мирового держимордства.
Пройдут почти семьдесят лет реальной истории, и американский историк Артур Шлесинджер-младший в книге «Циклы американской истории» напишет: «Мы беззаботно применяем выражение „конец невинности“ к тому или иному этапу американской истории. Это вполне благозвучная фраза — в тех случаях, когда за ней не скрывается пагубное заблуждение. Сколько раз нация может потерять свою невинность?»
Вряд ли сам автор понял, насколько точен его вопрос! Соединенные Штаты чуть ли не с колыбели обрели бесстыдство шлюхи, которая способна терять «невинность» раз за разом, поскольку это ей выгодно и необходимо, каждый раз заливая при этом белые ризы американского ханжества вот уж действительно невинной кровью…
Вначале — европейское «пушечное мясо», направленное за океан завоевывать Америке её независимость.
Затем — индейцы…
Еще позднее — чёрные рабы…
Потом — честные американские простые парни, считавшие, что погибают за освобождение этих рабов, а в действительности умиравшие за наращивание капитала, растущего на «целинных», нетронутых соках нового континента. Но все это происходило до поры в пределах самой Америки.
С приходом XX века очередная «потеря невинности» обернулась уже реками крови на другом великом континенте.
Перманентная американская «девственница» окончательно вышла во внешний мир для того, чтобы «терять невинность» всё чаще и заливать уже всю нашу планету все большими потоками невинной, то есть чужой и чуждой Америке крови.
«Мирная» Парижская конференция и должна была закрепить вновь создавшееся мировое положение вещей, закрепить уже достигнутое и подготовить условия для новых «невинных» циклов американской истории.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ДОЙНАЯ КОРОВА» ВЕРСАЛЯ…
ГЛАВА 9 «Честная сделка» Рузвельта и торжественная «разделка» Европы
В 1907–1909 годах по указанию президента Соединенных Штатов Америки Теодора Рузвельта шестнадцать свежевыкрашенных белой эмалевой краской новеньких американских линкоров совершили кругосветное плавание. А в 1910 году Рузвельт морочил голову публике в Осаватоми (штат Канзас): «Я стою за честную сделку, но когда я говорю, что я стою за честную сделку, я хочу сказать не только, что я стою за честную игру в соответствии с нынешними правилами игры, но также, что я стою за изменение этих правил с тем, чтобы добиваться более существенного равенства возможностей».
В 1917 году, за два месяца до официального вступления Америки в войну и за два года до смерти, почти шестидесяти летний экс-президент Рузвельт добивался уже другой возможности — сформировать конный полк под его командой для от правки во Францию. Клемансо писал Вильсону, что «имя Рузвельта имеет легендарную силу во Франции», но Вильсон не позволил бывшему конкуренту насладиться новой авантюр ной популярностью. Рузвельт отыгрался на том, что «наладил» на фронт в Европу всех своих сыновей и мужа младшей дочери — хирурга Дерби. Чтобы его Теодор и Арчибальд побыстрее оказались в войсках, отец добился для них личного вызова от командующего экспедиционным корпусом США во Франции генерала Першинга. Вскоре в английские войска уехал Кермит, а потом и 19-летний Квентин, поступивший в первый в США отряд военных летчиков.
Тед был дважды ранен, Арчи возвратился искалеченным, Квентин погиб. Но войну никто из Рузвельтов не проклинал… Это была их война. Сыновья оказались достойными отца, и от «яблони империализма», которую когда-то «посадил» Рузвельт-старший, Рузвельты-младшие «упали» недалеко.
Пример семьи Рузвельтов доказывает, что Штаты в Европе сражались за изменение правил «игры», но не для того, чтобы «добиваться более существенного равенства возможностей», а чтобы обеспечить в будущем абсолютное неравенство в пользу США. В Европу Америка пришла не ради Европы, но ради Америки же. Заокеанский капитал готовил эту войну, он ее и выиграл. ДЛЯ СЕБЯ. Факт, казалось бы, ясный до очевидного. Однако и шестьдесят лет спустя на страницах советской «Истории Первой мировой войны» ее авторы пересказывали старые россказни «полковника» Хауза и наивно считали, что Штатам пришлось вступить в войну просто потому, что они, мол, очень уж оказались экономически связанными со странами Антанты, которым, как мы знаем, Америка еще до своего вступления в войну предоставила кредитов на сумму, в сто раз большую, чем Германии.
А ведь было-то всё наоборот. Как раз для того, чтобы «прочно» привязать к себе страны Антанты и разгромить Германию, Соединенные Штаты давно и задумали эту войну. По тому 99 % своего военного «бизнеса» они и проворачивали в союзе с Антантой и против Германии.
Один «германский» процент кредитов был лишь фиговым листиком на американском «нейтралитете». Да к тому же по чему было не нажиться на немцах — хотя бы «по мелочам» — уже в ходе войны?
Но драть особенно бо-о-льшие проценты с побежденной Германии Америке ещё предстояло в будущем после войны.
Накануне войны, осенью 1913 года по Средиземному морю полтора месяца бродили девять опять-таки белых линкоров США, отправленных туда по указанию уже кузена Теодора Рузвельта — Франклина Делано Рузвельта, заместителя морского министра в правительстве президента Вильсона. А в декабре 1917 года Вильсон «признавался» Буллиту: «Я ненавижу всякую войну и единственное, о чем я забочусь на земле, — это о мире, который я собираюсь установить».
Хорошо говорил американский президент, одно плохо — лгал. Ленин объяснил положение вещей иначе и точно: «Содрать при помощи данной войны еще больше шкур с волов наемного труда, пожалуй, уже нельзя — в этом одна из глубоких экономических основ наблюдаемого теперь поворота в мировой политике».
Для того, чтобы «сдирать шкуры» уже при помощи мира, чтобы сделать Германию «дойной коровой», и была устроена Парижская конференция.
Слов там было произнесено немало — вместе с техническим персоналом в Париже собрались несколько тысяч чело век. 14 февраля (после месяца препирательств) Вильсон, на пример, высокопарно продекламировал: «Пелена недоверия и интриг спала. Люди смотрят друг другу в лицо и говорят: мы — братья, и у нас общая цель. Мы раньше не сознавали этого, но сейчас мы отдали себе в этом отчёт. И вот — наш договор братства и дружбы».
Но всё определяли не слова, а та реальность, которая сложилась на планете к концу января 1919 года.
* * *
Война в Европе закончилась. Но далеко не везде и не для всех. Полностью к мирной жизни не вернулся в этом году еще пи один крупный участник войны. По новой Советской России — на Урале, в Поволжье, в Сибири — катилась волна мятежа белочешского корпуса, взбодренного долларами, франками и фунтами.
В полной силе был ещё адмирал Колчак.
Чехи, американцы, японцы оккупировали Владивосток и Дальний Восток.
В Архангельске и Мурманске высадились англичане. Они же оккупировали Баку.
Собирал Вооруженные силы Юга России Деникин.
Батька Махно бил то белых, то красных, то своих.
«Возвращаясь из Бердянска — рассказывал он своему начальнику штаба, бывшему железнодорожному машинисту Белашу, — расстрелял коменданта станции Верхний Токмак. Сволочь такая, парень был хороший, помнишь, мы позанятии Бердянска назначили его комендантом. Теперь вывесил плакат: „Бей жидов, спасай революцию, да здравствует батько Махно!“. Я его коцнул…».
Да, на юге России всё перемешалось особенно круто и темпераментно. В Одессе дымила трубами англо-французская эскадра, и Григорий Котовский проводил свои одесские операции то во френче французского офицера, то во фраке «сбежавшего от большевиков» негоцианта. У маленькой же Жанны Лябурб, работавшей среди французских моряков, была одна неизменная форма — очарование француженки и опыт революционерки.
Приходили оперативные сводки с фронтов Венгерской советской республики: «Красная Армия Советской Венгрии заняла линию фронта на румынском участке: Берек, Миносликола — Фальва, Антафальва, но отошли из железнодорожного узла Фюлес. На чехословацком фронте наши атаки продолжаются».
Германию тоже будоражили перестрелки по всей территории — от Киля до Мюнхена. Правительственные войска генерала Леки обстреливали революционных моряков. В Берлине зверствовали отряды военного комиссара правительства социал-демократа Густава Носке, который сдавшихся в плен рабочих просто расстреливал, за что и получил прозвище «кровавая собака». Это как раз подчиненные ему офицеры штаба кавалерийской дивизии за три дня до начала Парижской «мирной» конференции убили Люксембург и Либкнехта.
Тогда ещё юный референдарий, будущий королевский прусский советник Гюнтер Тереке — кавалер «Железного креста» и инвалид войны — только стал ландратом в округе Науэн. Он писал: «Продовольственное положение в районе было катастрофическим. Рабочие голодали, их семьи нуждались в хлебе насущном».
В номерах некогда респектабельного отеля «Адлон» пахло плесенью, и один рукав у швейцара был пуст. Пустой рукав — не попытка автора «оживить» рассказ острой деталью, а реальность, известная из воспоминаний тех, кто видел все это своими глазами.
Надписи «Verboten» («Запрещено») висели повсюду, и по всюду сновали полицейские. На углу Беренштрассе стоял тяжёлый пулемёт.
Проститутки на Фридрихштрассе обслуживали только за франки, фунты и — тут уж и вообще не разговор — за доллары. Зато нищие в пока ещё приличных костюмах не отказывались от марок и смущались от непривычки к тому делу, которым им пришлось заняться.
В Берлине было неуютно и зябко, и нищие дрожали как от холода, так и от шума банкетов в отеле «Адлон», которые жена известного адвоката, бывшего члена IV Государственной думы кадета Александрова, устраивала в честь французских офицеров. Хлопали пробки, вздрагивали нищие под окнами, лилось шампанское, звучали тосты за Францию, Англию, Америку, новую Германию и победу белых армий. А на углу Беренштрассе стоял тяжелый пулемет.
Власть имела силы казнить, но не могла остановить развал. Саперная рота обер-лейтенанта Винценца Мюллера получила приказ отправиться из Касселя в Берлин на пополнение запасного гвардейского саперного батальона. Утром она уже четко вышагивала к казармам в Кепенике, удивляя прохожих выправкой и стройностью рядов. Со стороны Унтер-ден-Лин-ден то и дело слышалась винтовочная и пулеметная стрельба. На следующее утро Мюллера разбудил ротный фельдфебель: «Господин обер-лейтенант, рота исчезла». — «То есть?» — «Берлинцы разбежались по домам, а потом и остальные ушли на вокзалы. Осталось пять унтер-офицеров, и все». Уполномоченный Совета солдатских депутатов отнесся к происшедшему спокойно — в Берлине бывало сейчас и не такое. Он выдал Мюллеру штатское кожаное пальто и кепку, потому что в офицерской форме со знаками различия появляться в городе было опасно. А через пару часов в военно-инженерном отделе прусского военного министерства обер-лейтенанту предложили: «Хотите добровольно поступить в Пограничную стражу „Восток“?».
Мюллер согласился.
Начальником Пограничной стражи был генерал фон Сект, а дислоцировалась она на полустихийно возникшей германо-польской границе и в Прибалтике. Фактически это были самые дисциплинированные войска в Германии, не считая контрреволюционных отрядов фрейкора. В районе Шауляя стояла «Железная дивизия» майора Бишофа, на Ригу наступал генерал-майор граф фон дер Гольц. Германские войска еще держались на Украине, хотя оттуда их выметала уже не только русская, но и германская революция.
Восточные войска капитулировавшей Германии серьезно помогали Антанте в ее интервенции против России. Они по давили Советскую власть в Прибалтике и нависали над Петроградом. В Париже готовился Версальский договор, а немецкая Пограничная стража служила интересам как держав-победительниц, так и будущим планам аннексии Прибалтики Германией.
Верховное командование, то есть Гинденбург и генерал Тренер, даже рассчитывало на крупные операции против Советской России в союзе с Антантой. Однако в действительности немцы уже были неспособны на серьезные военные действия, а Антанта все более склонялась к мысли о временном выключении Германии из европейского силового «расклада». Использование германских войск против нас могло оказаться тушением пожара керосином.
Да и объективно потенциал Германии, как душительницы русской революции, был сомнителен. Пока существовал Рейх, большевиков обвиняли в послушном выполнении указаний из Берлина в обмен на то, что Германия устраняется от вмешательства в русские дела. Но Германия, как мы знаем, вмешивалась в той мере, в какой была на это способна.
Случались, впрочем, и курьезы… 6 июля 1918 года Ярославль был захвачен врасплох мятежом эсеров и белогвардейцев. Начались аресты и расстрелы. А через неделю к городу подтянулись советские пехотные части, броневики, бронепоезд, артиллерия.
Прошла еще неделя… И, оказавшись в положении безнадежном, мятежники нашли «выход» в том, что… объявили себя в состоянии войны с Германией (!), а потом, «так как для них ясна безуспешность дальнейшей борьбы (борьбы, конечно, с Германией, стакнувшейся с проклятыми Советами. — С.К.)», «сдались германской армии» в лице представителя комиссии военнопленных лейтенанта Балка.
Балк «потешную» «капитуляцию» принял, издал комично-высокопарный «приказ», а наскоро вооруженные (самими же белыми) германские пленные заперли сдавшийся штаб в здании театра и окружили его своим караулом.
Как видим, Балк помог не Советской власти, а ее врагам. Конечно, провокация белых имела две цели: спастись самим и попытаться создать конфликт, осложняющий наши отношения с немцами. Но вся эта трагикомическая история кончилась просто: Чрезвычайный штаб Ярославского фронта вступил с Балком в недолгие переговоры, в результате которых, как сообщал отчет ВЧК, «австро-германские пленные сложили оружие, и театр со штабом белогвардейцев очутился в наших руках».
Летом 1918 года в докладной записке на имя кайзера яко бы «покровитель» Ленина генерал Людендорф писал: «Если мы не предпримем наступления (на Россию. — С.К.), то обстановка останется неясной. Мы, возможно, нанесем большевикам смертельный удар и укрепим наше внутриполитическое положение».
Однако были в Германии и дальновидно мыслящие люди, понимавшие, что большевики, именно как потенциально национальная русская сила, не могут быть объективно враждебными Германии как таковой. В «Красной книге ВЧК» есть интересные показания одного из руководителей подпольного «Национального центра» профессора Сергея Андреевича Котляревского. Арестованный в конце гражданской войны, в 1920 году он описывал недавние события следующим образом…
Вначале «профессорская оппозиция» пыталась заигрывать с немцами и запрашивала — какой будет цена за то, что они призовут в Россию германские войска во имя освобождения от большевиков.
Однако близкий к послу Мирбаху советник посольства доктор Рицлер ответил кратко: «Этого спектакля мы русской буржуазии не дадим».
Позже он сам же и разъяснил причину такого ответа.
В мае 1918 года Рицлер встретился в частном доме с Котляревским. Разговор у них получился непринужденным и откровенным. Рицлер, сын знаменитого баварского историка и сам историк, был знаком с Котляревским еще по Мюнхену, где тот когда-то работал над диссертацией и бывал в доме Рицлеров.
— Надежды русских на наше вмешательство иллюзорны, — разочаровал Котляревского Рицлер.
— ?!?…
— Советская власть как-никак заключила с нами мир. К тому же Германия не сочувствует вашим правым кругам. Конечно, «военная партия» и сам Людендорф настроены по отношению к большевикам непримиримо, но есть ведь и объективные соображения…
— Какие? — тут же вскинулся Котляревский, — Ведь ранее вы поддерживали наиболее реакционные круги!
— Напрасно вы так думаете, — не согласился Рицлер, — пашу реакцию держали на плаву миллиарды французских займов. И что тут может измениться теперь?
— Многое, — пытался возразить Котляревский.
— Нет, нет, — рассмеялся Рицлер. Кадеты все заражены ненавистью к Германии и находятся под полным влиянием англичан. И даже если бы Германия хотела низвергнуть Советскую власть, то работать на передачу власти в руки кадетов, значит работать на Антанту. К чему это нам?
Немец помолчал и прибавил:
— Левые, между прочим, я говорю об эсэрах, тоже враждебны к Германии. Нет, то правительство, которое вы имеете, наиболее приемлемо как для самой России, так и для нас…
* * *
Разговор Рицлера с Котляревским состоялся незадолго до покушения левых эсэров на Мирбаха и левоэсэровского мятежа. Так что в оценке эсеровских настроений Рицлер не ошибся, как и в оценке политических устремлений кадетов. Профессор Милюков в Киеве пытался, впрочем, организовать широкую интервенцию Германии в Великороссию, однако это была попытка установить лишь временный, вынужденный союз с «тевтонами» против «Совдепии».
Хотя показательно то, что, по словам Котляревского, даже в профессорской либеральной среде, ранее не принимавшей Брест-Литовский мир, возникало понимание того, что он был для России единственным выходом.
В уже готовой рухнуть кайзеровской Германии взгляды, подобные тем, которые высказывал Рицлер, не были, увы, главенствующими. Однако даже такая Германия была склонна к определенной лояльной сдержанности в отношении к Советской власти не потому, что эта власть была «прогерманской», а потому, что только она верно понимала, что нужно России от внешнего мира. А необходимы были России, во-первых, мир, а во-вторых — максимально широкие экономические связи с немцами.
В разговоре с Котляревским Рицлер признал, что самостийная Украина более нужна Австро-Венгрии, чем Германии.
— И что из этого следует? — поинтересовался Сергей Андреевич.
— Ну, во всяком случае, после окончания войны Брест-Литовский мир будет, надо полагать, пересмотрен в духе длительных добрососедских отношений Германии и России. Нам нужно уже сейчас укреплять их экономическую и культурную сторону…
* * *
А вскоре левыми эсэрами был убит Мирбах. 14 июля 1918 года в 11 часов вечера доктор Рицлер, исполнявший должность германского дипломатического представителя, посетил народного комиссара иностранных дел Чичерина и сообщил ему со держание только что полученной из Берлина телеграммы. Германское правительство поручало Рицлеру «просить о согласии русского правительства на допущение батальона германских солдат в военной форме для охраны германского посольства и о скорейшей доставке этих солдат в Москву».
Рицлер заверял, что, мол, «всякие оккупационные цели далеки от германского правительства».
Батальон — не дивизия, но и не взвод. Да хоть бы и взвод! Это была та точка, отступить за которую означало утратить национальный характер Советской власти. Вот почему назавтра, 15 июля, Ленин на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета зачитал проект правительственного заявления, где было сказано: «Подобного желания мы ни в коем случае и ни при каких условиях удовлетворить не можем, ибо это было бы, объективно, началом оккупации России чужеземными войсками.
На такой шаг мы вынуждены были бы ответить… усилен ной мобилизацией, призывом поголовно всех взрослых рабочих и крестьян к вооруженному сопротивлению… Война стала бы тогда роковой, но безусловной и безоговорочной необходимостью, и эту революционную войну рабочие и крестьяне России поведут рука об руку с Советской властью до послед него издыхания».
ВЦИК утвердил это заявление Совнаркома РСФСР единогласно. Риск, конечно, был, немцы могли начать наступление… Но и отступать нам было уже некуда — за нами была Москва. И немцы поняли, что любой нажим принесет результат, обратный желаемому.
Пока всё оставалось как было.
Прошли четыре месяца. И на первом же заседании ВЦИКа шестого созыва, 13 ноября 1918 года, Свердлов в тишине за мершего зала зачитал постановление:
«Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет сим торжественно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 года, лишились силы и значения. Брест-Литовский договор… в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным.
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика предлагает братским народам Германии и бывшей Австро-Венгрии… немедленно приступить к урегулированию вопросов, связанных с уничтожением Брестского договора»…
На том же заседании ВЦИКа было решено отправить в дар рабочим Германии два хлебных маршрута.
Далее же вышло так… Когда эшелоны прибыли на пограничную станцию Вержболово, представители немецкого солдатского Совета стали мяться — мол, указаний не имеем, хлеб пока принять не можем. А наутро член нового германского правительства Гуго Гаазе по прямому проводу передал в Германский Совет рабочих и солдатских депутатов в Москве:
«Прошу сообщить русскому правительству нижеследующее. По вопросу о предложенной отправке муки кабинет поручил высказать ему глубоко прочувствованную благодарность народного германского правительства. Мы тем выше ценим эту жертву, что нам и всему миру известно об острой нужде, которую терпит население в Петербурге и Москве. К счастью, в результате предпринятых нами у президента Вильсона шагов открылась для нас возможность получения съестных припасов из-за океана. Мы поэтому в состоянии пока отказаться от великодушного предложения русского правительства».
Полсотни вагонов хлеба — капля в море потребностей и России, и Германии. Конечно, это с нашей стороны был лишь многозначительный жест. Жестом (и тоже многозначительным) был и отказ Берлина.
Вожди германской революции явно старались отмежеваться от родства с русской революцией. Но красным цветом Германия тогда была окрашена густо, как и остальные отвоевавшие европейские державы.
И хотя к 1919 году на Россию крепко навалилась Антанта, в англо-французских интервенционистских силах начиналось брожение.
Пройдёт ещё немного времени, и одесская эскадра французов задымит в направлении к Босфору и Дарданеллам — по дальше от России и от «греха большевизма».
Даже англичане не чувствовали себя спокойно в новом мире, где возникла Советская Россия. Даром, что английская элита немало потрудилась над созданием «империи желудка», которой столь страстно желал Сесиль Родс. Ещё за пять лет до войны имущая Англия отважилась на крупные социальные реформы: страхование от болезней, безработицы, необеспеченной старости. По закону о страховании стариков каждый английский подданный старше 70 лет, не имеющий средств к существованию, получал право на 5 казенных шиллингов в не делю. Деньги невеликие, но от голодной смерти спасали.
В тогдашнем мире это было явлением новым, «эпохальным». Но с появлением рабоче-крестьянского государства «смелые» реформы сразу как-то поблекли.
Да и деньги на подобные «благодеяния» были во многом израсходованы во время войны, а после войны приходилось платить по военным долгам.
Страна беднела, общественная атмосфера накалялась. По Англии начинали гулять мощные социальные вихри…
* * *
Гуляли вихри, но уже дипломатические, и по залам с парижскими «миротворцами». 30 января 1919 года Хауз записал в дневнике: «Казалось, что все пошло прахом. Президент был зол, Ллойд-Джордж был зол, и Клемансо тоже был зол. Впервые президент утратил самообладание при переговорах с ними…».
Не будем, читатель, доверчивыми. «Дневники» Хауза писались в расчете на обязательное их опубликование. Так что сплошь и рядом целью автора была не фиксация подлинного положения вещей, а создание нужного Золотому Интернационалу (то есть искаженного до неузнаваемости) представления о подлинных мотивах, планах и решениях международной элиты.
Хотя сквозь полковничьи «дымовые завесы» — не хуже тех, которые так мастерски наловчился ставить за время войны морской министр Англии Черчилль — проступают порой и контуры правды. И на этот раз дневниковая запись Хауза отражала реальное состояние дел, то есть грызню. Да и могло ли не быть ее среди хищников, готовых лить даже родную кровь, как Теодор Рузвельт и пушечный король Шнейдер, потерявшие на вой не сыновей, или собственную, как магнаты на «Лузитании», ради «золотых» выгод? Выгод своих и своего класса.
«Дневники» Хауза были опубликованы во второй полови не 30-х годов, а в те времена, когда «полковник» был еще занят практической политикой, Америка хотела сделать стержнем будущего мира Лигу Наций.
Естественно, «американская» Лига задумывалась как рычаг господства Америки во всем мире (включая, конечно, и Европу). Английский проект видел Лигу как равноправный блок крупных государств, обеспечивающих status quo по части колоний и сфер влияния. Все ясно — так сохранялось английское колониальное могущество.
Положение Франции было иным. В войне она потеряла каждого десятого мужчину, плодородные земли были засеяны осколками. И французов на конференции волновали дела более конкретные и близкие — ограбление Германии, возврат Эльзаса и Лотарингии, репарации и… «русский вопрос». Маршал Фош раз за разом кричал: «Мсье, если мы не покончим с „большевистской опасностью“, то проиграем войну!» — «А это еще как?» — удивлялись «коллеги». — «Германия побеждена, но что если она в своих интересах урегулирует отношения с Россией или, не дай Бог, сама станет жертвой большевизма», — пояснял маршал.
Он был даже готов пойти на сотрудничество с Германией в борьбе с русским большевизмом после подписания прелими нарного договора и считал, что такой вариант может оказаться очень ценным. Буржуазная Франция оставалась верной себе: не допустить сближения русских и немцев любой ценой. И ради этого она была готова даже лишиться части добычи при предстоящей ее дележке.
Французы же заботились о создании Польши как «барьера между Германией и Россией», по словам Клемансо. Возросший на двуличии, Клемансо лгал и тут. Польша замышлялась не как барьер, а как шлагбаум для новой войны, который будет поднят в свое время.
Осенью 1916 года из оккупированных земель русской Польши кайзеровская Германия создавала первое в новейшей истории мира «независимое» Польское королевство. После поражения кайзеровского Рейха оно ушло в небытие, и ему на смену пришла Польша, вызванная к жизни уже Антантой. От германского варианта союзному остались в наследство лишь кавычки при слове «независимая».
Смысл «польской государственности» в версальском исполнении был иным, чем в германском варианте. Теперь уже у Германии отторгался Данциг, а «польский коридор» от Польши к Балтийскому морю — шириной под сто километров — отрезал от единой Германии её Восточную Пруссию.
Границы с Польшей искусственно рассекали единые в хозяйственном отношении районы Германии и отсекали от родины обширные районы с чисто немецким населением.
В военном отношении граница с Польшей была вскрыта на сотнях километров.
Австрийским немцам — вопреки громко провозглашенному Антантой «праву наций на самоопределение» — категорически запрещалось воссоединение с немцами германскими, хотя Учредительное Собрание в Вене единогласно высказалось за аншлюс (т. е. присоединение к Германии)!
Судетская область, населенная почти исключительно немцами, передавалась, и опять-таки вопреки провозглашенным принципам, в состав новообразованной Чехословакии. Уже всем этим будущий конфликт в центре Европы программировался автоматически.
* * *
Весной 1919 года до новой европейской войны было, конечно, еще далеко. 30 апреля германская делегация прибыла в Париж, а 7 мая ее вызвали в Версаль на заседание конференции. Клемансо, маленький и желтый, как высохший зародыш человека (сравнение не мое, а Гарольда Никольсона, наблюдавшего француза своими глазами. — С.К.), заявил им: «Час расплаты настал»…
Пока речь французского премьера переводилась, секретарь конференции вручил побежденным толстенную книгу — условия мира. Четыреста сорок статей на двухстах девяти страницах…
Полистав их, У. Брокдорф-Ранцау в ответной речи сказал:
— Господа! От нас требуют, чтобы мы признали себя единственными виновниками войны. Подобное признание в моих устах было бы ложью. Германия признает несправедливость, совершенную ею по отношению к Бельгии. Но и только! Ошибались не одни мы. А надежно выправить эти ошибки можно на основе 14-ти пунктов мира, из которых Германия и исходила, соглашаясь на перемирие…
Условия толстой «книги мира» оказались потяжелее всей мировой полиграфической продукции той эпохи. Начались сложные взаимные переговоры. Немцы упирались, в Берлине проходили демонстрации, президент Эберт и министр Шейдеман произносили речи с балкона, простирая руки к толпе: — «Пусть отсохнут руки прежде, чем они подпишут такой мирный договор».
В Германии на неделю объявили национальный траур.
Но прежде чем отсохли руки у германских лидеров, насту пила суббота, 28 июня 1919 года. В Зеркальном зале Версаля воссел Клемансо под тяжелым балдахином с лепной золоченой надписью «Le roi gouverne par lui-moeme» («Король управляет по своей воле»). С лентой через плечо он проскрипел: — «Впустите немцев!».
Звуки шагов в тишине, а потом вновь голос Клемансо: — «Месье, заседание открыто!».
Ещё несколько процеженных сквозь зубы фраз, и немцев подводят к столу, где лежит договор. Доктор Мюллер подписывает его под громы артиллерийского салюта.
«Заседание окончено», — сплевывает Клемансо.
Немцев уводят. Они, наконец, юридически капитулировали перед «союзными и объединившимися державами»: Соединенными Штатами Северной Америки, Британской империей, Францией, Италией и Японией, а также примкнувшими к ним Бельгией, Боливией, Бразилией, Китаем, Кубой, Эквадором, Грецией, Гватемалой, Гаити, Геджасом, Гондурасом, Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, Польшей, Португалией, Румынией, Сербо-Хорвато-Словенией, Сиамом, Чехословакией и Уругваем.
Китай Версальский договор, по причине уважительной, не подписал: права на Шаньдунскую провинцию получил не он, а Япония. США, Эквадор и Геджас договор подписали, но не ратифицировали — каждый по своим соображениям. США заключили в 1921 году с Германией отдельный договор, мало чем отличающийся от Версальского.
Достоверно одно — кровь воинов Самсонова, обеспечивших «чудо на Марне», кровь Брусиловского прорыва, обеспечившего последующие «чудеса», пот русских мастеровых и крестьян в зачет не пошли. Антанте было не до того — нужно было помогать Деникину и Колчаку.
* * *
Основу будущей Версальской системы должны были зало жить 14 пунктов мирных условий президента Вильсона. Звуча ли они красиво — заокеанскому дядюшке полагалось выглядеть добрым и справедливым. И действительно, куда уж лучше: мир без аннексий, самоопределение всех наций и свобода морей.
Но немцев обманули — подписанный ими договор ничего общего с посулами Вильсона не имел. В Париже был разыгран последний акт грандиозного спектакля: вначале нужно было забросить немцам вильсоновскую «приманку», потом, когда они прекратили воевать, эту приманку вырвали у них с кровью.
А чтобы Америка сохранила свое лицо (точнее, личину) свободолюбца, «разногласия» союзников на Парижской конференции раздувались для публики до размеров непримиримых. Вильсон, якобы, отстаивал будущие всемирные «братство и дружбу», а роли «бук» отводились другим: отчасти — Ллойд Джорджу и всецело — Клемансо.
В конце концов «мир» вышел таким, что Ленин, глядя на него со стороны, заметил: «Война путем Версальского договора навязала такие условия, что передовые народы оказались на положении колониальной зависимости, нищеты, голода, разорения и бесправности, ибо они на многие поколения договором связаны и поставлены в такие условия, в которых ни один цивилизованный народ не жил. Это неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов».
Ленин не преувеличивал — Германия попадала в самое на стоящее рабство. И даже Черчилль признал: «Экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмысленными».
Исключительно на Германию — и даже не на руководство, а на немецкий НАРОД, единолично возлагалась ВСЯ официальная ответственность за войну. Правда, и кайзеру в порядке санкции предъявлялось обвинение в «высшем оскорблении международной морали и священной силы договоров». Немецкие полководцы — Гинденбург, Людендорф, немецкие промышленники Тиссен, Крупп и другие объявлялись военными преступниками. Так-то так, но выходило, что Дюпоны, Гепнеры, Бродские, Морганы, Френчи, Тафты, Стимсоны, Рокфеллеры, Клемансо, Черчилли, Ротшильды, Грей, Сухомлиновы, Барухи, Пуанкаре и Вильсоны были ни при чем…
Да, кайзер в случае победы рассчитывал на крупные аннексии и экономические выгоды. На пангерманистских (не генштабистских) картах желательные границы «Deutsches Kaiserreich» протягивались от Кале до Финского залива и даже захватывали, как вассальную территорию, — Англию. Но это был, во-первых, «пивнушный» экстремизм, не подкрепленный ресурсами. А во-вторых, немцы и не прикидывались освободителями европейских народов. Они властно требовали, чтобы с ними считались всерьёз.
Умея работать, они были готовы жестко конкурировать со всем светом в экономическом соревновании, а раз им этого не позволяли, они желали добиться своего права вооруженной рукой. Что ж, с таким народом действительно было более верным не воевать, а ладить миром. Золотой же Интернационал, по понятным причинам, выбрал войну, провел ее, а затем применил древнеримский принцип: «Горе побежденным!». Сгоряча Антанта настолько пыталась свалить все на Германию и Вильгельма, что в Версальском договоре был да же специальный пункт о выдаче бывшего кайзера Антанте для суда над ним. Но тут же «судьи» спохватились, что такой процесс, чего доброго, докажет: империалистическая война возникла не как результат воли одного «полусумасшедшего монарха», а как неизбежная черта существования всей системы капитализма, где американское алчное лицемерие и англо-французский колониальный вампиризм выглядели ни чуть не менее (если не более) отвратительно, чем германский милитаризм.
Чего стоило одно заявление Клемансо о том, что в Германии живут лишних двадцать миллионов человек! Соперничать с ним могло только сообщение, опубликованное ещё во время войны «солидной», «объективной» лондонской «Таймс», о «фабрике по переработке человеческих трупов, из которых немцы извлекают различные вещества для военных целей и даже пищевые продукты в виде суррогатов мяса»… Подтекст был очевиден, — стоит ли церемониться с этакими извергами?
С побеждёнными немцами и не церемонились, причем не только победители, но и историки.
Евгению Викторовичу Тарле французская Марианна — «Свобода» — и корректные английские «джентльмены» всегда были ближе, чем «тупой пруссак-солдафон».
И поэтому Тарле органически не мог и не желал признавать — как непреложный научный вывод, и заявлять — как гражданскую позицию, что по отношению к Германии у России были лишь два пути: или дружить с Германией, или воевать с ней.
А вот по отношению ко всем остальным державам жесткости выбора не было… Со всеми остальными можно было (и нужно, конечно, было) дружить; если они лезли на рожон — можно (и нужно) было с ними воевать, а в прочих случаях их можно было просто «выводить за скобки» и учитывать постольку поскольку…
Но безусловная дружба с Германией — это был путь не для Тарле и схоже с ним мыслящих… А в единомышленниках у Тарле был, скажем, такой влиятельный человек, как нарком иностранных дел СССР Литвинов, регулярно, добрых десять лет вбивавший клин в советско-германские отношения и почти открыто придерживавшийся англосаксонской ориентации до самой своей отставки в 1939 году.
Вот почему в 1938 году в журнале «Историк-марксист» Тарле мог писать так: «Теперь, когда советская наука ликвидирует последствия систематической фальсификации истории, проводившейся „школой“ Покровского, пора разделаться окончательно и с одним из совсем уж безобразных по своей явной лживости, одним из наиболее ошибочных в научном от ношении и наиболее вредным в отношении политическом представлений, пущенных в ход Покровским… Мы говорим о пресловутом вопросе касательно „виновности“ в мировой войне.
Неустанно (Покровским. — С.К.) с жаром и подъемом обличалась Антанта. А так как Антанта и в самом деле тоже (в свете полного объема фактов и цифр это „тоже…“ Тарле выглядит просто-таки бесподобно! — С.К.) была виновна и очень виновна, то статейки „школы“ приобретали для наивного читателя крайне убедительный вид, стоило только, обличая Антанту, … скороговоркой бормотать о Германии… Звериные клыки германского империализма и в 1912, и в 1913, и в 1914 годах ни один историк не имеет никакого права конфузливо прикрывать от взоров потомства»…
Вот что значит — не любить! Историк Тарле начисто забывал, что к началу Первой мировой войны если какой империализм и имел звериные клыки, периодически пуская их в ход, так это — англосаксонский.
Уничтожение североамериканских индейцев… Миллионы черных рабов, переправленных из Африки в Штаты, и миллионы таких же рабов, до Штатов не довезенных и пошедших на корм акулам… Зверский и изощренно-подлый расстрел восставших сипаев, привязанных к пушечным жерлам… Зверства англо-бурской войны… Зверства, которые десятилетиями ни на секунду не скрывала ночная мгла, так как над Британской империей «никогда не заходило солнце»…
Вот ведь как дела обстояли на деле, уважаемый читатель. Колониальными захватами Германия не пренебрегала, но вот уж тут уместно будет употребить слово «тоже»…
В 1926 году Тарле еще подписывает письмо старому большевику-ленинцу историку Михаилу Николаевичу Покровскому: «Преданный Вам Евг. Тарле», а в конце 1932 года хвалится в письме Т. Щепкиной-Куперник «архихвалебным» отзывом только что скончавшегося Покровского о своей работе «Жерминаль и прериаль».
Свою явно профранцузскую и негативную к немцам, не раз уже цитированную мною «Европу в эпоху империализма» Тарле свободно опубликовал при жизни Покровского, в 1927 году…
Но 1938 год — это время дипломатического и внешнеполитического могущества англофила и германофоба Литвинова, и Тарле громит покойного Покровского в таких вот выражениях: «Покровский, возглавляя ряд исторических учреждений, мог легко распространять свои антинаучные и антиленинские взгляды, не допуская их критики со стороны научной общественности».
В своё время «антиленинец» Покровский редактировал, к слову, ленинский «Империализм как высшая стадия капитализма» по просьбе Ленина, хотя во взглядах на «германский вопрос» с Лениным однажды и разошелся. Во времена Брестского мира Покровский публично настаивал на немедленном наступлении на немцев, а Ленин его критиковал.
То есть записать Покровского в германофилы было труд но, и он всего лишь старался быть исторически точным, когда утверждал: «С начала мирового кризиса 1911–1914 годов военно-политическая обстановка его развязки была предрешена военными соглашениями и планами генеральных штабов Франции и России».
Оно ведь так и было! Без реально, документально и публично оформленного и практически работающего франко-русского союза (и только без него!) развязать нужную Золотому Интернационалу большую и долгую европейскую войну было бы просто не-воз-мож-но!
Войну программировал только франко-русский тандем, и Покровский был тут прав трижды — как историк, как политик, и как истинный, сознательный патриот России.
Тарле же, пытаясь доказать обратное, порой выглядел просто смешно. Например, Покровский прямо указывал на сербские истоки покушения в Сараево. Тарле же их отрицал на том основании, что, мол, «никогда и никем не было доказано пря мое участие сербских властей в заговоре». Покровский резон но замечал: «Конечно, приказа за подписью Пашича (сербского премьера. — С.К.) убить Франца-Фердинанда ни в каких архивах найти нельзя».
«Отчего же? — с забавной в пятьдесят три года „наивностью“ вопрошал Тарле и продолжал — может быть, когда-нибудь найдутся документы об этом… Тогда и будем говорить категорически»…
Вряд ли Евгений Викторович сам верил в собственные слова и искренне допускал хоть на миг, что ТАКИЕ приказы доверяют бумаге. Другое дело — историческая ложь. Уж тут проблем нет — её-то бумага стерпит. И свои обвинения 1938 года в адрес Покровского Тарле строил на основе только что опубликованных тогда в США… «Дневников полковника Хауза», из которых, якобы, следовало, что «тягчайшая доля ответственности за развязывание мировой войны лежит, прежде всего и больше всего, на Германии».
Кто такой Хауз, мы уже немного знаем. Активно поучаствовав в подготовке одной мировой войны, он своими якобы-дневниками работал теперь на подготовку уже другой мировой войны, которую Золотой Интернационал задумывал по все той же схеме: «Германия против России».
В итоге Тарле, поверив в 1938 году якобы-откровениям Хауза, всего лишь попался на провокацию — одновременно и антигерманскую, и антирусскую.
Ибо, как и за четверть века до этого, Россию и Германию ссорили для того, чтобы потом столкнуть лбами. Опыт тут был накоплен немалый. Недаром Покровский писал в 1928 году: «Бесспорный выигрыш Антанты (имелся в виду выигрыш в споре о том, кто-де „начал первым“. — С.К.) был куплен целым морем газетной лжи, подтасовок и подделок».
Подделкой были «дневники» Хауза, своего рода подделкой был и сам Версальский договор.
Однако в 1919 году заикнуться о таком в антантовской Европе никто и помыслить не смел… Единственным судьей здесь был Клемансо, а он неумолимым перстом указывал исключительно на «бошей», на Берлин и на кайзера…
* * *
Увы, у творцов Версаля через десятилетия нашлись единомышленники в России. Например, наш исторический беллетрист Валентин Пикуль пожимал плечами: «Казалось бы, немцам, потерпевшим поражение, только и радоваться условиям мира — ведь целостность Германии не пострадала (хотя пострадала и она. — С.К.), победители великодушно (ого! — С.К.) сохранили единство страны и нации. Но Германия взревела словно бык, которого повели кастрировать».
«Логика» Пикуля точно соответствовала воззрениям гоголевского Ивана Ивановича, который после того, как осведомлялся у убогой старухи, не хочется ли ей хлеба и мяса, «великодушно» заключал: — «Ну, ступай же с Богом. Чего ж ты сто ишь? Ведь я тебя не бью…».
ГЛАВА 10 Продолжение торжественной «разделки»
В отличие от гоголевской «небоги» над немцами не только издевались. Их еще и били. Причем били рядовых немцев. Ну, то, что Германия лишалась значительных территорий — это еще было полбеды. Хотя Эльзас и Лотарингия были, скорее, немецкими, чем французскими землями. Да, Бисмарк когда-то склонялся к мысли передать часть этой спорной территории третьей стороне — Швейцарии. Да, вдумчивый взгляд на проблему Эльзаса и Лотарингии убеждает в том, что смысл в идее «железного канцлера» имелся. Однако все здесь было не просто, неоднозначно.
С «эльзасским вопросом» не лучшим образом справлялись и Франция, и Германия. До середины XVII века, до Вестфальского мира 1648 года, эти провинции входили в состав Германии. Потом их прибрала к рукам Франция, но и через двести лет — в середине XIX века — для 85 % населения родным был немецкий язык, а сельские жители поголовно не знали французского языка даже в двадцатых годах XX века — уже после того, как Эльзас и Лотарингия опять вошли в состав Франции.
Французы из века в век показывали себя плохим «старшим братом». Насильственное офранцуживание было таким жестким, что в 1869 году, незадолго до франко-прусской войны, в Страсбурге приходилось вводить военное положение.
Но и немцы, аннексировав древний Лоррейн, повели себя не лучше и начали усиленную германизацию. Во Францию тогда переселились 400 тысяч человек. В германском рейхстаге эльзасцы получили 15 мест. На первых же выборах все пятнадцать выиграла партия, выступающая против аннексии. Правда, уже в 1890 году она успеха не имела, несмотря на то, что Франция немало средств тратила на искусственное разжигание страстей.
Академик Тарле признавал: «Собственно, не было ни одного класса населения в Эльзас-Лотарингии, который определенно стремился бы к присоединению к Франции. Рабочий класс ни малейших сепаратистских наклонностей не проявлял; крупная торговая буржуазия и финансовый мир тесными узами связались с германским внутренним рынком».
Иными словами, любовь эльзасцев к старой доброй Галлии горела ярким пламенем лишь на страницах парижских газет. Однако победители безоговорочно претендовали на «возврат захваченных тевтонами французских провинций». При этом Клемансо сослался на «ликование народа», с которым-де были встречены французские войска, и заявил, что «плебисцит совершился».
Чепчики вместо бюллетеней референдума — это было в практике народного волеизъявления чем-то новым. И уж не знаю, сколько их там взлетало в воздух, но неумолимые цифры доказывают, что французских «освободителей» эльзасцы приветствовали, в основном, на немецком языке. А французская «родина» к новым гражданам была по-прежнему немилостива. Их дискриминировали, эльзасских новобранцев направляли служить исключительно в колонии с наиболее гнилым климатом, А поток насильственных переселенцев теперь потек уже в Германию.
Соответственно эльзасские автономисты победили и на парламентских выборах 1928 года, и на муниципальных 1929. Наилучшим вариантом стало бы действительно обеспечение широкой автономии Эльзас-Лотарингии в составе Германии, но Франция не допускала подобного даже теоретически. Очень уж богатыми, очень лакомыми были эти территориальные «куски».
Иначе говоря, ни о каком подлинном праве народов на выбор судьбы в результате «версальских» радений не могло быть и речи. Так, у Германии отобрали все колонии, но не освободили их народы, а просто сменили им хозяев.
Что же касается почти всех отходивших от Германии европейских земель, то их населяли, преимущественно, немцы. Из 327 тысяч жителей Данцига их было 317 тысяч.
Мемель, «подаренный» союзниками «новодельной» Литве, тоже относился к чисто немецким городам.
Германия фактически разоружалась: флот сводился на «нет», армия уменьшалась до сотни тысяч человек (96 тысяч солдат и 4 тысячи офицеров). В Вооруженных силах запрещалось иметь бронетанковые войска, авиацию и тяжелую артиллерию. Были сданы и уничтожены 130 тысяч пулеметов, 31 тысяча минометов, 60 тысяч орудий и стволов, почти 30 тысяч лафетов, 16 тысяч самолетов и 27 тысяч авиамоторов. У Германии отбирали 80 тысяч оружейных лекал, потому что ей запрещалось производство оружия. То, что армия и флот чуть ли не уничтожались, масла у немецких детей еще не отнимало. Но и масло вывозилось к союзникам десятками тысяч тонн.
Франция и Бельгия отбирали у немцев 371 тысячу голов скота, из них — 140 тысяч дойных коров. И, лишая молока немецких детей и раненых в госпиталях, франко-бельгийцы фактически становилась на путь геноцида. До 1 мая 1921 года Германия должна была выплатить 20 миллиардов золотых марок золотом, отдать половину наличности красителей, все крупные торговые суда, половину — средних, четверть — рыболовных, пятую часть речного флота. По репарациям отбиралось 150 тысяч товарных вагонов, 10 тысяч вагонов пассажирских и 5 тысяч паровозов. Франция экономически захватывала Рур, и немцев обязывали, в счет репараций, поставить Франции 140 миллионов тонн угля, Бельгии — 80 миллионов, Италии — 77 миллионов. Немцев лишали двух третей их угольных богатств, четырех пятых химической мощи, базы производства продовольствия, да и вообще всего, что могло приглянуться Антанте…
Как немецкому народу выкручивали руки версальской «веревкой», очевидно не только по отторжению от Рейха чисто немецкого Данцига и созданию «польского коридора» раздора. В манере насильников союзники «решили» и Верхне-Силезский вопрос, который давно стал в СССР темой запретной. Уж очень неприглядно выглядели в этом «вопросе» поляки. История же стоит того, чтобы о ней рассказать.
Верхнюю Силезию историки ЦК КПСС относили к «исконным польским землям», хотя последний год польского владения ими — 1336-й…
Перед Первой мировой войной из 2 207 981 жителя Верх ней Силезии поляков, вместе с полунемцами-полуполяками, было 1 169 340 человек, то есть — половина. Но еще там были богатейшие залежи угля, цинковой и железной руды. Вильсон и Клемансо настаивали на передаче этих залежей Польше вместе с людьми, которые к ним «прилагались». Ллойд Джордж упирался.
Но ещё больше упирались немцы, и тут пасовал даже большой капитал. Во-первых, люди — это не суда. Их делить все же сложнее… Самый справедливый выход — плебисцит. Немцы на нем настаивали, немцы его и добились.
В плебисцитной зоне была введена власть международной комиссии во главе с французом — генералом Ле-Роном. Вертелся там и польский комиссар Корфантого. В зону хлынули агрессивные поляки, всячески притесняя немцев. Фашиствующих поляков поддерживали французы, народ «демократический».
В зоне расцвёл террор. Да не немецкий — польский. Корфантого организовывал его, не жалея сил, времени и денег. Немцам сжигали дома, им угрожали смертью.
А голосование 20 марта 1921 года прошло спокойно и за вершилось полной победой немцев: за Германию были поданы 707 393 голоса, за Польшу — 479 365 голосов. Как видим, читатель, даже многие взрослые поляки желали жить в Германии. Союзнический Совет вынужден был «милостиво» выделить веймарской Германии две трети Силезии, а Польше — треть. Но КАКУЮ треть? Германия лишилась, но Польша приобрела 95 % запасов силезского угля, 49 из 61 антрацитовых копей, все 12 железных рудников, 11 из 16 цинковых и свинцовых рудников, 23 из 37 доменных печей. Германия по теряла 18 % общенациональной добычи угля и 70 % — цинка.
Кромсали не только национальные богатства Германии, а и немецкую нацию. Тупо, невежественно, равнодушно. Что там Силезия? Тут хоть что-то немцам удалось отстоять. А вот как вышло с богемскими немцами в никогда ранее не существовавшем Чехословацком государстве, созданном хлопотами Масарика, Бенеша и их покровителей. Еще в Америке Вильсон заявил:
— Я намерен отдать Богемию Чехословакии.
— А как вы при этом собираетесь поступить с немцами, там проживающими?
— Но их ведь там немного.
— Более трёх миллионов на семь миллионов чехов.
— Три миллиона? — изумился Вильсон. — Любопытно! Масарик мне никогда об этом не сообщал.
Конечно, Масарик не мог громогласно признавать, что чехи не имеют ни морального, ни исторического, ни международно-правового основания на включение в состав Чехословакии районов проживания судетских немцев.
Теперь Вильсону это разъясняли другие, но на его решение новая информация не повлияла, и немцы были отданы под власть чехов.
Ранее богемские районы Судет, населенные немцами, граничили с Германией, но входили в состав Австро-Венгрии. После войны «лоскутная империя» распалась. Право на само определение получили от Антанты венгры, поляки, чехи (но не словаки). А вот австрийских немцев союзники такого права лишили — несмотря на единодушное желание тех воссоединиться с немцами германскими путем «аншлюса». По судетским немцам такое решение ударило особенно больно — иногда чешская граница отделяла друг от друга детей и отцов, братьев и сестёр.
Вильсон же отдал Южный Тироль Италии, так как не знал, что южнее перевала Бреннера жили австрийцы немец кой крови.
Вот чем закончился в действительности «крестовый поход демократии против алчных гуннов».
* * *
Таким образом, после Первой мировой войны Мировой Капитал зажал народ Германии всерьёз. И Германию тем более вознамерились доить, что вторую потенциальную «дойную корову», то есть Россию, из-под кнута «пастырей» сумел увести Ленин. Чего ему, к слову, всепланетные мироеды не могут простить по сей день в ПЕРВУЮ очередь. Тут уместно сообщить тебе, читатель, что даже если бы буржуазная, находящаяся в сфере капиталистических отношений Россия вела войну до «победного конца» и получила репарации с Германии, в безрадостной послевоенной картине это для нас ничего не изменило бы. И вот почему.
От Германии сразу после Версаля требовали суммарной выплаты 226 миллиардов золотых марок в течение 42 лет. Итого, в среднем, по 6 миллиардов марок в год. Довоенный рубль был равен двум маркам (точнее — 2,16). Два рубля — доллар (1 рубль = 0,51$). Переводим, считаем, делим на всех и получаем, что в лучшем случае на долю России достался бы один «германский» миллиард рублей. Впрочем, даже и не один, а меньше, потому что окончательно союзники сошлись на 132 миллиардах в течение 66 лет (то есть Германию обязывали выплачивать долги до 1985 года!).
До 1985 года, читатель!!
Потом всё ещё не раз менялось в сторону уменьшения. Но даже при норме в два миллиарда марок в год России не пере пало бы и половины миллиарда рублей. А платить западным кредиторам нужно было ежегодно три!
Так что если бы не Ленин, не социалистическая революция, то села бы Россия в долговую яму к Западу прочно… Причем большевики не просто отказались платить, а со счетами в руках доказали, что это Запад задолжал народам России по всем статьям.
Оставалось отыграться на Германии. На ней и отыгрались… Но не Клемансо, не Ллойд Джордж в первую очередь, а непосредственно Дядя Сэм. Как ни странно, но порой это не было очевидным даже для осведомленных современников. Даже в СССР в 1928 году считали, что Версальская система «создает условия для гегемонии французского империализма на континенте Европы».
На самом же деле Версаль создал все условия для гегемонии империализма американского.
* * *
Сделано это было настолько умело и ловко, что историки так, похоже, и не разобрались, что же на самом деле произошло в Париже в 1919 году.
Академик Тарле писал: «Французы (Клемансо и стоявший за ним Пуанкаре) только тогда должны были считаться с Вильсоном, когда в возникавших спорах на его сторону становился Ллойд Джордж. Но Ллойд Джордж не часто и не очень энергично становился на его сторону».
Даже капитальная советская «История дипломатии» уверена, что: «В результате войны и Версаля противоречия между союзниками еще более углубились. Американские монополии не были удовлетворены результатами мирной конференции… В силу этого сенат США под давлением изоляционистов (ох уж эти якобы всемогущие „изоляционисты“! Речь о них у нас еще будет. — С.К.) отказался ратифицировать Версальский договор».
Авторы основополагающей советской дипломатической летописи явно перерыли горы архивных документов и других источников. Учли они и указания ЦК и применяли «марксист скую» методологию. Не учли они, похоже, только блудливые движения густых бровей Ллойд Джорджа, побито обвисшие усы Клемансо и… сардонический изгиб нервных, требовательных губ Вильсона.
Кстати, самый громкий противник Вильсона, «изоляционист» сенатор Лодж не гнушался признаваться: «Это не изоляционизм, а свобода действовать так, как мы считаем нужным, не изоляционизм, а просто ничем не связанная и не затрудненная свобода Великой Державы решать самой, каким путем идти».
Без изучения документов никакую эпоху, кроме разве что собственной, не понять. Но в документах империализма чаще всего нужно читать между строк или в порядке, противоположном обычному. Конечно, любопытно, скажем, узнать, что в из данном «Архиве полковника Хауза» есть рассказы, достойные пера Дюма… Так, Хауз писал, что на его вопрос о том, как прошло совещание с Клемансо и Ллойд Джорджем, Вильсон ответил, якобы: «Блестяще — мы разошлись по всем вопросам».
В литературном отношении этот анекдот действительно блестящ, а вот в историческом смысле его ценность нулевая. Должник расходится с кредитором во мнениях лишь до тех пор, пока кредитор подобное ему позволяет или пока это кредитору ВЫГОДНО!
США не ратифицировали Версальский договор. И с помпой не вошли в Лигу Наций, «милостиво» вступив в нее лишь в 1934 году (между прочим, одновременно с СССР). То есть когда Штаты еще очень скрыто, но последовательно начали готовить второй тур мировой бойни.
Но авторы манифеста Второго Конгресса Третьего Коммунистического Интернационала предвидели такой поворот еще летом 1919 года: «Правящие круги США пытаются с помощью Лиги Наций прикрепить к своей золотой колеснице народы Европы и других частей света, обеспечив над ними управление из Вашингтона. Лига Наций должна была стать, по существу, мировой монопольной фирмой „Янки и К0“…»
Так Лига ею и стала! Без всякого там формального членства в ней США! Европейские клиенты США, например Уинстон Черчилль, уверяли весь свет: «Едва была создана Лига Наций, как ей был нанесен почти смертельный удар. Соединенные Штаты отреклись от детища президента Вильсона, а затем его партия и его политический курс были сметены победой республиканцев на президентских выборах 1920 года».
Черчилль написал это в своей «Истории Второй мировой войны», но с точки зрения объяснения событий опус Черчилля стоил «дневников» Хауза, которые можно отнести не к истории, а, скорее, к ее искусной фальсификации.
Вильсона смели не республиканцы — 25 сентября 1919 года его разбил паралич, и его поражение на предстоящих выборах было неизбежным уже поэтому.
Политический же курс США на установление экономического и прочего контроля над европейской ситуацией и упрочение возникшего мирового лидерства сохранился. И что стоили литературные «дымовые завесы» Черчилля, если новый президент США Гардинг действовал в точном соответствии с программой Вильсона, ранее заявлявшего: «Мы должны финансировать весь мир, а те, кто финансирует мир, должны управлять им»?
Его фраза была зародышем будущих планов Дауэса и Юнга, о которых мы ещё поговорим… Но как раз в то время, когда американец Дауэс вел в Европе активные переговоры, готовя новую американскую диспозицию для Европы в виде плана Дауэса, за полгода до её обнародования Е. Тарле в апрельском номере «Анналов» за 1924 год утверждал: «Из вне европейских держав только Соединенные Штаты представляют собой серьезную (неужели всего лишь „серьёзную“, а не „серьёзнейшую“? — С.К.) величину, но правительство Штатов и главенствующая с выборов 1920 года республиканская партия основным принципом своей внешней политики демонстративно выставляют начало полнейшего невмешательства в европейские дела. Да и удивительно было бы, если бы дело обстояло иначе».
Дело, конечно же, обстояло иначе… США не просто все более явно вмешивались в дела Европы. Они были полны решимости чуть ли не единолично вершить отныне ее судьбу!
Вильсон, хотя и пребывал в параличе, вполне мог обеспечить ратификацию Версальского договора со всеми статьями о Лиге Наций. Для этого было достаточно принять ряд непринципиальных поправок Лоджа. Но Штатам было выгоднее изобразить дело так, что они устраняются-де от Лиги, «где преобладают Англия и Франция».
Ход был умный — зачем кукловоду выставлять себя на обозрение публики? Историки изучали архивы, а не мешало бы познакомиться еще и с приемами средневековых мистерий, где раскрашенная деревянная фигурка на ниточках изображала Деву Марию (от чего, собственно, и ведет название театр марионеток).
А вообще-то тогдашнему закулисному руководству мира можно лишь аплодировать. Будущее оно планировало уверен ной рукой — широко и не мелочась.
Особенно явно это проявилось в том, как Штаты подошли к проблеме колоний. Мандаты на бывшие владения Второго Рейха получали все кому не лень, даже Бельгия и Япония. Последняя получила под мандат Лиги Наций Каролинские, Маршалловы и Марианские острова. И только США не получили НИЧЕГО.
Почему же? Что, бедняга Дядя Сэм не смог отстоять своих интересов? Вряд ли… Просто нужно было смотреть вперед. В самом расцвете колониальной системы уже таился скорый ее закат. Так стоило ли из-за мандатной бумажки порождать раздражение или даже озлобление у будущих экономических рабов Штатов?
Да и почему «будущих»? И без мандатов Америка полу чала из голландских колоний на выгодных условиях 86 % сырого каучука, 87 % олова, из Азии — 85 % импорта вольфрама…
Недаром начальник Штаба РККА Б. Шапошников в конце двадцатых годов писал: «Всем известны те позиции, кои ныне завоевал в мире капитал Америки. Они подороже территориальных захватов».
* * *
А Лига Наций? А Европа? Велика ли разница! Разве фактическое управление ими не переходило в руки доллара?
Подсчитано, что с 1920 года за старые долги Европа отваливала банкам и частным гражданам Соединенных Штатов 665 миллионов (тогдашних! тогдашних!) долларов ежегодно в течение около десятка лет. И платили европейцы не золотом (которое к тому времени и так почти все уже перекочевало за океан), а ценными бумагами предприятий!
Как ни крути, а события развивались по прогнозу Ленина, сделанному в августе 1916 года: «Крупный финансовый капитал одной страны всегда может скупить конкурентов чужой, политически независимой страны. Экономическая „аннексия“ вполне осуществима без политической».
Так и выходило! Фактически после Первой мировой войны Соединенные Штаты получили один общий мандат на управление Европой и миром, что бы там ни утверждали «аналитики» и «историки», не видящие дальше официальных протоколов. А ведь могли бы и вспомнить, что тогда же, на «мирной» Парижской конференции Клемансо проорал в лицо всем грядущим их поколениям: «К черту! Никаких протоколов!».
Поэтому мысленная прогулка по коридорам Версальского дворца с целью заглянуть не в бумаги, а в глаза его временным хозяевам, даст нам больше… И тогда выясняется вот что…
Вначале на Парижской мирной конференции Франция выдвинула требование к Германии подписать бланкетное, то есть неограниченное, обязательство о покрытии всех убытков, нанесенных войной.
Жадности у Клемансо было явно больше, чем ума. Он все еще думал, что Франция представляет собой в новом мире что-то действительно путное и весомое. Но легкомысленного, не смотря на престарелость, галла никто и не разубеждал. Зачем? Для виду и ради психологического давления на немцев с ним согласились. Хотя реально сумма с годами все более конкретизировалась (226 миллиардов в 1921 году, потом 132 и т. д.).
В Германии начались бурные протесты. Неистовствовали угольный король Гуго Стиннес и Национальная народная партия Гугенберга. Англия им сочувствовала, потому что чрезмерное ослабление немцев означало чрезмерное усиление французов. Зачем же оно Ллойд Джорджу?
И всё же, как повествуют исторические монографии, британскому Льву пришлось уступить галльскому Петуху… Хотя откуда такое нельвиное поведение? Разве в результате Версаля Лев не наложил свою лапу на 60 % (!) территории и 70 % (!) жителей всех колониальных владений в мире?
Как часто мы забываем, что за вроде бы «нелогичным» по ведением политиков чаще всего стоят принципы не «железной», и даже не «стальной» (пушечных кондиций), а «золотой» логики…
А «нелогичным» выглядело поведение не только джентльменов с Английского Острова, но и немца (точнее — немецкого еврея) Вальтера Ратенау. Действительно, как нужно было понимать согласие с пиратскими запросами Клемансо бывшего имперского руководителя Военно-сырьевого отдела, а теперь — министра хозяйственного восстановления Германии? Ведь Ратенау (убитый 24 июня 1922 года уже в должности министра иностранных дел) был деятельным сторонником безоговорочного выполнения версальских обязательств. Его за это и убили германские националисты. Так почему Ратенау отстаивал принципы ограбления вроде бы своей страны даже ценой жизни?
Политическая ипостась Ратенау известна достаточно широко. На Генуэзской конференции 1922 года он подписал Рапалльский договор с СССР. И его убийство террористической организацией «Консул» советская историография объясняла местью за Рапалло. Хотя в кругах, близких к Стиннесу, Ратенау с намного большими основаниями ненавидели за Версаль. Так или иначе о Ратенау-политике историки говорят часто.
Реже сообщается, что он был сыном основателя и президентом крупнейшего треста Германии «AEG» («Альгемайне электрицитетс гезельшафт» — Всеобщей компании электричества). Был Ратенау и теоретиком интернационального «организованного капитализма» и «хозяйственной демократии» (находя, кстати, некоторое сочувствие у Бухарина).
И уж совсем забывают упомянуть, что AEG был связан личной унией с крупными банками, со Стальным трестом Тиссена, трубным концерном Маннесмана, концерном Круппа и «другом-врагом» — трестом Симменса… И это не все! AEG не только имел дочерние общества и представительства в трех десятках стран, но и… был на треть собственностью ДЭК. Аббревиатура ДЭК у нас известна плохо, поэтому можно сказать и короче: это — «Дженерал электрик компани», то есть крупнейший электротехнический трест США, контролируемый финансовой группой Моргана.
Формально ДЭК приобрел 30 % акций AEG лишь в 1922 году, но договор о дележе мира был заключен между ними еще до Первой мировой — в 1907… И поэтому Ратенау-капиталисту был прямой расчёт игнорировать Ратенау-политика. Чем более погружалась в версальское «болото» Германия, тем больше США имели возможностей усилить свои позиции в германской экономике.
К тому же Ратенау был близко связан еще и с американо-еврейской банковской группой «Кун, Леб и K°». Вот в чём бы ли расчёт и ВЫГОДА. Та же выгода негласно кривила тонкие губы Вильсона, и насупившимся бровям Ллойд Джорджа приходилось уступать. На сцене же гордо, по-петушиному, красовался Клемансо… Правда, можно лишь догадываться, как все трое выглядели на совещаниях в парижской резиденции кавалера ордена Бани сэра Бэзила Захарова, поскольку наиболее деликатные вопросы Парижской конференции обсуждались именно там.
Разыграно было неглупо. В Париже и Версале распоряжался, конечно же, Вильсон. Другими словами, банки и монополии США.
Америка, внешне оставаясь в стороне — даже Договор не ратифицировала! — предоставляла Клемансо сомнительное право выжать из Германии, отупевшей после краха, МАКСИМУМ. Снять сливки.
Всё равно солидная толика и «львиной», и «петушиной» доли попала бы туда, куда и надо, за океан. Побежденная Германия оказывалась не только «дойной коровой», но ещё и «троянским конем» американского капитала.
Зоологи с ума бы посходили, но финансистов такой невообразимый гибрид не пугал. Они сами его создали.
* * *
Послевоенных выгод США имели столько, что изобретенные в конце прошлого века арифмометры выходили из строя от перенапряжения. Что там ни говори, а результатов Капитал Америки достиг, для первого раза, неплохих…
Юниус Спенсер Морган нашел свою «удачу» там же, где и первый Рокфеллер — в грязи и дыму гражданской войны Севера и Юга США в 1861–1865 годах. Его сыну — Джону Пирпонту-старшему, умершему в 1913 году, тогда еще не было тридцати, но он работал самостоятельно, ловко торгуя негодными ружьями. Внук — Джон Пирпонт-младший, в Первую мировую торговал ружьями уже исправными. Ловчить просто не было смысла — счет шел на миллионы штук. Хватало «честной» прибыли…
Не были обижены и Дюпоны: 40 % снарядов союзников выбрасывались из стволов силой дюпоновского пороха.
Реальный объем экспорта из США с 1913 по 1920 год возрос с 2,4 миллиарда долларов до 3,4 миллиарда — на 37 %. А номинальный объем экспорта за счет вздутых цен вырос в три с половиной раза (то есть на 350 %!) — до 8,1 миллиарда. Могли бы добиться Штаты такой переплаты за свои товары в мирных условиях? То-то!
К концу войны США сосредоточили у себя 40 % (сорок, читатель!) мировых запасов золота. Валовой торговый оборот одной лишь «Дюпон де Немур» за время войны увеличился с 83 до 308 миллионов долларов. А капитал составил миллиард! Чистые прибыли за четыре года всемирного мордобоя достигли 237 миллионов долларов. Из них 141 миллион получили акционеры в виде дивидендов, а за 49 миллионов «Дюпон де Немур» купила вначале часть акций «Дженерал моторе корпорейшн». Потом подумала и прикупила весь контрольный пакет.
Между прочим военные дивиденды были исчислены из нормы 458 % нарицательной стоимости акционерного капитала… А из-за 300 %, как считал английский профсоюзный деятель и публицист Дж. Т. Даннинг (его-то и цитировал потом Маркс) капитал был готов на любое преступление «хотя бы под страхом виселицы».
А тут даже страха-то не было — одни дивиденды!
Владелец самой знаменитой треуголки всех времен вывел чеканную, как из-под монетного стана, формулу: «Для ведения войны нужны три вещи: во-первых, деньги, во-вторых — деньги, и, в-третьих — деньги»… Что ж, каждый смотрит в свою подзорную трубу. Дюпоны эту формулу использовали в инверсированном виде: «Для делания денег нужны лишь три вещи: во-первых — война…», ну и так далее… Да и одни ли Дюпоны освоили эту науку?
Якобы «строптивая» Европа оказалась со всеми своими колониями у Дяди Сэма в кармане. Германия должна была вы плачивать репарации Англии и Франции, а те — долги Америке. Какая разница, как это называется, — долги, репарации, займы! Золото не только не пахнет, оно еще и безразлично к внешней стороне дела, к тому, как его «титулуют»… Лишь бы деньги текли к деньгам. Они и текли…
Вот цифры, приводимые Лениным в 1920 году со ссылкой на английского экономиста Кейнса — того самого Джона Мейнарда Кейнса, который участвовал в работе Парижской конференции, написал книгу «Экономические последствия мира» и позже стал основателем экономической теории, известной под названием «кейнсианства». Вот его оценки…
Соединённые Штаты имеют актив 19 миллиардов; пас сив — ноль. А до войны они были должником Англии. Теперь же оказались мировым кредитором. Англия попала в такое положение, что ее актив составил 17 миллиардов, а пассив — 8 миллиардов. Да еще в актив попали 6 «русских миллиардов», о которых сам Кейнс (с арифметикой у него было все в порядке) писал, что «этих долгов считать нельзя». Реально итог был хотя и положительным, но отдавал для Англии сомнительной «пирровой победой».
Общественную ситуацию характеризуют не только цифры, но и характерные для эпохи настроения… Так вот, красноречивое признание вырвалось после войны у Перси Гаррисона Фоссета, английского географа, топографа, археолога, путешественника и офицера английской армии: «Из поймы и вы нес убеждение в том, что как мировая держава Британия находится на ущербе… Надо полагать, тысячи людей утратили подобные иллюзии за эти четыре года, прожитые в грязи и крови. Таково неизбежное следствие войны для всех, за исключением тех немногих, кто нажился на ней».
Франция свела баланс войны с активом в 3,5 миллиарда и пассивом в 10,5! Ростовщик мира, нажившийся на колониях и займах, попадал в положение чистого должника.
Россия в своем пассиве имела разоренную двумя войнами страну, многовековые последствия татаро-монгольского на шествия — в виде изломанного национального характера, отсталости, невежества масс, но зато в активе мы получили такое государство, где у Капитала власти не было.
Актив, в перспективе, громаднейший. Мы уже знаем долговые цифры, которые не сулили России, останься она буржуазной, ничего хорошего. А вот уже не цифры, а мнения на ту же тему. «То, что мы наблюдаем в России, является началом вели кой борьбы за ее неизмеримые ресурсы сырья», — сообщал в мае 1918 года журнал англо-русских финансовых кругов «Россия». Похоже писала и «Лондон файнэншл ньюс» в ноябре того же года: «События все более принимают характер, свидетельствующий о тенденции к установлению над Россией международного протектората по образу и подобию британского плана для Египта. Такой поворот событий сразу превратил бы русские ценные бумаги в сливки международного рынка».
Но с Россией у США вышла осечка. «Сливки» скисли, бывшие ценные бумаги, по причине жесткости и чересчур хорошего качества, нельзя было использовать даже для целей утилитарных.
Зато с Германией у янки наблюдались сплошные активы. И дело было не только в репарациях и долгах как таковых. Одна лишь цитата из прекрасной книги американского экономиста Ричарда Сэсюли «ИГ Фарбениндустри» (издана на Западе в 1947 году и в сталинском СССР — уже в 1948). Одна цитата показывает, что значил для США разгром Германии: «Начавшая было развиваться американская химическая промышленность также была подавлена немцами в период, предшествующий Первой мировой войне. Одним из средств, при помощи которого был достигнут этот результат, явилось снижение цен. В течение десяти лет, с 1903 по 1913 год, немецкие фабриканты продавали, например, салициловую кислоту в США на 25 % дешевле, чем в самой Германии (и, конечно же, еще более дешево, чем фирмы США в США. — С.К.). Это также относилось и к брому, щавелевой кислоте, анилину и другим продуктам. Подобным же средством был и „принудительный ассортимент“: чтобы купить какой-либо особенно нужный продукт из числа изготовляемых немецкими фирмами, американцы должны были купить весь ассортимент продукции. Таким образом происходило вытеснение с рынка американских фирм».
* * *
Признание американца тем ценнее, что даже в двадцатые годы чаше говорили о конкуренции не американских, а английских и германских товаров. Большая Советская Энциклопедия писала в 1929 году в томе 15 на странице 601: «По существу история мировой торговли в эпоху империализма (до войны 1914–1918) является историей напряженного соревнования между Германией и Англией. Германский купец преследует английского буквально во всех частях света. В Южной Америке, в Японии, в Китае, в Персии, в Тунисе, в Марокко, в Египте, в Бельгийском Конго — во всех этих странах удельный вес им порта из Германии повышается, а из Англии — уменьшается. Германские товары начинают вытеснять английские даже на рынках британских колоний».
Всё это было верно для вчерашнего дня, а если бы не было войны — то и для самих двадцатых годов. А для тридцатых? А для сороковых?
Перед войной, в 1913 году, крупнейший немецкий экономист (и практический политик) Карл Гельферих пророчество вал: «Развитие германских колоний и теперь еще находится в первоначальной своей стадии. В будущем наши многообещающие начинания создадут нам колониальный рынок для наших промышленных продуктов и культуру сырья, необходимого для нашего народного хозяйства, как, например, культуру хлопка, и этим упрочат наше мировое положение».
Професор Гельферих был ярым монархистом и, увы, не меньшим антисоветчиком. После убийства левыми эсерами в Москве в 1918 году германского посла Мирбаха он был назначен к нам послом и скоро вышел в отставку, считая, что «вредно создавать хотя бы видимость сотрудничества с большевиками». Но о хозяйственных вопросах Гельферих писал не с бухты-барахты: он служил в колониальном ведомстве, был статс-секретарем финансов, произвел исчисление народного дохода Германии. И из его констатации следовало, что к тридцатым—сороковым годам Германия могла оставить далеко позади не только Англию, но и обойти Америку.
Мировой войной Америке удалось сбить немцев с темпа. Теперь можно было вздохнуть свободнее, а в какой-то мере и получить германские патенты, хотя к этой «святая святых» в Германии относились ревниво и не очень-то подпускали сюда даже победителей.
И, надо сказать, несмотря на все репрессии и репарации, немцы доказали, что они умеют сопротивляться даже на коленях. А германский Капитал сумел использовать для восстановления утраченных позиций все средства: прочные связи с Капиталом США, разногласия между Англией и Францией, потенциал отношений с новой Россией…
* * *
Использовался и такой жестокий по отношению к собственному народу метод, как инфляция. У инфляции было не сколько причин — и ни одной объективной. Все объяснялось не стихийными бедствиями и даже не катастрофическим не достатком материальных средств, а жадностью, жестокостью и желанием решить шкурные проблемы капитала, как немецкого, так и международного, за счет многомиллионных масс.
Формально инфляция началась уже 31 июля 1914 года — Рейхсбанк прекратил обмен банкнот на золото. Тогда в обращении ходило «бумаги» на 2 миллиарда марок. Через девять лет, перед стабилизацией марки, бумажных денег было выпущено на 93 триллиона, а может, и больше.
Заработная плата выдавалась каждый понедельник по индексам стоимости жизни, опубликованным в прошлую среду. Но и это не помогало — «покупательная сила марки таяла не по дням, а по часам». Последние слова взяты не из сентиментального романа, а из энциклопедического издания.
Хозяйки уходили на рынок с двумя корзинками: одна (маленькая) — для провизии, вторая (побольше) — для бумажных денег. И все чаще в маленькой корзинке оказывались даже не суррогаты (Erzatz), а «суррогаты суррогатов» (Erzatz-Erzatz). Далеко не полный список продовольственных эрзацев превышал уже 11 тысяч названий!
До войны лучше германского рабочего оплачивался только американский рабочий. А в апреле 1922 года английский статистик Джон Гилтон подсчитал: чтобы купить один и тот же набор продуктов американскому каменщику нужно было работать один час, английскому — три, французскому — пять, бельгийскому — шесть, а немецкому — семь часов с четвертью.
Курс доллара тогда составлял триста марок за доллар. Однако марку подорвала уже выплата первого репарационного миллиарда в августе 1921 года, и к концу 1922 за доллар давали семь с половиной тысяч марок. Окончательно же сводил с ума 1923 год: к марту доллар стоил 21 тысячу, к сентябрю — 110 миллионов, а к декабрю — более 4-х миллиардов марок! По сравнению с 1913 годом реальная заработная плата падала так: в апреле 1922 — 72 % по сравнению с довоенной, в октябре — 55, в июне 1923 — 48.
Немцев спасали только дешевый хлеб (который, к слову, до выпуска закона от 23 июня 1923 года добывался по разверстке) и высокая урожайность хорошо поставленного сельского хозяйства. Немецкий бауэр даже после изнурительной войны по луча с гектара в полтора раза больше пшеницы, чем канадец, и в два с половиной раза больше, чем американский фермер. Но Германия, все же, голодала.
Наёмные рабочие от инфляции лишь страдали, а трагедией она стала для «среднего класса» — «миттельштанда». В Германии он отличался особой бережливостью и охотно вкладывал сбережения в твердопроцентные облигации государственных и муниципальных займов, закладные листы ипотечных банков. Теперь, в течение одного 1923 года, труды всей жизни и расчеты на обеспеченную старость пошли прахом. Миттельштанд жил исключительно распродажей семейных ценностей и скарба.
Скажу в скобках, что «средний класс» по своим склонностям и воспитанию относился к социалистическим идеям прохладно, а чаще — враждебно. Но он же не мог простить капиталу вырванных «с мясом» былых благополучия и устойчивости личного бытия. Тот, кто стал бы в глазах бюргеров неким «усреднителем» между социализмом и капитализмом, да еще выдвигал бы антиверсальские национальные идеи, был бы воспринят ими как спаситель.
Пройдёт десяток лет, и миттельштанд особенно активно поддержит национал-социализм Гитлера.
Капиталу Германии инфляция принесла колоссальные… прибыли. Для него она означала фактическую ликвидацию всего внутреннего долга. Кроме того, в самую сложную пору, когда нужно было вновь налаживать экспорт, промышленные магнаты смогли оплачивать свои производственные издержки ничего не стоящими деньгами и заставить рабочих трудиться, по сути за еду.
Зато «король Рура» Стиннес, спекулируя на разнице курсов и искусственно сбивая курс марки еще ниже, создал гигантское объединение в тысячу предприятий и фирм с 600 тысячами работающих. Афера со сверхтрестом «Сименс-Рейн-Эльбе-Шукерт» лопнула (впрочем, в соответствии с замыслом), но на ее развалинах возник грандиозный стальной трест «Ферейнигте Штальверке», занявший главенствующее положение в черной металлургии Германии и в европейском сталь ном картеле.
Германия тогда вообще была благодатным местом для людей с долларами. Канадскую корпорацию «United Europian Investors» создали в те годы специально для скупки акций германских предприятий — энергетических, машиностроительных, химических. Пример заурядный, но из общей массы его выделяло то, что президентом корпорации с окладом в 10 тысяч долларов в год стал будущий президент США Франклин Делано Рузвельт, знаменитый будущий ФДР.
Когда курс марки стабилизировался, ФДР продал свою долю — свыше тысячи акций — по 10 тысяч марок за штуку. Марок уже не бумажных, а золотых…
* * *
Пик инфляции пришелся на 1923 год неслучайно. Как раз тогда германский и американский Капитал (вместе с английским) решили ряд важных проблем. А германские промышленники еще и добились на время особой сплоченности после-версальских немцев. Этот интересный эпизод получил название «пассивного сопротивления» в Руре.
В 1922 году у власти было правительство Вирта-Ратенау, и оно вело «политику выполнения мирного договора». 28 июня Ратенау со своей виллы в Грюнвальде отправился на машине в министерство. По дороге его нагнала другая машина и на перекрестке неожиданно преградила дорогу. Шофер Ратенау резко затормозил, а преследователи открыли стрельбу. По том взорвалась граната, и Ратенау был убит наповал. За тремя убийцами из организации «Консул» легко угадывался Стиннес.
В ноябре пал (политически) и Вирт. Новый канцлер Куно был до этого генеральным директором «Линие Гамбург-Америка», то есть сподвижником Моргана. И правительство Куно начало широко саботировать репарационные поставки, вступив на путь «политики катастроф», к которой призывал Стиннес.
Причиной такого внешне смелого поворота стало решение магнатов США и Англии, совпавшее с желанием Германии, поскорее отстранить от активной европейской экономической политики победителя-аутсайдера — Францию. Надо было зримо, в какой-то шумной акции показать и доказать необходимость чего-то нового в послеверсальской ситуации. Скажу сразу, что этим «чем-то» должен был стать план Дауэса, дававший жизнь перспективному гибриду «троянского коня» и «дойной коровы».
Две названные цели были прозрачными, но, думается мне, что был тут и третий момент. Обостряя отношения между Францией и Германией, англосаксы вкупе с Кунами и Лебами исключали для Франции возможность реалистичной ее политики по отношению к Германии. Во Франции имелись дело вые круги, которые строили планы такого франко-германского экономического сближения, где Германия виделась как минимум равным партнером.
Нетрудно было понять, что динамизм Германии быстро отдал бы ей «первую скрипку», а Франция взамен получала бы стабильное будущее, лишенное противостояния Германии.
Для Франции это был единственный шанс сохранить в будущем очень пристойное положение в мире, не подпадая под англосаксонское влияние. И, конечно, Штатам подобные поползновения нужно было сорвать еще до их внятного формулирования. Ведь нужно было думать уже о новой — будущей мировой войне, где Франции опять предстояло с Германией воевать, а не сотрудничать.
Всё вышло как по нотам. В январе 1923 года французы и бельгийцы, ссылаясь на невыполнение угольных и лесных репарационных поставок, оккупировали Рурскую область. Оккупанты ультимативно потребовали от представителей рабочих и директоров «дани», уже на 20 % большей, а за отказ угрожали военным судом, то есть расстрелом.
Ответом и стало «пассивное сопротивление»: добыча угля и работа предприятий не прекращались, но железнодорожники и рейнские водники парализовали транспортную сеть и прекратили вывоз сырья во Францию.
Тогда французы и бельгийцы вызвали своих железнодорожников. Сопротивление нарастало, заводы останавливались. Оккупанты дополнительно воспользовались услугами… поляков, которые тут же призвали военнообязанных и направили их в Германию для обслуживания рурской промышленности и транспорта. Одновременно Рур, где сосредотачивалось три пятых горного и горнозаводского дела страны, был отрезан от Германии.
И тут Берлин распорядился начать полный саботаж. Рабочие бездействовали, торговля замерла, чиновники бастовали. А жил Рур за счет постоянных государственных субсидий. При этом угольные и чугунные короли Рура нередко платили рабочим эрзац-банкнотами собственного производства (все равно деньги у рабочих шли только на продовольствие), а на бумажные марки субсидий в том же Берлине закупали фунты и доллары.
Рурская эпопея и добила марку окончательно, как того и хотел Стиннес. На 23 ноября 1923 года общая масса бумажных марок составила 224 септиллиона. В миллиардах — сумма астрономическая!
Был, как мы знаем, у этого «рурского эпизода» и тот пикантный нюанс, что «пассивное сопротивление» рядовых немцев поддерживали берлинские субсидии, а внешнее безрассудство Берлина, крутившего и крутившего печатный станок, питали из-за океана подсказки: «Сопротивляйтесь».
Расчёт был верным. В случае с Руром Германия впервые взбрыкнула по-настоящему, запахло взрывом. Справиться с ним Франция не могла. И тогда Францию отставили в сторону, а США взяли европейские вожжи в свои руки уже открыто.
ГЛАВА 11 Новые директивы — планы Дауэса и Юнга
30 ноября 1923 года под руководством американского генерала Дауэса и английского финансиста Г. Мак-Кензера начала работать комиссия экспертов по определению платеже способности Германии, В августе 1924 года на Лондонской конференции Европе и Германии был продиктован уже сам план Дауэса. 30 августа 1924 года вышел закон о денежной реформе, и с этого дня план вступил в силу.
Шестидесятилетний вице-президент США Чарльз Гейтс Дауэс был по совместительству еще и директором-основателем крупнейшего чикагского банка «Центральный Трест Ил линойса», связанного (какое «совпадение»!) с группой все того же Моргана, с которым имел тесные отношения Ратенау.
Во время Первой мировой войны Дауэс в чине генерала в координации с Барухом организовывал военные поставки в Европу. Первая Большая Советская Энциклопедия в томе 20, из данном в 1930 году, аттестовывала его как символ гегемонии американского капитала в Европе, но отдавала должное: «Д. является одним из талантливых представителей америк. монополистического финансового капитала, великолепно разбирающимся в положении послевоенной Европы и планомерно проводящим проникновение америк. капитала во все важнейшие страны Европы, в особенности в Германию и Францию».
Теперь Дауэс объявил: в ближайшие пять лет Германия выкладывает «на бочку» по полтора миллиарда марок золотом, потом — по два с половиной. Контроль над немецкой военной] промышленностью резко ослабевал, а под право контроля немецких железных дорог и банков Штаты давали Веймарской республике первый кредит в 200 миллионов долларов на восстановление экономики.
Потом последовали и другие кредиты. Жалеть не приходи лось — считалось, что вкладывается в своё… Собственно, так: оно и было. Германия начала резко прибавлять промышленные и торговые обороты, и с началом реализации плана Дауэса в германском будущем появился устойчивый просвет. А в Версальской системе — первая серьезная прореха.
В Зеркальном зале Версаля французам мечталось, конечно, великое… В конце 1922 года председатель финансовой комиссии французского парламента Дариак в своем секретном докладе Пуанкаре сообщал: «Если бумажная марка обесценивается со дня на день, то средства производства, принадлежащие Тиссену, Круппу и их соратникам, остаются и сохраняют свою золотую ценность. Это есть именно то, что имеет действительное значение».
Дариак был прав и вывод делал очевидный: вот бы это все — да под контроль Франции.
* * *
Мечталось-то мечталось, а практически вопрос о контроле над германским народным хозяйством был решен в пользу американского, а не французского капитала. Кое-какие крохи достались Англии.
Большая Советская Энциклопедия 1928 года так оценила план Дауэса: «Американские кредиты широкой волной залили народное хозяйство».
Доллары действительно делали плодородной экономику Германии не хуже, чем ил Нила — поля египетских феллахов. За два года немцы превзошли довоенный уровень развития. Правда, это не значило, что был восстановлен довоенный уровень массового потребления. У светских женщин сверкали бриллианты, у рабочих женщин — голодные глаза.
Чем стал для рабочей Германии план Дауэса видно хотя бы из статистики заболеваний горняков легочным туберкулезом. В 1913 году на сто работающих приходилось 0,57 больных, в 1917 — 1,02. В 1920 году эта цифра поднялась до 1,84, а к 1925 — доросла до 3,93!
У Карла Гельфериха в его последний год жизни (в 1924 году он скончался) были основания оценивать план Дауэса как шаг на пути «вечного порабощения» Германии. А генерал и депутат Людендорф при голосовании «дауэсовских» законов в рейхстаге кричал: — «Позор для Германии! Десять лет назад я выиграл битву при Танненберге (это когда из-за Ренненкампфа погибла армия Самсонова. — С.К.). Теперь они устроили нам еврейский Танненберг!».
* * *
Но депутаты план приняли — крупные промышленники увидели в нем крупные возможности рассчитаться с репарационными долгами и провести ряд махинаций. В этом смысле план Дауэса был очень характерен для послевоенного между народного капитала своей внешней противоречивостью и железной (то бишь — «золотой») внутренней логикой.
Германский долг позволял Америке внедряться в германскую экономику, не тратя ни цента. Получалось так потому, что американские банки, предоставившие Германии займы, тут же выпустили под них облигации, раскупленные рядовыми американцами. Банки сразу оказались с прибылью, а через несколько лет немцы — тут много поработал президент Рейхс банка Яльмар Шахт, отказались от выплат всего долга по согласованию с большим капиталом США.
Президент Гувер в 1931 году объявил мораторий на уплату взносов. В результате мелкие держатели германских облигаций потеряли в сумме миллиарды марок. А банки еще раз оказались с прибылью. Черчилль по этому поводу с притворной грустью заключал: «Такова печальная история этой идиотской путаницы, на которую было затрачено столько труда и сил».
Труда капитал затратил тут, действительно, немало, но и рыбка из «версальского пруда» была выловлена не простая, а золотая.
В июне 1929 года на очередной Парижской конференции директивы Дауэса заменили планом пятидесятипятилетнего американского финансиста Оуэна Д. Юнга. Впрочем, Юнг занимал еще один пост: главы «Дженерал электрик», ДЭК, — лучшей подруги AEG Ратенау, не считая постов в Федеральном резервном банке и в «Дженерал Моторс» неугомонного Моргана.
Не забывал, к слову, Юнг и СССР, активно пытаясь привязать наши рынки к интересам США. Соответственно, нам то же предлагались кредиты. Троцкий и Бухарин к таким идеям относились с интересом, но крепнущий Сталин смотрел на «щедроты» Юнга настороженно. Впрочем, полностью игнорировать Юнга, Моргана и ДЭК смысла не было, так что в 1928 году Юнг подписал с нашим Амторгом договор, по которому ДЭК выделяла нам 26 миллионов долларов на закупки электротехнического оборудования. Естественно — у ДЭК.
Что касается Германии, то к 1988 (я не ошибся — к тысяча девятьсот восемьдесят восьмому!) году она, по плану Юнга, должна была выплатить 112 «золотых» миллиардов по такому вот графику: до 1966 — по 2 миллиарда в год, после 1966 — по 1,6–1,7 миллиарда…
Вот как долго Новый Свет намеревался экономически доить свою новую «дойную корову»…
Зато все виды официального международного контроля отменялись (экономический, само собой, был не в счет). Немцы опять могли распоряжаться Рейхсбанком и Имперскими железными дорогами.
Франко-бельгийские войска из Рура вывели ещё раньше… Да и план Юнга президент США Гувер скоро для Германии смягчил, а потом он и вообще был фактически отменен уже упомянутым мораторием Гувера на платежи по международным правительственным обязательствам.
Ещё бы: ДЭК AEG ока не выклюет…
Стратегически всё было рассчитано умно и с дальним прицелом. Выжимать соки из народа Германии до бесконечности было нельзя. Пришлось вовремя остановиться, чтобы внести изменения в тактику, сохранив стратегию контроля.
Предложенный Юнгом план включал в себя и основание Банка международных расчетов, который имел резиденцию в Базеле и стал проводником тактики выжимания денег.
Другими словами, в центре Европы возникал официальный центр по обслуживанию финансовых интересов США, то есть международного финансового капитала.
* * *
Доить немецкую «корову» предполагалось ещё долго…
И не её одну…
Через пять месяцев после введения в жизнь плана Юнга на нью-йоркской бирже грянула «чёрная пятница» 25 октября (иногда говорят, впрочем, о «чёрном четверге» — сказалась разница часовых поясов). Акции всех предприятий падали и падали.
Начался «Великий кризис». Для десятков миллионов в Америке и Европе он означал трагедию, безработицу… Для десятков тысяч — самоубийства. По сравнению с 1925 годом зарплата американских рабочих упала вдвое.
В 1930 году в США без работы остались 4 миллиона чело век, а вскоре — уже 15 миллионов.
В 1932 году выплавка стали и добыча угля упали в США до уровня 1902 года.
Бывшего президента «United Europian Investors» Франклина Рузвельта сделали президентом США, и он начал спасать капитализм, поведя Штаты «новым курсом».
Положение действительно было серьезным, но не настолько, чтобы особенно опасаться за свое место в системе власти Америки. Депрессия тридцатых годов стала для Капитала всего лишь оздоровительным выпуском «дурной» спекулятивной крови. Сознательно или бессознательно, но такой прием был применен Капиталом уже не в первый раз… Когда-то приток контрибуционных золотых франков во Второй Рейх Вильгельма Первого — после Седанской победы — породил волну спекулятивного учредительства — грюндерства. Через пять лет в Германии «разразился» кризис, потребление масс упало вдвое, зато «дело» Круппа только разрасталось. Ещё бы — рабочие теперь были рады иметь работу за хлеб, за гроши. Для крупного Капитала кризисы — время золотое в прямом смысле этого звонкого слова!
Теперь нечто подобное — в другую эпоху, в других масштабах — повторялось в США. После ошеломительно прибыльной войны появились несколько десятков тысяч новых миллионеров, и разнобой мешал воротилам бизнеса упорядочить управление возникающим гигантским мировым «предприятием». Теперь разорялись тысячи мелких банков, но крупные — укреплялись.
Под шумок в Европе были аннулированы все американские кредиты. И подданные Его Величества британского короля были извещены, что в результате военной задолженности Соединенным Штатам Америки им придется выплачивать только по годовым процентам государственного долга 350 миллионов фунтов стерлингов. Пожалуй, не меньше, чем предуказывалось бывшему Второму Рейху, ставшему Веймарской республикой безвременно усопшего Ратенау.
Англичане в свою очередь также отказывались платить, но даже их отказ не помешал США на одних процентах с займов вернуть своёс лихвой, не считая новоприобретенной доли в европейской экономике.
Ещё раз напомню, что до Первой мировой войны Соединенные Штаты были крупнейшим мировым должником, а после войны стали единоличным, по сути, мировым кредитором. И если бы Штаты настаивали на выплате всех — на самом деле трижды фактически уже оплаченных — долгов, то Европа просто рухнула бы…
Поэтому извлечение сверхприбылей можно было времен но прекратить, тем более что на этом, как сказано, теряла «мелкота».
Начавшись в Америке, кризис пришел и в Европу — в новом мире быть иначе уже не могло. Не затронутой кризисом оказалась одна страна — дерзко низринувшая капитал и созидающая себя сама — Советский Союз.
В США в то время у трудящихся масс не было никаких социальных гарантий, зато труд там стоил дорого. Меньшие часовые ставки в Европе компенсировались развитыми социальными институтами, добытыми в многовековой борьбе рабочих мозолей с властью Капитала. Зато европейские магнаты умели ловко изворачиваться. Особо прогремел по Европе странный крах финансового столпа австрийской экономики и австрийских Ротшильдов — банка «Остеррайхише Кредит-Анштальт фюр Хэндель унд Гевербэ». Банковская система Австрии вдруг рассыпалась, как карточный домик, несмотря на заверения Ротшильдов парижских и лондонских, что они-де венским Ротшильдам «помогали».
Банкиры разводили руками, а на удивительное фиаско непотопляемых Ротшильдов пристально смотрели из сосед ней Германии немигающие синие глаза будущего фюрера. В декабре 1933 года парижского Эдуарда Ротшильда предупредили: в случае прихода к власти в Австрии нацисты всерьез возьмутся за расследование дела о банкротстве «Кредит-Анштальт». Соответственно венскому Луису Ротшильду рекомендовали отсидеться на вилле семьи во французских Каннах. И было за что…
Дело в том, что незадолго до венского «краха» германский министр иностранных дел Курциус и австрийский вице-канцлер Шибер подписали соглашение о таможенном союзе между Германией и Австрией. Таможенные границы уничтожались, вводились согласованные тарифы и единый таможенный закон. Конечно, это был шаг к аншлюсу, то есть объединению Германии и Австрии, что прямо запрещалось Сен-Жерменским договором от 10 сентября 1919 года, который входил в систему версальских «договоренностей» и грубо нарушал право немецкого народа Австрии на самоопределение.
Ещё дальше шёл Женевский протокол 1922 года, который запрещал даже экономический союз Австрии и Германии.
Хотя Курциус и Шибер ссылались на французскую идею об общеевропейском союзе, Франция резко протестовала. Германские и австрийские немцы пригрозили в случае отрицательной западной позиции сближением с СССР. Вот тогда-то французские финансовые круги (то есть Ротшильды) и прекратили сотрудничество с австрийскими банками, испытывавши ми трудности.
Англия удовлетворилась заверением Германии, что ее соглашение с Австрией вызвано экономическими, а не политически ми причинами. Но спорный вопрос передали в Гаагский третейский суд. И тот 5 сентября принял сторону Франции. Еще бы!
Предвидя такой исход, немцы обеих стран еще до решения суда заявили об отказе от соглашения. Ротшильды победили.
Что касается Америки, то вот как изменялась по годам сумма выплаченных дивидендов, если уровень 1925-го года принять за 100 %: в 1928 — 157 %; в 1929 — 198 %; в 1930 — 224 %.
Производство в США падало, а доходы американских рантье росли. В разгар «кризиса» они немного упали: в 1931 году — до 214 %, а в 1932 — до 182-х.
Да, обделывать ловкие дела в «добром Новом свете» научились… И можно было бы сказать, что хорошо организованным «кризисом» окончательно завершилась история о Первой Военной Сверхприбыли.
ГЛABA 12 Если где-то чего-то убудет…
Ещё Михайло Ломоносов заметил, что если где-то чего-то убудет, то в другом месте и прибавится. Краткий итог Первой мировой войны для простых людей выразился в следующих примерных цифрах:
Погибло военнослужащих — 10 000 000.
Пропало без вести
(предположительно погибло) — 3 000 000.
Погибло гражданских лиц — 13 000 000.
Ранено — 20 000 000.
Осталось сирот войны — 9 000 000.
Осталось вдов войны — 5 000 000.
Беженцев стало — 10 000 000.
Только убитых и раненых насчитывалось 46 миллионов! Прибавим к этому еще и дополнительный дефицит населения из-за снижения рождаемости и увеличения смертности — 20 миллионов нерождений и смертей. И если это, читатель, — не глобальный геноцид, устроенный тогда капиталом в таких масштабах впервые, то что же тогда такое геноцид?
Так выразились итоги Первой мировой войны в отношении людей. А как по части финансов?
К началу тридцатых годов затраты на Первую мировую все еще толком не подсчитали. Тем не менее конкретные цифры были уже в ходу, и ими широко пользовались. Вот запись от 1 апреля 1933 года, сделанная Джавахарлалом Неру в своих письмах-очерках «Взгляд на всемирную историю». Неру пи сал их для дочери, юной Индиры Ганди, сидя в разных тюрьмах Индии.
Апрель 1933 года застал его в Центральной тюрьме Наини, откуда он и сообщал: «Американцы оценивают общую сумму расходов союзников в 40 999 600 000 — почти в 41 миллиард фунтов стерлингов, а расходы германских государств — в 15 122 300 000, свыше 15-ти миллиардов фунтов стерлингов. Общая сумма их составляет свыше 50-ти миллиардов фунтов!»…
Как видим, сплошные потери… Так что, может, великий наш помор был неправ? Не работает, значит, закон сохранения материи в человеческом обществе, когда гремят пушки? Э-э, нет — работает! Да ещё как!
Говоря о войнах, всегда почему-то подсчитывают расходы. Хотя расход для одних — доход для других! Не так ли? За Первую мировую войну были не только израсходованы 50 миллиардов фунтов, но и ПОЛУЧЕНО было кем-то примерно столь ко же… Государства, кроме США, оказались после войны не столько в шелку, сколько в долгу.
Так в долгу кому?
Ответ один: международным финансовым группам и монополиям, где капитал США играл уже первую, но далеко не единственную скрипку.
О доходах, полученных единицами как проценты с крови и слез миллионов, тот же Неру писал: «Мы не можем как следует оценить значение таких цифр — они слишком далеко выходят за пределы нашего повседневного опыта. Они напоминают астрономические цифры, как расстояние от Солнца до звезд»…
Сказано сильно, но неточно. Не для жителей Солнца или звезд, а для вполне реальных НЕКОТОРЫХ землян эти циф ры находились всего лишь на расстоянии руки, протянутой к личному тайному сейфу.
И порывшись в нем, слабые человеческие руки (хотя можно ли их называть «слабыми» и «человеческими» — не знаю!) вынимали оттуда ЛИЧНУЮ мощь, равную звездной.
Ну как же не поддаваться такому соблазну, господа, товарищи, леди энд джентльмены, если такой соблазн неотразим?
Когда профессор Уильям Додд, попавший на пост посла Штатов в рейхе чудом — всего лишь как вывеска американского либерала, однажды сморозил в имении Геринга, что, дескать, если бы люди знали историческую правду, большой войны никогда не было бы, английский посол сэр Эрик Фиппс и французский Франсуа-Понсэ в голос расхохотались, ничего не сказав в ответ…
А честный, но наивный Додд никак не мог взять в толк — с чего они хохотали, почему отмолчались… Но они-то знали — ПОЧЕМУ…
Когда Америка уже готовилась распять Германию после поражения немцев в фактически закончившейся войне, Вудро Вильсон 14 октября 1918 года с высокомерием громилы, наслаждающегося беспомощностью жертвы, направил в Европу ноту, в которой неосознанно разоблачил и себя, и своих патронов.
Вильсон ультимативно требовал низложения Вильгельма П. В качестве мотива он выдвинул стремление Америки к уничтожению «всякой произвольной власти где бы то ни было, могущей отдельно, тайно и по собственному единственному усмотрению нарушить мир на свете». Далее Вильсон пояснял: «Власть, которая до сих пор управляла германской нацией, и есть такого рода власть, как здесь описано».
Американский президент лгал даже формально, поскольку Вильгельм не был неограниченным самодержавным монархом, а за военные кредиты голосовал весь рейхстаг, кроме Карла Либкнехта. Но президент был поразительно точен в другом — в описании подлинного характера и методов власти той золотой элиты, которая как раз «тайно и по собственному единственному усмотрению» нарушила мир на свете во имя своекорыстных целей.
Конечно, не только настоящие, серьезные доходы, но и их подлинные созидатели и обладатели никогда не рвались и не рвутся на первые страницы той истории, с которой потом разбираются историки и архивисты.
Для всеобщего обозрения всегда найдется кто попроще и поимпозантнее — типа кайзера или смешливых гостей рейхс-маршала Геринга. Однако, чтобы делать не только деньги, но и историю, эти безвестные «герои» претендуют в первую голову.
А историю они уже не один век делают всегда на один манер, по одинаковой схеме: прибыль на подготовке войны, за тем сверхприбыль на войне, затем — прибыль на послевоенном восстановлении, затем… опять подготовка большой войны или серии войн поменьше.
Всё остальное — лишь гарнир к основной деятельности капитала.
Возможно, ты возразишь мне, читатель: «Ну так уж и основной! А Катерпиллер, например, делающий не танки, а экскаваторы и бульдозеры? А обувные, пищевые, швейные корпорации? Во всех странах военное производство занимает лишь небольшую часть общей экономической деятельности. Так разве немилитаризованному Капиталу — который в большинстве — война выгодна?».
Ответ тут скрыт в самом вопросе! Если для БОЛЬШИНСТВА Капитала война была бы невыгодна экономически (то есть, иначе — убыточна), то оно — это преобладающее, якобы не склонное к войне большинство, вполне могло бы пресечь действия «меньшого» милитаристского собрата. Ведь, как говаривал один из Рокфеллеров: «Чего не сделают деньги, то сделают большие деньги»… Но как раз большие-то деньги и делают большую войну
Некто Даниил Проэктор, под крылом Отделения истории АН СССР, академика Самсонова и издательства «Наука» выпустивший в 1989 году второе издание своего опуса «Фашизм: путь агрессии и гибели», закончил его так: «Войны бессмысленны».
Как сказать!
Они очень даже имеют смысл, если смотреть на них глаза ми Золотого Интернационала!
* * *
В заключение повторю, что ни в Версале, ни после него никаких серьезных разногласий Европы и Соединенных Штатов не было. Была умная, широкая, планетарная игра, был и диктат.
Была точная «раскадровка» текущих и будущих событий режиссерами международного капитала. Вначале режиссерские ремарки заглушались гулом голосов нескольких тысяч разноязыких делегатов в Париже и пышностью церемонии в Зеркальном зале Версальского дворца.
Потом — спорами на других конференциях и совещаниях.
Ещё потом — плачем и проклятиями «Великого кризиса»…
Однако всего того, чего хотели США, они добивались — и в Париже 1919 года, и в Париже 1929 года,
Штаты обеспечили себе не мандаты, полетевшие к черту не более чем через тридцать лет, не колонии — полетевшие ту да же примерно в те же сроки, но право и возможность управлять ситуацией в мире так, как это было нужно им, а вернее — капиталу Америки.
Конечно, не все задуманное удавалось, и независимая Советская Россия как результат империалистической войны, вместо буржуазной зависимой России оказалась самым крупным и болезненным просчетом. С ней пока приходилось по временить… Зато остальная Европа — как там было сказано? — стала «по существу монопольной фирмой янки и K°».
Правда, владельцы «фирмы» еще не знали, что и в Германии возникает потенциальная угроза их интересам. Они контролировали экономику, они сумели неплохо отладить контроль политических движений, но контроль над душами рядовых немцев Штаты установить не могли.
Во времена Веймарской республики в их душах было пере мешано всякое: темные аккорды Вагнера с легкомысленным джазом, великие темы Бетховена с веселой опереттой, зонги «Трехгрошовой оперы» с томной эротикой танго, марши «спартаковцев» с «Хорстом Весселем» штурмовиков…
Разные звуки боролись друг с другом, сливались, прорывались один сквозь другой, ко их все более властно перекрывала мелодия новой национальной надежды…
Оглушённая войной Германия выбирала свой новый путь…
РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ — ВМЕСТЕ ИЛИ ПОРОЗНЬ? Послесловие-комментарий
Давно ставшее привычным в русском языке слово «эпилог» происходит от двух греческих: «epi», что значит «после», и «logos» — «слово, речь».
Итак, по-русски вроде бы получается «послесловие». Но эпилог и послесловие — не совсем одно и то же, если верить хорошим толковым словарям.
Эпилог в литературе — заключительное сообщение о событиях, происшедших через некоторое время после событий, изложенных в основной части произведения.
А послесловие (согласно Далю, например) — просто «объяснение, последующее сочинению».
Вряд ли будет целесообразным для автора и уважительным по отношению к читателям попытаться в коротком эпилоге хоть как-то изложить события, происшедшие в мире, в Европе, в Германии и России через пять, десять или пятнадцать лет после конца двадцатых годов двадцатого столетия. Для этого потребуется целая книга, да еще и не одна… Эпилогом тут автору не отвертеться…
Десять лет, прошедших от черного дня Биржи до первых налетов пикирующих бомбардировщиков Ю-87 на Варшаву, — возможно, самые захватывающие и уж, вне всяких сомнений, самые динамичные годы во всей мировой истории.
За десяток лет Германия из Веймарской республики, при давленной Версальской системой, превратилась в мощный нацистский Рейх, вобравший в себя Австрию, немецкие — в этническом отношении — Судеты, а также Чехию-Богемию в качестве протектората. Германия легко разгромила Польшу. А к маю сорокового года танки Гудериана прижали войска бывших версальских триумфаторов к берегам Английского канала Ла-Манша в районе Дюнкерка.
За тот же десяток лет Англия и Франция не столько усилились, сколько одряхлели. Безусловный антинацист, американский журналист Уильям Ширер, живший в Германии с конца двадцатых годов, о германской молодежи писал так: «Молодое поколение третьего Рейха росло сильным и здоровым, исполненным веры в будущее своей страны и веры в самих себя, в дружбу и товарищество, способным сокрушить все классовые, экономические и социальные барьеры».
Иные картины давал он, наблюдая молодых англичан: «На дороге между Ахеном и Брюсселем (в мае 1940 года — С.К.) я встречал немецких солдат, бронзовых от загара, хорошо сложенных и закаленных благодаря тому, что в юности они много времени проводили на солнце и хорошо питались. Я сравнивал их с первыми английскими военнопленными — сутулыми, бледными, со впалой грудью и плохими зубами»…
Вряд ли это служило свидетельством прогресса Британской империи.
Россия к концу тридцатых годов напротив — совершила еще более мощный рывок во всех сферах жизни, чем Германия. И слово «рывок» — единственно точное здесь.
Сотни тысяч рабочих и крестьянских парней и девушек из прочно облюбованных тараканами комнатушек, из заселенных вековечными блохами изб шагнули в небо в прямом смысле этого слова с крыла осоавиахимовского У-2. Миллионы освоили автомобиль, трактор, рацию, танк…
* * *
Ну, вот, читатель! Я все-таки начал сбиваться на нечто вроде эпилога — уж очень интересные пошли истории в Европе и в России с начала тридцатых годов. Но я был намерен написать, все же, послесловие.
И даже не просто послесловие, а комментарий к собствен ной книге, чтобы еще раз поразмыслить о главных исторических героях — России и Германии, а также о мире, в котором они жили когда-то, живут сейчас, и будут жить в весьма недалеком будущем…
Поэт говорил: «о времени, и о себе»… Сказано хорошо и верно, ведь и наши предки жили, и мы сами живем во вполне определенном времени. Причём мы с вами, читатель, живём в России, а до Берлина — всего-то часа четыре лёту из Москвы…
* * *
Итак, отгремели последние — уже не фронтовые, а салютные залпы Первой мировой войны над Парижем, Лондоном, Вашингтоном.
Закончились «мирные» битвы-переговоры.
Разноязычные окопники, военнопленные, интернированные разъехались и разбрелись по домам.
В Германии и Венгрии потерпели поражение революции — весьма, впрочем, по сравнению с русской, вялые,
Народы всматривались в новую Европу, перекроенную войной и Версалем. Жизнь народов продолжалась, но будущее их было далеко не безоблачным — хотя в Париже опять вовсю веселились.
И будущее опять зависело от того, как выстроят свои отношения, прежде всего, два великих народа — русский и немец кий. После Первой мировой войны, как и до нее, именно Россия и Германия держали в своих руках не только собственные судьбы, но и судьбы войны и мира вообще.
К ним — к народам и их отношениям — мы и вернёмся…
* * *
Россия и Германия… Оглянемся-ка мы ещё раз далеко назад и посмотрим, а что же было общего у наших стран? И было ли что общее у них, таких разных, к двадцатым годам двадцатого века, даже не имеющих общей границы?
Была, конечно, общая история, были войны русских с Фридрихом Прусским, были и войны, которые Пруссия вела вместе с русскими против Наполеона, были «войны» таможенные и была Первая мировая война, которая очень уж немцев с русскими не рассорила.
Не рассорила, наверное, потому, что Россия давно знала Германию лучше, чем любую другую европейскую страну. В чем была причина? Немца в России еще с петровских времен не очень-то любили, но вошел он в русскую жизнь настолько прочно, что в своем описании петербургского раннего утра наш Пушкин писал: «И хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке не раз уж отворял свой васисдас». Васисдасом, как пояснял сам Пушкин, называли тогда «фортку», в которую до открытия булочной продавали хлеб.
У гения даже мгновенный набросок глубок и точен, и Пушкин одной фразой вполне подтвердил свой класс. Всего дюжи на слов, а как здорово подмечены тогдашние типично немецкие черты: мирные наклонности, точность, аккуратность и трудолюбие, чистоплотность… А также — тот взгляд на жизнь, который выразился в немецкой поговорке: «Утренние часы с золотом во рту». Так вот и жили в нашей России «русские» немцы.
Была кроме маленькой — русской «Германии» — и другая Германия, непосредственно «германская», раздробленная на мелкие «государства». Но и раздробленная, она думала о будущем объединении под рукой Пруссии и при помощи России. 10 марта 1813 года партизан Денис Давыдов, освободив Дрезден от французов, при всех орденах (в том числе и прусском «За достоинство») произнес речь перед городской депутацией «о высокой судьбе, ожидающей Германию, если она не изменит призыву чести и достоинству своего имени; о благодарности, коей она обязана императору Александру, вступившему в Германию для Германии, а не для себя, ибо его дело уже сделано»…
Правда, Давыдов же шутливо признавался потом, что в своей речи он широко пользовался готовыми фразами из русских прокламаций, «целые груды которых лежали в памяти моей, как запас сосисок для угощения немцев». Но, во-первых, тон прокламаций говорил сам за себя. Да и Давыдов, в общем-то, не фальшивил. Ведь ещё в записках о временах Тильзита (когда Наполеон разбил Пруссию и заигрывал с нашим Александром) Давыдов писал: «Впереди Россия с ее неисчислимыми средствами для себя, без средств для неприятеля, — необъятная, бездонная. Позади — Пруссия, без армии, но с народом, оскорбленным в своей чести, ожесточенным, до веденным до отчаяния насилиями завоевателей, не подымающим оружия только потому, что не к кому еще пристать».
Уважение к Германии и понимание общности ее интересов с русскими интересами тут налицо.
Увы, путем взаимно обогащающего и взаимно дополняющего сотрудничества две страны, два народа не пошли. Только великие русские самодержцы — а было их после воцарения Романовых всего-то два: Великий Петр I да Великая Екатерина II — верно видели интерес России в том, чтобы умно брать у немцев все, нам недостающее.
Александр I и Николай I этот принцип окарикатурили, отдав политику России в руки немецким канкриным и нессельроде.
Александры II, а потом и III, не придумали ничего лучшего, как сближение с Францией.
Россия слабела, теряла лицо, и в крепнущей Германии начали развиваться настроения, не очень-то для нас полезные.
* * *
В 1880 году один из гениальных русских мыслителей — Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин — путешествовал по Германии и случайно там познакомился с белобрысым юно шей, принятым им вначале по виду за «скитальца из Котельнического уездного училища». Но услышал он в ответ: «Я сольдат; мы уф Берлин немного учим по-русску… на всяк слючай!».
Великий сатирик написал: «Мы, русские, с самого Петра I усердно „учим по-немецку“ и все никакого случая поймать не можем, а в Берлине уж и теперь „случай“ предвидят и учат солдат „по-русску“.
Писал Щедрин и так: „Берлин скромно стоял во главе скромного государства. Милитаристские поползновения существовали в Берлине и тогда, но они казались столь безобидными, что. никому не внушали ни подозрений, ни опасений, хотя под сению этой безобидности выросли Бисмарки и Мольтке… Лучшее право старого Берлина на общие симпатии заключалось в том, что никто его не боялся, никто не завидовал и ни в чем не подозревал, так что даже Москва-река ничего не имела против существования речки Шпрее. В настоящее время все радикально изменилось. Застенчивость сменилась самомнением, политическая уклончивость — ничем не оправдываемой претензией на вселенское господство“.
Смену германских настроений Щедрин уловил прозорливо, а вот относительно оправданности претензий был не прав. Претензии были-таки оправданы, если не на единоличное господство, то уж на одну из двух ведущих ролей в мире — несомненно.
Сам же Михаил Евграфович оставил нам (в очерках „За рубежом“) в качестве „информации к размышлению“ знаменитый „Разговор мальчика в штанах и мальчика без штанов“, без хотя бы частичного изложения которого (щедринский текст я выделил курсивом) мне, читатель, обойтись просто невозможно!
А началось всё с того, что посреди „шоссированной улицы немецкой деревни“ вдруг „вдвинулась обыкновенная русская лужа“, из которой выпрыгнул русский „мальчик без штанов“ для разговора с немецким „мальчиком в штанах“.
* * *
Хозяин, протягивая руку, приветствовал гостя:
— Здравствуйте, мальчик без штанов!
Мальчик без штанов, на руку внимания не обратив, сообщил:
— Однако, брат, у вас здесь чисто!
Хозяин был настойчив:
— Здравствуйте, мальчик без штанов!
— Пристал, как банный лист… Ну, здравствуй! Дай оглядеться сперва. Ишь ведь как чисто — плюнуть некуда!
Мальчика в штанах интересовало многое. Спросил он, естественно, и отчего русский мальчик ходит без штанов. Ответ для немца был не очень-то понятным:
— У нас, брат, без правила ни на шаг. Вот и я без штанов, по правилу, хожу. А тебе в штанах небось лучше?
Мальчик в штанах отвечал:
— Мне в штанах очень хорошо. И если б моим добрым родителям угодно было лишить меня этого одеяния, то я не иначе понял бы эту меру, как в виде справедливого возмездия за мое неодобрительное поведение.
— Дались тебе эти „добрая матушка“, „почтеннейший батюшка“ — к чему ты эту канитель завел! У нас, брат, дядя Кузьма намеднись отца на кобеля променял! Вот так раз!
Мальчик в штанах ужаснулся:
— Ах, нет! Это невозможно.
Поняв, что „слишком далеко зашел в деле отрицания“, русский мальчик успокоил нового знакомого:
— Ну, полно! Это я так… пошутил! Пословица у нас есть такая, так я вспомнил.
— Однако, ежели даже пословица… ах, как это жаль! И как бесчеловечно, что такие пословицы вслух повторяют при мальчиках.
Немец заплакал, а русский ухмыльнулся:
— Завыл, немчура! Ты лучше скажи, отчего у вас такие хлеба родятся? Ехал я давеча в луже по дороге, смотрю, везде песок да торфик, а все-таки на полях страсть какие суслоны наворочены!
— Я думаю, это оттого, что нам никто не препятствует быть трудолюбивыми. Никто не пугает нас, никто не заставляет производить такие действия, которые ни для чего не нужны… Мы стали прилагать к земле наш труд и нашу опытность, и земля возвращает нам за это сторицею.
Долго говорили ещё мальчики: немецкий — разумно, русский — задиристо:
— Да, брат немец! Про тебя говорят, будто ты обезьяну выдумал, а коли поглядеть, так куда мы против вас на выдумку тороваты!
— Ну, это еще…
— Верно говорю. Слыхал я, что ты такую сигнацию выдумал, что хошь куда ее неси — сейчас тебе за нее настоящие деньги дадут?
— Конечно, дадут настоящие золотые или серебряные деньги — как же иначе?
— А я такую сигнацию выдумал: предъявителю выдается из разменной кассы… плюха! Вот ты меня и понимай!
Тут Щедрин пометил: „Мальчик в штанах хочет понять, но не может“. А русский мальчик без штанов продолжал:
— У нас, брат, шаром покати, да зато занятно…
— Что же тут занятного… „Шаром покати“!
— Это-то и занятно. Ты ждешь, что хлеб будет — ан вместо того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послезавтра — саранча, а потом — выкупные подавай! Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался?
Не сразу, но немец ответил:
— Я полагаю, что вам без немцев не обойтись!
— На-тко, выкуси!
— Опять это слово! Русский мальчик! Я подаю вам благой совет, а вы затвердили какую-то глупость, и думаете, что это ответ. Поймите меня. Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто все это вам не в диковину. У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет, а когда я, от имени немцев, предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне: выкуси! Берегитесь, русский мальчик! Это с вашей стороны высокоумие, которое положительно ничем не оправдывается!
— А, надоели вы нам, немцы, — вот что! Взяли в полон, да и держите! Правду ты сказал: есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения… Да вот что худо: кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? — немец! Кто самый безжалостный педагог? — немец! Кто самый тупой администратор? — немец!..
* * *
Тут, с твоего позволения, читатель, я вклинюсь в разговор мальчиков, чтобы сказать в скобках вот что…
Русские люди и сами, конечно, могли положить крепкую кирпичную кладку, вырастить в Сибири отличный урожай… Смогли без немцев пройти до Аляски, обойти вокруг света, и без немцев (хотя и не совсем без них) поднять демидовский Урал.
Однако было у нас так много расхлябанности, что немецкая собранность часто воспринималось нами с протестом не по причине немецкого высокомерия, а по причине нашего разгильдяйства, укорачивать которое не желали ни мальчики, ни дяди без штанов. Да и в штанах — тоже.
Увы, Пушкин недаром писал: „Авось“, — о, шиболет народный…». «Шиболет» — это тайное слово, по которому народы узнавали своих.
И действительно на русский «авось» мы надеялись слишком часто. А вот немцы веками вырабатывали в себе ежедневную основательность.
Но «мальчик без штанов» видел иное:
— Только жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха. Есть же какая-нибудь этому причина?
— Разумеется, от необразованности. Необразованный человек — все равно, что низший организм, а чего же ждать от низших организмов?
— Вот видишь, колбаса! Тебя еще от земли не видать, а как уж ты поговариваешь!
«Колбаса», «выкуси»! — какие несносные выражения! А вы, русские, еще хвалитесь богатством вашего языка! Между тем дело ясное. Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, и что же оказывается? Что вы беднее, нежели когда-нибудь…, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь.
* * *
Ах, читатель, как все это мучительно напоминает что-то очень знакомое… А?
Вот то-то и оно…
В этом, якобы приснившемся Щедрину разговоре, отношения двух народов и их национальные черты представлены без прикрас. Русско-немецкие противоречия выпирали из каждой фразы и кололи больно, но…
Но немецкое содействие действительно русским требовалось. В середине XIX века митрополит Московский и Коломенский Филарет говорил о русском народе: «В нем света мало, но теплоты много». Сказано хорошо, но недаром же тот же русский народ признавал: «Ученье — свет, а неученье — тьма».
Вот нам и недоставало как света, так и ученья. Зато темно та имелась в наличии с избытком. Прикрыв в давние времена Европу от татаро-монгольского опустошения, Россия отстала от передовых народов основательно.
Нужно было догонять, нужно было учиться.
Но у кого?
В Европе (да, по сути, и в мире) были тогда лишь три страны, без ясного определения отношений с которыми Россия была обречена на опасную невнятность всей внешней и внутренней политики. И у всех трех жадности, зависти к России и спеси было более чем достаточно…
Англия с её отточенным коварством, с её изысканным, бесстрастным бессердечием и полнейшим пренебрежением к правам слабейшего была для России партнером заведомо непригодным. С Англией нужно было торговать, учиться ее достижениям и ни на минуту не забывать, что «англичанка завсегда гадит».
Франция была внешне легкомысленной, а на деле тоже отменно своекорыстной, жадной и жестокой, что хорошо доказала своим поведением в колониях, в России в 1812 году и в Испании. Испанец Гойя разоблачил бесчеловечность французов в своих офортах «Ужасы войны» с фотографической точностью и большой выразительностью: французы разрубали тела испанских повстанцев на части и насаживали на сучья деревьев. И не забудем, что это французы весело произносили ужасные слова: «Труп врага веселит и всегда пахнет хорошо».
Русско-французская дружба была выгодна лишь Франции и, косвенно, Англии. Англии она помогала ослаблять опасную в перспективе Германию, а выгоды французов очевидны: от рыв России от ее естественного, в силу соседства, германского союзника. И защита Франции — от него же.
Германия, конечно, поставляла России немало тупых администраторов и педантичных педагогов. Зато Франция снабжала нас лишь гувернерами не лучшей кондиции и бойкими французскими «мамзелями». Экономически и цивилизационно французы все более становились аутсайдерами.
Щедрин определял немецкую культуру и науку как второсортные, но, скончавшись в 1889 году, он не мог знать тогда, что его уже подросший «мальчик в штанах», которому «никто не препятствовал быть трудолюбивым», изменит место Германии в мире всего в два десятилетия.
Соответственно, Германия и претендовала на многое. В октябре 1916 года в Берлине вышла книга уже знакомого нам Фридриха Науманна «Срединная Европа». Науманн писал о слиянии Австро-Венгрии и Германии и создании «между Вислой и Вогезами, Галицией и Констанцским озером конфедерации народов» при главенстве Германии.
Собственно, это был план экономического объединения Европы.
И России он был, с определенными поправками (в части, скажем, Галиции), скорее полезен, чем вреден. В том, конечно, случае, если бы: 1) согласие с подобными германскими идеями Россия обменяла на широкие преимущества в отношениях с такой европейской федерацией; и 2) Россия стала не монархической, а народоправной и живущей не для дяди (Сэма, Жана, Джона, Ганса), а для Ивана да Марьи.
Такая внутренне развитая и крепкая, Россия могла бы спокойно взирать на любые коалиции и конфедерации. Внутрь такой России ни одна из них не двинулась бы! Не рискнула бы!
И такая Россия вполне могла рассчитывать не только на уважение, но и на дружбу с народом, хорошие отношения с которым для нас имели первейший смысл. Причем такая дружба была возможна при любом государственном устройстве Германии.
В двадцатые годы Германия была Веймарским изданием Версальского договора. С 1933 года начинается история германского нацистского Третьего Рейха. Принято считать, что Германия Гитлера была запрограммирована на смертельную борьбу с Россией уже в силу идейных, концептуальных воззрений фюрера.
По сей день историки и публицисты на всех углах размахивают его основным трудом «Майн Кампф» («Моя борьба») и тычут всем в нос главу XIV «Восточная ориентация или восточная политика», начинающуюся со слов: «Отношение Германии к России я считаю необходимым подвергнуть особому разбору. Эта проблема имеет решающее значение для вообще всей иностранной политики Германии в целом».
В тексте главы есть два абзаца, без цитирования которых не обходится ни одна работа о Гитлере и нацистской Германии: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей немецкой иностранной политике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно пере ходим к политике завоевания новых земель в Европе.
Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду, в первую очередь, только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».
Казалось бы, все ясно, четко и безоговорочно. Никаких вариантов тут не предусматривается, и вопрос только в том, когда Гитлер пойдет войной на Россию, если получит власть.
Однако чтобы понять эту острую проблему, двух выдернутых из контекста абзацев мало. Нужно вдумчиво читать всю книгу Гитлера. Ведь «Майн кампф», — пожалуй, вторая по известности названия книга в мире после Библии, но уж точно первая среди «известных» книг по незнанию ее содержания.
Во-первых, Гитлер писал ее в 1924–1927 годах (вначале была опубликована первая часть, затем — вторая). Он, конечно, был уверен в своем большом политическом будущем, но серьезного политического опыта еще не имел, а его кругозор (в принципе — весьма широкий) не был подкреплен ни малейшей практикой государственной работы.
Да и по возрасту Гитлеру не хватало политического опыта в его тридцать пять лет. Наполеон властвовал во Франции в более молодом возрасте, но он имел совершенно иную судьбу и иную натуру.
Так что читать и изучать «Майн Кампф» умный русский человек обязан, но читать-то нужно с умом. Ведь Гитлер в «Майн Кампф» рассматривал очень много общественных вопросов, порой — оригинально и ярко.
Были в книге и крупнейшие мировоззренческие просчеты. Они-то реального исторического Гитлера в конце концов и подвели. Но нас сейчас интересуют только его воззрения на «русский» вопрос. К слову, несмотря на чисто «восточное» название XIV главы, России посвящена там примерно лишь пятая часть.
Так, в «восточной» главе Гитлер уделил немало внимания Франции. И прозорливо отметил, что при той национальной политике, которую ведет Франция, она может превратиться в «новое европейско-африканское мулатское государство на европейской территории». И разве сегодня французы не близки как раз к чему-то вроде этого?
Внешнюю политику Гитлер определял как «урегулирование взаимоотношений одного народа со всеми остальными народами мира» и заявлял, что его политика будет исходить из следующего: «Наше государство, прежде всего, будет стремиться установить здоровую, естественную, жизненную пропорцию между количеством нашего населения и темпом его роста, с одной стороны, и количеством и качеством наших территорий — с другой. Только так наша иностранная политика может должным образом обеспечить судьбы нашей расы, объединенной в одном государстве».
Под «здоровой пропорцией» Гитлер понимал такую ситуацию, когда обеспечивается «пропитание народа целиком и полностью продуктами нашей собственной земли».
А признаком мировой державы он считал обширность территории, позволяющую народу развиваться свободно. Но как раз здесь Германия оказывалась в исключительно неблагоприятном положении. Плотность ее населения была огромной. В Европе лишь Бельгия и Голландия имели плотность в два раза большую, а Англия — примерно такую же.
Но у Англии были тогда обширнейшие колонии, где земли хватало и на англичан, и на аборигенов. Были колонии и у бельгийцев с голландцами. Швейцария (!) имела плотность населения в полтора раза меньшую, чем Германия, Дания и Чехословакия — в два, Франция — в три, США — в десять раз меньшую, а СССР — в двадцать раз.
За пределами Европы скученней немцев жили только… японцы. Но их уровень потребления был с немецким несоизмерим. Китайцы жили просторнее немцев в три раза.
Да, проблема была.
Искусственное ограничение рождаемости Гитлер не считал выходом и был прав, когда заявлял, что нация вступает так на путь вырождения — потенциально здоровые не рождаются, а родившихся слабейших спасают.
По оценке Гитлера, у Германии было три наиболее очевидных выхода:
1) внутренняя колонизация, то есть все большее «уплотнение» населения и интенсификация хозяйства;
2) приобретение новых колоний;
3) приобретение новых земель в Европе на территориях, примыкающих к немецкой.
Первый путь исчерпывался, на втором Германия потерпела поражение в Первой мировой войне.
А третий? Третий означал новую войну. Большую или малую, но войну или, как минимум, — активное силовое противостояние, невозможное без сильных армии и флота. Но — с кем в союзе и против кого?
Эту тему Гитлер впервые затронул еще в главе IV «Мюнхен», где писал: «Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России (но тут нужно не забывать, что до Первой мировой войны в состав России входили обширные, примыкавшие к Германии польские земли. — С.К.). Для такой политики мы могли найти в Европе только одного союзника: Англию. Толь ко в союзе с Англией, прикрывающей наш тыл, мы могли бы начать новый великий германский поход. Мы должны были тогда отказаться от колоний и от позиций морской державы и тем самым избавить английскую промышленность от необходимости конкурировать с нами».
Гитлер оценивал лишь возможности, варианты, а не утверждал что-то одно. Фактически это был неглупый и вполне корректный для немца геополитический анализ.
А дальше речь шла уже о другой возможности: «усиленное развитие промышленности и мировой торговли, создание военного флота и завоевание колоний».
Реальная кайзеровская Германия так и поступила. И что? Гитлер отвечал верно: «Раз мы пошли по этому пути, то ясно, что в один прекрасный день Англия должна была стать нашим врагом.
Политику завоевания новых земель в Европе Германия могла вести только в союзе с Англией против России, но и на оборот: политику завоевания колоний и усиления своей мировой торговли Германия могла вести только с Россией против Англии».
Заметь, читатель, — с Россией, а не против нее! И это — мысль Гитлера! Мысль, как достаточно для него неожиданная, так и весьма верная…
Далее из этого тезиса Гитлер сделал следующий вывод: «В данном случае нужно было сделать надлежащие выводы и прежде всего — как можно скорей послать к черту Австрию. Благодаря союзу с Австрией Германия теряла все лучшие богатейшие перспективы заключения других союзов. Наоборот, ее отношения с Россией и даже с Италией становились все более напряженными. Раз Германия взяла курс на политику усиленной индустриализации и усиленного развития торговли, то, в сущности говоря, уже не оставалось ни малейшего повода для борьбы с Россией. Только худшие враги обе их наций заинтересованы были в том, чтобы такая вражда возникала».
Что ж, в здравомыслии фюреру тут отказать трудно, да и русофобией здесь не пахло. Скорее — напротив! Ведь Гитлер был готов, пусть и теоретически, пожертвовать отношениями Германии с его родиной — Австрией — ради подлинного, прочного великого будущего Германии, пошедшей на союз с Россией.
Конечно, в 1920-х годах это был, что называется, «после-игровой разбор» итогов уже закончившейся Первой мировой войны.
Однако по-прежнему насущным оставался старый вопрос: с кем и против кого? Им задавался Гитлер, но им же задавался и любой мыслящий и любящий Германию немец…
В «восточной» главе Гитлер писал: «Нам предстоит еще большая и тяжелая борьба с Францией (кстати, в действительности она оказалась на удивление легкой. — С.К.). Но эта борьба будет иметь смысл лишь постольку, поскольку она обеспечит нам тыл в борьбе за увеличение наших территорий в Европе. Наша задача — не в колониальных завоеваниях. Разрешение стоящих перед нами проблем мы видим исключительно в завоевании новых земель, которые мы могли бы заселить немцами и которые непосредственно примыкают к коренным землям нашей родины».
Итак, все-таки поход на Восток?
Однако здесь важны две детали. В начале тридцатых годов уже не политический писатель, а практический политик, рейхсканцлер Германии Гитлер поступал прямо противоположно собственным старым идеям и активно пытался договориться с бывшей Антантой о «полюбовном» предоставлении Германии ряда колоний. То есть, отказываться при необходимости от устаревших взглядов политического писателя Гитлера государственный лидер Гитлер умел. Это во-первых.
Во-вторых, непосредственно к Германии примыкали земли Чехословакии и Польши, а не СССР. Гитлер нигде не говорил о Польше, но географию Европы он знал.
Во все той же «восточной» главе Гитлер писал: «Нам нужно прежде всего уничтожить стремление Франции к гегемонии в Европе, ибо Франция является смертельным врагом нашего народа, она душит нас и лишает нас всякой силы (на помню, что это написано в 1924 году, через пять лет после Версаля. — С.К.). Вот почему нет такой жертвы, которой мы не должны были бы принести, чтобы ослабить Францию. Всякая держава, которая, как и мы, считает непереносимой для себя гегемонию Франции на континенте, тем самым является нашей естественной союзницей. Любой путь к союзу с такой державой для нас приемлем. Любое самоограничение не может показаться нам чрезмерным, если только оно, в последнем счете, приведет к поражению нашего злейшего врага и ненавистника».
* * *
В определённой мере это было прямое приглашение для России. Не с Данией же или с Чехословакией (не говоря уже о напрочь профранцузской Польше) могла блокироваться Германия против своего «смертельного врага»!
Была ещё, конечно, Англия… Но если бы политический писатель Гитлер имел в виду только ее, то он так и написал бы! Ведь он писал свою книгу не для того, чтобы скрыть свои мыс ли и планы, а для того, чтобы донести их как можно более широко до всего немецкого народа.
Так что даже с Германией Гитлера у России «мирный» шанс был. Тем более он был реальным с веймарской Германией. Вначале так и выходило…
Однако, забегая далеко вперёд, сразу сообщу, что Советский Союз, внешнюю политику которого с начала тридцатых годов направлял нарком иностранных дел Литвинов, так же как Россия Витте, Александра III и Николая II, не надумал ни чего лучшего, как дружить даже против веймарской Германии со всё той же Францией.
Но если бы СССР решительно отказался от обеспечивающего войну с Германией союза с Францией, если бы мы решительно порвали с гибельными для России профранцузскими традициями Александра III, Николая II и Керенского, то даже Гитлер вполне мог пойти, по его словам, на «чрезмерное» самоограничение.
А выиграть хотя бы пять с лишним лет мира для СССР означало выиграть ВСЁ! При наших темпах мы очень быстро — уже к 1942–1943 — годам стали бы настолько непобедимы в чисто оборонительной войне на своей территории, что сунуться к нам никто и помыслить бы не мог!
Франция все время сталкивала нас с немцами, и уже по этому она была нашим скрытым врагом.
Гитлер же рассматривал в XIV главе два варианта: будущая война Германии в союзе с Европой против России, и война Германии в союзе с Россией против Европы! Он писал: «Я не забываю всех наглых угроз, которыми смела систематически осыпать Германию панславистская Россия. Я не забываю пробных мобилизаций, к которым Россия прибегала с целью ущемить Германию. Однако перед самым началом войны (Первой мировой. — С.К.) у нас все-таки была еще вторая до рога: можно было опереться на Россию против Англии». И тут же прибавлял: «Ныне же положение вещей в корне измени лось. Если перед Первой мировой войной мы могли подавить в себе чувство обиды против России и все же пойти с ней против Англии, то теперь об этом не может быть и речи».
Гитлер пояснял, в чем видит изменение ситуации. Причем явный резон был в такой мысли будущего фюрера: «С чисто военной точки зрения война Германии — России против Запад ной Европы (а вернее сказать в этом случае — против всего мира) была бы настоящей катастрофой для нас. Ведь вся борьба разыгралась бы не на русской, а на германской территории, причем Германия не смогла бы даже рассчитывать на серьезную поддержку со стороны России.
Вооруженные силы немецкого государства ныне столь ничтожны, что как раз наши наиболее индустриальные области подверглись бы концентрированному нападению, а мы были бы бессильны их защитить».
Рассуждение для начала двадцатых годов было верным. Ни на какую серьезную наступательную войну Россия в то время не годилась — ни как союзник, ни как единоличный субъект.
Прав был Гитлер и в другом: «Между Германией и Росси ей расположено Польское государство, целиком находящееся в руках Франции. В случае войны Германии — России против Западной Европы Россия, раньше чем отправить хоть одного солдата на немецкий фронт, должна была бы выдержать победоносную борьбу с Польшей (с которой за несколько лет до написания „Майн Кампф“ СССР провел неудачную войну. — С.К.)».
Продолжая рассматривать выгоды (точнее — очевидные невыгоды) союза с Россией, Гитлер приводил такие доводы, которые были справедливы лишь для двадцатых годов: «Говорить о России, как о серьезном техническом факторе в войне, не приходится. Всеобщей моторизации мира, которая в ближайшей войне сыграет колоссальную и решающую роль, мы не могли бы противопоставить почти ничего. Сама Германия в этой важной области позорно отстала. Но в случае войны она из своего немногого должна была бы еще содержать Россию, ибо Россия не имеет еще ни одного собственного завода, который сумел бы действительно сделать, скажем, настоящий живой грузовик. Что же это была бы за война? Мы подверглись бы простому избиению. Уже один факт заключения союза между Германией и Россией означал бы неизбежность будущей войны, исход которой заранее предрешен: конец Германии».
Так-то так… Но всего через десяток лет после написания первой части «Майн Кампф» РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия — представляла собой серьезную силу и была неплохо, по тем временам, моторизована. Во всяком случае, моторизована получше вермахта — нацистского преемника веймарского рейхсвера.
Поэтому у читающего всю «восточную» главу, а не только лишь два «криминальных» ее абзаца, мог возникнуть естественный вопрос: «А как посмотрит на союз с Россией Гитлер в случае, если мы будем сами делать не только „живые“ грузовики, но и „живые“ танки, самолеты, пушки»?
Через пятнадцать лет ответ на этот вопрос дала реальная история: Гитлер заключил с нами Пакт о ненападении и Договор о дружбе.
* * *
И вот тогда о «Майн Кампф» кое-кто вспомнил несколько неожиданным образом.
1 сентября 1939 года войска вермахта вошли в Польшу. Гитлер обратился по этому поводу к депутатам рейхстага. Но к ним же, между прочим, обратился с телеграммой из-за рубежа и их бывший соотечественник — Фриц Тиссен.
Знакомый с Гитлером с января 1931 года и много поспособствовавший его приходу к власти, промышленный магнат до глубины души оскорбился тем, что Гитлер начал войну за Польшу и вступил в конфликт с Англией и Францией.
Тиссен спешно и тайно эмигрировал и написал Гитлеру от крытое письмо: «Я напоминаю Вам, что Вы, конечно, не посла ли Вашего Геринга в Рим к святому отцу или в Доорн (голландский город, куда удалился Вильгельм II. — С.К.) к кайзеру, что бы подготовить обоих к предстоящему союзу с коммунизмом. Тем не менее Вы все же внезапно вступили в такой союз с Россией, то есть совершили шаг, который Вы сами сильнее, чем кто-либо другой, осуждали в своей книге „Mein Kampf“ — старое издание, стр. 740–750. Ваша новая политика, господин Гитлер, толкает Германию в пропасть и приведет немецкий народ к катастрофе. Вернитесь обратно, пока это еще возможно. Вспомните о Вашей клятве, данной в Потсдаме».
Тиссен лгал: к катастрофе Германию и фюрера как раз привел бы отказ от реалистичной для конца тридцатых годов просоветской восточной политики. Ведь впоследствии такой отказ к краху Германии и привел.
Правда, в 1924 году представить это было тяжело. Лишь Сталин и его единомышленники были уверены, что не пройдет десятка лет, и все изменится до неузнаваемости. Остальные при мысли о такой возможности для России покатились бы со смеху.
Вот почему еще не государственный лидер, а лидер всего лишь партийный, Гитлер в ситуации 1924 года теоретически отказывался от перспектив союза с Россией и рассматривал (во все той же «восточной» главе) другой вариант: союз с Англией и Италией. Причем такой союз он предлагал не против России, а против Франции. И даже не для войны с ней, а лишь для ее нейтрализации, потому что Гитлер считал: «Военные последствия такого союза были бы прямо противоположны тем, к каким привел бы союз Германии с Россией. Прежде всего тут важно то, что сближение Германии с Англией и Италией никоим образом не приводит к опасности войны. Единственная держава, с которой приходится считаться как с противницей такого союза — Франция — объявить войну была бы не в состоянии. Это дало бы возможность Германии заняться той подготовкой, которая в рамках такой коалиции нужна, дабы в свое время свести счеты с Францией (Францией, а не Россией, читатель! — С.К.)».
А теперь нам остается разобраться ещё и с теми соображениями Гитлера 1924 года (кроме уже приведенных), которые, с одной стороны, делали Россию, по его мнению, соблазнительным объектом завоеваний, а с другой — обессмысливали союз с ней…
Цитируем опять же «Майн Кампф»: «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду, в первую очередь, только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены.
Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма, судьба лишила русский народ той интеллигенции, на которой до сих пор держалось ее государственное существование. Не государственные дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам — превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы внутри более низкой расы. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца».
Гитлер тут обнаруживает очень плохое знакомство с русской историей, потому что с натяжкой его правоту относительно роли немцев можно признать только в отношении послепетровской России. Зато во времена ещё Ивана Грозного уровень централизации Российского государства был намного выше, чем, скажем, во Франции. Не говоря уже о Германии…
Гитлеру, как и всем германофилам, можно возразить так: «Если уж германский элемент настолько хорошо приспособлен к организации государственного существования, то почему же Германия ни к началу Тридцатилетней войны, ни к моменту подписания завершившего эту войну Вестфальского мира 1648 года, ни в последующие двести с лишним лет не смогла объединиться в целостное германское государство»?
Итак, мы имеем дело с одним из заблуждений как самого Гитлера, так и многих немцев, которые сослужили и могут еще сослужить плохую службу и России, и Германии.
А вот в чем Гитлер был не так уж и не прав, так это в следующем утверждении: «Современные владыки России совершен но не помышляют о заключении честного союза с Германией, а тем более о его выполнении, если бы они его заключили… Кто же заключает союз с таким партнером, единственный интерес которого сводится к тому, чтобы уничтожить другого партнера?».
Увы, в то время, когда писались эти строки, в России бы ли сильны троцкистские настроения «раздуть мировой по жар», а зиновьевский Коминтерн этот пожар усиленно пытался раздуть именно в Германии. Даже тогдашний нарком иностранных дел Чичерин в своих записках Сталину только нецензурно не крыл Зиновьева и Коминтерн за их германскую линию, в корне подрывавшую прочные наши межгосударственные связи.
В разговорах употреблялась, возможно, и «ненормативная лексика», однако Сталин тогда ничего всерьез сделать не мог… Антигерманская линия в СССР побеждала, что выразилось и в назначении на место Чичерина Максима Литвинова.
В такой ситуации новый «Drang nach Osten» становился для националистической Германии в перспективе не просто логичным, а единственно разумным, пожалуй, путем.
Действительно, зачем связываться со слабой страной, союз с которой не даст Германии ничего, кроме уничтожающей ее войны с Западом? Со страной, ведущей в Германии активную подрывную деятельность? Не лучше ли договориться с Западом и попользоваться Востоком самому?
Даже в 1924 году такой взгляд Гитлера был не столько обидным для нас, сколько невежественным. Но вряд ли лучше Гитлера историю России знали и Клемансо, и Ллойд Джордж, и Рузвельты — Франклин с Теодором, и президент Вильсон с Черчиллем. Да и, честно говоря, доля невеселой правды в та ком мнении фюрера имелась.
* * *
Опровергнуть Гитлера мы могли единственным образом: делом. Построив новую могучую, индустриальную, свободную от унижений чужеземной эксплуатации, но организованную и дисциплинированную Россию. Такую Россию, заключить честный союз с которой почло бы за честь и выгоду любое государство — и большое, и малое.
Но такую задачу Россия не могла решить без помощи внешнего мира. Для того, чтобы делать машины, нужно иметь другие машины. Дать их могли только ведущие индустриальные державы мира. А они-то как раз после провала интервенции в России практически единодушно проводили политику бойкота и удушения российской экономики.
Но была такая страна, которая сама оказалась в незавидном положении — Германия. Поэтому хотя бы экономическое сближение ее с Россией было выгодно и русским, и немцам.
Уже во время первой пятилетки Советская Россия построила тысячи новых предприятий, но главное — построила новую экономику, основанную на тяжелой индустрии. И создавалась новая — «машинная» Россия при помощи, прежде всего, Германии.
Американский строитель Днепрогэса получил от Совета народных комиссаров СССР табакерку с бриллиантами, но на немецких инженеров, вложивших в наши первые пятилетки свои ум и силы, не хватило бы и всей сокровищницы Алмазного фонда.
Основу новых отношений двух стран заложил Рапалльский договор.
10 апреля 1922 года открылась международная экономическая и финансовая Генуэзская конференция. Инициатива ее созыва принадлежала Ленину, а Верховный совет стран Антанты в начале 1922 года во французских Каннах принял решение о проведении конференции в Италии. Пять «приглашающих держав»: Англия, Бельгия, Италия, Франция и Япония вкупе с США, в качестве «молчаливого (ну-ну. — С.К.) наблюдателя», пригласили в Геную 23 страны — в том числе Германию и Советскую Россию. Целью провозглашалось «изыскание мер к экономическому восстановлению Центральной и Восточной Европы», а в действительности в Италии Запад хотел попробовать русских на прочность и по пытаться навязать им свою волю.
Из этого не вышло ровным счетом ничего. Зато через не делю после начала Генуэзской конференции в местечке Рапалло под Генуей нарком иностранных дел Чичерин и его германский коллега Вальтер Ратенау подписали договор между РСФСР и Германией.
Их первые беседы прошли ещё 4 апреля, когда наша делегация была в Берлине проездом. Ратенау тогда на предложения Чичерина откликался неохотно. По словам заведующего во сточным отделом МИДа Веймарской республики Мальцана, Ратенау рассчитывал на Геную и на то, что вместе с Францией и Англией, особенно с первой, он добьется от нас большего.
А вышло так, что англо-французы германскую делегацию от обсуждений устранили, и Ратенау начал беспокоиться, как бы русские не договорились с Антантой за счет немцев. Ему этого в Германии не простили бы.
Растерянный Мальцан стал наведываться к Чичерину, а затем поздней ночью устроил с Ратенау и коллегами историческое «пижамное совещание». Речь шла о том, подписывать ли мирный договор с русскими. 16 апреля Ратенау с ведома Берлина решил: подписывать!
Россия и Германия восстанавливали дипломатические и консульские отношения и режим наибольшего благоприятствования в торговле. Провозглашалось экономическое сотрудничество, а сотрудничество политическое подразумевалось.
Мы взаимно отказывались от всех имущественных и финансовых претензий. Немцы — от возмещения за советские меры национализации, русские — от компенсаций, положенных России по Версальскому договору. И такой взаимный отказ имел значение даже более важное, чем можно было предполагать.
При составлении Версальского ультиматума Антанта не забыла-таки о России. Статья 116 договора давала нам право на возмещение военных долгов за счет Германии на сумму в 16 миллиардов золотых рублей — при наших долгах Антанте в почти 9 миллиардов. Кроме того, по статье 177 мы имели право на репарации. Расчет был неглупым: миллиарды-то были более на бумаге, но если бы мы польстились на эту приманку, то, во-первых, сразу же привязывали бы себя к союзникам. А во-вторых, на долгие годы осложняли бы отношения с Германией.
Вышло иначе! Да и как иначе! Еще до Рапалло, в 1921 году, в министерстве рейхсвера была создана спецгруппа майора Фишера для налаживания контактов рейхсвера с Красной Армией!
11 августа 1922 года было заключено первое временное соглашение между ними. Хотя обе страны были намерены сотрудничать не столько в сфере «пушек», сколько в сфере «масла».
23 марта 1922 года (тоже до Рапалло) между Россией и компанией «Фридрих Крупп в Эссене» был заключен концессионный договор о сдаче 50 тысяч десятин в Сальском округе Донской губернии сроком на 24 года «для ведения рационального сельского хозяйства». Концессионер полностью ставил хозяйство со всем инвентарем и сооружениями, а в качестве платы передавал нам пятую часть урожая, но главное — опыт.
В этой поучительной истории и взаимные выгоды, и взаимные недоразумения, и пути их устранения отразились как в капле воды. Уже после подписания соглашения московским представительством Круппа немецкие директора заартачились, хотя о концессии просили сами.
Ленин предложил нажать на Круппа, и у нас было, чем нажать… Дело было в том, что в Швеции и в Германии — у Круппа — Россия размещала тогда крупный заказ на паровозы и железнодорожное оборудование. От добрых отношений с немцами зависела их доля. Начались переговоры, и 17 марта 1923 года Крупп договор подписал. Его сельскохозяйственная концессия существовала на Дону до октября 1934 года.
Германия по-прежнему оставалась крупнейшим нашим внешним партнером и по-прежнему единственным, сотрудничество с которым было для нас жизненно важно.
Даже поражение в Первой мировой войне немцев не подкосило. Происходивший из давно обрусевших шведов советский оптик Сергей Эдуардович Фриш вспоминал: «Версальским ми ром союзники пытались обезвредить Германию, разрушив, прежде всего ее экономический потенциал. Лишенная желез ной руды, каменного угля, колониальных товаров, подавленная чудовищными репарационными платежами, Германия должна была превратиться в третьестепенное, послушное государство. Но в действительности получилось не так: уже в 1920–1921 годах Германия превратилась в конкурентоспособного экспортера. В Англии говорили: что вы можете поделать, если на внешнем рынке немецкий паровоз стоит дешевле английского умывальника»!
Нет, с таким народом России определенно стоило дружить и сотрудничать! Да и поучиться у него не мешало многому: национальной гордости, аккуратности, спокойному — не аврально-артельному «навались, ребяты!», а вдумчивому, ежедневному трудолюбию.
Мы не отказывались и учиться… Когда в двадцатые годы началась подготовка к новой организации науки в СССР, советские ученые отправились в Европу и Америку, для того что бы посмотреть на западные системы научной работы, сравнить и сделать собственные выводы.
В 1923 году непременный (и по должности, и фактически — еще с царских времен) секретарь Академии наук СССР Ольденбург ездил во Францию, Англию и Германию. Вернувшись, он написал, что XVIII век был веком академий, XIX — веком университетов, а XX век становится веком научно-исследовательских институтов. Германия в этом отношении привлекала к себе особое внимание. С 1925 по 1930 годы в журнале «Научный работник» были напечатаны пол сотни отчетов о науке в разных странах, и двадцать из них — о науке Германии.
«Американских» отчетов оказался десяток. Абрам Федорович Иоффе был в США в 1926 году и пришел к выводу (весьма верному), что антиинтеллектуализм и неприкрытая коммерциализация искажают науку в Америке. Там действительно не делали науку, а покупали ее — уже тогда по всему миру.
В Германии же существовало Общество кайзера Вильгельма, и сеть его исследовательских институтов была хорошим примером. В середине 1927 года в Берлине прошла Неделя советских ученых. Здесь не было чего-то нового! Ведь история научных контактов русских и немцев уходила в петровские времена.
Да и только ли научных! Даже приход к власти нацистов не отменил возможности такого мощного, совместного комплексного российско-германского влияния на судьбы мировой цивилизации, которое в ближайшей перспективе имело бы своим результатом прочный европейский мир, а в долго срочной перспективе, пожалуй, — и глобальный мир.
Ведь если бы всего две страны мира — Россия и Германия — не допускали бы для себя мысли о войне друг с другом, то все остальные страны Вторую мировую войну развязать не смогли бы…
* * *
В 1954 году в Париже были изданы мемуары князя Феликса Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона. Того самого — убийцы Гришки Распутина. Юсупов прожил жизнь бурную, весьма безалаберную, науками себя особо не утруждал. Но фигура это — интересная, в чем-то незаурядная и прозорливая уже на генетическом уровне.
В конце 1916 года он вместе с великим князем Дмитрием и думцем Пуришкевичем покончил с Распутиным во имя продолжения войны с Германией.
А через почти сорок лет, в эмиграции, постарев, он размышлял об удивительной судьбе России, которая дружит с врага ми, враждует с друзьями. Мол, России-то с Германией и воевать было незачем. Династии породнились, народы друг на друга зла не держат… И это было написано после двух мировых войн, после развалин Севастополя и Сталинграда, Берлина и Кенигсберга, после взорванных заводов и фабрик, которые строили в России вместе русские и немцы… Да, в XX веке судьбы России и Германии разошлись серьезно, но и связаны они остаются тоже не менее серьёзно.
Мы только что посмотрели с тобой, читатель, на развитие этой давней и по-прежнему актуальной для нас истории в ретроспективе конца позапрошлого и начала прошлого века…
Каждому, хотя бы вчерне, известно и то, как складывались отношения России и Германии в тридцатые годы XX века, и уж тем более — в годы сороковые…
Ну, а что же сейчас? Что завтра? В предисловии к этой книге я писал о том, что сегодня Россию берут голыми руками.
И Германия не исключение — она тоже берет свой «реванш». Один из моих друзей обратил внимание на то, что германские партнеры сто предприятия — все еще крупнейшего в своей сфере тяжелого машиностроения — несколько лет подряд присылали неравноправные договоры о совместных еже годных работах, каждый раз подписанные германской стороной 22 июня очередного года… Первый раз решили, что это — простое совпадение. Во второй раз поняли — увы, нет…
Так что нас ждёт впереди — новое 22 июня или…?
* * *
А может, все для России уже позади? Может, нам уже никто не угрожает, как тому ковбою Джонни, который был неуловим просто потому, что он никому не был ни страшен, ни нужен?
Вот же — итальянский журналист Джульетте Кьеза минор но вздыхает в своей книге: «Прощай, Россия»…
И — как и в начале XX века — в начале XXI века в Париже популярен лозунг «С Россией больше не считаются»…
Француз Франсуа Шлоссер во французском издании «Nouvelobs» утверждает, что «в экономическом смысле Россия — карликовое государство, ее валовой национальный продукт втрое ниже, чем у Бельгии».
У Бельгии, краем которой Германия два раза прошла на Францию, почти этого не заметив!
Нам говорят, что Россия слабее Португалии…
А Германия? Германия — это по-прежнему Германия. Вновь объединенная политически и находящаяся в географическом и геополитическом центре Европы…
Можно ли впрячь в одну упряжку полудохлую клячу и уверенного в себе бранденбургского коня?
Вряд ли…
Да и незачем…
Но это — если клячу…
А Россия-то по сей день — просто плохо ухоженный и полуголодный орловский рысак без заботливого хозяина.
А Германия? И с ней тоже не все ясно. Взять то же объединение — ведь сами немцы иногда сравнивают его сейчас со снежной лавиной, мол, слишком уж неожиданно оно обрушилось на них…
Не очень-то это радостное и не очень-то уверенное восприятие происходящего ныне.
Известный немецкий журналист Оскар Ференбах, долго возглавлявший газету «Штутгартер Цайтунг», пишет книгу с вроде бы оптимистическим названием «Крах и возрождение Германии», но в ней странным образом тоже проскальзывает мотив «Прощай, Германия!»…
Вот, оказывается, как! По мнению некоторых немецких граждан великая Германия — это лишь прошлое. Прошлое — Германия Бетховена и Вагнера, Томаса Мюнцера и Лютера, Дюрера и Баха, Фридриха Великого и Бисмарка, Канта и Гегеля, Гутенберга и Гете, Клаузевица и Мольтке, Вернера фон Брауна и Лени Рифеншталь…
И кое-кто хотел бы видеть Германию в будущем просто крупной среднеевропейской державой без великих устремлений, но и без риска великих деяний — нечто вроде большой-большой Голландии или Дании…
А как же Россия? И как же быть с ее славным и великим списком гениев, воинов, мыслителей, ученых, героев?
Так вот, если посмотреть на некоторые цифры, уважаемый читатель, то не так все горько… А ту современную геополитическую, экономическую и военно-политическую ситуацию, в которой ныне пребывает Россия, можно оценивать как ката строфическую лишь с вполне определенными оговорками.
Катастрофа возможна, но не неизбежна. Более того! Финальная катастрофа России — это неестественная возможная перспектива как для России, так и для внешнего, по отношению к ней, мира.
Так что утверждение парижанина Шлоссера неверно как по существу, так и формально.
И чтобы это понять, нужно сравнить хотя бы некоторые экономические показатели даже кастрированной России и Бельгии за 1999 год.
Да, таблица показывает, насколько слабо наше нынешнее положение. Превосходя Бельгию по многим материальным параметрам экономики в десятки раз, Российская Федерация имеет валовой внутренний продукт всего в 2,55 раза больший, чем у Бельгии.
Однако, как видим, французский аналитик совершенно не прав в своем открыто пренебрежительном отношении к России. Сегодня Россия слаба лишь по сравнению с собственными экономическими показателями совсем недавнего прошлого.
Вот, например, производство электроэнергии… В 1984 году оно составляло по Российской Федерации 939,9 млрд кВт-ч при среднем ежегодном приросте, примерно, в 30–40 миллиардов кВт-ч.
Сегодня абсолютное производство упало на 20 %, а ожидаемое — при оценке в 2002 году на реалистичном уровне в 1200 млрд кВт-ч — на 50 %.
Падение огромное, но до статуса «Верхней Вольты с ядерными ракетами» нам еще далеко как по абсолютному объему производства, так и по потреблению на душу населения.
Да и так ли уж мы «отстали» от той же Португалии, с которой почему-то Россию начали настойчиво сравнивать? Едва ли португальская наука даже через пару десятков лет доберется до уровня развития и результатов нынешней российской науки. Российские ученые вроде бы и унижены, и оскорблены, и обнищали, а Запад их все-таки по сей день обкрадывает с немалой для себя выгодой. Настоящего нищего обокрасть нельзя.
Французы вновь фанфаронисто унижают Россию. Но вот еще некоторые цифры для их и нашего с вами, читатель, сведения…
В 1987 году эксплуатационная длина железных дорог Франции составляла 34,6 тысяч километров, а грузооборот железных дорог — 51,3 миллиарда тонно-километров. Показатели Российской Федерации в 1984 году — 84,5 тысяч километров и 2441 миллиард тонно-километров.
Конечно, Европа любит возить грузы по шоссе, а не по стальным путям. Но и в целом Россия даже сейчас поддерживает общий внутренний грузооборот на уровне, во много раз превышающем французский, не говоря уже о бельгийском. Причем то, что для европейских транспортных коммуникаций — катастрофа (я имею в виду средненький такой снегопад), для России — норма. И грузооборот свой нам поддерживать намного сложнее, чем французам, бельгийцам или португальцам.
А нас нахраписто пытаются затолкнуть в разряд карликов.
Почему?
Да хотя бы потому, что при одной мысли о такой перспективе, когда Германия решится честно протянуть руку России, ту же Францию мороз по коже продирает даже в золотую па рижскую осень.
Так ведь и у Дяди Сэма подобные мысли способны немедленно окрасить его физиономию в чисто «баксовый» цвет.
* * *
«А возможна ли такая совместная перспектива?», — вероятно, спросит читатель. Да и как не спросить, если этот вопрос напрашивается сам собой.
Что ж, дорогой мой друг и современник — многое зависит от многого, и я — не парижская гадалка… Но то, что постепенно закручивается сейчас на просторах нашей голубой плане ты, вряд ли сулит спокойствие её обитателям уже, может быть, в ближайшее десятилетие. Очень уж неразумно ведут себя сегодня не только традиционно самоуверенные янки, не только униженные и оскорбленные народы мира, но даже вполне благополучные — казалось бы — европейцы.
К тому же и особого полета мысли и чувства Европа не обнаруживает. Только-только вошел в оборот «евро», а Оскар Ференбах уже уныло констатирует, что Европейский Союз находится в «состоянии оцепенения» и что нечего и мечтать пока о новом «европейском веке» — нечего, в том числе и по тому, что в Европе в настоящий момент нет лидера, способного вдохнуть жизнь в процесс подлинной европейской интеграции.
Когда-то Германия претендовала на мировое лидерство, а сейчас заранее отказывается, если верить аналитикам типа Ференбаха, даже от лидерства европейского…
Скучный, нужно заметить, вариант…
* * *
Немцы дважды сталкивались с Россией, с Европой, и оба раза терпели поражение. Сегодня они вместе с Европой пожинают плоды бескровной (для Запада) победы над Россией. Из поражений проще извлекать для себя полезные уроки, чем из побед.
Но победа ли это для Европы, и, особенно, для Германии? Ведь и человек, и народ удовлетворяются, когда внутренне чувствуют, что положение хотя бы примерно соответствует возможностям.
Соответствует ли нынешнее положение Германии ее «цивилизационному» потенциалу? Германия претендовала на ведущую мировую роль, и при верном выборе пути (пути в союзе и партнерстве с Россией) она могла бы со временем — нет, не править миром (при сильной России это невозможно ни для кого, а России — не нужно), но по праву вместе с Россией возглавить народы мира в их созидании развитой и устойчивой цивилизации планетарного масштаба.
Ныне же немцам грозит судьба некоего американизированного бюргера, у которого из сознания полностью устранили всю историческую память, заменив ее созерцанием аккуратно отреставрированных средневековых замков.
Такая вот у немцев получается «победа» над Россией в «союзе» с Америкой. Однако не верится, что потомки тех солдат, которые могли почти до последнего стоять в чужом для них Сталинграде и до последнего — в родном для них Кенигсберге, так просто смирятся с ролью «цивилизационных» идиотов, которую Америка навязывает со своим воистину американским размахом.
Если немцы пойдут по пути поисков самих себя, то он их неизбежно приведет к России не как к возможному объекту завоеваний и эксплуатации, а как к единственной стране, которая, может быть, сумеет понять мысли и чувства немцев.
Предыдущие строки — как, в основном, и все это послесловие-комментарий — были написаны автором до знакомства с книгой Ференбаха. Из нее же я узнал о существовании книги Анджелы Стент «Соперники столетия» и о том, что эта — явно отважная духом и мыслью — женщина требует от Германии, чтобы та взяла на себя особую ответственность за судьбу России.
Спасибо Анджеле Стент за такой порыв, но… от Германии сегодня требуется, прежде всего, чтобы она взяла на себя всю полноту ответственности за свою собственную судьбу…
Сделав такой шаг, Германия станет ближе России, которая, сделавшись сильной, будет, в свою очередь, являться гарантом вдохновенной, самобытной германской судьбы.
Ведь и автор «Соперников столетия» уверена: «Взаимоотношения России и Германии и в XXI веке будут оказывать существенное влияние на архитектуру Европы и её систему безопасности».
Если уточнить и углубить мысль Анджелы Стент, то она будет звучать так: выступая сообща и верно усвоив уроки прошлого, мы способны оказать решающее и благотворное влияние на архитектуру всего мира.
* * *
Так или иначе, но можно почти не сомневаться, что в этом веке Европу и мир ждут серьезные и даже принципиальные изменения, сравнимые лишь с теми, которые были порождены процессами в России, развернувшимися в первые двадцать лет XX века и в последние его двадцать лет.
В первые двадцать лет эти изменения имели характер потрясений и даже катаклизмов.
В последние двадцать лет изменения были хотя и не менее глубокими, но не столько трагичными, сколько драматичными.
Какой характер могут принять события уже в первом десятилетии XXI века, предполагать сложно. Пока что понятно одно: событиям — быть!
И пока почти невозможно сказать, какие народы будут вести себя умно (то есть с пониманием всего значения и роли России для мира), а какие — нет.
Причём даже от линии поведения малых народов что-то зависит… Так маленькая Сербия спровоцировала Первую Большую Войну (хотя не она ее подготовила, будучи лишь статистом).
Однако от линии поведения немцев и русских в перспективе зависит почти ВСЕ! Так же, как почти все зависело от них в годы перед обеими мировыми войнами.
Конечно, народы ведут себя далеко не всегда так, как им надо бы себя вести.
Возьмём Финляндию… Если бы Россия не отвоевала её у Швеции в войне 1808–1809 годов, то для Финляндии очень вероятной была бы, в конце концов, судьба шведской провинции. Вот показательная деталь. Лишь через почти шестьдесят лет после вхождения Финляндии в состав Российской империи, в 1866 году, школьная реформа ввела обучение в финских школах на финском языке. До этого веками в финских провинциях Швеции официально господствовал шведский язык, так же как немецкий господствовал в Курляндии, Лифляндии, Эстляндии.
После революции Россия предоставила Финляндии независимость. Ну и что — заслужила она этим у финнов вечную благодарность? Нет… Для финнов была умной одна линия — вести себя с пониманием того, что с русским медведем лучше дружить, что дразнить его не стоит, а при необходимости в малом ему можно и уступить.
Вместо этого финны отгрохали линию Маннергейма и безрассудно отказались от предложений России исправить границу между государствами так, чтобы северная столица России не находилась под угрозой простого артиллерийского обстрела с сопредельной территории.
Между прочим, читатель, такая вот занятная граница по лучилась у нас потому, что Александр I в 1811 году щедро присоединил к вновь обретенному Великому княжеству Финляндскому так называемую «Старую Финляндию», то есть те шведские (а точнее, старинные русские) земли, которые отвоевал у Швеции ещё Пётр Великий!
Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто признает, что лишь в результате этой типично расейской щедрости границы автономной Финляндии вплотную приблизились к Санкт-Петербургу «со всеми вытекающими последствиями». И сам же сообщает об одном из таких «последствий» — были затронуты интересы тех петербуржцев, которые владели дача ми на Карельским перешейке. Вот как мы «тиранили» финнов… Не то что «добрые» шведы…
Вместо дач на Карельском перешейке в тридцатые годы XX века стали появляться пушки. И с какого-то момента окрепший Советский Союз пришёл к выводу: дальше так дело не пойдёт.
Вначале финнам мирно предложили разумный вариант: уступить земли в районе Ленинграда нам, а в компенсацию получить другие территории. Финны же пошли на однозначно проигрышную для них войну с СССР. За спиной у них стояла не столько Германия, сколько Англия (да еще — Франция, да еще — Соединенные Штаты). Но воевать-то из-за Финляндии никто с Россией не стал бы…
И итог был ясен до начала войны. То, что она была для СССР вначале неудачной и конфузной, объяснялось не равенством «весовых категорий», а извечным опять-таки расейским шапкозакидательством. Когда Россия взялась за войну с Финляндией всерьез, то все было решено в считанные недели. Тем не менее и сегодня с удивлением обнаруживаешь даже у такого вроде бы знающего историю и Россию и лояльного к нам финна, как Мауно Койвисто, феноменальное непонимание происходившего как тогда, так и сейчас…
Хотя сам Койвисто признает, что временами финны вели себя «легкомысленно и вызывающе, тем самым раздражая русских».
И если уж хладнокровные и рассудительные северяне-финны были опрометчиво недальновидны в XX веке и по сей день не вынесли из своих геополитических фантазий должных уроков, то что уж говорить о горячих южанах-турках, о других южанах! Тем более что у них-то есть что вспомнить. Великая Османская империя, Великая Персия, которые отличались силой и могуществом, действительно существовали.
И сейчас кое-кто в той же Турции часто напоминает об этом, считая, что это не только было, но и не совсем прошло. Руководитель турецкого Центра тюркских исследований Университета Мармара профессор Надир Девлет прямо заявляет: «Кавказский регион непосредственно входит в зону наших интересов».
Если уж «процесс пошёл», то куда он выведет — сразу не угадаешь! Вот и туркам вновь Кавказа захотелось. А потом, смотришь, захочется и еще чего-нибудь — вроде ядерного оружия.
Фантастика? А ядерная бомба «нейтральной» Швеции — не фантастика? Казалось бы, зачем Швеции ядерное оружие? Но вот же, вдруг становится известным, что в шестидесятые годы шведские военные добились организации масштабного финансирования исследований по шведскому атомному оружию.
Тогдашние главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Т. Рапп и начальник штаба обороны генерал К. Альмгрен дали санкцию на разработку плана ядерных (в том числе превентивных!) ударов по СССР (порты Прибалтики, Ленинград) примерно десятью или более ядерными зарядами с энерговыделением около 20 кт.
Исходя из возможности ответных ударов СССР, в плане были проведены оценки шведских потерь военно-экономического потенциала в армии и среди гражданского населения.
Позднее такие работы были официально свернуты, но частично продолжались вплоть до начала семидесятых годов.
Бред? Театр абсурда? Оказывается — факт истории… Но только ли истории?
Если уж в шестидесятые (!) годы Швеция (!!) в мыслях готовила Ленинграду (!!!) судьбу Хиросимы, то что может взбрести в голову шведским и другим военным сейчас — в точности не определит никто…
Воля твоя, читатель, но этот шведский пример в своё время ошарашил даже меня — профессионального ядерного аналитика, потому что неожиданным образом обнаружил возможность вдрызг иррационального поведения европейских политиков даже в ситуации очевидной самоубийственности (Швеция против СССР, мышка-лемминг против мамонта).
Такие факты позволяют предполагать, что нынешний российский кризис объективно может стимулировать реанимацию самых авантюрных концепций у самых разных народов и стран при формировании соответствующих угроз России.
И если уж мы начали разговор об угрозах и геополитике, то я позволю себе, читатель, немного поговорить о том, что я называю «Российским геополитическим пространством» и дать, для начала, такое вот его определение…
«Российское геополитическое пространство (РГП) — это системно-целостный комплекс территорий, экономических, политических, военно-политических, исторических и цивилизационных отношений и взаимосвязей, характерный для социального бытия сложившейся в течение нескольких веков группы народов и народностей, объединенных вокруг великорусской ветви русского народа. Стабильность РГП обеспечивает конструктивную историческую будущность как непосредственно великорусского ядра РГП, так и национальных компонентов РГП».
* * *
РГП — это уникальное цивилизационное поле — имеет вполне конкретные исторически сложившиеся естественные геополитические границы.
На Западе это — широкая береговая полоса Балтийского моря (Прибалтика) и регионы с этническим преобладанием русско-славянского населения (Белоруссия).
На Юго-Западе — Украина и Бессарабия-Молдавия.
На Юге и Юго-Востоке — Кавказ, Закавказье, охватывающее, в совокупности с Туркестаном, Каспийское море, и Средняя Азия.
На Востоке — традиционно великорусские сибирские и дальневосточные области, включая Сахалин, Камчатку и Курильские острова.
Относительно последних, к слову нужно сказать, что редко когда чистая «география» так убедительно и наглядно приходит на помощь геополитике. Курилы могут принадлежать только России уже в силу того, что самым естественным образом замыкают зону между Сахалином и Камчаткой. Они — как своего рода природой созданный дальневосточный Кронштадт — и ограждают покой и богатства русского Дальнего Востока от любых посягательств, и не дают возможности пи тать кому-либо авантюрные замыслы в этом регионе.
Северные геополитические наши границы пролегают в зоне ледовой Арктики.
Иными словами, естественное Российское геополитическое пространство полностью совпадает с границами СССР 1975 года (закрепленными, кроме прочего, и фактом подписания Заключительного Акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года).
Границы РГП также практически совпадают с границами Российской империи начала XX века, за исключением чисто польских территорий, Финляндии и ряда других земель.
* * *
Но что происходит на периферии нашего геополитического поля? И как в разных его зонах могут сталкиваться, сочетаться или взаимно дополняться интересы России и внешнего мира?
Совершим-ка мы небольшую прогулку по карте (а заодно еще раз и по истории).
Прибалтика вошла в НАТО. Германия способствовала этому, возможно, в расчете на возврат в будущем Восточной Пруссии — нынешней Калининградской области.
Однако, во-первых, НАТО сегодня — это ещё в большей мере, чем при его образовании, прежде всего США, а не Германия. И немцы могут впервые в своей истории уподобиться русским, которым издавна привычно таскать каштаны из огня войн и конфликтов для других.
У прибалтов издавна развился нюх на сильного. На витражах Домского собора, например, изображены сплошь сдачи рижан магистрам, королям, владетельным епископам и прочим сильным мира сего…
А сегодня сильна Америка. Так что решать Балтийскую проблему немцам лучше вместе с Россией.
И решить её можно по-разному. Скажем, — за счет сов местных усилий по восстановлению естественных прав Германии в части Польши и создания экстерриториального коридора из Германии через Польшу в ту Прибалтийскую зону, которая должна находиться под патронажем России.
Во-вторых, Германии (не поддаваясь на «калининградские» соблазны), да и вообще всем в Европе — и не только в Европе — нужно бы понять, что на западе геополитические границы России пролегают именно по балтийским берегам.
К тому же коренные народы Прибалтики никогда не имели собственной государственности, за исключением Литвы, которая по Люблинской унии 1589 года вошла в состав Речи Посполитой и государственность тоже утратила.
Столица Литвы Вильнюс веками носила польское наименование Вильно, находилась на территории Польши вплоть до Второй мировой войны и вошла в состав Литвы лишь после вхождения последней в состав СССР.
Нынешняя литовская Клайпеда — это, в недалёком по историческим меркам прошлом, чисто немецкий Мемель, подаренный Литве Антантой. На Клайпеду мог законно претендовать Советский Союз как на одну из гарантий против возможных агрессивных намерений по отношению к нему Германии.
Но на чём основаны права на Мемель полумарионеточной Литвы?
Литовцы кричат о недействительности Пакта Молотова — Риббентропа с момента его подписания, а ведь это означает, что им нужно отдать Польше часть своей территории вместе с собственной столицей.
Однако и поляки глумятся над русскими могилами Второй мировой войны в Польше… Хотя логической точкой таких действий должен стать возврат Польшей Германии доброй четверти своей нынешней территории, которую Польша получила после Второй мировой войны благодаря исключительно пролитой за нее русской крови и твердой линии Сталина.
Причём лично я, читатель, не усмотрел бы трагедии в таком территориальном урезании польского гонора. Напротив — на этой почве можно восстанавливать русско-германскую дружбу.
Прибалтийские народы исторически обязаны одному народу — русскому. Происходившее в течение XVIII века освобождение прибалтийских провинций от шведского и прусского влияния и включение их в состав Российской империи, инициированное политикой Петра I, фактически обеспечило сохранение и развитие национальных черт прибалтийских народов.
Вдумайся, читатель! До восьмидесятых годов XIX века, когда в прибалтийских губерниях был введен Городовой устав Российской империи, делопроизводство велось там не на имперском, то есть русском, а на немецком языке. Вряд ли сегодня приходилось бы говорить о прибалтийских национальных культурах, если бы не только деловым, но также и имперским языком там был немецкий.
Существование отдельных прибалтийских государств в период между Первой и Второй мировыми войнами фактически было обусловлено политикой Запада, направленной против СССР. Сегодня самостоятельная геополитическая перспектива Прибалтики еще более проблематична.
Но если раньше Прибалтика, обязанная России, тянулась к Германии, то теперь она тянется за подачками Дяди Сэма.
И что — это ли нужно немцам, не говоря уже о русских?
* * *
А теперь вернёмся снова к Польше. Скажу прямо, она с самого начала формировалась как неизменный многовековой антагонист России. И хотя значительная её часть («русская Польша») после трёх разделов между Пруссией, Австрией и Россией входила в состав Российской империи достаточно долго, Польша по всём основным цивилизационным признакам находится вне рамок РГП.
Польша была воссоздана как самостоятельное государство Антантой после Первой мировой войны. Раздавленная Германией, она опять обрела государственность благодаря России. Но это ничему поляков не научило, и сейчас они в который раз проявляют крайнюю политическую и историческую слепоту.
Даже трезвые западные аналитики признают не просто вы дающуюся, но основную роль СССР в присоединении после Второй мировой войны к Польше огромных территорий, на которых веками до этого проживали немцы и которые традиционно входили в состав Германии.
Современную территорию Польше обеспечили не англо-французские союзники, а Россия. Тем не менее в Польше всегда существовали, а сегодня активизируются, антирусские настроения.
И это при том, что ретроспективно оценивая акцию пере дачи германских земель Польше, можно вполне поставить под сомнение ее обоснованность.
Идеологические соображения «польско-советской дружбы» формировали совершенно искаженное и неадекватное восприятие нами Польши. Однако польский аспект проблемы европейской стабильности необходимо рассматривать прежде всего в свете его возможного дестабилизирующего потенциала. Потому что Польша органически не может быть фактором стабилизации.
И умные люди понимали это всегда!
На Парижской мирной конференции 25 марта 1919 года премьер-министр Англии Ллойд Джордж направил ее участникам меморандум, озаглавленный «Некоторые соображения для сведения участников конференции, перед тем как будут выработаны окончательные условия» — так называемый «документ из Фонтенбло».
Ллойд Джордж писал: «Если в конце концов Германия по чувствует, что с ней несправедливо обошлись при заключении мирного договора 1919 года, она найдет средства, чтобы до биться у своих победителей возмещения… Поддержание мира будет… зависеть от устранения всех причин для раздражения, которое постоянно поднимает дух патриотизма; оно будет за висеть от справедливости, от сознания того, что люди действу ют честно в своем стремлении компенсировать потери… Несправедливость и высокомерие, проявленные в час триумфа, никогда не будут забыты или прощены.
По этим соображениям я решительно выступаю против передачи большого количества немцев из Германии под власть других государств… Я не могу не усмотреть причину будущей войны в том, что германский народ, который достаточно проявил себя как одна из самых энергичных и сильных наций мира, будет окружен рядом небольших государств. Народы многих из них (Ллойд Джордж мог бы сказать и определеннее — Чехословакии и Польши. — С.К.) никогда раньше не могли создать стабильных правительств для самих себя, и теперь в каждое из этих государств попадет масса немцев, требующих воссоединения со своей родиной. Предложение комиссии по польским делам о передаче 2 миллионов 100 тысяч немцев под власть народа иной религии, народа, который на протяжении всей своей истории не смог доказать, что он способен к стабильному самоуправлению, на мой взгляд должно рано или поздно привести к новой войне на Востоке Европы».
К Ллойд Джорджу не прислушались, и в результате передела территория Германии после Первой мировой войны уменьшилась на 13 % за счет щедрых антантовских подарков Польше.
Через десять лет после появления «меморандума из Фонтенбло» некоторые аналитики в Англии заявляли, что создание Польского коридора с выводом Польши к морю — «одно из самых тяжких известных в истории преступлений против цивилизации». Не более и не менее!
А английский автор Follick расценивал фактическую пере дачу Польше Данцига как второе тягчайшее преступление.
А вот оценка Польши тридцатых годов, принадлежащая американскому журналисту, хорошо знакомому с предметом: «Вполне можно застраховать пороховой завод, если на нем соблюдаются правила безопасности, однако страховать завод, полный сумасшедших, немного опасно»…
Итак, Польша — это пороховой завод, полный сумасшедших… Это не я сказал, уважаемый читатель, а американец. Что ж, со стороны, из-за океана, вероятно, виднее…
* * *
О Финляндии я уже говорил, но если иметь в виду обзор ситуации с Российским геополитическим пространством, то Финляндия, как и Польша, также находится вне естественных рамок РГП.
И всё же… Её тяготение к России (вне рамок государственной общности) настолько ярко выражено, что к восьмидесятым годам XX века экономика Финляндии была интегрирована с советской экономикой в уникально высокой степени, а между СССР и Финляндией (единственной буржуазной страной) был заключен договор не только о дружбе и сотрудничестве, но и о взаимной помощи.
Финны и норвежцы, шведы и голландцы, датчане и бельгийцы… Всем этим старинным и культурным, гордым, но не большим европейским народам сегодня грозит судьба еще более незавидная, чем Германии. Америка может их цивилизационно пережевать, как жвачку, и прилепить к себе — куда придется.
Возродиться как самобытные элементы мировой цивилизации они могут лишь под рукой Германии — как новая, на новых принципах основанная «Срединная Европа»… Но возможно ли это без сильного, вновь объединенного Российского государства, дружественного прежде всего Германии в той мере, в какой Германия дружественна ему?
И тут нужно сказать, что проблематика РГП не относится к идеологической. В пределах РГП существовали два государства с полярно различной идеологической направленностью — Российская империя и СССР. А многие системные проблемы у них были одинаковыми, при схожих разумных вариантах их решения.
В какие-то исторические периоды геополитические границы могут не совпадать с официальными государственными границами. Так, в Российской империи в пределах ее границ находились Польша и Финляндия, не входящие в РГП.
После русско-японской войны 1904–1906 годов Южный Сахалин перешел (до 1945 года) в состав Японии, оставаясь, естественно, в пределах РГП. Еще раньше из РГП временно выпадали Курилы.
В пределах РГП, но вне государственных границ СССР после советско-польской войны, до 1939 года находились Западная Украина и Западная Белоруссия, республики Прибалтики.
Современные формальные пределы Российской Федерации после 1991 года резко сократились по сравнению с геополитическими границами. Соответственно понятие РГП в настоящее время является более широким, чем Российская Федерация.
Вот, например, Крым. Вопрос о принадлежности Крыма к Украине или к России в рамках текущей ситуации является конфликтным. А в рамках понятия РГП он просто не существует, поскольку Крым является такой же неотъемлемой частью РГП, как Великороссия и Украина.
Кавказ давно входит в состав РГП, и ничего иного быть не может. Грузия и Армения сегодня забыли о том, что их государи просились под руку России добровольно и на вечные времена. А если бы не просились, то проблему кавказских народов Османская Турция решила бы так, как она решила армян скую проблему в 1915 году.
Как знать, если у грузин и армян их историческая память окажется не более прочной, чем у поляков, если Россия будет и далее слабеть и распадаться, то не отметит ли усилившаяся Турция столетие армянской резни новой резнёй?
Кто, если не Россия, может ей в этом помешать?
Иран, в перспективе, может быть активен в Закавказье, особенно с учетом того, что численность иранских азербайджанцев (до 16 миллионов) существенно превышает численность азербайджанцев непосредственно в Азербайджане (примерно 7 миллионов). И ведь не в общности языка тут суть. Чего уж там — дело в нефти. Но у Каспийского моря может быть только один прочный и справедливый статус — в рамках РГП.
По южному краю Российской Федерации вытягиваются сегодня «большая» и «малая» «исламские» «дуги». Одна проходит по неестественным «границам» непосредственно РФ, другая — по естественным границам Российского геополитического пространства.
Большая «дуга» — это Турция, Иран, Азербайджан, Туркмения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Афганистан и Пакистан.
Малая «дуга» — это Турция, Иран, Афганистан и Пакистан.
Тут ситуацию прогнозировать легко.
Сильная Россия быстро сведёт «большую» дугу к «малой». Ведь большая часть народов (а не новоявленные беки и эмиры) Средней Азии будет плакать слезами счастья, вернувшись под крыло России. Но и России Средняя Азия нужна не только по тому, что она — ее геополитическое «мягкое подбрюшье».
Средняя Азия — еще и ценнейшее сырье и не просто сырье, а вся та инфраструктура его добычи и переработки, которую Россия создавала там десятилетиями.
Сильная Россия быстро сведёт «большую» дугу к «малой».
Для слабой России «большая» дуга, в перспективе, превратится еще в одну удавку, особенно с учетом того, что дополни тельную окраску возможному будущему тут придает курс США на трансформацию ряда стран «дуги» в своих сателлитов.
Соединённые Штаты пошли на риск прямого военного внедрения в пределы РГП, явно пренебрегая возможными по следствиями такого шага и не боясь их.
Америка вламывается в Грузию, протискивается и Среднюю Азию. И под возможный удар тактической авиации НАТО с бывшей советской авиационной базы в Киргизии Манас уже попадают многие жизненно важные регионы России — Нижнее Поволжье, Урал, Западная Сибирь.
Но это ведь только так говорится — «тактическая авиация НАТО». На самом-то деле нужно говорить о тактической авиации США. «Войска НАТО» — в Средней Азии — это примерно то же, чем были «войска ООН» в Корее. Кого там в 1950 году только не было — даже Эфиопия, Греция и Люксембург отметились. И все они там были не более чем «на подхвате» у Америки.
Тогда Америка камуфлировалась «под ООН». Теперь — «под НАТО».
А как же смотрит на это Англия?
Франция?
Германия?
* * *
Для Англии роль американского услужливого «клиента» уже стала привычной. Примером тому являются ее попытки принять посильное (точнее нужно бы сказать — непосильное) участие в акциях США по закреплению их военного присутствия в Средней Азии.
Любой ядерный удар по Великобритании, ввязавшейся в авантюры Америки, стал бы для Британского Острова уничтожающим. Однако Британия идет на совершенно неоправданный риск, блокируясь с США и игнорируя возможную реакцию преодолевшей кризис России.
Но и внешняя политика Франции — несмотря на ревнивое отношение французского руководства к национальному ядер ному статусу и статусу великой державы — все более теряет черты самостоятельности.
По сути можно говорить о неком новом воспроизводстве ситуации накануне Первой и Второй мировых войн, когда Франция бездумно и самоуверенно шла к национальной катастрофе и военному поражению, обеспечивая, внешне, стратегические, а фактически — тактические интересы Великобритании и хорошо замаскированные стратегические интересы США.
В перспективе ситуация во Франции может развиваться, пожалуй, двояко. Не исключено нарастание в стране сильных националистических настроений. Не всем французам приходится по вкусу «шоколадный» мулатский оттенок в трехцветной кокарде Великой Французской революции. Поэтому правые во Франции активны и популярны. Успех Ле Пэна у всех на памяти. И он неслучаен.
Такие настроения могут оказаться и традиционно антигерманскими, особенно с учетом возможного резкого роста националистических настроений в самой Германии. Не все ведь там уныло вешают нос, как Оскар Ференбах. Безотносительно к ее политической направленности, тенденция к оживлению, так сказать, «комплекса Лоррайна» способна подрывать европейскую стабильность.
Если ранее Франция пыталась блокироваться с Россией (на что Россия шла вопреки собственным национальным интересам), то в будущем можно, скорее, ожидать от Франции еще большей ориентации на США в надежде на их патронаж. Ведь французы тоже давно научились элегантно сдаваться.
И вот уже знакомый нам Франсуа Шлоссер пессимистически констатирует в своей статье: «Россия — не единственная страна испытавшая понижение в мировой иерархии сил… Европа, отвергнутая за своей „бесполезностью“, оказывается в ещё более унизительном положении».
Что ж, Франция и в прошлом была склонна быстро переходить на фактически вторые роли (исключая период активной голлистской политики) в расчете на благосклонность сильного.
Так что Францию сбрасывает, в перспективе, со счетов мировой ситуации сама Франция.
* * *
А вот Германия…
* * *
Германия на протяжении своей новейшей истории не раз демонстрировала способность к концентрации усилий государства и нации с целью выхода на лидерские позиции в мире.
И в каждом случае одним из основных (если не основным) системным фактором этого оказывалась удивительная и спасительная способность германского общества к быстрому обретению высокого психологического тонуса как базы для интенсификации общественных экономических и политических усилий.
Вообще-то и русский народ на эдакое способен. А как же — долго запрягаем, но быстро ездим. Так сказал о нас немец Бисмарк. И не случайно — родственные натуры умеют подмечать порой у партнера такие детали, которые не очень-то замечает за собой сам партнер.
Накануне франко-прусской войны 1871 года раздробленная Германия относилась к аутсайдерам мирового политического процесса.
А после победы Пруссии над Францией и провозглашения Германской империи Германия за два десятилетия превратилась по многим позициям во вторую мировую державу, имея хорошие шансы обойти даже США.
После поражения в Первой мировой войне Германия быстро окрепла, консолидировалась и развивалась динамично и эффективно.
После наиболее сокрушительной своей неудачи во Второй мировой войне Германия оправлялась наиболее долго, если иметь в виду психологический аспект жизни общества.
Стеснена германская душа еще и сегодня. И Оскар Ференбах с равнодушием скопца заявляет, что Германия-де «утратила интерес к Европе»…
Что ж, сегодня это, может быть, и так (а может, и не так, а просто ференбахам хочется, чтобы было так).
А завтра?
Во-первых, мы опять имеем объединенную Германию, а во-вторых, наблюдается-таки тенденция к изживанию немца ми комплекса вины. И многие молодые (да, наверное, и не очень молодые) немцы опять начинают обретать высокий психологический общественный тонус.
В Германии это всегда было предвестием возникновения серьезных общественных перемен и, увы, также реваншистских настроений. Первое может стать для Германии бодрящим душем. Второе же…
Что ж, реванш может быть каким угодно. Но за счёт России Германии никогда всерьёз ничего «не обламывалось»… Вот вместе с Россией успехи у неё были…
Что-то да значит и рост правых настроений в Австрии, которая традиционно тяготеет к Германии. Ведь нельзя забывать, уважаемый читатель, что идея «аншлюса» — воссоединения Германии и Австрии — относится не ко временам Гитлера, а, примерно, к семидесятым годам XIX века.
После распада Австро-Венгерской империи Учредительное Собрание Австрии единогласно проголосовало за аншлюс, который тут же был запрещен навязанным Австрии Антантой аналогом Версальского договора — Сен-Жерменеким договором.
* * *
Но Германия (да и она ли одна?) считается с сильным. Сильна ли Россия сейчас? Конечно, нет. Она ослабела. Но в перспективе только Германия способна быть стратегическим партнером (а может, и союзником) России.
Германия в блоке с Россией может оказаться не просто центром противодействия попыткам установления гегемонии США в Европе и в мире.
Германия вместе с Россией (точнее, конечно, Россия вместе с Германией) может стать центром кристаллизации вообще нового мирового порядка, не в интересах элиты США, а в интересах Планеты и ее обитателей — двуногих и четвероногих (ведь, дорогой читатель, и над последними нельзя издеваться бесконечно).
И миру, и отдельным (особенно — малым) странам, и от дельным человеческим коллективам нужны лидеры. Но годится ли на эту роль напрочь своекорыстная и бескрылая, ханжеская и наглая «перекати-поле» Америка?
Америка уже внесла новую смуту в Европу и растравила балканские раны.
И в потенциале территориальные претензии могут возникнуть друг к другу в различных комбинациях у самых разных европейских стран.
Патронаж США — это войны, смуты и национальное унижение.
Не исключено, что уже в весьма скором времени малые страны Европы будут вынуждены предпринять поиск новых патронов — вплоть до возврата к патронажу России (если последняя сочтет это для себя рациональным).
Однако нужно ли даже новой, сильной России вновь приходить в Европу?
Конечно — да!
Но нам нужно входить в Европу не американизированного образца, а в Европу «европейскую». Невозможную без веду щей роли в ней Германии…
Ни один уважающий себя народ (кроме отбросов общества, привыкших питаться подачками) нигде и никогда не относился с радостью и уважением к американскому присутствию в их странах.
Кока-кола, «резинка», идиотски-«жизнерадостная» «улыбка», сдвинутая козырьком назад бейсболка и прочие прелести «американского образа жизни» воспринимаются только неразвитой частью народов.
А тот, кто имеет развитое чувство национального достоинства, если не на демонстрации, то хотя бы дома, у камина, нет-нет, да и скажет «Yankee, go home!»…
Но вот норвежец Бьёрнстерне Бьёрнсон… Мы уже знакомы с этим гордым лауреатом Нобелевской премии, писателем, патриотом до кончика пера, о котором в Норвегии XIX века говорили: «Назвать имя Бьёрнсона — все равно, что поднять норвежский национальный флаг».
Уж его-то в лакейских чувствах не заподозришь. Но вспомним — именно Германии он отдавал естественное первенство и видел Европу принявшей германское лидерство.
Не зря ведь все это было, дорогой читатель!
А Россия?
* * *
Евразийцы рассуждают о «предназначении России», мол, что она есть — Европа ли, Азия… Мол, призвание её — быть между Европой и Азией, между Западом и Востоком.
А ведь призвание России — просто быть! И если она будет существовать для себя самой, она будет существовать и для всего внешнего мира.
Недаром урожденная немка Екатерина Великая назвала Россию Вселенной.
Так что же, пора нам оправдывать ее давнюю характеристику. Чье-то лидерство России не требуется, в лидеры кому-либо она не навязывается. У нас нет вселенских претензий, но есть вселенские потенции!
Вот и великая Екатерина это подтверждает…
Лидеры, «варяги» нам не нужны. А вот надежный партнер нужен. В конце позапрошлого века, в начале века прошлого, в его первой трети и в начале нового, начинающегося века им для России может быть только Германия.
Пора разрывать те порочные враждебные круги, которые раз за разом очерчивают вокруг Германии и России те, кто не хочет и боится их дружеского взаимодействия…
* * *
Вот ещё одно интересное обстоятельство… Древние греки снабдили мир, кроме прочего, еще и звучной приставкой «пан…», что по-гречески означает «всё». Как сообщает словарь, она «в сложных словах означает „относящийся ко всему, охватывающий всё“…
И действительно — есть уж точно сложные слова-понятия: пангерманизм, панславизм, панисламизм… Есть ещё и пан американизм…
Последнее сегодня пытаются сделать ориентиром для всего мира. Хотя символ Америки нынче — не факел Статуи Свободы, а трусики Моники Левински…
А вот как быть с первыми тремя понятиями? Все три на деле относились всегда к области, скорее, мечтаний… Даром что во имя пангерманских идей вермахт дошел до Волги, русских мужиков бросали аж под абсолютно ненужные им Салоники во имя идей панславистских, а панисламизмом пугают мир и поныне.
Но у народов, среди которых возникли эти — внешне не просто разные, а предельно враждебные друг другу — понятия, есть нечто общее.
И называется оно — состояние духа, которым не очень-то точно (скорее, вообще неточно!) определяют немецкую мечтательность, русскую чувствительность, восточный фанатизм. А все это — способность в некоторые решающие моменты руководствоваться искренним, большим чувством, а не мелочным расчётом.
Русский не сентиментально чувствителен. Он — себе на уме. А нужно — и рванёт на груди рубаху!
Немец вроде бы не мечтателен, а расчётлив. Но ведь нет музыки романтичнее и возвышеннее немецкой (включая австрийцев Гайдна, Глюка, Моцарта, Шуберта, Малера, Штрауса) или ей по духу родственной — русской, норвежской…
Восток — дело тонкое… А тонкое потому, что мусульманин еще более себе на уме и ещё более способен скрытничать и прятаться в свою раковинку-чалму, чем русский мужичок…
Но ведь нет друга беззаветнее восточного человека, если ты ему действительно друг.
Пангерманизм, панславизм, панисламизм — это фантазийные понятия, разъединяющие в чем-то родственные народы, несмотря на то, что в семантическом отношении „пан…из-мы“ означают нечто, „охватывающее всё“.
Но родство некоторых коренных черт национального характера германских, российско-славянских и исламских на родов, — пожалуй, не фантазия.
Готовность к широте и к подчинению, индивидуализм в сочетании со склонностью к коллективизму — это есть и у немцев, и у русских, и…
С исламом, правда, сложнее… Но сама история нам показывает, что ладить с исламскими народами умели как раз толь ко немцы и русские…
Феномен англичанина Лоуренса здесь ничего не опровергает, потому что сам Лоуренс был англичанином весьма (а скорее — совсем) необычным для Англии.
Сегодня в Азии активна Америка. Но завтра общая российско-германская линия может создать для исламской Азии новые шансы и новый облик.
* * *
В августе 1914 года немецкие пехотинцы рвались к Парижу, но не дошли до него нескольких десятков километров. Не дошли потому, что германской армии пришлось отвоевывать эти километры у русских в Восточной Пруссии.
В мае 1940 года немецкие танки шутя обошли Париж и заглушили моторы на берегу Ла-Манша. Кто мог помешать им, если за восемь месяцев до этого танковый генерал Германии Гудериан и русский танкист комбриг Кривошеин приняли парад немецких войск, мирно покидающих Брестскую крепость?
* * *
В марте 1939 года вермахт вошел в Прагу. Кто мог ему помешать в этом?
Уже в период Судетского кризиса Советский Союз уста ми Литвинова был готов (чего ради — не знаю, читатель), помочь чехам военной силой. Но от этого отказались сами чехи. Они ведь умели лишь сдаваться и „в знак протеста“ собирать на заводах „Шкода“ танки для Гудериана в черных траурных рубахах.
А если бы чехи рискнули принять нашу помощь? Что было бы тогда?
А вот, пожалуй, что…
Англо-французы — в стороне.
Мы ввязались в войну с немцами при неразгромленной и ненавидящей Россию Польше, в состав которой все еще входят Западная Белоруссия и Западная Украина.
В тылу у нас — лимитрофная, подчиняющаяся Западу Прибалтика…
И при неминуемо затяжных наших боях на германском фронте во фланг нам ударила бы панская Польша.
Через Польшу, через ту же Прибалтику, через Финляндию, через Ближний Восток по воздуху навалились бы еще и Англия с Францией.
Ведь собирались же англичане превентивно бомбить наши бакинские нефтепромыслы в 1940 (тысяча девятьсот сороковом!) году.
Там бы оживилась и Япония…
Н-да, веселые нас могли ожидать тогда перспективы…
Нет, уважаемый читатель, хорошо все-таки, что чехи — это исторически сложившиеся трусы.
* * *
21 августа 1968 года из южной части Германии на Прагу двинулась объединенная советско-германская группировка из 35 тысяч человек и 1300 танков. Кто мог тогда помешать нам в этом?
Бундесвер ФРГ был тогда в состоянии боевой готовности. И чего ради? Ради укрепления в Европе опять-таки Америки? Ведь только конфликтная ситуация в Европе — нет, не оправдывает (оправдать такое нельзя), но хотя бы объясняет то, по чему войска США в этой самой Европе торчат.
Так было…
* * *
А что если будет, скажем, так…
21 августа 20… года.
Группировка германских „Леопардов“ и парашютисты бундесвера занимают территорию бывших немецких Судет.
Вторая мотомеханизированная группировка бундесвера входит в зону бывших немецких земель, отторгнутых и отторгованных Россией для неблагодарной Польши у лукавых союзников по Второй мировой войне…
Кто сможет помешать Германии в этом?
Россия?
Пусть даже Россия возродившаяся, сильная, могучая, не рушимая, свободная?
А зачем?!!
* * *
Будущее наше ещё смутно и неясно. Но уйти нам от него не удастся…
Пути России и Германии в XX веке разошлись круто, хотя судьбы их и были связаны, и связаны по сей день тоже „круто“, всерьёз…
Мы посмотрели с тобой, читатель, на начало этой давней и по-прежнему актуальной для нас истории…
Для того чтобы разобраться в ее продолжении — в истории отношений России и Германии в двадцатые и тридцатые годы — нужно писать другие книги. И они помогут нам еще лучше понять не только прошлое, но и будущее.
Надеюсь и даже обещаю, что они будут написаны. Однако и у них не будет эпилога — даром, что не так уж и давно американец Фрэнсис Фукуяма объявлял нам о „конце истории“.
Но жизнь народов не имеет конца — она продолжается.
Июль 2002 года
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Александров В. На чужих берегах: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1987.
Алексеева И.В. Агония Сердечного Согласия. Царизм, буржуазия и их союзники по Антанте. 1914–1917. — Л.: Лениздат, 1990.
Ананьич Б.В. Банкирские дома в России 1860–1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. — Л.: Наука, 1991.
Архив русской революции. В 22 т. — М.: Терра-Политиздат, 1991.
Балканские исследования. Вып. 4. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и Балканы. — М.: Наука, 1978.
Балканские исследования. Вып. 8. Балканские народы и европейские правительства в XVIII — начале XX в. — М.: Наука, 1982.
Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900–1917). Т. 1–4. — М.: 1948–1949.
Белкин С.И. Голубая лента Атлантики. — 4-е изд., перераб. И доп. — Л.: Судостроение, 1990.
Белявская И.А. Теодор Рузвельт. — М.: Наука, 1978.
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков: В 3 т. — М.: Терра, 1993.
Большая Советская энциклопедия. 1-е изд. — М.: Советская энциклопедия.
Большая Советская энциклопедия, 2-е изд. — М.: Советская энциклопедия.
Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам. Воспоминания. — М.: Воениздат, 1957.
Борисов Ю.В. Шарль-Морис Талейран. — М.: Международные отношения, 1986.
Брусилов А.Л. Мои воспоминания. Изд. 5-е. — М.: 1963.
Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. — М.: Международные отношения, 1991.
Вернадский В.И. Дневники. 1917–1921. — Киев; Наукова думка, 1994.
Витте С.Ю. Воспоминания. В 3-х тт. — М.: Соцэкгиз, 1960
Витте С.Ю. Избранные воспоминания. — М.: Мысль, 1991,
Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 5 тт. — М.: Политиздат, 1984.
Галактионов М. Париж, 1914 (Темпы операций). — М.: ACT; СПб.: Terra Fantastica, 2001.
Герасимов М.Н. Пробуждение. — М.: Воениздат, 1965.
Гереке Г. Я был королевско-прусским советником. Мемуары политического деятеля: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1977.
Гитлер А. Моя борьба. Пер. с нем. — М.: ИТФ „Т-Око“, 1992
Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. — Жуковский; М.: Кучково поле, 2001.
Гонкур Э., Гонкур Ж. Дневник. Записки литературной жизни. В 2-х тт. — М.: Художественная литература, 1964.
Давидсон А.Б. Сесиль Родс и его время. — М.: Мысль, 1984.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. — М.: Книга, 1991.
Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне 1914–1915 гг. — Берлин, 1924.
Дебидур А. Дипломатическая история Европы. В 2-х тт. — М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1947.
Деникин А.И. Путь русского офицера. — М.: Прометей, 1990,
Джолл Дж. Истоки Первой мировой войны: Пер. с англ. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
Дипломатический словарь. В 3-х тт. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1985.
Дневники императора Николая И. — М.: Орбита, 1991.
Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. — М.: Международные отношения, 1990.
Драбкина Е.Я. Черные сухари. — М.: Советский писатель, 1976.
Думова Н.Г., Трухановский В.Г. Черчилль и Милюкон против Советской России. — М.: Наука, 1989.
Дух Рапалло: Советско-германские отношения. 1925–1933. — Екатеринбург — Москва: Научно-просветительский центр „Университет“, 1997.
Епанчин Н.А. На службе трех императоров. Воспоминания. — М.: Издание журнала „Наше наследие“, при участии государственной фирмы „Полиграфресурсы“, 1996.
Зайончковский A.M. Мировая война 1914–1918 гг. Изд. 3-е. Т 1–3. — М.: 1938.
Игнатьев А.А. Пятьдесят лет встрою. — М.: Правда, 1989.
Игнатьев А.В. С.Ю. Витте — дипломат. — М.: Международные отношения, 1989.
Из литературного наследия академика Е.В. Тарле. — М.: Наука, 1981.
История дипломатии. В 6 тт. Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Госполитиздат, 1959.
История Первой мировой войны. 1914–1918. В2-хтт. — М.: Наука, 1975.
История Франции. В 3 тт. Т. 1 — М.: Наука, 1972.
Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. — М.: Мысль, 1990.
Койвисто М. Русская идея: Пер. с финск. — М.: Весь мир, 2001.
Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1911–1919. — М.: Современник, 1991.
Костин Б.А. Скобелев. — М.: Патриот, 1990.
Красильщиков А.П. Планеры СССР: Справочник. — М.: Машиностроение, 1991.
Красная книга ВЧК. В 2-х тт. — М.: Политиздат, 1990.
Куликов Н.Г. Я твой, Россия. — М.: Советская Россия, 1990.
Лаверычев В.Я. Военный государственно-монополистический капитализм в России. — М.: Наука, 1988.
Ламздорф В.Н. Дневник. 1894–1896. — М..: Международные отношения, 1991.
Лан В.И. США: от Первой до Второй мировой войны. — М.: Наука, 1976.
Лан В.И. США в военные и послевоенные годы. — М.: Наука, 1978.
Ландсберг Ф. Богачи и сверхбогачи. О подлинных правителях Соединенных Штатов Америки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1971.
Ленин В.И. Полное собрание сочинений, 5-е изд. — М.: Политиздат, 1975.
Людвиг Э. Бисмарк. — М.: Захаров-АСТ, 1999.
Маниковский А.А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. Изд. 3-е. — М.: 1937.
Манн Т. Письма. — М.: Наука, 1975.
Манфред А.З. Внешняя политика Франции 1871–1891 годов. — М.: Изд. АН СССР, 1952.
Мейер Г. Последняя иллюзия. Американский план мирового господства: Сокр. пер. с англ. — М.: Издательство иностранной литературы, 1955.
Милюков П.Н. Воспоминания (1859–1917). — М.: Современник, 1990.
Моруа А. Жизнь Дизраэли. — М.: Политиздат, 1991.
Мюллер В. Я нашел подлинную родину. Записки немецкого генерала: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1974.
Накануне, 1931–1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в документах, воспоминаниях и комментариях, — М.: Политиздат, 1991.
Немирович-Данченко В.И. Скобелев. — М.: Воениздат, 1993.
Неру Дж. Взгляд на всемирную историю. Письма к дочери из тюрьмы…: Пер. с англ. В 3-х тт. — М.: Прогресс, 1981.
Николаевский Б.И. Тайные страницы истории. — М.: Издательство гуманитарной литературы, 1995.
Новая Басманная, 19. — М.: Художественная литература, 1990.
Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. — М.: Международные отношения, 1991.
Палмер А. Бисмарк: Пер. с англ. — Смоленск: Русич, 1997.
Россия и США: дипломатические отношения. 1900–1917. — М.: МФД, 1999.
Сазонов С.Д. Воспоминания. — М.: Международные отношения, 1991.
Станкевич В.Б. Воспоминания. 1914–1919. Ломоносов Ю.В. Воспоминания о Мартовской революции 1917 г. М. РГГУ, 1994,
Стасов В.В. Письма к родным. В 3-хтт. — М: Государственное музыкальное издательство, 1953.
Сэсюли Р. ИГ Фарбениндустри: Пер. с англ., — М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1948.
Такман Б. Августовские пушки: Пер. с англ. — М.: Молодая гвардия, 1972.
Тарле Е.В. Сочинения в 12 тт. — М.: Издательство АН СССР, 1958.
Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. — М.: Панорама, 1991.
Труды по истории науки в России / В.И. Вернадский. — М.: Наука, 1988.
Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем в 28 тт. — М.-Л.: Наука, 1968.
Тьюгендхэт К, Гамильтон А. Нефть. Самый большой бизнес: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1978.
Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. — М.: Международные отношения, 1989.
Хорошо забытое старое / Сб. статей. — М.: Воениздат, 1991.
Федоров В.Г. В поисках оружия. — М.: Воениздат, 1964.
Ференбах О. Крах и возрождение Германии. Взгляд на европейскую историю XX века. — М.; Аграф, 2001.
Фоссет П.Г. Неоконченное путешествие: Пер. с англ. — М.: Армада, 1998.
Фрейд 3., Буллит У. Вудро Вильсон. 28-й президент США Психологическое исследование: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1992
Фриш С.Э. Сквозь призму времени. — М.: Политик, 1992.
Фуллер Дж, Ф.С. Вторая мировая война. 1939–1945 г. Стратегический и тактический обзор: Пер. с англ. — М.: Издательство иностранной литературы, 1956.
Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и политика. — М.: РОССПЭН, 2000.
Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. — 2-е изд., доп. — М.: Воениздат, 1982.
Ширер У. Взлет и падение третьего рейха. В 2-х тт. Пер. с англ. — М.: Воениздат, 1991.
Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. В 3-х тт. — М.: Политиздат, 1992.
Честертон Г.К. Вечный Человек: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1991.
Эррио Э. Из прошлого. Между двумя войнами 1914–1936: Пер. с франц. — М.: Издательство иностранной литературы, 1958.
Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. — М.: Москвитянин, 1993.



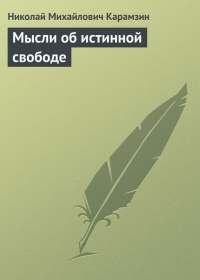
Комментарии к книге «Россия и Германия. Стравить! От Версаля Вильгельма к Версалю Вильсона. Новый взгляд на старую войну», Сергей Кремлев
Всего 0 комментариев