"ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МИФА" И ЕГО КРИТИКИ
Попробуем поначалу отвлечься от вопроса: о ком написал свою книгу В. Войнович, а задаться самым простейшим: о чем его книга? Она о том, что ни один человек в этой жизни не может достигнуть такой горней высоты, что разглядеть его можно не иначе как задрав голову и прикрывая глаза ладонью от нестерпимого света. Такую человеческую фигуру можно только придумать, вообразить, и настоящая литература, измышляя подобных героев, всегда их развенчивала (Печорин, Базаров, Наполеон у Л. Толстого) или высмеивала ("Голубая книга" М. Зощенко). Она их высмеивала и развенчивала, исходя из своей природы, чью суть некогда очень точно охарактеризовал Пушкин: "Цель художества есть идеал…"[1] Но реальность порой далеко расходится с литературой: не только юноши, но люди самого разного возраста задумываются над вопросом: делать жизнь с кого, берут себе в проводники образцы для подражания. Ничего плохого в этом, конечно, нет. Плохое начинается с момента, когда подражание уступает место некритическому обожанию, или, говоря по-другому, сотворению кумиров. Такого рода мифотворчество даже не просто плохо, но очень опасно. Оно часто ведет к трагедии (вспомним обожествление злодеев и созданного ими советского режима или героизацию теперешних террористов-камикадзе), а если и не к ней, то к частичной или полной потере собственной личности. Впрочем, подобная потеря тоже трагична, потому что, как писал Державин, человек есть "связь миров, повсюду сущих". "Во мне конец, во мне начало", — отзывался Державину В. Ходасевич, и утрата связи с миром грозит замутнением нравственных ориентиров, ведущих человека к идеалу.
Делать жизнь с кого? — стоит, конечно, поломать голову над этим вопросом, но не прежде, чем прояснить для себя другое: как противостоять неправде, злу, как различить человеческое и нечеловеческое. Причем чем раньше ты себе это уяснишь, тем лучше для твоего же самоощущения: меньше комплексов и неуверенности в себе, тверже характер, свободней твоя воля.
Имеет это отношение к тому мифу, о котором пишет Владимир Войнович? Разумеется, как и ко всякому другому. Всякий миф порабощает. Порабощает он и тех, кто пребывает во власти давно сотворенного и глубоко укоренившегося в нашей литературной жизни мифа о Великом Писателе Земли Русской, Провидце, Пророке и Мессии Александре Исаевиче Солженицыне.
Между тем — и с этим вряд ли кто осмелится спорить — никто, даже по-настоящему великий, свободен от критики быть не может. Тем более не может быть свободен от нее автор неподъемного "Красного колеса", которое не в пример "Одному дню Ивана Денисовича", по моему мнению, остается за пределами литературы, как остаются за пределами подлинной публицистики такие вещи, как "Наши плюралисты", "Угодило зернышко промеж жерновов" и "Двести лет вместе", вырисовывающие образ не пророка и не мессии, а человека, разрешающего себе то, в чем он категорически отказывает другим.
К "Архипелагу ГУЛАГ" я отношусь лучше Войновича, признаю резонными многие доводы в защиту «Архипелага» Елены Чуковской,[2] полемизирующей с книгой Войновича, которую мы здесь рассматриваем. Но с другой стороны, отношусь к «Архипелагу» не так восторженно, как оценивала его Л. И. Чуковская: есть в нем места, которые насторожили меня еще при первом чтении. Помню, например, как уже тогда споткнулся о «грубую» (по признанию самого Солженицына) схему "существования четырех сфер мировой литературы (и искусства вообще, и мысли вообще)": «верхние» (то есть образованные, состоятельные) изображают себе подобных, «верхние» изображают «нижних» (необразованных, несостоятельных), «нижние» изображают «верхних» и, наконец, «нижние» описывают себя. Дальше цитирую это место в «Архипелаге»:
"Морально самой плодотворной обещала быть сфера вторая ("сверху вниз"). Она создавалась людьми, чья доброта, порывы к истине, чувство справедливости оказывались сильней их дремлющего благополучия, и, одновременно, чье художество было зрело и высоко. Но вот порок этой сферы: неспособность понять доподлинно. Эти авторы сочувствовали, жалели, плакали, негодовали — но именно потому они не могли т о ч н о п о н я т ь. Они всегда смотрели со стороны и сверху, они никак не были в шкуре нижних, и кто переносил одну ногу через этот забор, не мог перебросить второй.
Видно, уж такова эгоистическая природа человека, что перевоплощения этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве и Достоевский на каторге. В Архипелаге же ГУЛАГе этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу".[3]
Последнее предложение запечатлело несомненную истину. Но мысль об обязательном внешнем насилии и тогда показалась мне странной: а как же быть с Чеховым, с его "Островом Сахалином", который я ценю никак не меньше "Дон Кихота" или "Мертвого дома", как быть с Акакием Акакиевичем, выписанным именно «доподлинно», изнутри? Сейчас, перечитывая это и помня о дальнейших художественных и публицистических вещах Солженицына, вижу я и некое желание автора утвердиться не просто в плодотворной сфере искусства, но рядом с наиболее плодотворнейшими (на его взгляд) творцами: Сервантесом и Достоевским.
Но особенно, по-моему, подтверждает правоту Войновича ранняя публицистическая книга Солженицына "Бодался теленок с дубом", которая меня сразу же удивила и разочаровала. Не только потому, что в этом произведении проступает превосходство одного над всеми. А потому главным образом, что герой «Теленка» изображает себя человеком, который все заранее спланировал и ни разу не ошибся, придерживаясь собственных планов. Но поскольку в реальности такого попросту не бывает, то я и не удивился, когда открылось, что не всегда и не во всем это произведение соответствует истине: как заметила В. А. Твардовская, комментирующая в «Знамени» "Рабочие тетради 60-х годов" своего отца, одно только сличение стенограммы заседания Секретариата СП СССР от 22 сентября 1967 года с тем, как воспроизвел ее по своим записям Солженицын, показывает, что Александр Исаевич подверг ее весьма характерной обработке: он "не упоминает ни о выступлении А. Т(вардовского), ни о выступлении А.Салынского, представ в этом «копьеборстве» одиноким борцом против огромной вражеской орды".[4]
Именно такого рода представление Солженицына о себе и имел в виду Войнович, когда говорил о главном преувеличении, лежащем в основе мифа, созданного как самим Солженицыным, так и вокруг Солженицына. А то, что в окончательную редакцию «Теленка» вошли рассказы о помощниках писателя, благодаря которым "он мог "в воздухе держаться без подпорки"" (Е. Чуковская),[5] на мой взгляд, этого представления не только не меняет, но даже может его подтвердить самим гиперболическим смыслом приведенной Е. Чуковской солженицынской метафоры: человеку не удастся удержаться без подпорки в воздухе, несмотря на усилия любого количества помощников.
Разумеется, было бы черной неблагодарностью забыть о той роли, которую играл Солженицын, находясь на коммунистической родине. И все-таки рядом с Сахаровым его ставили, на мой взгляд, зря. Солженицын мощно боролся в основном за себя, за свое право печататься, доносить до людей собственные идеи. Сахаров боролся не за себя, а за других: за право на эмиграцию, за возвращение крымских татар на историческую родину, за того или иного взятого под стражу политического, добиваясь его освобождения, свободного суда над ним и т. п. Непонимание разницы между ними привело к разочарованию многих, кто ждал, что Солженицын, вернувшись, возглавит демократическое движение. Он его не только не возглавил, но по существу по многим вопросам солидаризовался с левыми: недаром назвал правительство Примакова единственно действенным.
Словом, не стоит заходиться в экстазе: Солженицын очень много сделал в литературе, но равновелик ли он хотя бы названным им творцам, которые «образовались» в рабстве или на каторге, — покажет время. А что до его пророческих и мессианских качеств, то, судя по его теперешнему поведению, представление о них явно преувеличено.
Для того чтобы сказать обо всем этом, нужно обладать человеческой и писательской смелостью, которая всегда была присуща В. Войновичу. Но в коммунистические времена опасность его непримиримой позиции в какой-то мере морально компенсировалась лаврами героя среди интеллигенции. Теперешняя позиция писателя никакой подобной компенсации ему не гарантирует: ведь он идет против широко распространенного общественного мнения.
Абзац, который вы только что прочитали, был последним в написанном сразу после выхода в свет книги В. Войновича "Портрет на фоне мифа" моем отзыве о ней, опубликованном в газете издательского дома "Первое сентября" «Литература» (2002, № 34). Я решил не трогать концовки, воспроизвожу ее в том виде, в каком она была напечатана. Потому что своими откликами на книгу представители широкой общественности не только подтвердили мою мысль, но превзошли все ожидания.
Надо отдать должное Войновичу: он предвидел это, сравнивая разные периоды нашей литературы:
"Со временем у нас появилось много умников, которые с презрением будут относиться к «оттепели», не захотят отличать этот период от предыдущего. Но на самом деле это был колоссальный сдвиг в душах людей, похожий на тот, что произошел за сотню лет до того — после смерти Николая Первого. Может быть, если прибегать к аналогиям, во время «оттепели» людям ослабили путы на руках и ногах, но это ослабление было воспринято обществом эмоциональнее и отразилось на искусстве благотворнее, чем крушение советского режима в девяностых годах.
Литература «оттепельных» времен явила впечатляющие результаты, а полная свобода, пришедшая с крахом советского режима, по существу, не дала ничего, что бы явно бросалось в глаза".[6]
А состояние критики, как замечал еще Пушкин, "само по себе показывает степень образованности всей литературы".[7] Если ничего не дает читателю литература, то чтo может дать ему критика, которая ее раскручивает?
Какова эта критика?
Цитирую книгу Войновича, который в данный момент воспроизводит речь человека, позвонившего ему по телефону:
"Слушай, я тут был у Исаича в Вермонте, а к нему как раз приехал Струве и жаловался на тебя, что ты собираешься подать на него в суд. Так вот Исаич просил меня передать тебе его мнение. Он мне его продиктовал и хочет, чтобы ты его записал. У тебя карандаш и бумага есть? Записывай".
Не буду вдаваться в детали. Читатель и сам прочтет в книге, почему Войнович собирался судиться с издательством ИМКА-Пресс и как он ответил «Исаичу» на надменно-пренебрежительное послание. Передаю слово Алле Латыниной, отзывающейся в газете "Время МН" (4 июня 2002 года) именно об этом эпизоде:
"Но стоит только задуматься над нюансами: а исходило ли, скажем, требование "взять карандаш и записывать" от Солженицына, как эпизод начинает выглядеть сомнительным".
А ведь это недобросовестная передержка — любимый некогда прием критиков-ортодоксов советского времени. В чем, по мнению А. Латыниной, должен усомниться читатель? Собеседник Войновича, человек близкий Солженицыну, передает мнение, которое "он мне (…) продиктовал", — желает, значит, чтобы адресат усвоил сообщение во всей его буквальной точности. Для чего же здесь задумываться над нюансами, а точнее, выдумывать их?
А вот еще удивительней и еще похлеще: ее рассуждение о том, как "писатель может и нечаянно сыграть в чужую игру":
"В начале 1986 года, еще до "объявления перестройки", каким подарком сотрудникам КГБ, направляющим антисолженицынскую кампанию, была книга, где всем строем писательской логики доказывается, что Солженицын — это вам по
страшнее коммунизма будет… Вот войдет Карнавалов в Москву на белом коне, объявит себя Императором, будет казнить и распинать на кресте несогласных, отбросит страну в средневековье, заменит поезда и автомобили лошадьми, упразднит науки, введя вместо них Закон Божий, словарь Даля и собственное сочинение "Большая Зона"".
По-разному можно относиться к роману "Москва 2042". Войнович знакомит нас со своей пятнадцатилетней давности перепиской с Лидией Корнеевной и Еленой Цезаревной Чуковскими, не принявшими гротесково-пародийного образа Сим Симыча Карнавалова, за которым проступал объект паро
дии — Солженицын.
Но даже они, резко и откровенно говорившие автору о своем решительном неприятии романа, не объявили его "подарком сотрудникам КГБ, направляющим антисолженицынскую кампанию". Думаю, что и сотрудники КГБ не сочли эту антиутопию подарком себе. Можно не сомневаться: если бы сочли подарком, дали бы тем или другим способом нам об этом знать. Помню, например, с какой подозрительной легкостью можно было достать в самиздате книгу В. Лакшина, отвечающего солженицынскому «Теленку»…
Но и этой зловредной и безответственной выдумки А. Латыниной показалось мало. Ее газетная колонка заканчивается тягостным вздохом:
"А вот признаний в том, что сам он принимал участие в создании антисолженицынского мифа, который не имеет особого отношения к действительности, — таких признаний мы от него вряд ли дождемся…"
Антисолженицынский миф создавали те, кто направлял в советское время антисолженицынскую кампанию, — сотрудники КГБ. Нужно потерять совесть, чтобы требовать от Войновича, высланного из страны и лишенного гражданства за бесстрашную борьбу с бесчеловечным советским режимом, признаний в том, что он (пусть нечаянно, пусть невольно) совпадал с этим режимом, чем-то помогал ему!
Вообще при чтении критиков книги Войновича складывается впечатление, что меньше всего их интересуют аргументы автора, что они его не слышат, не слушают, а просто дают волю раздраженному своему возмущению: да как же он посмел!
"Это же Солженицын! Это же о! О! О!" — писал в своей книге Войнович, предугадывая реакцию и будущих ее критиков.
В частности, Павла Басинского, который в своей заметке, напечатанной в "Литературной газете" (2002, № 31), напоминает Шуру Балаганова, отпихивающего Паниковского, или, если угодно, Паниковского, отпихивающего Шуру Балаганова. Потому что оба вопят при этом: "А ты кто такой?"
В самом деле, читайте: "Рискну высказать свое объяснение проблемы. Нелюбовь к Солженицыну (не только Войновича) — это в какой-то степени феномен макрофобии, то есть неприятия всего большого, выдающегося за привычные границы (…) надо признать болезнь Войновича весьма запущенной…"
Слукавил, слукавил П. Басинский, написав в той же заметке, что книга Войновича вызывает у него "смесь злости, недоумения и жалости". Какое там недоумение? какая жалость? И только вопрос: какая злость? — лишен риторичности.
Это почти истеричное "о! О! О!", пронизывающее отзывы на книгу, не просто с ней контрастирует, но, как ни странно, добавляет ей обаяния. На фоне бессовестных выдумок и злобных выкриков выделяется спокойная манера Войновича, в меру серьезного, в меру ироничного, честно и беспристрастно пытающегося разобраться в явлении, о котором взялся писать.
Да-да, беспристрастно — еще раз подчеркиваю это слово. Его книга не пафосная, и Наталья Иванова в статье "Сезон скандалов: Войнович против Солженицына" совершенно справедливо замечает: "Ничего величественного, патетического в текст допущено не будет", но вывод из этого делает, на мой взгляд, неверный: "идет игра на понижение".[8] Потому что никакой игры Войнович с читателем не затевает: он весьма последовательно и, на мой вкус, весьма доказательно развенчивает для читателя миф о Небожителе, об Обитателе Олимпа, о Пророке, так что неудивительно, что в тексте его книги мы не встретим величественной патетики.
Справедливости ради скажу, что статья Н. Ивановой выделяется на общем фоне критических отзывов о книге Войновича заинтересованной попыткой разобраться в тексте, а не оболгать его автора, указать на место произведения и в творчестве автора, и в литературном процессе (а это и есть сущностное призвание критики, о котором многие порядком подзабыли!). Другое дело, что подход Н. Ивановой к тексту может, на мой взгляд, увести читателя от реального содержания книги, а место, которое, по мнению критика, занимает в литературе Владимир Войнович и его новое произведение, определено, опять-таки на мой взгляд, неточно. Но об этом позже.
Не могу не поддержать непримиримой этической позиции Н. Ивановой, когда она разбирает "Двести лет вместе". Признаю ее эстетическую правоту, с какой она пишет об очевидной неудаче «узлов» "Красного колеса". Этическая ясность проступает в статье Н. Ивановой там, где критик точно определяет идеологическую направленность, которую обрела в последнее время Солженицынская премия. И удивляется вкусу мэтра: Солженицыну понравилась метафоричность Проханова![9] Я тоже был поражен. Потому что в случайно попавшемся мне в руки листке "Московский литератор" отрывок из бестселлера Проханова напомнил унылую прозу 40-х (Бубеннова, Бабаевского), и вдруг метафора, которую воспроизвожу по памяти (листка уже под рукой нет): на темном лице цвели ледяные (или льдистые?) глаза.
Цветение льда — это что-то запредельное в мире метафоры!
И опять права Н. Иванова: "Для того, чтобы не различить в сочинениях Проханова красно-коричневую подкладку, надо быть дальтоником".[10] Да, нынешний Солженицын совсем не тот, кто был некогда выслан из страны коммунистическими властями. Его эволюция подробно прослежена в книге "Портрет на фоне мифа". И потому я не могу понять буквалистики Елены Чуковской: "До сих пор считалось, что "культ личности" — это термин, введенный Хрущевым для обозначения преступлений Сталина (…) Теперь Войнович борется с "культом личности" Солженицына. Не дико ли наклеивать партийный ярлык одному из самых заметных и успешных борцов с этим самым культом".[11] Не вижу в этом ничего дикого: само понятие культа личности по законам языка не может быть чьей-либо собственностью. Хрущев обозначил этим термином культ одной личности, а Войнович пишет совершенно о другой. И мне кажется, что он прав, осуждая культ любой личности.
Не могу я понять и странного толкования Е. Чуковской главной мысли В.Войновича: "В чем же суть тревоги, которая заставила Войновича забить в набат с такой громкостью и частотой? А дело, оказывается, в том, что мы пропадаем не от воровства, невежества, жестокости, стихийных бедствий и износа технического оборудования электростанций (не говоря уж об износе душ), а от изобретенного Войновичем «кумиротворения». Гибнем от излишнего восторга перед талантом Солженицына, Башмета, Мэрилин Монро, слишком превозносим Шопена и чересчур много букетов бросаем на сцену Ростроповичу".[12] Где, на какой странице книги Войновича слово «кумиротворение» можно расшифровать как "наслаждение художеством", как "восхищение творцами, творцом"? И надо ли напоминать Е. Ц. Чуковской, кто первый сказал: "Не сотвори себе кумира"? Надо ли разъяснять, что пренебрежение этой заповедью очень часто приводит к "износу душ", который и является питательной средой воровства, невежества, жестокости, даже наплевательского отношения к техническому оборудованию?
Но возвращаюсь к статье Н. Ивановой. Все, кто откалывался от либералов, замечает критик, "уходили… в сторону именно Солженицына".[13]
Не только уходили в его сторону, добавлю я, но вставали под его знамена, или, лучше сказать, под его националистические хоругви, одобряли все его действия, расписывались как члены жюри его премии под любым его выбором, даже таким, как одиозные произведения антиглобалиста Панарина.
"Голосуя за русского философа, исторического и политического мыслителя Александра Сергеевича Панарина, я поступал, повинуясь своему опыту исследователя Пушкина и как один из многих моих сограждан, которым есть дело до того, куда идет сегодня человек, как и куда движется история и каково в ней ныне место и предназначение нашего отечества (…)
"Реванш истории" — книга необычайно густая по тематическому составу, плотная и тонкая по мысли, простая и ясная по общему смыслу и выводам, внешне академичная, часто тяжеловатая лексически и стилистически, но внутренне словно бы дрожащая от сосредоточенного темперамента".[14]
Далеко ушел от либералов Валентин Семенович Непомнящий, "повинуясь своему опыту исследователя Пушкина", голосуя за книгу с таким удивительным темпераментом (понимай, что и Пушкин был бы с этим согласен!).
Дрейф в сторону Солженицына — это отказ от либеральных ценностей, о чем и пишет Войнович, отмечая ту пренебрежительность, с какой стал относиться Солженицын к правам человека, да и просто к отдельному человеку.
Жаль, что у Н. Ивановой это прописано не совсем четко. Но претензии к ее статье у меня лично возникают не только в связи с иными недоговоренностями в ней.
Не стану касаться ответов на вопросы, которыми задается Н. Иванова: "Интересно ли читать Войновича?", "Интересно ли читать Солженицына?": такие вопросы (и ответы на них) способны только дискредитировать критику, которая ведь не книга отзывов. Она не субъективна, а так же объективна, как и другие литературные жанры. Поспорю с подходом Н. Ивановой к произведению.
Она воспроизводит структуру начала книги или, как говорит, выстроенные писателем декорации. Я ничего не имею против структурного анализа, но убежден, что только его инструментарий не даст представления ни о содержательности книги, ни о творческой манере писателя. Приведу пример ее структурирования начала книги: квартира Саца ("отмечено, что у Саца в квартире нет сортира"), шутка Саца о Луначарском, поддерживающая "мотив отправления нужды (дерьма и мочи)", появление пьяноватого Твардовского в испачканном мелом ратиновом пальто, который "пьет водку и читает вслух старому Сацу и молодому В. В. повесть А. Рязанского". И дальше: "Вывод В. В.: "…яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель". Особенным образом здесь стоит одно слово. Понятно какое? Даже (курсив Н. Ивановой. — Г. К.). Оно-то и продолжает намеченную интригу, перенося через череду вполне пафосных (и вполне заслуженных Солженицыным) обманных эпитетов (ибо В. В. пафоса, как читатель заметил, не выносит и не выносил никогда) дальнейшему. А дальнейшее, после декораций и в контексте впечатления от повести А. Рязанского, — это Солженицын особой, войновичской, выделки, плод его взгляда и его оценки".[15]
Что ж, последовательность эпизодов пересказана верно. А "вывод В. В." перетолкован как раз вопреки его тексту:
""В пять часов утра, — начал Твардовский негромко, со слабым белорусским акцентом, — как всегда пробило подъ
ем — молотком об рельс штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать…"
Таких начал даже в большой русской литературе немного. Их волшебство в самой что ни на есть обыкновенности слов, в простоте, банальности описания, к таким я отношу, например, строки: "В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул Макхет". Или (другая поэтика) в чеховской "Скрипке Ротшильда": "Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно". Или вот в «Школе» Аркадия Гайдара (что бы ни говорили теперь, талантливый был писатель): "Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах…"
Такие начала как камертон, дающий сразу верную ноту. Они завораживают читателя, влекут и почти никогда не обманывают.
Твардовский читал, и чем дальше, тем яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель".
Да, Войнович не выносит пафоса. Он и сейчас верен себе. Только что рассказывал о нищем советском быте, о тех, кто к автору относятся с симпатией, к кому он относится с симпатией, об их смешных чертах, об их слабостях ("Для чего?" — настойчиво спрашивает Н. Иванова. Я постараюсь ответить на этот вопрос). И вот — шутки в сторону: речь о зачарованности, которая и есть главный мотив этого эпизода. Войнович честен. Он и не собирается скрывать, какую художественную мощь ощутил, слушая "Ивана Денисовича". Недаром рассказывает, как сразу же "под впечатлением только что услышанного шедевра" выгнал из такси своего случайного попутчика, оказавшегося сталинистом, хотя, как признается, подобные поступки ему не были свойственны.
А теперь отвечу на вопрос, который многажды задает Н. Иванова: а для чего Войновичу все эти приземленные и порой уничижительные подробности в "выстроенных писателем декорациях"? Не для того, чтобы снять пафос или высмеять ситуацию. Как раз нет. Писателю это нужно для того, чтобы воспроизвести жизнь во всем ее многообразии и противоречивости. И тут у него есть великолепные учителя и предшественники.
Иванова настаивает на односторонности дарования Войновича, называя его пересмешником, скоморохом, человеком, который в любой стране, в любое время раздражал бы серьезных проповедников и, возможно, даже был бы сожжен в Средние века. Такое представление о Войновиче мне кажется удивительным. Да, он сам написал о цели, которую преследовал в "Москве 2042": "…для меня важной особенностью этого романа было пересмешничество". Но разве это единственная его вещь? Есть у него повесть "Путем взаимной переписки", в котором нет никакого «скоморошества», а лишь боль, ужас и сострадание. Или "Два товарища", где пересмешничества при всем желании не отыщешь. Или рассказ "Хочу быть честным", написанный в русле прозы "Нового мира" времен Твардовского и сразу принесший Войновичу известность.
Все эти вещи, на мой взгляд, легко вписываются в чеховскую традицию, которая не могла не оставить свои следы и в сатирических или пародийных произведениях Войновича, таких, как «Шапка», «Иванькиада», даже в «Чонкине».
Да, «Чонкин» ближе к Гашеку (а местами к Гоголю), да, «Шапка» или «Иванькиада» ближе к Марку Твену (а к обоим этим произведениям близка проза Сергея Довлатова). Согласен, Войнович обладает и даром пересмешника, то есть пародиста, что блистательно подтвердила недавняя его пародия на советский гимн. Но серьезный читатель и в войновичской сатире различит присущие русской литературе "невидимые миру слезы".
Вот почему я не могу согласиться с Н. Ивановой в том, что описание Саца у Войновича и Солженицына не слишком отличаются друг от друга. Показать приятеля беззубым, шамкающим, но веселым и добрым оригиналом совсем не то же самое, что презрительно назвать человека «мутно-пьяным» или «мутно-угодливым».
Поэтому не могу я согласиться и с теми, кто считает, что этой книгой Войнович нанес Солженицыну оскорбление. По мне, стиль книги "Портрет на фоне мифа" напоминает чеховские письма.
Вот, кстати, очень характерный пример, относящийся к нашей теме, отрывок из письма Чехова актеру А. И. Южину от 23 февраля 1903 года: "По-моему, будет время, когда произведения Горького забудут, но он сам едва ли будет забыт даже через тысячу лет. Так я думаю или так мне кажется, а быть может, я и ошибаюсь".[16]
А ведь именно из-за Горького Чехов сложил с себя звание почетного академика: возмутился травлей коллеги, как публично возмущался Войнович травлей Солженицына до его высылки из страны. И точно так же, как сейчас Солженицын, Горький имел многочисленных поклонников, и тоже нужно было иметь мужество, чтобы отстаивать свое независимое суждение.
Но я сказал о совпадении стиля. Это так и есть. Как и книга Войновича, письма Чехова прямые, откровенные, ироничные. И шутливые. Иногда горько-шутливые. Но никогда никого не унижающие.
Понимаю, что подобное сравнение может показаться некорректным: письма ведь не пишут в расчете на массового читателя. Но я веду речь только о близости манеры, которая дается не просто, даже людям одаренным. Что и показал Александр Исаевич Солженицын, обидевшись на Войновича за пародию, и так представив своего обидчика:
"В прошлом — сверкающее разоблачение соседа по квартире, оттягавшего у него половину клозета, — дуплет! — сразу и отомстил и Золотой Фонд русской литературы".
Помимо того, что это сказано неуклюже и грубо, удивляет утаивание того факта, что "сосед по квартире" был крупным советским вельможей. Вступая в борьбу с ним и с поименно названными могущественными покровителями «соседа», Войнович боролся с советской системой. И Александру ли Исаевичу не знать, чем могла закончиться такая борьба? Пустив в самиздат «Иванькиаду», Войнович рисковал не меньше самого Солженицына, отправлявшего свои произведения тем же путем.
Вот бы когда удивиться критикам и вступиться за Войновича и за его превосходную «Иванькиаду». Но ведь не только не вступились, пикнуть не посмели, напоминая своим коллективным обликом Якова Моисеевича Цвибака, редактировавшего под псевдонимом "Андрей Седых" нью-йоркское "Новое русское слово" — газету, куда В. Войнович отдал свой роман «Москореп», позже названный им "Москва 2042".
""Но имейте в виду, — предупредил романист, — в этом сочинении есть образ, напоминающий одного известного писателя". "Неужели Максимова?" испугался Седых. "Нет, нет, — сказал автор, — другого, пострашнее Максимова". "А-а, этого, — сообразил Яков Моисеевич, — ну что вы! Он, может, и страшный, но страшнее Максимова зверя нет"". "Страшный зверь" это и есть миф. Похоже, что Войнович нащупал самую примечательную его точку. Вот чего, думается мне, не понял М. Николсон, чья статья "Солженицын на мифотворческом фоне" печатается в этом же номере журнала. Добросовестно разбирая все написанное о Солженицыне за границей, М. Николсон делает своеобразный обзор книг не только западных писателей-политологов, но и некогда созданных в странах так называемой "народной демократии", возможно, по заказу КГБ. Большинство этих книг, судя по пересказу английского ученого крайне низкого уровня. Развлекательная беллетристика. Никакого отношения этот поток литературы, как увидит читатель, не имеет ни к нашей стране, ни к подлинным событиям того времени, ни к фигуре самого Солженицына. Так что "Портрет на фоне мифа" в этот выстроенный М. Николсоном ряд никак не вписывается. Ну да, история стукача «Ветрова» из нескольких упоминаемых романов аккумулирует в себе саморазоблачительные страницы из "Архипелага ГУЛАГ". В своей книге Солженицын объясняет читателю, почему он поддался минутной слабости и как Судьба помогла ему избежать унижения и позора. А низкопробные беллетристы вцепляются в ситуацию, где органы присваивают Солженицыну псевдоним «Ветров», и раздувают из этой условной фигуры образ зловещего сексота. Но подобные выдумки никак не связаны с проблемой «кумиротворения», о которой пишет Войнович.
Мифотворчество начинается с того, что целенаправленно выстраивают биографию героя, намеренно опуская не слишком лестные для него факты: так, если о «Ветрове» можно прочесть у самого Солженицына, — как его вербовали, как он подписал бумагу о сотрудничестве, уверенный, что ему удастся переиграть органы, и на самом деле выиграл, выйдя победителем из борьбы с ними, — то о его разговоре с помощником Хрущева Лебедевым Солженицын предпочел не вспоминать. А ведь все люди не без греха. И каждый может припомнить в своей жизни поступки, которые его не украшают. Солженицын, разумеется, тоже. Да, он еще в 1994 году в "Новом мире", как напомнила Л. Сараскина, опровергал периодически возникающие слухи о том, что по отношению к Шаламову вел себя небезукоризненно. "Войнович повторяет навет недобросовестного комментатора В. Шаламова…" — констатирует Л. Сараскина,[17] нисколько не озабоченная тем, что сама пересказывает Войновича недобросовестно. Ведь в его книге речь идет не о навете комментатора, а о той реальности, с какой столкнулся автор, оказавшись на Западе, где "Колымские рассказы" были почти никому не известны, поскольку печатались редко, понемногу и в малотиражном издании. Вот по этому поводу и написал Войнович, что Солженицын мог стать очень авторитетным предстателем за Шаламова перед западными издателями. Что он, Солженицын, легко добился издания тех вещей, которым протекционировал: публикации книги о шолоховском плагиате или сборника "Из-под глыб". Но поспособствовать изданию рассказов Шаламова — жуткого, леденящего душу свидетельства звериной бесчеловечности гулаговской системы и ее нравов — не захотел или не посчитал нужным. Что же удивляться циркулирующим в обществе слухам о, мягко говоря, непростом отношении Солженицына к Шаламову? Да и так ли уж они беспочвенны? Вот что рассказывает Александра Свиридова, сценарист фильма "Варлам Шаламов. Несколько моих жизней", читавшая в архиве переписку Шаламова и Солженицына: "…мне понравилось все, что писал Шаламов, и не понравилось все, что писал Солженицын (…) я убеждена, что роль Солженицына в исковерканной жизни Шаламова равна роли репрессивного режима большевиков… А может быть, даже страшнее, поскольку режим не мог ему помочь (да и Шаламов к нему не обращался), а Солженицын мог (и Шаламов к нему обращался). Солженицын понимал, кого он топит (…) В
89-м году журнал «Знамя» собирался опубликовать всю переписку Шаламова с Солженицыным, а я оказалась в Америке и передала информацию об этом Александру Исаевичу с предложением как-то оправдаться перед публикацией… Моментально в «Знамя» приходит телеграмма — это было первое послание Солженицына в Россию! — что он запрещает печатать свои письма к Шаламову, но… разрешает печатать письма Шаламова к нему! Эту телеграмму опубликовали в журнале".[18]
Поэтому не Войнович и не названные М. Николсоном литераторы подлинные авторы мифа. Герой Войновича и есть автор мифа о себе, подхваченного и развитого многими.
Но, как было сказано, таково действие сотворенного мифа, что вознесенного им не только возвеличивают, но и боятся. Как А. Седых В. Максимова, как нынешние критики А. Солженицына. А то, что Алла Латынина в цитированной здесь мною газетной колонке восклицает: "Это о Солженицыне-то нельзя высказать критических соображений. Да их только и делают, что высказывают — все кому не лень", — так это она снова передергивает, подменяя теперешние времена давними. И благодушие Натальи Ивановой по поводу легкости для Войновича донести нынче до читателя подобную вещь кажется мне наигранным: "А напечататься сейчас, тем более Войновичу, совсем не трудно: книжка вышла, и каждый желающий может ее прочесть".[19] Потому что каждый желающий может прочесть в этой книжке, как ее отвергли в одном известном толстом журнале. Думаю, не за то, что она показалась редакции художественно несостоятельной.
Примечания
1
1 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 тт. Изд. 4-е. Л., 1977–1979. Т. 7. С. 276.
(обратно)2
2 Чуковская Елена. "Первый признак вандализма…"/Новое время. 2002. 25 августа.
(обратно)3
3 Солженицын Александр. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956: Опыт художественного исследования. Т. 2. М., 1990. Гл. 18 "Музы в ГУЛАГе". С. 325.
(обратно)4
4 Знамя. 2002. № 10. С. 187.
(обратно)5
5 Чуковская Елена. Указ. cоч.
(обратно)6
6 Войнович Владимир. Портрет на фоне мифа. М., 2002. С. 19–20.
(обратно)7
7 Пушкин А. С. Указ. изд. Т. 7. С. 116.
(обратно)8
8 Знамя, 2002. № 11. С. 188. (Курсив в данном случае Н. Ивановой.)
(обратно)9
9 Проханова одобрил, а Чехова выругал: "Этим рассказом Чехов продолжает втекать во все то же заунывное и давно не новое "разоблачительство русской жизни"" (о "Скрипке Ротшильда"), "Чехов исстрачивает талант если не в ложном (нет, не в ложном), то в искривленном направлении. Упускается — тот глубокий смысл труда и живой интерес к труду, который и держит крестьянство духовно, и веками" (о "Мужиках"), "Сам ли Чехов искренно не видит нигде в России — людей деловых, умных, энергичных создателей, которыми только и стоит страна, — или так внушено вождями общества и предшествующими литераторами?" (об "Ионыче"). Дело, как видим, не о метафорах идет, а об идейном или, лучше сказать, о классовом направлении чеховских произведений, которое оспаривается с тенденциозных позиций в духе ныне забытых апологетов вульгарного социологизма. Особенно показательны в этом отношении претензии к «Архиерею», который не устраивает Солженицына тем, что герой рассказа дан вне своей социальной среды: "Не понимаю выбора главного персонажа.
Архиерей? — тогда все-таки это не может не быть и рассказ о Церкви?" И, смоделировав за Чехова «правильное» содержание такого рассказа, выговаривает автору: "Кажется, вот эти проблемы только и были важны в жизни архиерея? Но ни о чем об этом в рассказе вовсе нет!" (Солженицын Александр. Окунаясь в Чехова: Из "Литературной коллекции"/Новый мир. 1998. № 10).
(обратно)10
10 Знамя. 2002. № 11. С. 191.
(обратно)11
11 Чуковская Елена. Указ. соч.
(обратно)12
12 Там же.
(обратно)13
13 Знамя. 2002. № 11. С. 196.
(обратно)14
14 Непомнящий Валентин. Сигнал истории//Литературная газета. 2002. 5 июня.
(обратно)15
15 Знамя. 2002. № 11. С. 188.
(обратно)16
16 Переписка А. П. Чехова в 2 тт. Т. 2. М., 1984. С. 141–142.
(обратно)17
17 Андриасова Татьяна. Солженицын без альтернативы: Интервью с Людмилой Сараскиной//Новое время. 2002. 6 сентября.
(обратно)18
18 Алфавит. 2002. № 24. С. 10.
(обратно)19
19 Знамя. 2002. № 11. С. 198.
(обратно)


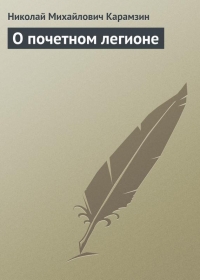

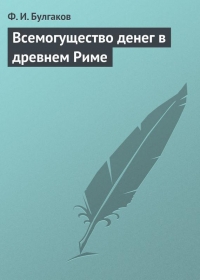
Комментарии к книге «'Портрет на фоне мифа' и его критики», Геннадий Красухин
Всего 0 комментариев