Анатолий Федорович Кони
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ III В ГАТЧИНЕ
СТАТЬИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЯХ
(В ноябре 1892 г.)
Двадцать второго октября 1905 г. Завтра предстоят в Петербурге торжественные похороны рабочих, убитых за последние дни при столкновениях с войсками и партий между собою. Революционные комитеты напечатали в газетах извещение, в котором приглашают граждан не мешать шествию своим появлением на улицах. Отовсюду приходят телеграммы с известиями о революционных и патриотических манифестациях, кончающихся потоками крови и проявлениями самой зверской злобы. То же может случиться завтра и в Петербурге. Это будет результатом - как и все происходящее "бессмысленных мечтаний" о возможности остановить развитие целого народа и противопоставить близорукое и тупое, лишенное всякого сознания долга самовластие наплыву идей и чувств, питаемых и усиленно раздуваемых сдержанным гневом и готовым на все отчаянием. В последние 20 лет самодержавие, расчленяясь и мельчая по существу, становилось все более безусловным и ожесточающим по форме. Оно давно перестало быть не только Петровским служением народу или Екатерининской скрепкой общим величием единства разноплеменной страны, но оно выпустило из рук даже и охрану простого порядка.
Оно перестало существовать, хотя бы и мнимо, на пользу России, а стало довлеть самому себе, как бездушный идол, который наводит страх только до тех пор, пока смелая нога решительным пинком не повергнет его в прах. С управлением России при ничтожном и упрямом Николае II повторилось то же, что было, по словам записки Панина "Екатерина II", при Петре III. "Сей эпох, - писал он, - более всего примечателен большими приключениями в малых делах и управлением припадочных людей". Когда припомнишь фигуры Дурново, Сипягина, великого князя Алексея, Воронцова, Клейгельса и т. п., зная, что в их руках было направление русской политики, душой овладевает ретроспективный страх. Мне хочется поэтому вспомнить мое представление Александру III по случаю назначения вторично обер-прокурором. В 1891 году, в июне, я был сделан сенатором и на мое место поступил прокурор московской палаты Н. В. Муравьев, очень быстро перебравшийся при помощи великого князя Сергея Александровича в государственные секретари.
Министерство юстиции было в большом затруднении для замещения открывшейся вакансии, так как тогда еще считалось, что кассационный обер-прокурор должен быть не простым усердным судебным чиновником, но и представителем научных знаний и авторитетом. Я принял предложение вернуться в прокуратуру с сохранением звания сенатора, а Манасеин победил недоумевающее упорство Алек сандра III указанием на то, что до меня соединяли оба звания и Фриш и Бер.
21 октября состоялось мое назначение. Это было в 1892 году, в том году, который ознаменовался холерными беспорядками в различных местностях России вследствие полного отсутствия заботы о разъяснении невежественной толпе значения постигшего ее бедствия и условий борьбы с ним. Тогда погибло много самоотверженных врачей и сестер милосердия и был зверски растерзан толпою врач Молчанов во Хвалынске. В начале ноября я должен был представляться государю в Гатчине. В тоскливый, серый день представлявшиеся были привезены в неуклюжий дворец и, вследствие какого-то особого доклада у государя, вынуждены были ожидать приема часом позднее обычного, бродя по неприветливой и полутемной зале под сводами в нижнем этаже дворца. В эту залу вошел длинный, худой и гладко выбритый князь Голицын, прекрасный актер и придворный чтец, носивший странное звание "кавалера государыни императрицы".
Об этом "кавалере" у меня сохранились довольно оригинальные воспоминания. В 1873 году судебный пристав при мировом съезде препроводил мне, как прокурору окружного суда, протокол о том, что гофмейстер князь Голицын, приняв на хранение описанный у него по частному иску рояль, продал его в третьи руки, употребив деньги в свою пользу, и отказывается от всяких объяснений, ссылаясь на нездоровье своей жены. Дело было ясно, и мне оставалось предать его суду за сорвание печати, что грозило весьма серьезным наказанием и, конечно, разрушением его придворно-служебного положения. Совершить такой поступок мог только безумный или не ведающий, что творит.
Я остановился на втором предположении, и мне стало жаль этого, совершенно незнакомого мне человека. Поэтому, не дав хода протоколу, я пригласил князя повесткой от канцелярии к себе в камеру. На другой день он вошел ко мне в кабинет с оскорбленным и вместе надменным видом, заявляя, что до крайности удивлен тем, что его побеспокоили явкой в такое место. Но когда я объяснил ему юридический характер его действий, он изменился в лице и дрожащим голосом сказал: "Помилуйте! Да ведь это гибель всей моей карьеры! Боже мой! Боже мой! Если бы я это знал!" - "Я так и предполагал, - сказал я ему, - и потому оставляю этот протокол без движения в течение недели в ожидании сообщения судебного пристава, что рояль оказался на месте. А вы уже позаботитесь купить рояль обратно и попросить пристава вновь приложить к нему печать". - "Я сделаю все, что возможно, - сказал князь, - Я уверен, что рояль еще не перепродан". Я уполномочил его передать судебному приставу, что, предполагая здесь какое-либо недоразумение, я не дам хода протоколу в течение нескольких дней. Через три дня судебный пристав официальным рапортом просил меня оставить протокол о сорвании печати без движения, так как рояль снова находится на хранении у князя Голицына, которым был временно удален из своего помещения лишь по недоразумению. Пришедший затем узнать о судьбе дела князь Голицын рассыпался в благодарностях за то, что я не только спас его служебное положение, но, быть может, даже и жизнь его жены, которая тяжко больна и едва ли перенесла бы предание ее мужа суду. "Вы видите, князь, - сказал я, - что обижаться на вызов в такое место было преждевременно". Но затем через две недели, встретив меня на улице, он меня не узнал и то же повторил при нескольких последующих встречах.
Через год мне пришлось бывать на празднествах по случаю бракосочетания великой княгини Марии Александровны с герцогом Эдинбургским. На бале у великого князя Николая Николаевича старшего, сыну которого я преподавал энциклопедию юридических наук, хозяин, относившийся ко мне всегда с большой симпатией и приходивший иногда слушать мои лекции, представил меня стоявшему у буфета наследнику престола, с которым мы и вступили в разговор.
Среди окружающих нас на почтительном отдалении я заметил князя Голицына. Когда наследник обратился с разговором к покойному профессору Боткину, я отшел в сторону и встретился с Голицыным. На этот раз он меня узнал и с деланно-приветливой улыбкой меня приветствовал. Но на этот раз я его не узнал, и с тех пор он стал принимать при встречах со мною презрительно-гордый вид. Прошли годы, я уже был председателем гражданского департамента судебной палаты и вдруг получил длинное письмо от князя, умолявшего меня спасти его отсрочкой слушания дела о его несостоятельности. Оказалось, что он продолжал пребывать в прежнем состоянии позлащенной нищеты и делал долги без всякого соображения о том, чем их покрыть.
На этот раз он оказывался несостоятельным на очень небольшую сумму, причем главный кредитор был, сколько мне помнится, седельный мастер под фирмой "Вальтер и Кох". Очевидно, несчастный царедворец не успел извернуться и заткнуть одну из дыр своего эфемерного финансового положения. Я снова должен был вызвать его к себе и разъяснить ему, что не имею права откладывать слушанье дела иначе, как по просьбе истцов или во всяком случае главнейших из них. Он был в совершенном отчаянии, растерянный и жалкий, объясняя, что через две недели он, наверно, будет иметь средства для удовлетворения своих кредиторов. Мне снова стало его жалко, я решился вызвать поверенного наиболее крупных кредиторов Трозинера и, объяснив ему, в чем дело, просил его подать заявление об отсрочке заседания на месяц, на что он любезно согласился, и признание Голицына несостоятельным не свершилось.
С этих пор оголтелый князь стал меня удостаивать уже неизменным приветом. Увидев меня в приемной зале, он любезно предложил мне, в ожидании приема у государя, представиться императрице Марии Федоровне, выразив на лице сострадание и удивление, когда я ему сказал, что еще ни разу у нее не был, несмотря на то что мое служебное положение неоднократно представляло к тому повод. Я видел императрицу, однако, несколько раз не в качестве собеседника, а в роли постороннего наблюдателя на похоронах баронессы Эдиты Раден и на больших придворных балах, причем на последних она принимала участие в танцах с нескрываемым удовольствием, которое очень оживляло ее незначительное лицо с блестящими глазами и густыми курчавыми волосами на лбу, сильно заставлявшими подозревать существование парика.
Приема у императрицы ожидало несколько человек, которых она приглашала по двое и по трое сразу. Для меня, однако, было сделано исключение: я был позван один. Очевидно, она хотела познакомиться с зловредным председателем по делу Засулич поближе. Но, увы. Это знакомство не послужило, по-видимому, к изменению, вероятно, сложившегося у нее предвзятого обо мне мнения. В небольшом и довольно темном кабинете меня встретила, подав мне приветливо красивую руку, женщина, которая могла бы казаться еще молодой, судя по здоровому цвету лица и стройной, тонкой фигуре. Но при ближайшем рассмотрении лицо ее оказалось старым, покрытым множеством тонких и мелких морщин, напоминавших потрескавшийся пергамент.
Одни глаза были полны огня и жизни, составляя главное украшение ее личности и невольно сосредоточивая на себе внимание. Темно-карие, большие и прекрасного рисунка, они смотрели ласковым, но неглубоким взглядом, в котором была известная доля нежной приветливости, но за которой не чувствовалось, однако, доброты. Этот взгляд манил к себе и как будто открывал двери в душу, но с порога этих дверей виднелись пустота, безразличие и довольно вульгарное желание всем понравиться и сыграть на очарование, как играют на бирже на повышение дутых ценностей. Привлекательной наружности не соответствовал голос, грубый и без всяких оттенков, с датским акцентом. Наш разговор, пофранцузски, был краток, но достаточно характерен. Очевидно, Голицын предупредил о поводе моего представления государю, и она начала беседу с вопроса о том, в чем состоит моя вновь принятая на себя обязанность. Получив надлежащее объяснение, Мария Федоровна спросила меня, попадают ли в мои руки дела со всей России или только из одного Петербурга, и, получив утвердительный в первом смысле ответ, поинтересовалась узнать, знаком ли я с делами concernant les desordres causer par cholera [касающихся беспорядков, вызванных холерой (фр.)]. И снова получив утвердительный ответ, воскликнула: "Какой ужас!
В особенности дело этого доктора, которого даже труп был изуродован. Где это было и как его звали?" - "Было в Хвалынске, - отвечал я, - а звали Молчановым". - "Да, да.
Молчанов - как это ужасно! Особливо, если знаешь, что все это политические происки нигилистов! des menees politiques" [политические происки (фр.)] - "Могу уверить, ваше величество, что в печальных делах о холерных беспорядках нет никаких следов политических преступлений". - "Ах, нет! Как же?! - воскликнула с живостью императрица. - Конечно, это дело нигилистов! Мне это сказал Иван Николаевич (министр внутренних дел Дурново)". - "Я изучил целый ряд таких дел и снова утверждаю, что в них нет ни малейшего следа (aucune trace [никакого следа (фр.)]) политических злоумышлении. Иван Николаевич ошибается или введен в заблуждение". - "Нет, как же. Он мне положительно сказал (il a affirme [он утверждал (фр.)]), что все эти беспорядки - дело рук нигилистов. Вы увидите, что это так". И ласковые глаза посмотрели на меня недоброжелательно. Было очевидно, что представительный выездной лакей, попавший в силу злосчастной судьбы в министры внутренних дел и участвовавший вместе со всей бюрократией в умышленном держании народа в глубоком невежестве, желал закрыть вину своей непредусмотрительности отводом по неподсудности на нигилистов. "Я снова позволяю себе утверждать, что взгляд Ивана Николаевича не соответствует истине (il n'est pas dans le vrai [он не соответствует истине (фр.)])". "Чем же вы объясните эти беспорядки?" - недовольным голосом спросила императрица. "Madame, - отвечал я, - cette sauvagerie est le resultat de l'ignorance du peuple - qui n'est pas guide dans sa vie, pleine de souffrance, ni par l'Eglise, ni par l'ecole" [Мадам, эта дикость результат невежества народа, который в своей жизни, полной страданий, не руководится ни церковью, ни школой (фр.).]. - "Может быть (cа se peut [Это возможно (фр.)]])", - сказала императрица, сухо и холодно со мною рассталась, прервав разговор словами: "Иван Николаевич мне сказал".
Через час, во время которого царская фамилия и прибывшие представляться завтракали в разных помещениях, произошло представление. Александр III вышел, грузный и огромный, с чрезвычайно развитым сиденьем, с неприветливым видом. Я был старшим по званию, и ко мне он обратился к первому, посмотрев на меня недобрым взглядом.
"Вы опять заняли прежнее место, - сказал он. - Оно ведь гораздо труднее сенаторского". Зная его нелюбовь к сенату вообще, к которому он относился, по образному выражению Лорис-Меликова, как к касторовому маслу, я попытался заступиться за моих недавних сослуживцев, выразив мнение, что и кассационным сенаторам приходится много трудиться и в особенности много писать, тогда как обер-прокурор действует живым словом, которое не требует механической работы писания. "Да, - сказал государь, - это так, но все-таки ваша должность важнее. Вы ведь должны считать себя ответственным за верное понимание каждого дела, которое находится в вашем рассмотрении, чтобы его причины были объяснены согласно с тем, что было в действительности". "Ага, - подумал я, выслушав этот августейший своеобразный взгляд на кассационную деятельность, - успела пожаловаться датская очаровательница".
"Я именно так и смотрю, ваше величество, стараясь уяснить для себя настоящие причины каждого преступления, чтобы избежать заблуждений, вызываемых ложными слухами, неосновательными догадками или умышленным искажением истины", - отвечал я. Государь сказал что-то неопределенное и, бросив на меня еще раз холодный и неприветливый взгляд, перешел к моему соседу.
Представление Александру III в Гатчине
Впервые опубликовано в т. 2 Собрания сочинений; рукопись хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома (ф. 134 - А. Ф. Кони).
С. 94. "бессмысленные мечтания" - печально знаменитая фраза Николая II, имевшего в виду надежды русского общества на какие-то конституционные ограничения самодержавного правления и созыв народных представителей. Заявлено 17 января 1895 г молодым царем на приеме депутаций земств и городов России.
С. 95. Манасеин Н. А. (1835 - 1895) - директор департамента, а затем министр юстиции (1885 - 1894).
в 1892 году. - В этом голодном году недород и болезнь захватили в основном Поволжье. Власти устранились, и помощь голодающим оказывали в основном земские и филантропические общества, в деятельности которых принимали участие также Л. Толстой, Короленко, Чехов; "холерные беспорядки" доведенных до отчаяния, брошенных начальством крестьян сопровождались, в частности, избиениями поспешивших на помощь медицинских работников.
С. 96. Боткин С. П. (1832 - 1889) - неизвестный врач-терапевт.
С. 97. императрица - до выхода замуж за Александра III датская принцесса Дагмара, в православии Мария Федоровна.


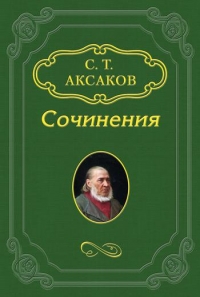

Комментарии к книге «Представление Александру III в Гатчине», Анатолий Фёдорович Кони
Всего 0 комментариев