Моше Бела Мир Жаботинского
Предисловие
Десятки лет прошли с тех пор, как Жаботинский высказал мысли, приведенные в этой книге. С тех пор, как он покинул мир, нашу планету потрясли революции и перевороты, войны и восстания, и все это свершилось с такой силой и такой стремительностью, что никакой смертный не мог их предвидеть. В Восточной и Центральной Европе была уничтожена мощная еврейская община; возникло государство Израиль, героически выстоявшее в борьбе за свое существование, победившее во всех войнах против него, освободившее Иерусалим и землю предков. Мир изменился до неузнаваемости. Но каждый, кто возьмет в руки эту книгу, не сможет не увидеть, что почти все злободневные проблемы нашего времени, служащие предметом дискуссий общественности, занимали и Жаботинского, трактовались им в его трудах и доводились до ведома читателя со всей присущей ему чуткостью, пониманием и убежденностью. Многие его мысли настолько актуальны, что кажется, что они написаны в наше время.
Представленная перед вами книга не претендует на всесторонний охват учения Жаботинского. Она только попытка приоткрыть дверь в богатый мир его творчества, познать его азы. Каждый параграф книги — это только фундамент, на котором можно выстроить здание всего его учения, обращенного к нашему поколению.
Я надеюсь, что эта книга поможет понять влияние Жаботинского на современную еврейскую молодежь, воспитанную в коммунистическом духе, а теперь тяготеющую к Сиону, понять, почему его произведения, обращенные к поколению отцов, взывают к их детям, к нынешней молодежи.
Моше Бела.Авантюризм
«Авантюризм — абсолютно нормальное явление в ненормальных обстоятельствах».
Жаботинский обогатил сионистский лексикон большим количеством новых понятий. Примечательно, что даже языковые штампы в его устах зазвучали по-новому, обретя новый, ранее неизвестный смысл. Например, термин «авантюризм» приобрел совершенно особый оттенок, когда в начале 1932 г. Жаботинский опубликовал статью «По поводу авантюризма». Эта статья породила настоящую революцию в настроениях еврейской молодежи как в странах рассеяния, так и в Эрец Исраэль. В ней прозвучал открытый и дерзкий призыв пренебречь извечным трепетом перед британским всемогуществом и организовать нелегальную репатриацию евреев на их историческую родину — используя любые способы, любые средства, как бы авантюрны и опасны они ни были. Ничего подобного никто никогда не слыхал! И следует сказать правду: в «авантюризме» Жаботинский видел не кратковременный политический маневр, но «чудесное психологическое свойство, о котором я мечтал всю жизнь, которое, по-моему, отражает самое прекрасное и ценное, что есть в молодежи Бейтара... А именно: стремление жить не так, как жили деды,— но рисковать, карабкаться на отвесные кручи...» («Молодежь среднего уровня», «Хазит ха-ам», 13.4.1934). Что же имел в виду Жаботинский, говоря об «авантюризме»? Для того, чтобы его не заподозрили в подталкивании молодежи к легкомысленным действиям, к приключениям ради самих приключений, он счел нужным высказаться подробнее:
Богатый язык — идиш, зачастую слишком богатый. Иногда из одного слова чужого языка он делает два с тремя значениями. Пойди угадай-ка, что действительно имеют в виду, когда его произносят. Например: «абэнтойер» («авантюрист») и «авантура». «Авантура» — говорят в Польше и обозначают этим словом ссору, публичный скандал. Слово «абэнтойер» я тоже слышал, и не где-нибудь, а в Бердичеве. Которое же из двух этих слов соответствует тому, что я теперь имею в виду? А имею в виду я нечто положительное: проповедь в честь «авантюризма», защиту того, в чем все положительные люди видят нечто отвратительное, о чем лишь юнцы грезят в своих снах и примеры чему можно найти в романах Жюля Верна или Александра Дюма-отца. Когда-то нечто подобное можно было увидеть в кино — но с тех пор, как кино начало говорить, оно исчезло с экранов.
Значит, не остается ничего другого, как описать характерные признаки этого явления, истинного названия которого никто не знает. Во-первых, это дело немногих людей, и даже лучше всего — только одного, на его собственный страх и риск; это дело невозможно организовать в массовой форме — во всяком случае, возможно не очень часто. Во-вторых, это очень рискованное дело, которое имеет гораздо больше шансов провалиться, чем закончиться успешно. Вот поэтому все положительные люди считают его всегда или безумием, или легкомыслием. А я — защищаю и оправдываю его.
Шансы на успех... Серьезные люди полагают, что их подход — спокойный, трезвый расчет всех «за» и «против», подход политика — имеет такие шансы. Но что говорит опыт? «Разбойник» он, этот опыт, наглый хулиган! Как часто он выставляет на позор все расчеты политиков! Куда чаще, чем легкомыслие авантюристов. Достаточно привести пример событий последних лет: в сионизме господствовал безраздельно трезвый политический подход: избегание малейшего риска (якобы), даже упоминания о чем бы то ни было авантюрном... И вот результат: «Белая книга» Пасфильда[*]! А с другой стороны — мы помним время, когда положительные люди называли Герцля «авантюристом»; и еще задолго до Герцля тем же почетным прозвищем называли некоторых других людей — например, Гарибальди, Вашингтона, Колумба... Нет сомнения, что тот еврей, который грозил донести на Моше Рабейну за убийство египетского полицейского, кричал на него по-египетски: «Авантюрист!» Трудно, очень трудно точно установить, где начинается авантюра и где кончается трезвый политический расчет. Шиллер сказал: «На стадии подготовки — это нечто преступно-дерзкое, после свершения — бессмертное деяние». Сенека (тоже отнюдь не глупец) выразил то же самое так: «Любое начало представляется авантюрой — до момента свершения».
Столь расплывчаты, столь неясны границы этого понятия, что я ни в малейшей мере не беру на себя обязательства оправдывать и защищать авантюризм всегда. Наоборот, я обязан сохранить за собой право в подходящей ситуации ругать кого-нибудь (в точности так же, как тот египетский ассимилянт честил Моше Рабейну авантюристом). Немало раз я так уже делал и, наверное, сделаю еще не раз. Все зависит от множества различных обстоятельств: от обстановки, от среды, от «конъюнктуры» — и от того, какова сама «авантюра». Бывает плохой авантюризм, и бывает авантюризм хороший. В настоящий момент я считаю, что следует защищать авантюризм — может быть, потому, что он неизбежен. Даже если мы все хором закричим: «Ша!» — это нисколько нам не поможет. Каждый из нас отлично знает, что никакого «ша» у нас не получится — именно потому, что мы, евреи, все-таки пока еще народ живой, а не дохлый труп. И сионизм пока еще вовсе не умер, а наоборот — он стал еще более ретивым, слава Богу, ретивым и упрямым больше, чем когда бы то ни было. Поэтому следует хорошенько подумать и проверить, не будет ли полезно дать право на жизнь авантюризму — как явлению абсолютно нормальному в ненормальных обстоятельствах.
«По поводу авантюризма», «Морген-журнал» («Утренний журнал», идиш), 6.3.1932.Жаботинский действительно исполнил свое обещание — не поддаваться авантюристическим настроениям без всякой проверки, но подвергать тщательному изучению каждое отдельное проявление авантюризма. Обнаружив в своем собственном лагере то, что показалось ему искажением его идей, Жаботинский не замедлил поднять тревогу и разъяснить своим последователям настоящее место авантюризма в кругу прочих средств достижения цели. Весьма ценя «Союз бунтарей», знаменосцем которого был д-р Аба Ахимеир, Жаботинский, тем не менее, предостерегал их:
Без «авантюризма» не обойдется ни одно национальное движение, в том числе и еврейское; в публицистической моей деятельности еще нередко буду содействовать внедрению и углублению соответствующих настроений — иногда нажимая на ускоритель, а иногда на тормоз, смотря по надобности. Готов я повторить и комплимент: люди, которые не боятся пострадать за хорошее дело, являются в этом отношении нашими наставниками. Но должен предостеречь и этих наставников, и их последователей, и вообще многих молодых друзей: доселе, и стоп, а не дальше. Из того, что Ивана или Петра следует признать учителем по жертвоспособности, еще не вытекает, что его признали учителем по программе и идеологии. Напротив: ту идеологию санкюлотства и пр. я бесповоротно и твердо отвергаю: никуда не годится; и из того, что иногда может понадобиться и «авантюризм», совершенно не следует, что «авантюризм» есть все или самое главное. Ничего подобного. И не все, и не самое главное.
Должен дать молодым друзьям моим один философский совет: не оперируйте «монизмом» в розницу. Как имя Божие, так и большие возвышенные понятия нельзя поминать всуе. Когда перед поколением, или несколькими поколениями подряд, стоит всепоглощающая историческая задача — создать государство,— тогда мы требуем от этих поколений: отбросьте все другие мечты, служите только одному идеалу. Это есть монизм исторический, монизм эпохи и цели. Но нет и не может быть монизма карманного, монизма средств и методов, монизма на неделю или на полтора года. «Только крамола, все остальное не нужно!» — Это просто тот же старый наш знакомец, обывательский импрессионизм, слабонервный и подслеповатый.
Деятельность ревизионистского движения должна распространяться, и будет распространяться, по самым разнообразным направлениям; и должна носить, и поэтому будет носить, самые разнообразные формы. Иногда купеческие, иногда дипломатические, иногда «авантюристские», иногда благолепные, иногда шумные, иногда мирные, иногда воинственные; иногда в одном углу поля — мирные, а в тот же час в другом углу — совсем не мирные: как понадобится и когда понадобится. Ни о каком «монизме» средств и методов и речи быть не может, и не будет.
«Смысл авантюризма», «Рассвет», 1932.Эвакуация
«Цель и смысл эвакуации в том, что она — единственное средство от страшной болезни, поразившей уже чуть ли не все человечество, средство радикальное».
«Эвакуация» — термин, который едва ли был известен в лексике сионистского движения — любых его ответвлений и партий. Вряд ли он употреблялся и на сионистских конгрессах. Жаботинский ввел это понятие вовсе не для «обогащения» сионистского лексикона. Под этим лозунгом он вел все последнее десятилетие своей жизни яростную политическую борьбу, наполненную любовью и ненавистью, гневом и страхом. Страхом за своих недальновидных современников. Когда же в первый раз он выдвинул этот лозунг — «Эвакуация!» — требование увезти, спасти от кровавой бойни евреев Европы? Биограф Жаботинского отмечает, что «в июне 1936 года... Жаботинский выдвинул идею эвакуации как единственного решения «еврейской проблемы»... На самом же деле это слово, и именно в таком значении, он употребил впервые пятью годами раньше:
Нам нужна Палестина, как вместилище для миллионов еврейских поселенцев; все наши политические требования вытекают из этого сознания — что нам надо постепенно подготовить оба берега Иордана к восприятию и поглощению такого наплыва, и для этого нам нужны большие права и верное содействие государственной власти. Какой власти? Власти мандатария, пока мы там в меньшинстве; власти еврейской, когда мы станем там большинством. Еврейское большинство еще не есть конечная цель сионизма: его нам дадут первые три четверти миллиона, но это будет только первый шаг: полная «геула» останется впереди, и она-то и будет задачей и миссией еврейского государства.
Вот та постановка сионистской проблемы, которая (и только такая) может с уверенностью рассчитывать на серьезное внимание, на действенную помощь народов и правительств. Несколько лет тому назад, откликаясь на треск рушащихся наших «позиций» в диаспоре (треск несравненно более слабый, чем нынешний грохот), я назвал это явление: «Попутная буря». Я писал тогда, что экономический развал еврейства, еще вдесятеро осложняемый невозможностью эмиграции, мучителен не только для нас, но и для государств, внутри которых он совершается; и что отсюда вытекает наша тактика — связать сионизм с вопросом радикальной, хотя бы и постепенной «эвакуации», т. е. заинтересовать в сионизме ряд держав — их же собственным интересом — и для такого сионизма требовать общего дружного натиска на Лигу Наций, на Англию, на общественное мнение мира.
«Эмиграция», «Рассвет», 1931.Невозможно полностью оценить эти слова, если не вспомнить, что они были написаны в 1931 году, когда Гитлер еще только рвался к власти и никто еще всерьез не верил, что ему удастся ее захватить и придет день, когда он осуществит свои чудовищные угрозы в адрес евреев. Среди еврейской общественности в то время царили умиротворенность и инертность; сионистское движение, как и в начале века, руководствовалось пасторальными лозунгами, вроде «еще одна козочка, еще один дунам», и почти вся политическая активность лидеров сионизма сводилась к «выбиванию» у британских властей очередных нескольких десятков разрешений на въезд в Эрец Исраэль для «пионеров»... Каким же диссонансом всему этому звучало требование Жаботинского поставить на повестку дня вопрос о многомиллионной алие при тогдашней статистике еврейской иммиграции: в 1927 г.— 3540 евреев, в 1928—2001, в 1929—5429...
И если в 1931 году Жаботинский еще говорил о постепенной эвакуации, то уже через несколько месяцев, когда угроза европейскому еврейству катастрофически выросла, он все решительней настаивал:
В сознании большинства народов представление о евреях прочно увязывается с понятием «странник», «перекати-поле» и т. д. В последнее время такое представление приобрело самую что ни на есть реальную основу. Огромные массы евреев нуждаются в срочной эмиграции. В ближайшее время миллионы евреев будут вынуждены оставить места своего прежнего жительства, где им угрожает реальная опасность, и создать свою нацию, свое государство в Эрец Исраэль.
Как ревизионист я должен отметить, что реальность вынуждает нас пересмотреть свои взгляды на само понятие еврейского государства.
Мы думали, что еврейское государство будет только началом осуществления сионизма. Но теперь и такое представление устарело. Одного миллиона евреев достаточно для достижения еврейского большинства в Эрец Исраэль. Но один миллион спасшихся — это не решение еврейского вопроса. Ныне стала насущной необходимость еврейской эмиграции в гораздо более крупных масштабах.
Страшная реальность вынуждает нас идти одним единственно верным путем — массовая организованная алия в Эрец Исраэль — по обеим сторонам Иордана, в еврейское государство. Мы возвращаемся к «первородному» сионизму, сионизму Герцля, который — не только движение за разрешение духовных проблем нации, но и спасение — физическое спасение миллионов людей, идея почти мессианская в простейшем понимании этого слова.
Речь на V конференции сионистов-ревизионистов в Вене, август 1932 г.Прошло несколько месяцев, и германский народ по собственному волеизъявлению, путем абсолютно демократических выборов вручил бразды правления Гитлеру. Гитлер немедленно взялся за осуществление своей мечты о «Великой Германии», простирающейся на землях почти всей Европы,— месте расселения миллионов евреев. Сразу же начались преследования: евреев ограничивали в правах, всячески притесняли, изгоняли из их домов, и их немецкие соседи с радостью присваивали еврейское имущество. И вряд ли необходим был пример германцев для того, чтобы их восточноевропейские соседи «научились» поступать так же. Волна антисемитизма прокатилась по всей Европе. На учредительном съезде Нового сионистского союза (сентябрь 1935 г.) Жаботинский сказал: «Мы стоим на краю бездны, перед лицом катастрофы, надвигающейся на всемирное гетто».
Однако признаки надвигающейся катастрофы никак не изменили взглядов ни еврейских обывателей, ни их лидеров — как сионистского, так и не сионистского толка. Несионисты тешились иллюзией, что еще удастся отогнать «зверя», что он минует хотя бы их дом. Сионисты провозглашали необходимость алии для «избранных» пионеров, которые построят в Эрец Исраэль «исправленное общество». Многие продолжали рассуждать о «духовном центре» в Эрец Исраэль, который будет излучать нечто для евреев всего мира. Звучали также бодрые и оптимистические высказывания, связанные с подъемом экономики в Эрец Исраэль и некоторым ростом численности иммигрантов из Германии. В то время, в начале 1936 г., Жаботинский взывал:
Нас утешают тем, что в последние годы увеличилась иммиграция в Эрец Исраэль. Разумеется, это не может нас огорчать. Однако гораздо важнее другие цифры.
Ибо кроме числа иммигрантов есть число нуждающихся в эмиграции, и второе многотысячекратно превосходит первое. Лет 15 назад, когда приезжали две-три тысячи в год, они составляли 50, ну — 25 или даже 10 процентов из общего числа тех, кто хотел бы приехать. Ныне тысячи прибывают ежемесячно. Но это крохотная горстка по сравнению с теми, для кого вопрос приезда в Эрец Исраэль — вопрос жизни или смерти. Наш народ стоит сейчас перед проблемой «исхода». Территория современных Египтов все увеличивается. И где остановятся эти все разрастающиеся границы — я не знаю; одно очевидно: в течение жизни двух ближайших поколений будет жизненно необходимо «вывести» из галута многие миллионы, и не существует для этого другой реальной возможности, кроме как привести их в пределы Эрец Исраэль. Вот наша проблема, для этой цели следует использовать декларацию Бальфура, все влияние сионистского движения, все наши силы, привлечь к этому всю мощь еврейского капитала и гроши мелких голодных жертвователей.
Народ в великой беде обязан выработать великий план собственного спасения и бороться за осуществление этого плана. План реальный и детальный, учитывающий все факторы в их развитии на годы вперед, в полном соответствии нынешней моде — в ближайшие десять лет расселить в Эрец Исраэль миллион, два миллиона евреев или даже больше. В их числе столько-то и таким-то путем прибывают евреи из Польши, столько-то — из Бессарабии, из стран Прибалтики, столько-то — из Австрии и Германии. Для этого потребуются такие-то и такие-то суммы. Столько-то даст частный капитал, столько-то евреи смогут привезти с собой, столько-то следует привлечь в виде займов. Для обеспечения нормального развития поселенчества понадобится провести такие-то реформы в сельском хозяйстве — через 10 лет появится новое государство, которое уже само будет решать все вопросы, связанные с «исходом», и окончательно покончит с галутом.
Первый шаг уже будет сделан.
«Из бездны...», «ха-Ярден» («Иордан»), 17.4.1936.«Покончить с галутом» — вот лозунг, который Жаботинский выдвинул, тогда и непрестанно развивал и отстаивал на аудиенциях с королями и главами государств, перед мировым общественным мнением, перед собственным народом — со страниц газет, с трибун собраний, при личных встречах. Его формула, жестокая, но правдивая, звучит как последнее предупреждение: «Евреи! Покончите с галутом, или галут покончит с вами!».
Не думайте, что термин «эвакуация» появился случайно. Долго, очень долго я искал это слово. Тысячу и один раз я взвешивал и проверял — и так и не нашел более подходящего термина. Сначала я думал о слове «исход», второй Исход из Египта — но сегодня это не годится. Ведь мы намереваемся заниматься политикой, представительствовать перед народами мира, требовать у государств поддержки. Поэтому не следует задевать их самолюбие и напоминать им о фараоне и казнях египетских. Кроме того, слово «исход» ассоциируется у нас самих с картиной огромных масс, бегущих, как дикое стадо.
«Эвакуация» — другое дело; в шестнадцать лет я написал стихи; я забыл их поэтическую форму, но содержание я помню до сих пор: галут — это когда другие делают за нас нашу историю. Сионизм — это когда евреи начинают сами созидать свою историю. И через всю мою политическую деятельность красной нитью проходит эта идея: еврейский народ — сам творец своей истории.
Что стояло перед моим мысленным взором, когда я произносил слово «эвакуация»? Я видел полководца, который смотрит с высокого холма на сражение и замечает, что одна из его дивизий попала под уничтожающий огонь противника. И вот полководец (именно он, а не противник, который знай себе бьет) выводит из-под удара попавший в беду отряд. Другой пример: где-нибудь в Швейцарии проснулся вулкан. У его подножья деревня, она в опасности. И правительство для блага своей страны решает выселить эту деревню.
Так же и мы, провозглашая план эвакуации, делаем это как суверенная нация. Ибо мы этого хотим, и хотим по праву. Ибо мы хотим спасти свой народ от надвигающейся огненной лавы. И, господа, найдется ли среди вас кто-либо, кто станет отрицать, что лава эта горяча, что она надвигается и что мы должны искать средств к спасению?
Речь о плане эвакуации, Варшава, октябрь 1936 г.С такой, буквально сверхчеловеческой, терпимостью обращался Жаботинский к евреям. Пытался их убедить, что другие народы будут даже рады уходу евреев, что искать спасение необходимо. Он приводит такую притчу:
Товия и Зигмунд (поляк) долгое время жили в одной квартире. И случилось, что соседи поссорились. И хотя в конце концов их рассудили и даже, вроде бы, помирили, но Товия уже решил переехать в другое место и жить отдельно. Решил сам, по своей доброе воле. Почему решил переехать именно Товия, а не Зигмунд? Тому было множество веских причин, о которых здесь долго рассказывать, но можно догадаться. И раз переезжать именно Товии, то, понятно, ему и паковаться и, самое главное,— подыскивать новое жилье. Самому. А то, если Зигмунд примет участие в сборах Товии, то это ведь может быть истолковано как горячее желание от него избавиться...
Нечего сказать — драма. Однако самым интересным в ней является то, что участие Зигмунда в сборах Товии может быть для последнего болезненным и обидным только в случае, если он едет на очередную съемную квартиру, а не домой. Если же Товия взял и купил собственный дом, о котором давно мечтал, то любая помощь Зигмунда в таком переезде выглядит просто дружеской помощью...
Из кн. «Фронт борьбы еврейского народа», 1940.Жаботинский убеждал евреев, что эвакуация будет благом для всех «заинтересованных сторон»:
Смысл эвакуации в том, что она послужит средством от заразной болезни, которая, не будучи излеченной радикально, принесет человечеству все новые язвы, заставит его погрязнуть в новых невиданных мерзостях. Эвакуация — единственное и радикальное средство. И средство весьма гуманное, разумеется, при условии, что пунктом назначения будет еврейская территория. Средство, которое огромное большинство на всем земном шаре примет с пониманием. Это — идеал, освященный Библией, в который сионизм влил новые силы, идеал, осуществление которого благословят все народы — как близкие географически к району катастрофы, так и отдаленные от него.
Там же.Жаботинский всячески подчеркивал, что будет вполне оправданным и закономерным, если исход евреев станет событием, широко освещаемым прессой, праздничным для всех. «Это должен быть исход под развернутыми знаменами». Он понимал, что такую массовую эвакуацию невозможно будет осуществить, если она не станет крупным международным событием, пользующимся абсолютной поддержкой правительств стран-участниц. Сравнительно нетрудно было убедить правительства — большинству из них порядком надоел «еврейский вопрос». Другое дело — сами евреи. На Жаботинского ополчились все — редакторы и адвокаты, партийные функционеры и бизнесмены. Они не постеснялись взвалить на него обвинение в том, что он солидаризуется с ярыми антисемитами, стремящимися изгнать евреев с насиженных веками мест, лишить их гражданских прав, которых они веками же добивались. Писатель Шалом Аш заявил: «Надо быть совершенно бесчувственным, с каменным сердцем, чтобы произнести слова, которые он произнес, и предложить то, что он предложил польскому еврейству... Горе народу, у которого такие лидеры!» (На склоне лет, после Катастрофы, Шалом Аш раскаялся в своих выступлениях против Жаботинского.) Особенно усердствовали в шельмовании Жаботинского и его плана эвакуации журналисты Эрец Исраэль.
Жаботинский не отступил. Он чувствовал, что земля горит под ногами миллионов его братьев. Его поддерживали молодые, с восторгом принявшие его выступления в городах и местечках Восточной Европы. Но страшная минута приближалась неумолимо и стремительно. Уже на краю разверзшейся бездны, в мае 1939 года Жаботинский взывал к евреям:
Кто посмеет сказать, что мой анализ неправилен? Кто скажет, что реальность опровергла меня? Находятся еще люди, мечтающие о другой реальности, рассуждающие еще о какой-то социальной революции. Не будьте слепцами! ...История идет другим путем — перешагивая через всяческие социальные революции... Мир намерен выжить, и он выживет и, конечно, найдет пути к самосовершенствованию. И только... только кому-то придется прежде улечься в землю — вы догадываетесь, кому?..
...Но и это, друзья мои, еще не самое худшее. Даже отчаяние — это еще какая ни есть, но все же — реакция. Самое страшное — это то, что я вижу у многих и многих евреев Восточной Европы: равнодушие, этакий фатализм. Люди ведут себя так, словно они приговорены. Такой покорности судьбе еще не знала история, даже в романах я ничего подобного пока не встречал. Как будто бы усадили в телегу небольшую группу — каких-нибудь 12 миллионов — и пустили телегу к обрыву. Телега себе едет к обрыву, а люди в ней — кто плачет, кто курит, кто газету читает, кто молится, и никому в голову не приходит взяться за вожжи и повернуть телегу. Как будто под наркозом люди.
Я пришел к вам с последней попыткой. Я зову вас. Проснитесь! Попробуйте остановить телегу, попробуйте спрыгнуть с нее, как-то заклинить ее колеса, не идите как стадо на бойню! Даже овцы, когда волк задерет вторую-третью из стада, пытаются убежать. А тут, Господи, да тут какое-то огромное кладбище!
Речь на митинге в Варшаве, май 1939 г.Огромное кладбище — от Черного до Балтийского моря — увы, это стало реальностью для миллионов евреев, не захотевших услышать предостережений и призывов Жаботинского...
Нацистский режим постепенно лишает евреев тех государственных должностей, которые были получены ими до аннексии (большинство из них весьма незначительные), и передает эти должности полякам. Еврейские управления, возможно, будут высланы в Люблин или в какую-нибудь другую дыру — здесь важно не место, а статистика, ибо два миллиона ртов скоро будут «вытеснены» из польского хозяйства и три или четыре тысячи еврейских должностей перейдут к полякам.
Если война продлится год или два, вполне возможно, что эти два миллиона пригодятся, и в таком случае не останется больше ни одной проблемы. Но если союзники победят и Польша станет демократической страной с узаконенным равноправием, то два миллиона вернутся из «Люблина» и прочего захолустья и им потребуется от 300 до 400 тысяч рабочих мест, отданных полякам год или два назад. Польша — бедная страна, и после такой войны она будет еще беднее. Представьте-ка подобное в Америке (в соответствующем соотношении): если бы в США прибыли десять-двенадцать миллионов новых иммигрантов в» течение года и потребовали (по праву!) два с половиной миллиона городских рабочих мест для прокормления всех этих ртов.
Было бы странно, если бы человек с Вашим интеллектом не понимал беспомощности демократического законодательства и равноправия в данной ситуации. Прошло время первобытных либералов, которые верили, что с голодом можно бороться посредством введения всеобщего равноправия; люди Вашего круга судили о жизни с просветительской точки зрения, и это требовало от них большей отдачи. Плохо будет, если евреи не поймут, что, когда Польша удостоится восстановления и демократии, потребуется несравненно больше, чтобы обеспечить существование всех изгнанных евреев. И если соединятся евреи, изгнанные и бегущие из других стран, находящихся под властью гестапо,— будет не два, а около трех миллионов; а если война распространится на Румынию и Венгрию — то все пять миллионов.
Все это не связано с «сионизмом» или «ревизионизмом» (кроме работы, которую мы всегда проводили для предотвращения беды, вроде этой); я могу представить, что каждый ассимилянт знает о возможности в данном случае всеобщей ассимиляции, и остается только одно лекарство: разовый исход.
Письмо на англ. яз. редактору «Форвертс» («Вперед», идиш), 10.4.1940.Духовная эвакуация
«Исходя из сферы духовного влияния неевреев».
Конечно, основное значение термина «эвакуация» у Жаботинского — это необходимость физического спасения миллионов евреев Восточной и Центральной Европы. Но Жаботинский не мог остаться равнодушным и к другому проявлению безразличия евреев к собственной судьбе — теперь уже в Западной Европе, в местах, которые считались традиционно «спокойными» у евреев.
Здесь среди евреев повсеместно торжествовала примиренческая идеология, утверждавшая, что полному «слиянию» евреев с неевреями мешают лишь дедовские суеверия, время которых безвозвратно прошло. Чтобы сокрушить эту идеологию, Жаботинский дал урок истории сионизма, напомнив о временах борьбы сионистов с пророками ассимиляции:
В начале девяностых годов прошлого века hebrajski писатель Ахад-Гаам написал статью «Рабство в свободе», где указал на то, что равноправие, которым пользуются (или тогда пользовались) евреи западных стран, далеко не освободило их от специфической трагедии диаспоры: что они сами эту трагедию чувствуют, сами ее боятся, и сами как бы ощущают себя «рабами». Несколько позже этот же взгляд углубил и популяризировал Макс Нордау в своих речах на первых трех сионистских конгрессах. Он разработал понятие «Judennot» («еврейское горе»). Оно заключается не в том, будто каждого еврея непременно всюду бьют и угнетают. Несомненно есть страны, где еврею живется сносно или даже хорошо. Но если даже там сравнить внутреннее самочувствие у еврея с самочувствием у его соседа того же класса и круга,— то всегда окажется, что у еврея есть какой-то «surplus» горечи, или боли, или обиды, или страха, или просто malaise. Этот вечный излишек и есть Judennot. Иногда он вырастает до размеров массовой катастрофы; иногда он едва заметен снаружи — но он всегда есть, и в нем и заключается проклятие диаспоры; и ничем тут не поможет ни равноправие, ни вариации в температуре общественного антисемитизма.
Очень интересно подошел к этому вопросу менее известный Б. Ворохов — большой талант, к сожалению, рано умерший. По его теории, борьба за равноправие или борьба против активного антисемитизма и необходима, и далеко не безнадежна, тут можно и нужно добиться больших конкретных результатов; но все это только «нормализация галута» (Jalut, ozy Jolus to po hebrajsku «изгнание»; буду употреблять это слово и слово «диаспора» как синонимы). Бесправие, погромы, общественный остракизм евреев — это все ничуть не обязательные черты галута, это только обострения, припадки, аномалии; их можно и нужно устранить — все равно как человек с хроническим бронхитом не обязательно должен схватить воспаление легких. «Нормальный» галут — это и есть диаспора с равноправием, без погромов и без травли: но самая нормальная диаспора не может заменить своего национального chezsei.
Еврейское государство, рукопись, 1936.Постоянно беспокоясь о судьбах еврейской бедноты, еврейских «униженных и оскорбленных», Жаботинский не мог не беспокоиться и о еврейской интеллектуальной элите — писателях, поэтах, музыкантах, ученых, политиках. Они достигли больших высот в своих областях, прославили страны своего проживания. Но сами эти страны не забыли им их происхождения. Эти люди заплатили полной мерой за свой «смертный грех» — еврейство. Однако даже те, с кого не «взыскали по счету», по мнению Жаботинского, были ущемлены. Какой бы ни была богатой их духовная жизнь, она не могла быть полноценной все из-за того же галутно-еврейского комплекса. Когда еврей Леон Блюм стал премьер-министром Франции (через каких-нибудь 6 лет после этого он угодит в нацистский концлагерь) и был немедленно подвергнут нападкам как «слева», так и «справа»,— мишенью для «критических стрел» было его происхождение. Жаботинский выступил с идеей о необходимости «духовной эвакуации»:
У слова «исход» может быть несколько значений. В применении к одним странам смысл этого слова предельно прост, «географичен»: это массовая эмиграция. Сегодняшняя Франция не из этого ряда. Но существует еще и понятие «духовного исхода»: выхода за рамки нееврейского духовного влияния —-литературы, театра, политики. И совершать такой исход следует, разумеется, по собственной инициативе, не дожидаясь «особого приглашения» в виде пинка.
Идея не нова. С момента, когда разыгралась война с ассимиляторами, мы взывали к еврейской интеллигенции: воротитесь от чужих пастбищ к родным виноградникам! Мы всегда настаивали на том, что гораздо лучше и почетнее скромная трапеза у себя дома, чем самое роскошное кресло «почетного прихлебателя» на чужом пиру. Но главный довод был позитивным: мы должны создать нашу культуру — вот достойная нас задача! Впрочем, и негативный довод звучал не менее веско: что же будет в «конце концов», если все еврейские таланты разбегутся по чужим кормушкам? Трагедия немецкого еврейства — вот развернутый ответ на вопрос: каково воздаяние еврейскому народу и отдельному еврею за его ум, талант, мастерство, гениальность, принесенные в дар чужому народу? За 10 лет до прихода Гитлера к власти француз, англичанин — да и сам немец! — знакомился с современной немецкой литературой по еврейским именам: Шницер, Васерман, Верфель, Цвейг, Фейхтвангер и т. д.— я могу припомнить лишь два исключения (того же уровня) — братьев Манн. Ну, может быть, не будучи специалистом в немецкой литературе, я и ошибаюсь. Может быть, эти исключения — гении нееврейского происхождения — и достигнут 50 процентов. Неважно. Важно, что арийцы усмотрели опасность. И то же самое в журналистике, юриспруденции и т. д. И разве виноват Васерман, что он хорошо писал? Конечно, не виноват, и Леон Блюм не виноват.
Никто не виноват, как не виновата была Сусанна в том, что была красива, ан поди ж ты, неевреи обижаются, а евреи расплачиваются.
Конечно же, проблема Леона Блюма еще и в том, что он ко всему и социалист. Но это не главное, не в этом корень зла. Эпизод с Блюмом — лишь отрывок из современной трагедии «Похождения еврейского народа в райском саду Вавилона». Естественным продолжением должен стать «Духовный исход по собственному желанию». Ибо дальше — «То же, но по желанию других».
«Что же в конце?», «ха-Ярден», 17.7.1936.Поле нашего творчества внутри еврейства. Мы служим еврейскому народу и не желаем другого служения. Здесь мы не слепы, здесь не ведем народ в безвестную темноту, на добрую волю союзников, которых не знаем, за которых не вправе ручаться. Здесь мы даем народу цель и говорим: у тебя нет союзников — или сам за себя, или нет спасения. Никто на свете не поддержит твоей борьбы за твою свободу. Верь только в себя, сосчитай свои силы, измерь свою волю, и тогда — или иди за нами, или да свершится над тобой судьба побежденных.
«Еврейская крамола», 1906, «Фельетоны».Нация и национализм
«Сохранение индивидуального характера нации — необходимое условие прогресса».
Слово «национализм» не слишком популярно в наши дни. Однако не следует считать, что националистические чувства перестали существовать, что они не усиливаются во времена опасности или военных побед. В повседневной жизни национальная гордость бурно проявляется на спортивной арене, например, когда проигрыш матча становится чуть ли не поводом для объявления войны... Однако подчеркивание национальных отличий и особенностей порождает в среде интеллигенции совсем иные чувства: неловкости, смущения, а то и стыда и вины. Так реагируют совесть и разум множества порядочных людей на сам факт существования инстинкта национализма, присущего человеку. Поэтому их мысли и поступки направлены, сознательно или бессознательно, на уничтожение национальных отличий и на дальнейшее слияние народов.
Что же касается Жаботинского, то он был свободен от подобных «угрызений совести». Широко известна его декларация: «Вначале сотворил Бог нацию» (упоминание в «Повести моих дней»). Жаботинский полагал, что именно существование наций, их культуры и неповторимого характера — признак прогресса. В ходе ожесточенной полемики с одним из оппонентов Жаботинский утверждал:
Наша точка зрения та, что сохранение национальных индивидуальностей необходимо в интересах прогресса, что убыль хотя бы одной национальной разновидности сама по себе является траурным событием для всего человечества, и что никакой жертвы не жалко для предотвращения этой убыли. Вы же, м. г. (если только вы присоединяетесь к вышеприведенному возражению), вы находите, очевидно, что сохранение самобытности само по себе совсем не важно, а важно только то, чтобы никто не угнетал народности и не навязывал ей насильно чужую маску; но если вам удастся внушить этой народности такой шаг, последствием которого явится безболезненное и добровольное принятие чужой маски, то вы за это не в ответе и тужить не станете. Национальная индивидуальность вам не дорога, не свята; существует она? прекрасно; исчезла? тоже прекрасно. Дорог и свят вам только принцип свободы и справедливости; раз данное племя уцепилось за свою самобытность, словно за святыню, то вы не хотите, чтобы эту святыню вырвали у него насильно — хотя сами в ней ровно ничего святого не видите и со своей стороны ровно ничего не имеете против ее полного упразднения — лишь бы только без насилия и гнета. Это все очень похвальные чувства, милостивый государь,— эта любовь к справедливости и свободе и это уважение к чужой святыне. Но не именуйте же себя националистами, ибо националистами называются те, которые желают сохранения племенной самобытности на веки и во что бы то ни стало. Не называйте себя националистами. Перед тем, как позвать под ваше знамя нашу молодежь, стоящую на распутьи, спросите себя вдумчиво — не грозит ли ваша дорога незаметно и безбольно привести наше племя, столько перенесшее за свою самобытность, к последнему костру, в огне которого без следа испарится эта самобытность, непоправимо и неотвратимо? Задайте себе этот вопрос, и загляните ради него глубоко и подробно в чертежи будущего, как они вам рисуются, ибо, повторяю, кто зовет людей за собою, не имеет права не знать и не ручаться за каждую извилину своего пути. И если вы, действительно, сознаете, что ваши призывы только ведут нас по новой удобной тропе к той же старой могиле ассимиляции, то не молчите об этом. Заявите громко. Назовите себя громко партией безболезненного самоубийства, партией почетной капитуляции в рассрочку; но не именуйте себя националистами, чтобы за вами ошибкой не пошли те, которые желают нашему народу жизни вечной и не хотят его гибели, ни насильственной, ни безболезненной,— чтобы не пошли за вами, и потом, когда поздно будет вернуться, не послали вам горького упрека за обман.
«Письмо об автономизме», «Еврейская жизнь», 1904.Какую унылую картину представлял бы собой мир, если бы осуществился идеал космополитизма и отдельные человеческие общества мало-помалу потеряли свои национальные особенности! В одной из ранних сионистских статей Жаботинский поднял голос против однообразия и атрофии культуры человечества:
Я, конечно, не сомневаюсь в том, что будущее приведет к самому тесному сближению между различными странами и народностями, как не сомневаюсь в том, что когда-нибудь и даже скоро люди по взаимному уговору признают какой-нибудь язык международным. Но не «универсальным». Это будет язык для международных сношений, и только. Внутренняя жизнь каждой нации будет по-прежнему выражаться при посредстве ее национального языка, и язык этот будет самобытно развиваться и богатеть по мере духовного развития нации. И точно так же, как с национальным языком, будет с национальной психикой. Не смешиваясь браками с чужой расой, да еще к тому живя постоянно в одной почвенно-климатической среде, впитывая из рода в род ее влияние, каждая народность естественно сохранит и будет самобытно развивать и углублять свою индивидуальную психику, внося национальный оттенок во все проявления своего творчества. Не к слиянию национальностей ведет естественный процесс, а к обеспечению за каждой из них полной самобытности. Исчезнет война, упразднится таможня, но никогда не сгладятся индивидуальные различия, врожденные расе и вечно питаемые различиями в почве и климате, и нисколько не препятствующие ни дружному прогрессу, ни взаимному уважению наций.
Но мало того, что сохранение национальных особенностей представляется, со строго-позитивной точки зрения, совершенно неизбежным: следует помнить и о том, что оно также в высшей степени желательно. Мы называем богатой и счастливой природу той страны, где растет и пальма и кедр, и вишня и дуб, где есть и горы и леса, и озера; напротив, бедною и скупою считаем мы природу тех стран, где растительность однообразна и ландшафт один и тот же всюду. Никогда никто не видел идеала в однообразии; напротив, мы и инстинктивно, и сознательно всегда предпочитаем всевозможное многообразие разновидностей, гармонически, но самобытно живущих и развивающихся друг подле друга. Человек не может быть исключением из этого идеала. Если бы национальных различий не существовало, то в интересах всего человечества il taudrait les inventer, их надо было бы изобрести,чтобы дух человеческий мог проявляться во всяческом многообразии оттенков. Есть уже не новый, но очень подходящий в этом случае пример: представьте себе человечество в виде огромного оркестра, в котором каждая народность как бы играет на своем особом инструменте. Возьмите из оркестра всех скрипачей, отберите у них скрипки и рассадите их по чужим группам — одного к виолончелистам, другого к трубачам, и так далее; и допустим даже, что каждый из них играет на новом инструменте так же хорошо, как на скрипке. И количество музыкантов осталось то же, и таланты те же — но исчез один инструмент, и оркестр в убытке. Если только мы понимаем прогресс, как стремление к наибольшей полноте сложности и богатству жизненных проявлений, а не наоборот — к наибольшей скудости и однообразию, то мы должны дорожить неприкосновенностью национальных индивидуальностей не менее, чем дорожим неприкосновенностью отдельной человеческой личности; и если никакой жертвы не жалко для исправления социальных неустройств, угнетающих личность, то не жаль никакой жертвы и в борьбе за то, что может обеспечить национальной индивидуальности законную неприкосновенность.
«Критики сионизма», 1905.Жаботинский был убежден в том, что сохранение национальной исключительности таит в себе благо всего человечества, и решительно отвергал обвинение в склонности к изоляции:
Сохранение национальной самобытности возможно только при сохранении чистоты расы, а для этого необходима своя территория, на которой народ наш составлял бы подавляющее большинство. И если вы, м.г., с ужасом спросите меня: — Так что же, вы хотите обособления во что бы то ни стало? — то я отвечу вам, что не надо бояться никаких слов, и в том числе также и слова «обособление». Поэт, ученый, мыслитель, всякий, кому нужно творчески работать и проявлять свою личность, должен непременно обособиться на время своего труда, затвориться в четырех стенах и никого не видеть, потому что немыслимо писать стихи или создавать философские системы под шум чужого разговора. Творчество невозможно без обособления; и если в этом обособлении поэт или ученый пишут вещи, полезные для общества, то их обособление есть гражданский подвиг. Национальность тоже должна творить: национальное духовное творчество — это raison d'être[*] всякой народности, и если не ради творчества, то незачем ей существовать. Для этой задачи творящая народность нуждается в обособлении так же точно, как нуждается в нем творящая личность. И если народ не стал трупом, то в обособлении своем он создаст новые ценности; а когда создаст их, то не спрячет для себя, но принесет к общему международному столу на всеобщую пользу, и обособление его будет заслугою перед лицом человечества.
«Письмо об автономизме», «Еврейская жизнь», 1904.Итак, ради сохранения национального существования необходимо, чтобы народ жил на своей территории и был на ней национальным большинством. Это условие вовсе не исключает возможности, чтобы часть этого народа находилась также и где-то в другом месте. Никакому национальному меньшинству не грозит опасность уничтожения, если оно может опереться на государство одной с ним национальности. Но общий национальный облик государства определяется той частью его населения, которая представляет в нем национальное большинство:
Я верю в прогресс человечества, и поэтому я верю в то, что лет через сто каждое государство будет многонациональным, или федеральным, или чем-то в том же роде. И вместе с тем ничто не помешает каждому государству с каким-то определенным национальным большинством оставаться действительно национальным государством этого национального большинства; и никакое равноправие одного, двух или трех национальных меньшинств (даже если они будут хранить как святыню свой национальный характер) не сможет помешать тому, чтобы каждое государство (какую бы конституцию оно ни имело) продолжало оставаться национальным государством своего национального большинства.
У этого правила есть два исключения. Во-первых, если национальное большинство не является носителем культуры государства — как, например, негры в Южной Африке (хотя никто не знает, останутся ли они таковыми всегда); во-вторых, если данное государство не является государством демократическим и управляется силой. Но в нормальных условиях — то есть, если в данном государстве проживают две или больше культурные нации и управляется оно парламентарно — совершенно закономерно, что в конце концов национальный характер большинства наложит свой отпечаток на весь образ жизни государства, несмотря на все законы о равноправии двух или пяти национальностей. И чем больше будет национальное большинство — тем сильнее будет этот отпечаток.
«О пустословии», «Хайнт» («Сегодня», идиш), 1.9.1930.Эту черту своего характера — радоваться при виде процветающих стран и народов — Жаботинский выразил в своих заметках, соединив серьезность с юмором:
Мир не любит маленьких государств. Каждый раз, когда какая-нибудь крупная европейская газета упоминает одно из маленьких государств (ив особенности одно из тех, что создались после войны), на лице ее появляется гримаса. (То есть, чувствуется, что, когда корреспондент писал свою заметку, он кривил свое лицо — невероятно трудно писать и не совершить ни одного промаха!) Итак, кривит корреспондент гримасу и ругается: почему весь мир превратили в «Балканы»?! Или она (то есть газета) принимает выражение лица серьезное, научное и доказывает, что такие маленькие государства «существовать не в состоянии», поскольку раньше, когда они входили в состав более крупных государств, у них был «обеспеченный тыл» — а теперь его нету.
У меня, как видно, натура противоположного свойства: я люблю маленькие государства. Если бы я был творцом мира, я бы давно уже разрезал все большие государства на независимые маленькие. Наверняка, если только удостоюсь я жить в еврейской Эрец Исраэль, я тут же создам сепаратистское движение в Верхней Галилее. Сам я поселюсь в Цфате и «вэт» всегда буду произносить как «б» («тоб» вместо «тов»). Еще я отыщу что-нибудь самобытное в произношении, или в обычаях, или в одежде, и все только для того, чтобы пробудить дух сепаратизма. Зачем это мне — я и сам не знаю, но почему-то мне это необходимо. Я ненавижу городок, примиряющийся со званием городка; я люблю такой маленький городок, которому достает наглости считать себя центром мира,— как мой родной город Одесса, например, в его лучшие дни.
...В моей вере в малые государства есть, видимо, какая-то склонность к философии такого рода: чем больше столиц — тем больше культуры. Сделайте любое место столицей — и оно в самом деле станет столицей в плане психологическом. Я вспоминаю Ковно, Ригу и Ревель перед войной. Их жители жаловались на скуку точно так же, как жалуются сейчас (все время жить в Париже тоже наводит скуку — действительно неизменяющееся),— но турист, смотрящий со стороны, сразу замечает разницу. Раньше в этих городах нечего было изучать, не о чем было распрашивать — сегодня же каждый из них представляет собой лабораторию для постановки множества творческих опытов: в них создают одно из самых больших чудес Творца — нации.
«Главы путевого дневника», «Доар ха-йом», 10.11.1930.Антисемитизм не мог породить сионизма. Антисемитизм мог породить только стремление убежать от преследования по пути наименьшего сопротивления — то есть, переменив веру. И все-таки для того, чтобы за проповедью перемены веры стал слышен призыв к самосознанию и национальному воскрешению, было необходимо что-то другое, кроме антисемитизма,— какой-то внутренний фактор, какое-то позитивное веление изнутри. Это — инстинкт самосохранения нации, он дал нам силу двинуться вперед по скорпионьей тропинке нашего времени.
Один араб уснул под сенью какого-то дерева. Утром его укусила блоха, он проснулся от укуса, увидел утреннюю зарю и сказал: «Честь и хвала этой блохе! Она пробудила меня ото сна! Теперь я совершу омовение и приступлю к работе». Но во время омовения блоха снова укусила его. Араб поймал ее, убил и сказал: «Ты, как видно, возгордилась от моей похвалы! Правда, от сна ты меня разбудила — но не по твоим указаниям я буду молиться и работать...»
Вот какова роль антисемитизма в возникновении сионистского движения. Мы не отрицаем, что антисемитизм заставил нас пробудиться от спячки. Но это — все, и если после его укуса мы встали во весь рост, омылись живой водой и приступили к работе — мы это сделали не из-за гнусного насекомого, которое нас разбудило, но благодаря инстинкту самосохранения, пульсирующему в сердце нации.
«К антисемитам», 1903; в сб. «Первые сионистские труды».Ориентация
«...Мы должны ощущать себя нацией и быть готовыми ко всему».
Одно из самых распространенных обвинений в адрес Жаботинского — что он был англоман до мозга костей и никогда не был готов к полному разрыву с англичанами. Что ж, люди старшего поколения, должно быть, припоминают, чем была Британия для евреев в конце I мировой войны: страной-освободительницей в полном смысле этого слова, принесшей наконец евреям надежду на осуществление их мечты — строительство «национального очага в Палестине» (при всей туманности этой формулировки — это был огромный шаг вперед). Да, Жаботинский был англоманом. Он помнил, что англичане помогли сформировать еврейские батальоны для отвоевания Эрец Исраэль у турок, что англичане издали декларацию Бальфура. Но его «привязанность» к англичанам вовсе не была безоговорочной; здесь, как и везде, Жаботинский руководствовался прежде всего интересами своего народа, он видел, что интересы евреев и Британии во много совпадают, и, применяясь к конкретным обстоятельствам, старался координировать действия как англичан, так и евреев. В отличие от многих других лидеров сионизма, он никогда не был ослеплен обаянием «всего британского», его душа была свободна от «слепой привязанности», и, когда действия британского правительства несли вред делу сионизма, он решительно и беспощадно выступал против Британии, не позволял ее искушенным политикам вводить в заблуждение как евреев, так и мировое общественное мнение. Еще во время «медового месяца» еврейско-британских отношений, в первые годы Мандата, Жаботинский обращал внимание современников на вопиющее несоответствие циничных действий британских оккупационных властей в Эрец Исраэль благим намерениям декларации Бальфура. Он вышел тогда из руководства сионистской организации в знак протеста против соглашательской политики лидеров сионизма, послушно шедших на поводу у британцев. Да и затем он неоднократно срывал маску филантропа и юдофила с хищно оскалившегося британского льва.
Вместе с тем, он отдавал себе отчет в том, что пока евреи являются меньшинством в Эрец Исраэль, пока они не имеют достаточного опыта в управлении, не представляют собой сколь-нибудь серьезной военной силы, сионизм нуждается в сотрудничестве с могущественной державой. Естественным союзником была бы Британия. Но вовсе не обязательно. Еврейский народ — суверенная нация, и никто не вправе навязываться ему в качестве союзника. В 1925 году он писал (предлагая ввести в школах Эрец Исраэль преподавание французского языка):
Мы совершили крупную политическую ошибку, поставив все на одну карту. «Ищи третьего» — учили наши мудрецы... И вот теперь и наши английские друзья привыкли считать нас, наше дело чем-то второстепенным (чтобы не сказать — ненужным) для британской политики.
В глазах английского общественного мнения мы стали жалкими бедными родственниками. Если добрая старушка-благодетельница рассердится на нас и прогонит, то нам и идти-то некуда, и нет у нас богатого дяди за океаном, который бы выручил в трудную минуту. Мы кажемся этакой дурнушкой-бесприданницей, которая должна смотреть в рот своему благодетелю, взявшему ее из жалости, и трепетать — как бы не осерчал и не выгнал. За нечто подобное нас стали принимать даже наши вполне искренние друзья в Англии. И естественный результат — даже они совершенно перестали считаться с нашим мнением. Такая ситуация абсурдна, унизительна и просто вредна для нас. Но главное, такое отношение к нам просто безосновательно. Невеста вовсе не дурнушка и не бесприданница. И, кстати, вовсе не круглая сирота в этом мире, и еще не поздно расставить все по своим местам.
«Французский язык», «ха-Арец» («Страна», иврит), 19.7.1925.Такие взгляды Жаботинского были встречены без восторга евреями и их лидерами, которые были совершенно обворожены и обезоружены тем, что такая великая держава, как Британская империя снисходит до переговоров с таким ничтожным сообществом, как евреи. Но вот 1929 год принес кровавые погромы, и английские власти практически в открытую встали на сторону арабских погромщиков и убийц. Это многим раскрыло глаза, даже тем, кто все еще не хотел видеть вопиющего расхождения между словом и делом у британских политиков. Жаботинский считал, что настало время решительно заявить Британии, что если она не изменит своей политики по отношению к евреям — им придется искать другого союзника. Вместе с тем он предвидел реакцию евреев на это предложение:
И вот тут-то и поднимает голову наш древний внутренний враг — еврейское самоуничтожение и отчаяние — и предостерегает: «Это все пустые разговоры. Кто мы такие, чтобы ставить вопрос: или — или? Разве есть у нас выход? Разве нам по силам разорвать узы, привязывающие нас к нашему могучему суверену? И разве это в наших интересах? И даже если б могли мы от него избавиться, разве сможем мы продержаться в ваккууме изоляции?»
А я говорю: да, есть альтернатива. И не одна. И говорю это вовсе не в запальчивости или из чувства обиды. Эмоции здесь вообще ни при чем. Каюсь, грешен и, верю, еще буду грешить, но от одного греха уберег меня Создатель — от запальчивости. Этот грех вообще не присущ нашему лагерю, который, кстати, гораздо мощнее и многочисленнее, чем даже сам думает. Все происшедшее в последнее время никак не изменило нашу позицию, ибо все это мы предвидели заранее. И не потому, что мы ясновидящие. Так же, как вовсе не ясновидящий астроном предсказывает солнечное затмение. Он просто сопоставляет данные и умеет вычислять. Я вовсе не изменил своего отношения к великому заморскому народу.
Я никогда не верил, что «нет выхода». Даже во время войны я не считал, что наше сотрудничество с Англией — единственный путь. В то самое время, когда мы звали еврейскую молодежь под знамена британского еврейского легиона, мы не переставали оказывать давление на сионистское руководство, чтобы оно не удовлетворялось заключением союза с Англией. Нас не услышали — и за это мы не раз расплачивались, но в том не наша вина. Известно: нельзя класть все яйца в одну корзину. Мы это сделали.
И сейчас я утверждаю: «английская корзина» — далеко не единственная. Мы можем и должны искать других союзников. Противоположное мнение — как минимум преувеличение, на самом деле — глупость. И тот, кто придерживается такого мнения, уподобляется мыши из известной русской поговорки: «Страшнее кошки зверя нет». Для жителей Синишек Сморгонь — великая столица, а Париж, до которого от Сморгони 3000 верст,— непролазная глушь. Давайте еще станем утверждать вслед за св. Августином, что южного полушария нет, потому что его быть не может! Все это — глупость, глупость, как и любая паника. Выход есть всегда. Есть он и сейчас!
Когда я упоминал Сморгонь — Богом забытый городишко на границе Белоруссии и Литвы, я вовсе не забывал, что Лондон — великая столица. Не «кошке» подобная, но льву. Но и лев — не один в лесу, есть и кроме него могучие звери, и львы попадаются в ловушки и клетки.
Не один лев в лесу — львов найдутся десятки. Мы шли неким путем, и, кстати, он еще вовсе не завел нас в тупик, но нельзя считать этот путь единственным. Есть и другие.
Мы еще не разочаровались в англичанах, даже после последних событий, как не разочаровались мы в русских после Кишиневского и других погромов, и мы призываем наших лидеров продолжать верить в английский народ. Но эта вера не должна быть слепой, не должна быть «единственно правильной». Мы должны дать понять англичанам, как в Иерусалиме, так и на Даунинг-стрит: если действительно разочаруемся в нашем теперешнем союзнике, ему придется уйти из Эрец Исраэль, и мы найдем, кого пригласить на его место.
«Нет выхода», «Доар ха-йом», 6.8.1930.В те времена этот призыв Жаботинского не мог быть ничем иным, кроме гласа вопиющего в пустыне. Но Жаботинский не сдавался, он всеми силами искал, готовил альтернативу Британии. Одним из способов была попытка обострить давно назревший англо-еврейский конфликт, сделать разрыв с британцами неизбежным, поставить стороны перед свершившимся фактом:
Наша задача теперь — расширять и углублять трещину. Не заниматься поисками «альтернативы», а «готовить место», поставить державы с колониальными амбициями перед фактом: англичане уйдут. Готовить их к осознанию того, что английское присутствие в Эрец Исраэль вовсе не «священно» и не вечно. Это просто обычная оккупация со всеми ее «прелестями», как оккупация Индии или Ирландии. Любое проявление нашего недовольства, если только оно будет достаточно сильным, чтобы его заметили, неизбежно будет пробуждать «аппетит» других держав. Поэтому нам не надо искать себе покровителей. Найдутся сами.
Эти аппетиты разрастутся постепенно до такой степени, что сложится ситуация, подобная предвоенной: готовность присвоить Эрец Исраэль при первом удобном случае. Тогда-то и настанет время прикидывать: какие руки, тянущиеся сюда, могут принести наибольшую пользу нашему делу — возможно, нам и не придется быть инициаторами тех или иных переговоров.
Мы должны предоставлять миру как можно больше доказательств нашего недовольства Англией — сейчас это наша главная политическая задача. Поэтому мы должны сейчас хладнокровно и расчетливо добиваться одного — максимального обострения наших противоречий с англичанами и их администрацией. И здесь не суть важно — выиграем мы или проиграем на той или иной стадии вечного конфликта, уступят они нам или нет в споре об очередном десятке въездных сертификатов. Со стратегической точки зрения, гораздо важнее другое: чтобы мир знал, что ситуация в Эрец Исраэль — нездорова, сотрудничество кончилось, «святость» ушла и вопрос об Эрец Исраэль снова открыт. С точки зрения стратегии, мы тут проиграть не можем: чем острее будет конфликт, тем лучше для нас, нашего будущего.
«Ориентация», «Хайнт», 20.3.1932.В то же время Жаботинский старался показать англичанам, что они стоят перед выбором: либо с большим вниманием относиться к интересам евреев, либо им придется вообще убраться из всего ближневосточного региона. Одновременно сойдет на нет влияние Европы вообще в этом районе. Вряд ли нужно говорить лишний раз о том, насколько правильным был этот прогноз Жаботинского:
Следует сказать еще вот о чем, это важно: или Англия идет с нами, или уходит совсем. Будущее арабских стран ясно: рано или поздно, с оружием в руках или усилиями политиков, они добьются независимости.
Будут властвовать арабы, а не европейцы — и не только на Ближнем Востоке, но и везде, где живут арабы и где появятся их государства. Таково будущее Египта — его ростки уже видны, таково же будущее всех его соседей. И из Эрец Исраэль англичане будут вынуждены убраться, если здесь не будет неарабского большинства. Такова ясная, непреложная логика жизни. Но, увы, она ясна нам, но не англичанам. Во всей Англии это ясно сотне, может быть, двум сотням человек. И те, кто это поняли,— на нашей стороне, безразлично, «любят» ли они евреев или «не любят». Они любят Англию и хотят видеть ее мировой державой. Этого достаточно.
«Доар ха-йом», 23.10.1929.И в другом месте:
...И это, как мы видим, далеко не единственная попытка подлить масла в огонь. Это общепринятая тактика британских агентов. Чего стоит, например, последовательное разжигание панисламского фанатизма в его самой темной, самой дикой средневековой форме! Иерусалим стал настоящей базой террористов. Здесь союзниками англичан стали агенты Коминтерна, начиняющие страну динамитом в количествах, опасных уже не только для еврейских поселенцев, но и для всех выходцев из Европы. Не только евреям, но и всему цивилизованному миру должны англичане дать отчет в этих своих действиях...
Письмо в «Тайме», полностью опубликовано в «Доар ха-йом», 29.1.1932.Выбор альтернативы Британии, который казался относительно легким на рубеже 20—30-х гг., становился с каждым годом все трудней. Франция, раздираемая внутренними конфликтами, не могла проявить реальной заинтересованности в распространении своего влияния в Средиземноморье. Самый большой «аппетит» к Средиземноморью проявляла тогда фашистская Италия, и Жаботинский, естественно, не мог видеть в ней достойного партнера, тем более тогда, когда она стала союзницей Гитлера. Совпадение интересов было у сионизма с Польшей, но она была слишком слаба, чтобы претендовать на мандат на Эрец Исраэль. Получалось, что в раздираемом конфликтами мире, перед II мировой войной у евреев не оказалось более подходящего союзника, чем Англия:
На Всемирном конгрессе ревизионистов, который состоялся недавно в Кракове, я говорил: «Как британские политики, так и наши «горячие головы» должны уяснить следующее: мы подвергаем беспощадной критике сегодняшнюю политику британцев. Мы требуем от них, чтобы она была более взвешенной, чтобы она считалась с нашими интересами. Но из самого факта, что мы обращаемся с этим требованием к Англии, неизбежно вытекает, что мы не хотим сейчас ухода британцев из Эрец Исраэль. Ибо невозможно одновременно требовать: «убирайся!» и «помоги!». Если ты хочешь, чтобы Англия помогла, ты не можешь хотеть, чтобы она убралась. Наоборот, своей критикой мы выражаем доверие Англии, верим, что она может реально помочь. Более того: Израиль не нищий, просящий безвозмездного подаяния. Раз мы требуем помощи у англичан, мы должны быть готовы оплатить эту помощь. И еврейская Эрец Исраэль может и должна быть полезна империи. Получается такой треугольник: конструктивная критика с нашей стороны, правильная реакция англичан на эту критику — тесное сотрудничество в будущем. В этом суть нашей политики, это должно быть «лейтмотивом» усилий ревизионистов».
Письмо на английском яз. редактору «Джуиш кроникл», 18.1.1935.Оставит ли британская политика евреям возможность сотрудничать с Англией? Жаботинский видел две тенденции в британском общественном мнении. Он признавал, что трудно предугадать, какая из них возьмет верх:
...Психологический климат в Англии сейчас, несомненно, совершенно отличен от того, при котором создавалась декларация Бальфура. Эти изменения чувствуют все, но, вместе с тем, мы слышим избитые и неоправданные обвинения: «изменники», «хищный Альбион» и т. д. Я не присоединяюсь к этому хору. Я пользуюсь другой терминологией и всем сердцем советую читателям последовать моему примеру. Я говорю (идея мной заимствована у Тургенева), что у каждого человека и у каждого народа есть две души: душа Гамлета и душа Дон-Кихота. По Тургеневу, Гамлет — это воплощенная аналитическая мысль, рефлексия, сковывающая действия и не позволяющая принимать смелые решения.
Дон-Кихот же — он Дон-Кихот. Вовсе не сумасшедший, человек с двумя руками, на каждой по пять пальцев. Для Гамлета главное — «занять позицию». Если ему удается ее определить и осознать, он может спокойно ожидать любых бедствий (в точности как современная Лига наций).
Дон-Кихот — человек дела. У него действие опережает мысль, для него определение «позиции» выражается в действии. По Тургеневу — все добро от сотворения мира, безусловно, на стороне Дон-Кихота; быть может, Тургенев и не впадает в такую крайность, может быть, и не совсем отказывает Гамлету в правоте — я точно не помню, ибо читал его замечательную статью тогда, когда мир еще был юн, но это не столь важно. Важно, что (и у отдельного человека, и у целого народа есть две души) — иногда преобладает душа Гамлета, иногда — Дон-Кихота.
Декларацию Бальфура дала нам душа Дон-Кихота в минуту, когда великий и могучий народ верил в свои силы и в свою миссию — изменить к лучшему этот мир. Но с тех пор прошел 21 год. И вновь не видно и не слышно Дон-Кихота. Сейчас в Англии вовсю властвует Гамлет. Но народы мира нынче отмечают наступление гражданской зрелости — им уже 21 год. И повзрослевший принц стоит перед всем миром и, будучи невидимым, неумолимо властвует над великим народом и повторяет свое:
«Быть или не быть... Вот в чем вопрос...»А где же Дон-Кихот? Погиб и похоронен? Я бы не давал однозначного ответа — «да» или «нет». Вне всякого сомнения, в Англии еще чувствуется его влияние, раздаются донкихотские голоса, но предвещают ли эти голоса его воскрешение или это всего лишь отголоски былого — мы не знаем. И то, и другое равновероятно. «Вот в чем вопрос».
И от этого все зависит. Возьмите, к примеру, положение в Средиземноморье. Все знают, что здесь произошли радикальные перемены. Они абсолютно объективны и необратимы — ни Гамлет, ни Дон-Кихот тут ничего не могут поделать. Изменение в том, что если прежде Англия властвовала здесь безраздельно, то теперь она вынуждена делиться влиянием. Это, возможно, еще не означает окончательного «ухода со сцены», мы знаем примеры, когда один из совладельцев играет важную, зачастую решающую роль. Но лишь тогда, когда у него есть воля, инициатива, дерзость, если хотите. Осталось ли все это — вот в чем вопрос. Объективно — еще очень далеко до того, чтобы Англия утратила свою мощь и влияние. Но и Италия вознеслась высоко. Но величие и даже влияние — понятия необъективные; невероятно важно, существует ли их субъективная основа — осталось ли ощущение величия.
Какие же выводы из всего этого? А вот какие. Первое: прошли те времена, когда «переориентация» евреев воспринималась как измена. Мы уже не раз слышали от самого сюзерена пожелание «отменить мандат». Снять табу. Понятно — если сам владелец мандата не прочь от него отказаться, что мы уж тем более не должны ощущать святость и незыблемость нашего с ним союза. Это было бы нежелательно и даже нечестно. По чести мы должны были сказать: «Господин союзник! Вы хотите сотрудничать — мы тоже хотим. Нет, вы устали — ничего страшного. Есть другие демократии».
Второе: давайте не спешить с выводом, что союзник действительно устал и бессилен, что Дон-Кихот уже умер. Может быть, да, а может быть, и нет. Возможно и то, и другое. Может быть, не только шакалам дано прогнать льва. Может быть, и скромные мышки смогут сильно покусать ему хвост. А возможно — в одно прекрасное утро мир услышит могучее рычание, и шакалы уберутся в свои логова. И тогда мышки примутся уже за их хвосты. Отсюда вытекает третий вывод: мы должны ощущать себя нацией и быть готовыми ко всему.
«Союзник», «ха-Машкиф» («Взгляд», иврит), 3.2.1939.В конце концов, когда уничтожение евреев Европы стало реальностью и погас последний луч надежды, Жаботинский полностью разочаровался в Британии «Гамлета» — Чемберлена и «Белой книги». Он видел теперь единственную возможность: пробуждение еврейского самосознания, разрыв союза с оккупантом-колонизатором и ориентацию на освободительные силы еврейской молодежи.
Вопрос о т.н. «ориентации» в нынешней войне — вопрос весьма непростой. В частности, коснувшись такого явления, как еврейские интересы, он осложнится еще более, если мы не уточним масштаб этого явления. Я вынужден относиться к войне в масштабе наших интересов, а не настроений сантиментов. Поэтому прежде всего следует установить различие между интересами и эмоциями.
Эти эмоции иногда очень глубоки, важны и даже необходимы. Иногда существуют такие отношения между народами, как антипатии, обиды, оскорбления. И было бы немудро, несправедливо и невыгодно осуждать подобные настроения. Но было бы странно и преступно смириться и забыть о более важном, нежели эмоции: о вечных национальных интересах.
К сожалению, не каждый это понимает. Большинство людей, даже ученых, полагает, что во время «ориентации» обидам и мщениям отводится первоочередная роль,— но я уверен, что им нельзя отводить роль в этом вопросе. Ни первую, ни последнюю. Когда я пытался сформировать в Египте еврейский батальон, один из моих друзей писал: «Ты не знаешь, что с нами произошло». Я знал это и знаю. Но то, что произошло с людьми, не должно произойти с нашими национальными интересами. Важно не то, что случилось с нами, а то, какая цель и какой результат более выгодны нам с точки зрения будущего нации. Я знаю, что большинству сейчас трудно, а некоторым просто невыносимо подавить в себе чувства; я знаю, что найдутся те, кто назовет мои намерения безразличием, «убийством» или даже изменой. Я сожалею об этом, но отойти от своих убеждений не могу. И даже если оскорбят самых близких мне людей, я только укреплюсь в своем мнении, что долг еврейского деятеля — подавить все симпатии и антипатии, хладнокровно следовать нашим интересам в Израиле и в галуте и держать руль в том же направлении — и, если есть в том необходимость, заткнуть уши.
«Ориентация», «ди Трибуне» («Трибуна», идиш), 1940.Идиш
«Итак, договоримся: дело не в жаргоне; дело в жаргонной идеологии...»
Родным языком Жаботинского, который родился на юге России, в Одессе, не был идиш — разговорный язык восточноевропейских евреев. Его родным языком был русский. Жаботинский рассказывал в «Автобиографии», как он впервые столкнулся с массой людей, говорящих на идише,— ему было тогда уже семнадцать, и он впервые выехал за границу. Похоже, эта встреча не вызвала у него бурного восторга. Но позже, когда он стал агитатором-сионистом и разъезжал повсюду, где жили евреи, он ближе познакомился с идишем и культурой на нем и оценил их. Вот его рассуждения по этому поводу, относящиеся к 1905 году:
Еврейские дети прекрасно чувствуют музыку. Если их приучают с младенчества к еврейской песне, это привязывает их к еврейству не через разум, но через сердце... Надо учить детей песням на иврите, на русском, но не следует опасаться и жаргона[*]. Я далек от того, чтобы быть приверженцем жаргона, но если воспитывать у детей пренебрежение к языку, на котором говорят миллионы, тем самым мы воспитаем пренебрежение к самим миллионам.
«Что нам делать?», 1905; в сб. «Первые сионистские труды».При всем уважении к идишу (а Жаботинский не жалел усилий для его изучения, он произносил на нем речи, писал блистательные полемические статьи), но все же постоянно подчеркивал, что приоритетом должен пользоваться иврит:
Бейтар видит в языке иврит национальный язык еврейского народа. Так было, так должно быть и так будет. Иврит должен проникнуть в Эрец Исраэль и стать преобладающим во всех сферах жизни. В галуте он должен, как минимум, изучаться от детского сада до средней школы и, может быть, до университета (если мы когда-нибудь удостоимся еврейского университета в галуте). Он должен стать основой основ образования каждого еврейского ребенка. Можно быть сионистом, бейтаровцем, но если вы не знаете иврита — вы не до конца еврей.
Мы относимся с уважением ко всем языкам, на которых говорит наш народ, в особенности — к идишу, к его богатой литературе, журналистике, публицистике. Более того: мы воздаем должное идишу (в случае сефардских евреев — ладино) как могучему средству, противостоящему ассимиляции. Но «национальный язык» — это совсем другое дело, нечто гораздо более важное. Он не может быть привнесенным извне языком, который нация приобрела в процессе своего исторического развития, и поэтому лучшие произведения, созданные на нем, и само его развитие принадлежат другому народу. Ни арамейский в давние времена, ни идиш сегодня не могли и не могут претендовать на роль нашего национального языка. Язык, который родился вместе с народом и, в той или иной форме, оставался с ним на всем протяжении его пути,— это национальный язык.
«Идея Бейтара», 1934; в сб. «На пути к государству».В борьбе с расхожим мнением, что «идиш — язык понятный всем» и потому имеет право на существование и в Эрец Исраэль, Жаботинский приводил такой довод: для миллионов сефардских евреев идиш — язык абсолютно чужой. Сам факт существования восточных общин делает недопустимым распространение идиша в Эрец Исраэль:
Вероятность огромного роста численности восточных евреев в Эрец Исраэль очевидна. Но есть в этом еще один дополнительный аспект: рост численности восточных евреев поможет ивриту быстрее завоевать главенствующие позиции, даже если большинство этих евреев изначально и не владеют ивритом. Всем известный секрет: когда ворота в Эрец Исраэль распахнутся, мы должны будем повести решительную борьбу со всевозможными «еврейскими» языками, и с идишем в том числе. Сила идиша в северной части диаспоры в том, что он — язык всем понятный, «маме лошен» (родной язык) для огромного большинства, если не для нас самих. По мере же того, как в Страну будут прибывать восточные и йеменские евреи, этому доводу не останется места на берегах Иордана. Это должно быть хорошо ясно всем. Сам по себе жаргон мы одолеем при помощи средней школы за одно поколение. Опасен не сам жаргон, а идеология жаргона, и бороться с ней можно и нужно активно, помогая восточным евреям занимать ключевые позиции в нашем обществе. Должно стать правилом: ни одного учреждения без сефардских евреев! Чтобы везде и повсюду было так, что если жаргон начнет «качать права» и заявлять, что он «всем понятен» и он — «маме лошен», то всегда бы нашелся кто-то, кто бы наложил свое «вето».
«О мнении Национального профсоюза восточных евреев», «Херут» («Свобода», иврит), 25.10.1932.Жаботинский считал, что для окончательной и повсеместной победы иврита в Эрец Исраэль не следует жалеть ничего, никаких интеллектуальных усилий. В приводимом ниже отрывке он как бы подводит итог всему ранее сказанному и написанному об идише:
Недавно в Стране произошел инцидент, возможно, совершенно непонятный за границей: несколько молодых людей попробовали выпускать еженедельник на еврейско-ашкеназском диалекте и... вынуждены были отступиться. Если бы они настаивали на своем намерении, это привело бы к настоящим беспорядкам. Стоит хорошенько разъяснить людям, живущим в галуте, почему здесь это именно так и не может быть иначе.
Возможно, кто-нибудь, прочтя эти строки, решит, что автор из этих, из «жаргононенавистников». Отнюдь. Признаюсь: у автора нет никакой личной антипатии к еврейско-ашкеназскому диалекту. Может быть, это и нехорошо, но что поделаешь: эволюции или возникают сами по себе, или не возникают вовсе. Итак, мне симпатичен этот язык. Но есть категория, которая в глазах многих важнее любви и нелюбви: уважительное или неуважительное отношение. И здесь я неоднократно свидетельствовал о своем почтительном отношении к идишу.
Я изучал этот язык и ценю его грамматику, лексику — все, что хотите. Я отдаю должное его исторической ценности: как «средству от ассимиляции», так и самостоятельной ценности, присущей всякому языку. Я чту его богатую литературу. И ценю за то, что он — родной язык для миллионов евреев, признаю, что и он не лишен доли святости.
Но здесь, в Стране, народ решил возродить иврит. И это трудная, невероятно трудная задача. И мешать этому не должно ничто — даже самое рассвятое.
«Иврит в Израиле», «Хайнт», 13.6.1929.Индивидуализм
«Конкретная человеческая личность — вот вершина мира, ведь именно индивидуум был сотворен по образу и подобию Божию».
С самой молодости Жаботинский был приверженцем весьма своеобразной индивидуалистической теории общества, оригинальной и даже несколько вычурной, которую он потом углублял и разрабатывал в течение многих лет и даже надеялся построить когда-нибудь на ее фундаменте целостную философскую систему. Каково происхождение этой теории? Во всяком случае, он воспринял ее не от профессоров Римского университета, где учился. Те, разумеется, тоже оказали на него влияние, но в другом: в большинстве своем они придерживались марксистского мировоззрения, отдельным положением которого Жаботинский оставался верен долгие годы. Но его «индивидуализм без берегов» не оттуда. Как, впрочем, нельзя сказать, что он пришел к упомянутой концепции в результате чтения книг или специальной литературы. Создается впечатление, что теория эта изначально была присуща его натуре, бывшей одновременно и благородной и безудержной. Замечательно четко выражены взгляды Жаботинского в «Повести моих дней»:
Вначале сотворил Бог индивидуума. Поэтому любой конкретный человек есть не кто иной, как венец творения, царь, равный по достоинству ближнему своему, который, в свою очередь, является таким же царем. Лучше пусть индивидуум согрешит по отношению к обществу, а не наоборот, ибо именно ради блага каждого отдельного его члена существует общество. Что же касается конца времен, который мы предвидим в будущем и называем эпохой Прихода Мессии, то там нас ожидает рай для каждого отдельного индивидуума, царство великолепной анархии: свободное сочетание и противоборство человеческих устремлений, игра разнообразных сил без подавляющих законов и связывающих ограничений. Роль же «общества» сведется к помощи ослабевшим и потерпевшим поражение в этой борьбе. Оно утешит их, поддержит в трудную минуту и даст возможность снова вступить в игру...
Наверняка найдутся люди, которые усмотрят противоречие между сформулированными здесь основами индивидуалистического мировоззрения и той упорной пропагандой национальной идеи, которой я занимаюсь. Как один из моих друзей, читавший этот текст в рукописи и не преминувший заметить, что, дескать, раньше он слыхал от меня совсем другую «песню», а именно: «Вначале сотворил Бог нацию».
На самом деле здесь нет никакого противоречия. Ведь надо принимать во внимание, что формулировка о главенстве национального была мною выдвинута в полемике с теми, кто утверждал, будто началом всего является человечество. Я же верю непоколебимо, что в иерархии творения нация стоит выше человечества. Но точно так же я верю, что индивидуум, в свою очередь, имеет преимущество перед нацией. И пусть даже он подчинит всю свою жизнь служению народу,— с моей точки зрения, это никак не отменяет его более высокого статуса. Ибо поступает он так по собственному свободному выбору. По свободной воле, а не по обязанности.
«Повесть моих дней» (оригинал написан на иврите); в сб. «Автобиография».Итак, что же, пропагандируется полная распущенность и своеволие? Ни твердой государственной власти, выступающей в качестве организующей и обязывающей силы, ни устойчивой морали, ни чувства долга, установками этой морали обусловленного? Жаботинский прекрасно осознавал, насколько нереалистичным и даже разрушительным может оказаться подобное мировоззрение в условиях современной ему эпохи. Он вовсе не закрывал глаза на то, какова на самом деле окружающая действительность, и в своей практической деятельности исходил из реального устройства мира, даже если оно вступало в вопиющее противоречие с его фундаментальными социофилософскими установками. Но одновременно он ощущал себя гражданином мира завтрашнего дня, надеясь и веря, что человек исполнит свое высокое предназначение и, поднимаясь в своем развитии все выше и выше, достигнет, наконец, такого уровня, на котором сможет создать подлинно достойное общество, никак не стесняющее свободный человеческий дух.
Жаботинский убежден, что в его «анархическом царстве», построенном на принципе максимальной свободы, не возникнет такого положения, когда никто не будет ни с кем считаться. Каждый индивидуум будет совершенно суверенным и ни от кого не зависящим царем, но царь этот, по свободному выбору, согласится употреблять свою абсолютную власть только на благо общества. Таким образом, считает Жаботинский, будет достигнуто нечто вроде негласного общественного договора между несколькими миллиардами равных по своему достоинству монархов.
В некотором смысле, конечно, вся идея «добровольного договора» — не что иное, как фикция, так как на самом деле этому нет никакой разумной альтернативы. Без него каждый постоянно вторгался бы в сферу другого, нарушал суверенитет, что довольно скоро привело бы к всеобщему концу. Значит, можно сказать, что «миллиарды царей и королей» не принимали никакого «свободного решения», а просто подчинились неизбежному — для того, чтобы выжить.
Однако, считает Жаботинский, именно привязанность к такого рода возвышенным «фикциям» и отличает человека от обезьяны и служит основой для всякого нравственного прогресса. Он пишет:
Главное, чтобы «фикция» служила достижению нравственной цели, то есть, чтобы она признавала за человеком достоинство свободного царя, не подчиняющегося никакому давлению извне, но всегда поступающему согласно своему личному и независимому выбору... О «дисциплине» здесь можно говорить только в смысле самодисциплины.
Итак, свободный индивидуум принимает на себя только те обязательства, которые вытекают из его собственного, личного осознания ситуации. Такая установка должна быть положена в основу не только разумного представления о партийной дисциплине (партии ведь изначально строятся на добровольных началах), но и представления о сознательной государственной дисциплине. От имени этой «фикции», которая на самом-то деле реальней любой «реальности», мы должны провозгласить, что, когда говорится о подчинении законам государства, речь идет о таком подчинении, которое есть выражение свободной воли и согласия отдельного гражданина без всякого внешнего принуждения.
Нетрудно видеть, что концепция эта по самой своей сути антитоталитарна. Государственное устройство как таковое представляет собой образование противоестественное — не обязательно, впрочем, в отрицательном смысле слова. Точно так же противоестественны, скажем, стрижка волос, подравнивание ногтей или теория Мальтуса. Что делать, ко всем этим слегка противоестественным вещам все равно приходится прибегать, но главное тут — не перебарщивать. Поэтому наиболее разумным, нормальным и удобным для многочисленных царей-индивидуумов строем является «минимальное государство», то есть такой механизм управления, который приводится в действие лишь в самых необходимых случаях.
Сфера свободного самовыражения добровольно ограничивается самими членами общества только там, где без этого действительно никак не обойтись. Например, в природе существует феномен непроницаемости одних тел для других, от которого никуда не денешься и в обществе: два разных индивидуума не могут одновременно сидеть на одном и том же стуле. А вот в области идей уже нет никакого основания для ограничения свободы самовыражения, ибо это как раз та сфера, где феномен непроницаемости не наблюдается: сказанное мною «да» никоим образом не лишает вас возможности твердо заявить «нет».
Разумеется, при определении в каждой конкретной ситуации, в чем именно состоит этот желанный «минимум» вмешательства государства в дела индивидуума, приходится проявлять изрядную гибкость. Во время войны или кризиса (экономического или политического) неизбежно возникает необходимость временно расширить полномочия властей. Но подчеркиваю: временно. Точно так же и больной предает себя во власть врача не «вообще», а на время болезни — не больше! Если говорить про «вообще», то инстинктивным идеалом человека является, конечно, спокойная и безмятежная анархия или, как называли ее греки, панбасилия, что в переводе, кстати, означает «власть всех царей». Но идеал этот пока неосуществим, и потому следует на данном этапе признать наилучшей демократическую форму правления как наиболее близкую к нему.
«Введение в теорию хозяйства», 1938; в сб. «Нация и общество».Мы видим, что для Жаботинского смысл демократии раскрывается в контексте его индивидуалистической теории общества. Конечно, основная внешняя функция демократии состоит в проведении в жизнь решений, угодных большинству населения, но ее подлинная, сокровенная сущность, по Жаботинскому, состоит именно в защите интересов меньшинства, состоящего из индивидуумов:
Человеческая личность — это самое возвышенное из имеющихся в нашем языке понятий, индивидуум есть наивысшая ценность, он — подлинный венец творения, стоящий на высшей ступеньке природной иерархии. Именно индивидуум был, согласно Библии, создан «по образу и подобию Божию».
Вопрос о месте и роли отдельной личности является сегодня пунктом серьезнейших разногласий. Речь идет не просто о разных мнениях, но, по существу, о принципиально различных мировоззрениях, я бы даже сказал, о разных религиях, со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая нетерпимость ко взглядам другого и фанатизм.
Одно из распространенных ныне мировоззрений зародилось еще в 17-м веке среди определенной части европейских философов. Они видели в обществе прежде всего сложный механизм, в котором человеку — этому венцу творения! — отведена роль незначительной частицы колоссального целого. Многие положения этой концепции унаследованы современными доктринами коммунистического и фашистского толка, где человек является лишь винтиком в государственной машине, которой он обязан служить и поклоняться.
Как не вспомнить тут африканских термитов. У этих крошечных существ чрезвычайно развита технология материального производства — по сравнению с ними мы, люди, выглядим просто отсталыми. Какие великолепные сооружения возводят термиты! И это при том, что, как показали проведенные исследования, у них нет ни глаз, ни ушей. Зато они усердно трудятся, полностью подчиняясь приказам своей царицы. А стоит ей только пожелать, и от всего этого «органического механизма» вмиг ничего не останется.
Но мы-то наследники совершенно другой традиции, утверждающей, что началом всего является отдельная человеческая личность и что именно она была создана Богом при творении мира. Потому государство должно служить интересам индивидуума, а не наоборот. Именно наша еврейская традиция является носительницей принципиальной установки о высшей ценности каждого человека. Индивидуум в состоянии развить в себе самые возвышенные качества, и нет такой ступени совершенства, на которую он не смог бы подняться. Лишь бессмертие недоступно ему, оставаясь уделом Всевышнего. И не забудем, что именно Тора сохранила для человечества рассказ о борьбе человека с Богом, борьбе, из которой человек вышел победителем («...ибо боролся ты с Богом... и превозмог», Быт. 32:29).
Каждый потомок Адама рождается, чтобы быть свободным. Только в исключительных случаях позволительно превращать его в частицу, подчиненную интересам общественного целого. Что делать, иногда нация, народ, чтобы выполнить возложенную на них историческую миссию, вынуждены превращаться в слаженную машину. Но не будем забывать, для чего ведутся войны и устраиваются революции,— для того, чтобы обрести свободу.
...Существует ошибочное мнение, будто любой режим, опирающийся на волю большинства, уже в силу одного этого автоматически является демократическим. Концепция сия есть несомненный продукт определенного исторического развития, в ходе которого меньшинство неоднократно вело борьбу против правительств своих стран, но она не дает никакого представления о том, что такое демократия на самом деле.
Подлинная демократия — это прежде всего свобода. Что же до власти большинства, то она вполне может оказаться и тиранической по отношению к отдельным лицам или группам людей. А там, где отсутствуют гарантии свободы индивидуума, нечего и говорить о демократии.
Здесь кроется некоторое противоречие, которое необходимо разрешить. В еврейском государстве общественное устройство должно быть таким, чтобы меньшинство в нем не осталось беззащитным. Цель демократии — гарантировать меньшинству возможность также влиять на происходящее в стране. В конце концов, из кого состоит меньшинство, как не из индивидуумов, каждый из которых создан «по образу и подобию Божию».
«Общественный вопрос», «ха-Ярден», 21.10.1938.Господин «Назло»
«Есть такие евреи... в этом весь смысл их духовного бытия».
Про Герцля говорили, что он так симпатизировал евреям, потому что толком не знал их. Жаботинский достаточно долго жил среди своего народа, чтобы как следует с ним познакомиться. Он знал как прекрасные его черты, так и отвратительные, и казалось, что ни тем, ни другим нет предела.
Но он верил, что в «расцвете» отталкивающих качеств евреев повинна жизнь гетто, обрекающая людей на нравственное вырождение, и что раны галута будут исцелены, когда народ вернется на свою родину. Пока Жаботинский вовсе не старался закрывать глаза на «отдельные недостатки» и в своей критике их бывал беспощаден. Одной из самых неприглядных черт, свойственных евреям, он считал страсть «обламывать крылья» любой мечте, любому смелому замыслу не потому, что логика, трезвый расчет опровергали бы этот замысел, а просто так, «назло»:
У нас, евреев, это просто в крови; нам просто доставляет наслаждение осадить замечтавшегося ближнего, вылить ушат холодной воды на голову, в которой завелась какая-нибудь «фантазия» (а если водичка еще и с помоями, так тем лучше). Есть евреи, для которых в этом просто смысл их жизни, для них жизнь не в жизнь, если некому «насолить». Как только «объект» появляется в поле из зрения, то — Бог мой! — какими силами, каким ликованием преисполняются они. У меня нет и тени сомнения, что каждый читатель знает таких евреев среди самого ближайшего своего окружения. Эти люди выглядят обычными смертными, вы можете с ними десятки раз мирно обедать, и ничем не выдадут они своей «пламенной страсти». И вдруг им попадается некто, у кого завелся какой-нибудь план, или там мечта, или надежда — в общем, что-нибудь оптимистическое,— и тут-то ваш сосед и распрямляется в полный рост, «господин Назло» весь воспламеняется, глаза мечут молнии, лицо излучает гнев, голос звучит громом победы, его доводы точны и неотразимы. Он не оставляет камня на камне от оптимиста, доказывает ему как дважды два, что его планы не стоят выеденного яйца. Оптимист хочет заработать на торговле носками? Ему докажут с железной логикой, что нынче никто не покупает носков — штопают старые. Оптимист попал в «квоту» и собирается эмигрировать в Америку?! — Вся Америка мрет с голоду, скоро будет организован новый «Джойнт» в Варшаве для помощи голодающим евреям Нью-Йорка. Оптимист выиграл в лотерею тысячу фунтов? — При нынешней инфляции в Англии он может оклеить ими стены, его тысяча фунтов уже не стоит и полутора злотых...
«Господин Назло», «Хазит ха-ам», 29.3.1932.Эта психология «назло» имела, по мнению Жаботинского, и другую крайность, порожденную реакцией на еврейскую «сахарную болезнь», маниловщину. Еврейское легкомыслие подчас доходит до самого извращенного мазохизма, евреи готовы умасливать и ублажать своих злейших, смертельных врагов, лишь бы потешить свое мазохистское начало. Тому масса примеров как в истории, так и в настоящем:
Вспомните любую из освободительных войн, которые вели евреи. Всегда находились такие, кто воевал на стороне врагов. И в войне Маккавеев, и в Иудейской войне. Иерусалим осажден, это последний оплот еврейской независимости, но и в самом Иерусалиме есть бастион, в котором засели евреи, сторонники врага. Что же это были за люди? Что они чувствовали? Страшно интересно. Представьте себе это чудовищное равнодушие к себе или доведенную до абсурда партийную дрязгу: вокруг все горит, горят чуть ли не их собственные дома, дома их родных уже точно, а они сидят себе в своей крепости и приговаривают: «Давай, давай, поддай им жару!». Кажется, все отдал бы просто из репортерского азарта ради интересного интервью, чтобы провести с ними часок, выспросить, кто они, что себе думают. Я, например, абсолютно уверен, что они вовсе не были горячими сторонниками врага. Наверняка, между собой честили треклятую греко-римскую культуру и ее необрезанных «носителей». Рассказывали, каждый из своего горького опыта, как насмехались над ним за его еврейский акцент, как не пускали его на порог, как издевались,— и все это было для них пустяком по сравнению с желанием сделать «назло» самим себе. «Героями хотите быть? Народом?! С державами воевать захотели?! Они вам покажут, они вас сотрут в порошок, и поделом!»
«Жабы» — называют у нас людей, у которых ненависть к Мордехаю[*] перерастает в любовь к Аману и которых хлебом не корми, дай напакостить своему народу. Осмотритесь, и вы их повсюду увидите. Возможно, ныне их развелось более, чем когда-либо.
Там же.Как пример из современности Жаботинский вспоминал Евсекцию — еврейский отдел большевистской партии коммунистической России, работники которого преследовали сионистов со страстью, превосходящей все, творимое их русскими товарищами из ЧК. Вспоминал он также и так называемый «Союз Мира», «весь смысл существования которого — быть холуями, прислуживать арабам, пробуждать их национальное самосознание». Несть числа таким примерам. И все мы знаем, что и поныне, когда наша страна окружена врагами, мечтающими ее уничтожить, среди нас есть масса таких «господ Назло». Назло самим себе.
Новая азбука
«Из всех условий возрождения государства умение стрелять, к сожалению, сейчас самое главное».
«Народу Книги», привыкшему повторять: «не силой, но духом», предложил Жаботинский нечто совсем новое, непривычное: надо изучать новую «азбуку» — «азбуку боя»! Люди постарше наверняка помнят, что в те годы идея создания еврейского государства проникла в сознание многих. И среди них было достаточно таких, которые никак не могли смириться с мыслью, что это государство надо завоевать. Завоевать в бою, где, представьте себе, стреляют. Такую «гойскую» идею они никак не могли принять. Пацифистские настроения, оторванные от реальности, царили тогда на еврейской улице и порождали атмосферу самоуничижения, надежды на «доброго гойского дядю». Призыв Жаботинского: «Учитесь стрелять!» прозвучал как гром среди ясного неба и вызвал всеобщее возмущение. Но очень скоро этот призыв нашел живой отклик среди молодежи. И она пошла в «хедер»[*], в котором слышала звуки, весьма отличные от традиционного «комец алеф — «О»[*]. Самый решительный призыв изучать «новую азбуку» прозвучал в статье Жаботинского, опубликованной в 1931 году:
У поколения, которое выросло у нас на глазах и которому предстоит совершить величайший поворот в нашей истории, есть своя азбука, и звучит она так: учитесь стрелять!
Доводы против этой азбуки мы знаем назубок. Я бы не сказал, что это совсем пустые доводы. Наоборот, в основном они очень серьезны. Если мне скажут, например, что человек должен изучать какое-то ремесло, чтобы прокормить себя и быть полезным другим, или что нужно быть настоящим человеком, а стало быть, изучать «культуру вообще», или же быть евреем, а для этого необходимо изучать свой язык и свою историю,— я скажу: разумеется, верно. Если мне скажут, что государство строят не пушки, а труд, разум и капитал,— и с этим я полностью соглашусь. И даже если мне будет сказано, что стрельба — это милитаризм, а наш мир стремится к миру,— я и с этим не буду особенно спорить, хотя не уверен, что он действительно так уж стремится к миру. Я даже готов признать, что это очень печально, что именно в наше время евреям приходится заниматься таким делом — учиться стрелять. Но — приходится, и против необходимости, продиктованной исторической реальностью, возражать бессмысленно.
Осознание исторической реальности обязывает нас понять: если евреи будут прекрасными земледельцами и экономистами, если они будут строить и строить, если каждый из них станет тонким знатоком своей культуры, от песни Деборы[*] до Шлёнского[*], но при этом не будет уметь воевать — наше дело безнадежно. Но если мы овладеем азбукой боя — у нас появится надежда. Это диктует нам историческая реальность, опыт последних 15—20 лет и перспектива на ближайшие 15—20 лет. И это ясно каждому — сионисту и антисионисту, еврею и нееврею, если этот нееврей готов снизойти на минуту до еврейских проблем. Всем, всем без исключения, и неважно, нравится им это или нет. Все понимают, что из всех условий возрождения государства умение стрелять — сейчас, к сожалению, самое главное.
...Я понимаю, что из сотни мечтающих овладеть новой азбукой у девяноста нет никакой возможности это осуществить при всем желании: не из чего стрелять, нет времени, законы не позволяют... Но ничего! Само осознание того, что это необходимо, само желание стрелять, боевая психология — чрезвычайно важны. Вы мне можете тысячу раз говорить, что это — духовный милитаризм, а я буду настаивать: это здоровый инстинкт народа, оказавшегося в нашем положении. И я помню (и читателю не стоит этого забывать), какую дорогую цену заплатили мы в 1914—1918 году за наше неумение стрелять.
«Пламя на стенах», «ха-Ума» («Нация», иврит), № 9; в сб. «На пути к государству».Инстинктивно многие евреи чувствовали, что самооборона — дело правое и святое, но они никак не хотели смириться с мыслью, что это дело требует изучения, подготовки. Жаботинский предостерегал:
О том, что это — ремесло небесполезное, теперь уже евреи не спорят. Но вот беда, с логикой у евреев плохо. Они почему-то решили, что если другие ремесла требуют обучения, навыка, то это, дескать, дается само собой, достаточно только захотеть и не бояться смерти. Это просто ребячество. Речь вообще не идет о смерти. Наоборот, цель здесь — не дать себя убить, а главное, не позволить убивать других евреев или даже унижать их. И это умение не приходит само собой; это ремесло, как и все другие, даже посложнее других, ибо ответственность неизмеримо больше. И надо изучать и изучать его, причем систематически. И нечего стыдиться ученичества — надо гордиться им.
«Хайнт», 18.1.1929.С целью обучения ремеслу боя Жаботинский создал денежный фонд — «Фонд Тель-Хай». В частном письме он не только объяснил цели фонда, но и блестящие сформулировал философию «новой азбуки»:
Цель [фонда], по моему разумению, такова: дать такое воспитание еврейскому молодому человеку, которое сделало бы невозможным любое проявление насилия по отношению к евреям где бы то ни было. И чтобы эта абсолютная, физическая невозможность была ясна всем настолько, чтобы и мысли, и намерения такого не могло возникнуть. Тогда-то и настанет мир и в Эрец Исраэль, и вообще везде, где живут евреи. Трудно поверить, что провокации и антиеврейские вылазки имели бы место, если бы их зачинщики знали, что они не останутся безнаказанными. И этот соблазн должен исчезнуть. Поэтому [фонд] Тель-Хай важен не только евреям — им он жизненно необходим; но он в то же время выполняет и важную общечеловеческую задачу.
Письмо по-немецки X. Белиловскому, 10.6.1932.Жаботинский подчеркивал не только моральную ценность «азбуки», но и ее огромное политическое значение. Между его взглядами и взглядами даже тех евреев из числа руководителей Ишува[*], которые были известны как «оборонцы», лежала пропасть в те дни, когда он писал следующее:
...Ничто не поможет. Мы живем в мире, населенном людьми, народами, и невозможно полностью абстрагироваться от окружающего мира. Точно так же, как и перед другими народами, перед нами стоит вопрос вопросов: способен ли ты противостоять нападению? Если нет — не о чем говорить! Никто тебе не поможет. Ты вынужден сдаться, капитулировать на всех фронтах. Как и у других народов, наше будущее зависит от оружия, мы обязаны быть готовыми к обороне.
«И нет мира», «ха-Ярден», 10.4.1936.В дополнение к сказанному можно привести, пожалуй, лишь отрывок из романа «Самсон», производивший огромное впечатление на молодых современников Жаботинского:
— Две вещи передай им от меня, два слова. Первое слово: железо. Пусть копят железо. Пусть отдают за железо все, что есть у них: серебро и пшеницу, масло и вино и стада, жен и дочерей. Все за железо. Ничего дороже нет на свете, чем железо.
Из книги «Самсон».Полной верой
«...Во все мечты, во все надежды, обещания я верю...»
Трудно понять иной раз, откуда Жаботинский черпал свою безграничную веру в сионизм, заставившую его пренебречь блистательной карьерой, которая ждала его на поприще русской журналистики и литературы, и обречь себя на скитальческую жизнь, полную лишений и горестей. Его современники — сионисты и несионисты, отдавая должное его выдающимся талантам, «досыта накормили» его злобой и клеветой. Если вы прочтете его письма, вы увидите, в какой бедности он жил. Правда, бывали периоды, когда, утомленный дрязгами и политической грязью, он как бы уходил в себя, временно отдалялся от дел. Но никогда, ни на минуту не терял он веры в сионизм, он свято верил в торжество идеи еврейского государства, не сомневался, что оно будет создано, если не при его жизни, то уж точно при жизни его более молодых современников. Еще в 1905 году, когда он только делал первые шаги в сионизме, он так излагал свое кредо:
Наша вера в Палестину не есть слепое полумистическое чувство, а вывод из бесстрастного изучения всей сущности нашей истории и нашего движения. И после этого я охотно сознаюсь, что я, действительно, все-таки верю. Чем больше вдумываюсь, тем тверже верю. Это для меня, скорее, даже не вера, а нечто иное. Разве вы верите, что после февраля будет март? Вы это знаете, потому что иначе быть не может. Так неопровержимо для меня то, что в силу сочетания непреодолимых стихийных процессов Израиль стянется для возрождения к родной Палестине и мои дети или внуки там будут подавать голос в избирательном собрании. И если вы тоже хотите верить, то засучим рукава, и будем стыдиться вечера, в который нам пришлось бы сказать: я не работал сегодня...
«Сионизм и Эрец Исраэль», 1905.День провозглашения независимости Израиля наступил через 43 года. И сын Жаботинского Эри не только избирал его первый парламент, но и удостоился быть в числе избранных. «Полную веру», веру без тени сомнения сохранил Жаботинский на протяжении всего своего жизненного пути:
И это вечный спор, не прекращающийся на протяжении всей нашей истории: спор между наивным дурачком, мечтателем, верящим в человека, в мораль, в страсть, в идеалы, в жертвенность и всякие подобные чудеса,— и умудренным опытом скептиком, вся философия которого выражается, по сути, в одной фразе: «Ничего не выйдет!».
Всю свою жизнь слышу я вокруг себя этот спор и должен сознаться, что всегда был на стороне наивного дурачка. Лет сорок назад присоединился я к этой компании дурачков, наивно уверовавших в такое пустое дело, как сионизм. До сих пор краснею от стыда, вспоминая, как же издевались над нами умудренные. Как дважды два доказывали нам, что объективные процессы неизбежно ведут евреев к ассимиляции. Что Турция и даже христианские государства никогда не признают нашего права на Эрец Исраэль. Что поток эмиграции всегда будет стремиться в Америку и никогда не повернет в сторону Израиля. Что оживить мертвый язык невозможно...
«Копилка», «ха-Ярден», 26.8.1935.Как мы знаем, правда оказалась на стороне «дурачков»: мир признал право евреев на Эрец Исраэль, поток эмиграции «повернул» туда и ожил «мертвый» язык. Но были и тяжкие разочарования. Британский союзник не выполнил своих обещаний и не только не помогал в создании еврейского государства, но и мешал этому, как только мог. В лагере сионизма воцарилась атмосфера «сдержанности», исчезла вера в то, что цель достижима в ближайшем будущем, но Жаботинский верил, несмотря ни на что:
Кредо в смысле изложения программы — в этом нет нужды для нас, хорошо знающих друг друга. Да и программу мы все отлично знаем. Но есть и другое значение у этого слова — его основное, детское, задиристое, смелое значение — значение глагола, а не существительного. Вы, быть может, и забыли его, но я не забыл.
Посоха Аарона и даже обыкновенной волшебной палочки нет у меня. Ни в качестве общественного деятеля, ни в качестве журналиста я не совершу чудес и не переделаю мир. Но кое-что новенькое для вас у меня есть — я верю. Во все, во что верили и вы в ваши юные годы и лишь потом, с наступлением зрелости и мудрости, усомнились. Во все то, что стучало в сердцах и гремело под сводами зала в Базеле[*] 21 год тому назад, когда нам, нашему поколению — поколению бунтарей в юности, к зрелости ставшему поколением филистеров, предстал титан, имя которого вы по сей день славите, но учение которого давно позабыли. Верю в кричащую и разорванную душу нашего народа, который избивали как скот в России и в Галиции, и в то, что отозвалось в его душе, когда ему провозгласили пророчество 2 ноября[*], этот великий акт Англии, который теперь стал для нас символом двуличия и политической непорядочности; во все мечты, во все надежды, обещания я верю, как дурачок, не прочитавший ни одной книги и не видавший жизни.
Эрец Исраэль будет нашим государством, еврейским, государством, как у каждого народа. Наш народ построит его. Наш народ пошлет туда своих сынов, пожертвует свои деньги и построит его. Ибо наш народ — стойкий и верный, и он прекрасный строитель, который если ошибется, то исправит ошибку и будет строить дальше. И построит. И он силен, наш народ, он из самых крепких народов в мире, и нет ему преград.
И британский народ поможет нам строить наше государство. Из уважения к клятве, которую он принес в лихие свои дни, он поможет нам; и ради своего будущего, ради самого себя он поможет нам. Он пришлет сюда наместников, которые захотят понять и поймут и расчистят дорогу перед еврейскими строителями, пока не отстроится государство и не возьмет власть в свои руки.
И это поколение, потерявшееся и растерявшееся, этот Ишув, затосковавший и не уважающий сам себя, и он еще познает гордость. Вновь встанет он в полный рост, и будет надеяться, и вновь уверует. И споры наши угаснут... мы научимся работать все вместе.
«Верую» (оригинал написан на иврите), «Доар ха-йом», 2.12.1928.Да, не все из «Верую» Жаботинского осуществилось. Британия так и не сдержала своих обещаний. Жаботинский вскоре понял, что на Англию рассчитывать не приходится, стал искать других союзников и, в конце концов, призвал молодежь Эрец Исраэль к восстанию против англичан. И продолжал верить. Накануне Катастрофы, за год с небольшим до собственной смерти, он выражал непоколебимую веру в свои идеалы, в то, что он сам еще увидит их торжество:
...Поэтому я считаю, что Избавление не за горами. Я говорю об избавлении евреев в самом примитивном, детском значении этого слова, как понимал его мой дед, сидя в хедере: великий Исход и свободная, независимая страна. Может быть, этот оптимизм — от старости, от слабости, от усталости — не мне судить, ибо последний, кто может заметить признаки деградации,— сам деградирующий. Я могу только признать, что и в дни юности не было у меня этого ощущения, что вот, уже скоро, еще чуть-чуть. Как и все мои современники, я верил в эволюцию, в поэтапное развитие, результаты которого увидят, в лучшем случае, лишь наши дети, да и те — к старости. Но в течение последних лет крепнет во мне убежденность, что чем реальнее и ближе катастрофа, тем ближе с ней и конец галута, что надо только ее пережить. Признаться? Да я уж признавался в этом — я верю еще, что вот эта пара очков, которая позволяет мне сегодня читать страшные новости в газете, увидит еще рассвет Избавления.
«Эта ночь», «ха-Машкиф», 19.4.1939.Пусть скажут все, знающие историю различных освободительных движений: известно ли им какое-либо движение, которое в столь короткий срок (сорок лет) поднялось бы из бездны и обрело бы такое величие, как это? И поэтому я говорю: мы не в упадке, это неправда! Напротив, мы на подъеме. Тайный дух выводит нас к спасению. И я должен напомнить старое русское выражение: «буря поможет». Изначально она безумствует, но толкает нас в нужном направлении. И вскоре, быть может, еще при нас, и уж, конечно, при наших детях придет истинное освобождение — при условии, что мы выстоим.
Пластинка на идише. Речь о вопросах распределения, 1936.Антисемитизм
«Антисемитизм людей и антисемитизм обстоятельств».
Жаботинский был не первым идеологом сионизма, который отрицал наивное объяснение антисемитизма, весьма распространенное у евреев, гласившее, что корни антисемитизма в устаревших предрассудках, питаемых расовой и религиозной нетерпимостью, и что стоит лишь засиять солнцу прогресса, как спадет пелена с глаз людей и наветы и насилие исчезнут сами собой. Заслуга Жаботинского в том, что в период между двумя мировыми войнами он сумел показать проблему во всей ее остроте и дать ей однозначное определение: антисемитизм — не субъективное явление. Существует, с одной стороны, антисемитизм людей, с другой стороны — антисемитизм обстоятельств:
Будет величайшей наивностью — и я не намерен впадать в эту ошибку, хотя это ошибка многих и многих,— так вот, будет величайшей наивностью возлагать всю ответственность за вечную катастрофу нашего народа лишь на отдельных людей, или на толпу, или на правительства. Дело обстоит неизмеримо сложнее. Я очень опасаюсь, что сказанное мной сильно не понравится многим моим иноверцам, но ничего не поделаешь, весьма сожалею. Правда есть правда. Три поколения еврейских публицистов, идеологи сионизма, среди них — истинные титаны мысли, посвящали свои исследования анализу положения евреев и пришли к выводу, что причина наших бед — в самом галуте, что корень зла в том, что повсеместно мы — меньшинство. Это не человеческий, не личный антисемитизм, это антисемитизм обстоятельств, это извечное неприятие чужаков, свойственное каждому сообществу в природе.
«Свидетельство перед правительственной комиссией», 1937; в сб. «Речи».Жаботинский в то же время настаивал, что «антисемитизм обстоятельств» не снимает ответственности с носителей «человеческого антисемитизма», не избавляет их от наказания за их преступления:
Не поможет оправдателям Петлюры и ссылка на ту теорию, что погромы, с точки зрения философии истории, являются следствием не столько «антисемитизма людей», сколько «антисемитизма событий». Это теория разумная, и она применима не только к погромам, но и ко всем другим видам преступности. В каждом элементарном учебнике социологии сказано, что воровство, бандитизм и пр. объясняются не столько злой волей отдельных людей, сколько давлением социальных условий. Но отсюда никто еще не делал вывода, что индивидуальный вор или бандит «невиновен». Виновен, и подлежит каре. Так же были виновны и погромщики, резавшие евреев во время правления Петлюры, и подлежали строгой каре. Петлюра их не карал, хотя был главой правительства и армии, и хотя это продолжалось больше двух лет. Тут философия истории не при чем: такой глава правительства, такой глава армии виновен в неслыханном и непростительном преступлении по должности пред еврейским народом, пред народом украинским и пред всем человечеством.
«Петлюра и погромы», «Последние новости», 1927.Жаботинский признавал, что, в конечном счете, «антисемитизм обстоятельств» коренится в субъективном факторе — в людях. Результатом трезвого наблюдения был вывод, что враждебное отношение к евреям — это своего рода душевная болезнь. В принципе, можно обезвредить проявление ее острых форм. Но сама болезнь — неизлечима:
Антисемитизм людей — это активная позиция, постоянно ощущаемая потребность вредить ненавистной расе, унижать ее, втаптывать в грязь. Ясно, что такой агрессивный, садистский настрой не будет постоянно царить в обществе, постоянно находиться на точке кипения у каждого члена общества. Неизбежно он будет знать лучшие и худшие времена, всплески и спады, и даже в моменты своего буйного торжества он проявляется в крайней форме у меньшинства — у вожаков и зачинщиков. Большинство же идет вслед за ними и радуется потехе. И так как «людской антисемитизм» гибок, иногда можно в борьбе с ним добиваться локальных побед. Так, например, можно предположить, что немцы — народ, известный своей удивительной способностью к общественной дисциплине, доходящей до гениальности,— уменьшат свой антисемитский пыл — когда им это прикажут...
Кажется, есть нечто патологическое в вулканическом клокотании этой ненависти. Как бы ни было обострено чувство расового превосходства, каковы бы ни были «преступления» евреев, все равно не хватит их на такую меру ненависти. И само собой закрадывается подозрение, что подсознательная природа этого — не только «антипатия», но и «симпатия» — как у патологических садистов. Определяющая черта такой слепой вулканической ненависти — неприятие сионизма и сходных с ним течений. С точки зрения логики, немцы должны были бы всячески поддерживать сионизм, поддерживать любое движение, стремящееся вывести евреев из Германии. А на деле они поддерживали, более чем любое другое правительство, антиеврейские беспорядки в Эрец Исраэль. Ясно, что если бы вместо Эрец Исраэль местом национального убежища для евреев объявили Уганду, или Анголу, или Минданао, нацисты действовали бы точно так же. Садист не хочет лишиться своей жертвы. Библейский рассказ об Исходе из Египта стал первым письменным свидетельством борьбы этих двух начал: стремления избавиться любой ценой от ненавистного племени и стремления в то же время не выпускать его.
Из кн. «Фронт борьбы еврейского народа», 1940.И от классического описания «субъективного» антисемитизма Жаботинский переходит к антисемитизму «объективному», который он пытается осмыслить как, в известной мере, проявление человеческой природы:
Цель автора — выявить болезненную и вечно изменчивую природу явления, которое он называет «антисемитизмом людей» и которое не следует смешивать с «антисемитизмом обстоятельств». Последний — неизменен, вечен — и поэтому наиболее страшен. Источник последнего — в инстинктивном чувстве неприязни каждого нормального человека к «чужакам», к «не своим». Это даже не ненависть. И не обязательно это идет от гордыни. Это чувство может спать в человеке долгие годы, оно может не проявляться в обществе поколениями. Но оно проснется в момент, когда «будет что делать». Когда надо будет сделать выбор между «своими» и чужаками. Тогда проснется инстинкт самосохранения. Но даже и тогда оно вовсе не обязательно разгорится буйным всепожирающим пламенем (хотя может и разгореться). Возможно, внешне оно будет беспощадно. Здесь важна не форма, а суть. Эта суть — неистребимое сознание, укоренившееся в сердце каждого нееврея, что его сосед — еврей — «чужой». Это сознание само по себе вреда не приносит. Оно не вредит ни добрососедству, ни взаимопомощи, ни даже дружбе, пока «общественный климат» тих и спокоен. В «климате», царящем сейчас в Восточной Европе, оно переросло в тотальное убийство евреев.
Там же.Жаботинский считал необходимым объяснить, главным образом соотечественникам, почему «общественный климат» в Восточной Европе привел к массовому истреблению евреев. Он описал невообразимый процесс механизации сельского хозяйства и промышленности, ведущий к появлению массы безработных в городах, что, в свою очередь, ведет к росту конфронтации среди «среднего класса» и интеллигенции, среди которой традиционно было много евреев (они составляли 30% городского населения Польши). Результат: всеобщая борьба за «место под солнцем»:
Борьба за «места» неслыханно обострилась, и обостряется с каждым днем. Каждую секунду кто-то, для кого не хватило места, фатально должен выпасть за борт. И столь же фатально первой жертвой является всегда еврей.
Повторяю: «фатально». Ту человеческую черту, что в беде всегда пожертвуют «чужим», а не «своим», я считаю такой же стихийной частью мирового порядка, как холод зимою и летом жару. Это очень непохвальная черта, постыдная, звериная; будь я на месте Господа Бога, я бы создал мир совсем по-иному и такой черты никогда бы не допустил. Но она есть; и она есть у всех — у евреев тоже; и она неискоренима.
Еврейское государство, рукопись, 1936.И раз невозможно искоренить это свойство, неизбежно несущее горе и саму смерть евреям в галуте, становится очевидным, что единственный выход — обеим сторонам окончательно разойтись. К обоюдной пользе.
Это не борьба, не травля, не атака: это — безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента. В разных профессиональных сферах оно разно проявляется. В сфере литературно-художественной, с которой у нас «началось», оно приняло бы форму такого рассуждения: я пишу свою драму для своих и имею право предпочитать, чтобы на сцене ее разыграли свои и критику писали свои. Этак мы лучше поймем друг друга.
«Дело Чирикова», «Фельетоны», 1913.Активизм
«Куйте железо!»
Эта черта — вечное беспокойство, непрерывное действие — была присуща Жаботинскому на протяжении всей его жизни. С приближением страшной Катастрофы Жаботинский неустанно искал пути спасения своих братьев. Но и за 35 лет до того, когда он был еще сионистом-пропагандистом (Жаботинский отвечал за сионистскую агитацию в пределах Российской империи), он решил для себя, что сионизм — это не только устремление души, но, прежде всего, дело, живое дело, требующее от человека полной отдачи.
На празднике Песах в 1905 году 25-летний Жаботинский обратился к современникам, призывая их внять зову истории — взяться за дело освобождения еврейского народа:
Я никогда не был пай-мальчиком и никогда не удостаивался задавать четыре вопроса[*]. Но и я спрашивал старших — спрашивал многожды — и не добился ответа. И нетрудно угадать, что настанет и мой час и поседеет и моя голова. И все мы — черноволосые ныне — поседеем. И настанет Песах, и наши внуки посмотрят нам прямо в глаза и дерзко спросят нас: «А что ты сделал для общего дела за всю свою жизнь?». Я боюсь этого вопроса. Не знаю, смогу ли я на него вразумительно ответить. Возможно, придется мне, поступив взгляд, сказать: «Ничего...»
Очень не хотелось бы дожить до такой пасхальной ночи, когда на вопрос ребенка: «А чем же отличается эта ночь от всех прочих?» придется дать такой вот ответ. Так отвечали нам старики. Но они это умели облечь в солидную, почетную форму, а вот наше «ничего...» прозвучит уж совсем безрадостно. Ибо времена меняются и новая эпоха возлагает на нас иную меру ответственности. Непохожи мы на наших стариков, и спрос с нас другой — времена изменились.
«Ничего не сделал я для общего дела,— спокойно глядя нам в глаза, отвечают нам наши отцы.— Ничего не сделано, ибо ничего не делалось во всем мире. Мы жили в пропащие времена среди спящего народа. И нам нечего стыдиться, ибо не человек властвует над эпохой, но эпоха над ним».
Но когда мы поседеем и когда к нам обратятся с этим вопросом — чем оправдаемся мы? Наше время — совсем иное. Тишь и спячка окружали их — нас окружают громы и бури. Что-то мнется и исчезает, что-то зарождается, что-то рушится, что-то строится, тысячи первопроходцев идут доселе неведомыми путями, взвиваются и реют новые знамена, звучат новые слова, «лед тронулся», и когда он идет — он сметает все со своего пути. И тот, кто живет в такие времена и ухитряется дожить до старости, не пошевелив пальцем, как он ответит свое «ничего» юному судье — судье самого победного суда? «Ответь мне,— скажет судья.— Говорят, в ваши дни над землей пронесся тайфун, гроза, освежившая дыхание народа, влившая в него новые силы. Расскажи мне о ходе той борьбы, о ваших подвигах, о твоих делах». А тот, задыхаясь от стыда, начнет бормотать слова Агады: «Рабами были мы...»[*]— Был рабом и в рабстве остался. Да, была буря в дни моей юности, но я спрятался и переждал. Да, сама история вела мой народ к свободе, но я уцепился за тростник на берегу и остался со своей Агадой. Ничего не сделал, ничего не видел, ничего не знаю».
И не будет большего стыда на земле. И когда я обо всем этом думаю, начинает трепетать мое сердце. И хочется крикнуть, чтобы услышали все: «Куйте, куйте железо! Не опускайте молот, не теряйте ни минуты! Ибо придет и наша пасхальная ночь. И придут наши внуки и потребуют ответа.»
«Куйте железо!», 1905; в сб. «Записки».Образ еще одного традиционного праздника евреев — Рош ха-шана (Новый год) использовал Жаботинский в своей борьбе с бездельем и пассивностью для пропаганды «активизма». Он не знал более подобающего благословения наступающего года, чем благословение активной работы, труда во имя Избавления евреев. В канун нового 5691 (1930) года он писал:
Я полагаю, что истинная оценка того или иного года или периода, было ли это время «хорошим» или «плохим», зависит не от имевших место событий, а от нашей «реакции» на эти события — как мы их приняли, чем мы на них ответили (или ответим). Мое благословение — не пассивного залога: «да будете записаны и будет поставлена печать»[*], но активного: «запишите и подпишите» — вы, вы сами, никто, кроме вас.
...Прошли времена, когда участь нашего народа «записывалась и подписывалась». Нынче мы сами «пишем» нашу судьбу и «подписываем». И то, что напишем,— останется; и как подпишем — так и будет.
«Активный залог», «Доар ха-йом», 1.10.1930.В том же духе благословения Жаботинский высказывался по прошествии трех лет, в канун нового 5694 (1933) года:
Все мы желаем друг другу «хорошего года». Но «хороший год» вовсе не всегда означает «счастливый» или «спокойный». Если все время желать друг другу счастья — это будет, пожалуй, звучать издевательски — кто ж нынче всерьез верит в счастье? И «спокойствие» означает, прежде всего, что не будет никаких перемен. Сомневаюсь, что в наше время и при нынешних обстоятельствах найдется много людей, которых бы устраивало существующее положение вещей.
Но главное, что и «счастье», и «спокойствие» никак не зависят от нас, от нашей воли. А вот сделать так, чтобы год стал «хорошим»,— в нашей власти. Ибо что значит «хороший год»? Он будет «хорошим», если четыре цифры его порядкового номера останутся в нашей памяти, будут напоминать нам о наших делах, свершениях за этот год, чтобы внуки наши с благодарностью вспоминали: «5694? Это тот год, когда наши деды ценой неимоверных усилий сделали решительный шаг к лучшему будущему...».
С тех пор, как существует календарь, в этом, по сути, и смысл пожеланий хорошего года, по крайней мере, у честных людей: «...не ради нас, но во Имя Твое».
Не так уж важно, чтобы этот год был хорошим именно сам по себе, важно, чтобы остались в памяти его четыре цифры.
Новый год — он вроде новорожденного младенца, ему мы обязаны пожелать удачи, не себе — будь славен, 5694! Не дай Бог тебе напомнить собой череду серых безликих лет, текущих непрерывным потоком в сточную яму и не наполняющих никого и ничего.
«5694 — хорошего года!», «Хазит ха-ам», 18.10.1933.Если не будет активных действий, не только год может пропасть даром, но целый народ может стать безликим и беспомощным. Если лидеры народа не услышат этого зова истории, то сама история даст им отставку. Так случилось с великим национальным поэтом X. Н. Бяликом, который умолк, поняв, что его поэзия «никому не нужна». Поэтому Жаботинский обращался к молодежи:
...И последнее, что мы можем взять из поэзии Бялика и из его молчания,— это его призыв к молодежи. Молодежь — в ней вся наша надежда. Молодежь — современница Бялика — оттолкнула его. Ибо поэт, который не интересен молодежи, должен уйти. Я надеюсь, что новое поколение молодежи это поймет и подготовит почву для нового Поэта. И дело не только в поэте. Это должны понять все, кто учит детей и произносит перед ними имена Бялика, Бен-Йегуды, Герцля. Эти имена не должны омертветь для детей, которые завтра станут молодыми людьми.
А поэтому, друг мой,— работа, работа! На всякий призыв надо отвечать делом, чтобы хоть чего-нибудь достичь. Это не только прямая обязанность, но и непременное условие, чтобы появлялись титаны в народе. Ибо не полководец создает армию, но тысячи и тысячи солдат. Толпы слушателей строят помост великому оратору. Мы поторопились построить пьедестал, а Бялик-то это предвидел. Он назвал одно из своих стихотворений «Песня-сирота» — песня, которую никто не услышит, как песню соловья в дремучем лесу. Так он предвидел свою участь, будучи 17-летним юношей. Я желаю нам всем, чтобы у будущего поколения не случилось такой беды. И потому я прошу: работайте, работайте, не давайте себе и другим одеревенеть, я не хочу, чтобы мой народ стал дремучим лесом, не слышащим ничего и никого. Да, сейчас мы обнищали и осиротели. Но не надо унывать, нам есть еще что предъявить миру. И еще будет. Но, повторяю: титаны не возникают на пустом месте. Их появление — плод труда многих и многих.
«Бялик умолк», 1927; в сб. «О литературе и искусстве».Жаботинский видел в активности не просто определенный душевный настрой, но систему политических взглядов. В дни Первой мировой войны он настаивал, что евреи не имеют права быть сторонними наблюдателями. Они должны примкнуть как самостоятельная боевая единица к одной из держав, сражающихся против Турции, тем самым сделав участие евреев в освобождении Эрец Исраэль свершившимся фактом. Круг единомышленников Жаботинского назывался «активисты». Когда мандат Эрец Исраэль был передан Англии, Жаботинский бросился в бой за то, чтобы Англия скрупулезно выполняла свои обязательства. И снова его соратники были прозваны «активистами». Лишь позже они приняли название «ревизионисты». Политическая активность была не только их основополагающим принципом, но и своего рода опознавательным знаком их движения:
И здесь мы вновь подходим к причине причин кризиса сионистского движения — к принципам «активизма». Галут приучил многих не «зарываться», не ставить перед собой слишком уж больших задач, а двигаться с «умеренностью и аккуратностью». И сионизм в их глазах должен выглядеть именно так. Им бы хотелось, чтобы все дороги в Эрец Исраэль были закрыты и осталась бы одна маленькая тропка, потайная, чтобы никто не знал о ней, ну и по ней потихонечку... Такие взгляды родились в гетто, и в гетто место им и их приверженцам. Мы руководствуемся другими взглядами. Мы веруем в активную, созидательную энергию еврейского народа. Мы верим, что чем более будет высвобождено такой энергии, тем более прекрасные плоды она взрастит, тем быстрее мы достигнем своей цели.
«Что лучше», «Трибуна», 25.4.1916.Спустя рукава, с апатией не руководят всенародным делом. Им руководят, неустанно изыскивая шанс, путь к успеху. И нет нужды говорить, что один шанс — это не сотня шансов. Ста шансов вообще не бывает. Не только для евреев, но вообще — везде и для всех. Нам, евреям, все дается в десять раз труднее, чем кому бы то ни было, и наши шансы всегда в десять раз меньше. И мы знаем это — так было всегда. Тот, кто боится дела, тому, пожалуй, трудненько будет жить. Тот, кто хочет жить, обязан искать и использовать шанс, даже если он один из тысячи, а может быть, он не так мал, как это кажется лентяю.
...«Нельзя молчать, надо обратиться к миру...» — коли так, так что ж ты молчишь, что ж не обращаешься?
Он не обращается, он ничего не «делает», потому что он — «лоялен». Кому он лоялен — он сам толком не знает... Он просто остается верен могучей и древней традиции апатии, бесплодных ожиданий, а то «как бы чего не вышло...», он ждет чуда — единственного чуда в мире, которого никогда не было и никогда не произойдет,— что Бог поможет людям, которые не хотят помочь сами себе.
«Действовать!», «Хазит ха-ам», 19.4.1932.И, пожалуйста, не будьте привередливыми! Не требуйте, чтобы работа была романтической, красивой и эффектной. Работа не опера, и не надо устраивать из нее праздничного фейерверка. Пусть роскошь будет лишь следствием работы; важнее внутренняя преданность цели, ведь из нее человек черпает силы для дальнейших свершений.
«Что нам делать?», 1905; в сб. «Первые сионистские труды».Когда нужен суд над Бастилией, не посылайте адвокатов — сами придут.
«Первая бригада», «ха-Машкиф», 28.4.39.Только раз в жизни пересекаются дороги идеального: красота и великолепие; будьте расторопны — идеал больше не вернется к вам.
Речь в Нью-Йорке, 19.6.1940, «ха-Машкиф», 5.3.1941.Национальная военная организация
«Ребята в Эрец Исраэль уже пишут лучше меня — яснее, короче...»
В годы, когда была основана и крепла Национальная военная организация, Жаботинскому был запрещен въезд в Эрец Исраэль и он не мог принять непосредственного участия в создании сражающегося подполья. Но трудно себе представить, как бы выглядел ЭЦЕЛ, а позднее и ЛЕХИ[*], если бы не огромное влияние, оказанное Жаботинским на молодежь Эрец Исраэль. Молодые со страстью изучали его работы, проникнутые бунтарским, боевым духом, духом Бейтара. В 1936 году Жаботинскому было присвоено звание Командующего ЭЦЕЛ — это звание было сохранено за ним до конца его жизни. Он не мог непрсредственно планировать боевые операции ЭЦЕЛ, но он определял его политическую линию, хотя некоторые молодые командиры, и во главе их Авраам Штерн (Яир), были не согласны с ним. Жаботинский делал упор на дипломатические усилия, базирующиеся на совпадении или сходстве интересов сторон, где в качестве веского «аргумента» на переговорах следует эффективно использовать национальное восстание или, лучше, явную, демонстративную готовность к нему. Молодые же командиры считали необходимым делать упор на боевые акции, «подкрепляя» их дипломатическими усилиями. Конечная цель вооруженной борьбы — изгнание англичан. В своем письме командирам Бейтара (1938 г.) Жаботинский дал свою оценку деятельности ЭЦЕЛ и его месту в сионистском движении:
Вам передано из Варшавы предложение об объединении всех сионистских организаций герцлевского толка[*]. Речь идет о Бейтаре, Союзе евреев — ветеранов польской и литовской армий и ЭЦЕЛ.
К примеру: молодой человек из Слонима (Польша) вступил в 10-летнем возрасте в Бейтар, репатриировался и вступил в ЭЦЕЛ в Рош-Пина. До репатриации он отслужил в польской армии, где ему помогал Союз ветеранов. И все эти годы он находился в одной организации, которая ему помогала и готовила его.
В галуте основной упор делается на боевую подготовку. В Стране — все подчинено принципу боевой готовности. Другими словами, в галуте властвует Бейтар, в Стране — ЭЦЕЛ. И это значит, что в Стране ЭЦЕЛ отвечает за все, включая обучение ребят.
...Буду очень рад, если ЭЦЕЛ сможет помочь обучению ребят и в галуте. Это наша мечта.
Письмо «господам командирам», 15.11.1938.Это письмо, как и вся переписка, относящаяся к подполью, имело гриф «секретно». Из соображений конспирации такие письма уничтожались, поэтому до нас дошло немного свидетельств участия Жаботинского в работе ЭЦЕЛ. Но из того немногого, что осталось, видно, насколько тесным было их сотрудничество. Оно усиливалось по мере того, как становилась очевидной антисионистская направленность британской политики. Весной 1939 года, когда была опубликована печально известная «Белая книга», Жаботинский уже не видел причин скрывать свою позицию: политике «сдержанности» (см. ст. «Сдержанность и реакция») должен быть положен конец. Это означало — восстание. Он писал тогда совершенно открыто:
«Святость» осквернена, «Грааль» разбит. Доселе нарушали клятву на улице, на базаре, в суде, в парламенте. Впервые, если мне не изменяет память, это делают в Святилище, рвут договор, скрепленный Богом. Протестовать? Народ протестует. Все организации подписываются под петицией, а кто-то даже устраивает уличные демонстрации. Похвально, но все же наше движение делает нечто куда более важное.
С одной стороны, мы призываем весь народ объединиться, разработать план боевых действий, назначить командование. С другой — мы видим из первых же известий с фронта Эрец Исраэль, какой дух, какая храбрость переполняет наш древний и вечно юный народ, народ Гидеона[*] и Маккавеев, Бар Кохбы и Шломо бен-Йосефа[*] и его братьев по оружию.
...Из праха и пепла, Из пота и крови Поднимется племя, Великое, гордое племя;Ребята в Эрец Исраэль уже пишут лучше меня — яснее, короче. Издалека, преисполненный священного трепета и любви, я ставлю свою подпись под всем, что они пишут и благословение всему, что они делают.
«Унижение», «ха-Машкиф», 29.5.1939.С радостью и гордостью изменил Жаботинский приведенный выше куплет из «Песни Бейтара»: вместо «поднимется» — «поднялось». Он обратился с призывом к евреям — всячески помогать молодым бойцам, вливаться в их ряды:
Вам известно, что есть люди в Стране — несколько тысяч, которые положили конец политике «сдержанности», той самой сдержанности, которая довела евреев до положения мышей, а арабов сделала хозяевами в доме. Главным занятием евреев было зажигание поминальных свечей. Теперь об этом нет речи. Когда юная «Организация» побеждает — побеждаете вы, когда ей наносят удар — бьют и вас. Из всех форм протеста эта — самая действенная, ибо даже наши оппоненты спрашивают себя теперь, а правильно ли они поступали, надо ли было строить дом для открыток. Вы можете помочь нашим ребятам. Поддерживайте их и приближайте день, когда вся еврейская молодежь будет с ними. В Стране живут 60000 юношей и девушек. Помогайте им всеми средствами. И я обращаюсь к еврейской молодежи: «А вы знаете, что вы — резерв ЭЦЕЛ?»
Речь в Варшаве, май 1939; в сб. «Речи».Жаботинский намеревался примкнуть к группе нелегальных иммигрантов — молодых ребят, которые хотели с оружием в руках высадиться в Эрец Исраэль и присоединиться к подпольщикам. Жаботинский хотел поднять знамя восстания, которое, даже в случае провала, имело бы огромное значение впоследствии. Осуществление плана было назначено на октябрь 1939 года. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, положившая конец надеждам. Жаботинский не увидел своими глазами, как его «дети» подняли восстание, но его дух веет в их подвигах.
Аристократия
«Настоящую корону... нелегко носить».
Аристократия — Жаботинский ненавидел это слово в его расхожем смысле: наследственные титулы, которые где-то еще существуют как окаменелый анахронизм, пережиток эпохи сословий. Он отвергал «еврейское» понимание этого слова, весьма распространенное в галуте, а зачастую встречающееся и в Израиле,— когда говорят, что некто — «из хорошей семьи». Это всего лишь означает, что в семье водятся деньги. Жаботинский был за другой аристократизм, который не наследуется и не приобретается за деньги, а живет в самом человеке, в его душе и поступках. Подлинная аристократия, по Жаботинскому, действует, а не отсиживается, действует осмысленно, упорно идет к благородной цели и не требует себе за это благ и почестей. Наоборот, истинный аристократ всегда откажется от воздаяний и наград, от которых ни за что не отказался бы обыкновенный человек. Эту идею Жаботинский высказал в статье о том, каким, по его мнению, должен быть деятель сионистской организации:
Аристократия должна, прежде всего, вести себя как аристократия. Это означает: отказываться от многого того, в чем обыкновенный человек и не подумал бы себе отказать. И среди этого многого — вполне обычные вещи, но — руководителю они не к лицу. Такое ограничение обязательно для любой элиты, но об этом чаще всего предпочитают забывать. Я как-то смотрел одну немецкую пьесу, в которой баронесса выговаривала мужу (который только вчера стал бароном, а до этого был просто купцом) за то, что он спустил кому-то какую-то обиду: «Почему же ты не дал ему в морду — ты ведь теперь аристократ?!» Действительно, это весьма распространенное, но столь же ошибочное мнение: дескать, аристократу позволено все. Наоборот, аристократ — это человек, которому «можно» неизмеримо меньше, чем всем прочим, он обязан сдерживаться, чтобы не уронить себя. Не всегда это легко и всегда — неприятно. Однако настоящую корону, сделанную целиком из золота, даже маленькую — нелегко носить. Не хочешь, не можешь — не носи! Но уж если возложил ее на голову — научись терпению!
«Сионистская организация», «Хайнт», 28.10.1927.Разумеется, аристократия, отгородившаяся от всего мира, моментально превратится в компанию малокультурных выродков. Она должна существовать среди людей, обогащаться знаниями и обогащать ими других, следовать главным примерам прошлого и самой становиться примером для потомков. И тут Жаботинский делает «открытие». Оказывается, у евреев существует древняя и непрекращающаяся традиция аристократии «патрицианского духа», проявлений истинной царственности. Это открытие «не понравилось» неевреям, да и многим евреям оно не пришлось по вкусу. Но как бы там ни было, «патрицианство» евреев — факт, который невозможно отрицать:
...И если есть еще смысл у слова «аристократия», то он скрыт в таких понятиях, как «аристократия духа», в утонченном строе мыслей, в первозданной чистоте.
Поройтесь в родословных королевских династий Европы, возьмите двадцать, тридцать, ну, сорок поколений — и наткнетесь на дикаря, этакую двуногую скотину. А вот на рынке в Варшаве или в Ист-Сайде в Нью-Йорке вы не найдете еврейского лавочника или мусорщика, прямой предок которого и в восьмидесятом, и в сотом поколении не возделывал бы духовной нивы, не старался бы постичь тайны мироздания, не унаследовал бы от пращуров первозданную традицию мыслить, искать и различать между «человеком разумным» и «человеком диким». Если бы был смысл у слова «аристократия», то это была бы кличка евреев. Но миру это неизвестно — ибо мы сами забыли. Ибо мы, прямые потомки Авраама и Давида, сами позволили лишить нас «престолонаследия». И вот мы слоняемся по улицам — неумытые, неопрятные, орем, толкаемся, будто бы вчера родились, мы — потомки великих законодателей, с которыми Бог говорил лицом к лицу, боролся, которых сопровождал... Мы, которые обязаны были бы нести миру правду и чудеса, обладая орлиным взором Яакова, тяжкой поступью Гидеона, легкими перстами пророчицы Мирьям...
«Темкин», «Хайнт», 3.2.1928.Отправной точкой этих высказываний послужила личность Зеева Темкина — одного из лидеров сионизма в России и в Эрец Исраэль и одного из основателей ревизионистского движения. Другим лицом, которому Жаботинский присвоил титул истинного аристократа, был адвокат Слиозберг — страстный борец за права евреев в дореволюционной России. Жаботинский показал благородные черты его характера и вновь изложил свое кредо в отношении аристократии и ее «еврейской стороны»:
...Вот еще одна черта — унаследованная непосредственно у царя Давида. Мне рассказывали: если Слиозберг заключил с вами соглашение — можете на него положиться. Он будет трактовать его так, как трактуете вы. Вам нечего опасаться подвоха. И еще: в его конторе человеку становилось как-то по-домашнему легко и удобно. То есть, не то чтобы он мог принять вас в халате — сам он был подтянут и аккуратен, но при этом как бы предлагал вам: «Представь себе, что ты в халате, и давай поболтаем как приятели». Кто-то сказал, что во всех слоях общества можно встретить людей, которым к лицу был бы титул «ненаследных принцев». И всякий, о ком можно услышать такой рассказ, стоит того, чтобы о нем было рассказано, услышано и пересказано детям. И чердак может стать дворцом. В приведенной истории две черты превратили героя в хозяина дворца: верность слову и умение сделать легко и хорошо ближнему, не давая при этом поблажки себе.
Все это специфические еврейские черты? Я не знаю. Никогда не задавался вопросом, национально ли в нас наше стремление к честности, к правде... не знаю. Но вот о чем не следует забывать: если сотни лет унижений оставили на нас свои следы, то очевидно, что сотни и тысячи лет глубочайшего и высочайшего духовного развития тоже должны как-то сказаться. А ведь это развитие было таких масштабов, такой глубины, что и мудрый древний Китай не знал подобного. В те времена, когда предок самой древней из европейских династий не видел за всю жизнь ни одной буквы, наши предки углублялись в такие области знания, что и по сей день доступны далеко не всякому. И это не могло не оставить следа — семьдесят поколений напряженного духовного труда, погружения в тайны добра и зла, совести и воздаяния. «Ненаследные принцы» есть в каждом народе. Говорят, у нас — встречаются реже, чем у других. Но по правде, если б не трагедия нашей истории, то только из них бы и состоял сейчас наш народ.
«X. Слиозберг», 1933; в сб. «Воспоминания современника».Но образ самого значительного еврейского аристократа Жаботинский не описал. Он его прожил. Изо дня в день, из года в год нес он корону. А нести было тяжело. Но даже завзятые противники Жаботинского не могли не признать величия его души. И его ученики учились у него Хадару (см. ст. «Хадар»). Это не что иное, как еврейское название всех вместе взятых свойств аристократии.
Титана потомок, ему я подобен. Красу и величие мне ли не знать. Я горд пред царями, пред бедными скромен, И я побеждаю — чтобы прощать. «Клятва», в сб. «Стихи».Эрец Исраэль
«Плоха она или хороша, удобна или неудобна, дешева или дорога — это моя земля».
Проблемы сионистского движения были не столько в достижении его политической цели, которая формулировалась так: национальное, духовное и политическое возрождение еврейского народа на своей территории и облегчение участи евреев, спасение их от уничтожения посредством иммиграции на эту территорию. Эту идею, в принципе, готов был поддержать весь цивилизованный мир. Трудности начинались тогда, когда формулировалась географическая цель — Эрец Исраэль — страна сравнительно густонаселенная, где пересекались интересы всех держав. Почему же сионисты остановили свой выбор именно на этой земле, получение которой требовало неимоверных усилий и огромных жертв? Почему именно Эрец Исраэль, а не, скажем, Биробиджан? Ответ понятен: тысячелетняя тяга евреев к Сиону, к земле, с которой связана вся история народа, все его традиции, молитвы, песни — все. Но резонно спросить: а откуда такая тяга к Сиону у людей, выросших вне еврейской традиции, не привыкших каждый день молиться о нем, таких, как Герцль, например? Известно, что когда Герцль впервые выдвинул идею еврейского государства, он не утверждал, что это должна быть именно Эрец Исраэль. Как и Герцль, Жаботинский не рос в атмосфере еврейской религиозной традиции. В «Автобиографии» он свидетельствует: «Никаких особых сантиментов, романтической любви к Эрец Исраэль у меня не было тогда; собственно, я не уверен, что есть теперь». Почему же именно за эту землю он всю жизнь боролся с такой страстью и самоотверженностью? Ведь он, будучи сионистом, мог бы признать, что главное — найти какую-нибудь территорию для евреев за пределами стран их концентрации — и достаточно. Что же заставило его сразу решительно отвергнуть идею Уганды[*]? Представляется, что его приверженность к Эрец Исраэль возникла из понимания национального единства евреев, которое придавало смысл всей их истории:
До Палестины мы не были народом и не существовали. На почве Палестины возникло, из осколков разных племен, еврейское племя. Почва Палестины взрастила нас, сделала гражданами; создавая религию единого Бога, мы вдыхали ветер Палестины, и борясь за независимость и гегемонию, дышали ее воздухом и питались злаками, рожденными из ее почвы. В Палестине выросли идеологии наших пророков и прозвучала «Песнь песней». Все, что есть в нас еврейского, дано нам Палестиной; все остальное, что в нас имеется, не есть еврейское. Еврейство и Палестина — одно и то же. Там мы родились как нация и там созрели. И когда буря выбросила нас из Палестины, мы не могли расти дальше, как не может расти дальше дерево, вырванное из земли. И вся наша жизнедеятельность свелась к охране той нашей индивидуальности, которую создала Палестина.
«Сионизм и Палестина», 1904.Жаботинский решительно выступал против «территориалистов», которые считали, что можно построить еврейское государство в любом другом месте, не в Эрец Исраэль:
Я говорил и говорю, что вся история галута субъективно сводится к охране нашей палестинской индивидуальности. Это не предрешает вопроса о том, насколько нам удалось или не удалось сохранить в неприкосновенности нашу палестинскую индивидуальность: это значит только, что охрана ее была центральным нервом, основной красной нитью, главным, так сказать, рельсовым путем нашей истории на всем протяжении галута. С того момента, как возник «еврейский вопрос», он бессознательно и естественно поставлен именно в этой форме: найти способ для сохранения еврейской палестинской индивидуальности. Следовательно, сионизм, если ему предстоит дать окончательное решение «еврейского вопроса», должен дать его непременно в этой же форме: найти лучший способ для сохранения и развития еврейской палестинской индивидуальности, т. е.— переселить нас в Палестину. Без Палестины сионизм не то что «еретичен», а просто неосуществим, так как завершение нашего галута должно двинуться по тому же рельсовому пути, по которому двигался и весь исторический поезд галута: поезд, сошедший со своих рельс, неминуемо терпит крушение. Уганда в моих глазах не тем плоха, что из нее в конечном итоге выйдет не палестино-еврейское, а угандо-еврейское государство: она тем плоха, что из нее в конечном итоге никакого государства не выйдет и не может выйти: ибо длительное массовое национальное напряжение («hachlatá leumith»[*] Ахад-Гаама), необходимое для осуществления еврейского государства, может создаться и поддерживаться только на почве того принципа во всей полноте, который является разгадкою всей нашей исторической национальной самообороны: гарантии сохранения палестинской индивидуальности. Такая гарантия может быть связана только с Палестиной.
«О территориализме», 1905.Так Жаботинский убеждал евреев, которые сомневались в обязательности «принципа возвращения в Сион». С не евреями, а в более позднее время и с евреями тоже, он говорил более «практическим» языком. Когда в Центральной и Восточной Европе проснулся вулкан антисемитизма, многие государства поняли, что необходимо подыскать для евреев какую-нибудь территорию, главным образом для тех евреев, которые были изгнаны или которым удалось вырваться из стран германской «сферы влияния» и которых принимали везде без особого энтузиазма. Так как Британия решительно отказалась направить поток беженцев в Эрец Исраэль, политики стали вертеть глобус, подыскивая клочок суши для «лишних евреев». С этой целью была созвана Эвианская конференция 1938 года. Жаботинский считал все это пустым делом. Искомую землю он называл «фата-морганой». Он был уверен, что в конце концов все будут вынуждены согласиться, что Эрец Исраэль — единственно возможное решение наболевшего вопроса. Он предлагал единственно верный, по его мнению, путь:
Цепь рассуждений, на которых должна основываться вся жизненная логика, вытекает из трех основных посылок: 1) «исход» евреев — назревшая необходимость; 2) невозможно направить этот исход куда-либо, кроме еврейского государства; 3) существует только один клочок суши, пригодный для такого государства.
По своей важности эти три посылки равновелики. Изымите одну из них — все рухнет. Крайне неразумно полагать, что без третьего постулата можно обойтись. Даже Герцль и Нордау — основатели современного сионизма — прошли через поиски «фата-морганы», но в конце концов пришли к непременному выводу, что земля у евреев только одна. Ныне сходный процесс идет в головах многих христианских политиков. С нашей стороны было бы ошибкой сердиться на них за то, что они еще не дошли до конца этого мыслительного процесса. Результат их поисков известен заранее.
...Искомая территория (вне Земли Израиля) должна, по мнению этих политиков, отвечать следующим требованиям:
а) она должна быть необитаемой;
б) она должна быть пригодной для жизни;
в) она не должна представлять собой ценности для ее нынешних владельцев.
Из кн. «Фронт борьбы еврейского народа», 1940.Далее Жаботинский показывает, что подобной территории просто не существует и не может существовать. Эта «фата-моргана». Вывод?
И тут, конечно, вы спросите: «А разве Эрец Исраэль отвечает этим требованиям? Почему же тогда именно она?»
«Выбор» Эрец Исраэль не имеет отношения ни к одному из приведенных критериев. Сионисты прекрасно знают недостатки этой земли, ее неприспособленность к приему поселенцев; они охотно согласятся, что это далеко не самый удачный «колониальный брак», что в мире много мест, куда более пригодных для колонизации,— но это все совершенно неважно, просто не имеет отношения к существу вопроса. Сионисты согласны, что нежелание арабов брать выкуп за землю — серьезная проблема и было бы гораздо лучше, если б ее не было. Но раз она существует, ее надо решать — вот и все. Просто дело в том, что «выбор» Эрец Исраэль не имеет никакого отношения к выбору. Когда человек «выбирает», «ищет» себе страну и заранее «взвешивает» все «за» и «против» — он не найдет ничего. Как Буриданов осел. Человек же идет туда, куда его «тянет», откуда его с меньшей вероятностью «погонят». (И весьма вероятно, что в конце концов окажется, что нет на свете такого места, куда бы его «тянуло», но где бы его готовы были с радостью принять). Эрец Исраэль — не предмет обсуждения с точки зрения «удобства», или «дешевизны», или даже степени «притягательности». Автор решительно не симпатизирует столь одиозному ныне слепому патриотизму. Но бывают такие грустные, такие «безвыходные» обстоятельства, когда честный человек обязан занять единственную позицию: «как бы там ни было, правильно или нет — это моя земля». И уж тем более — нация, стоящая перед угрозой уничтожения, имеет право заявить: плоха она или хороша, удобна или неудобна, дешева или дорога — это моя земля».
Кстати: мы еще попытаемся показать, что земля эта не так уж и дорога и не так уж неудобна и даже, что она не так уж плоха.
Там же.И все же может остаться вопрос, почему Жаботинский, у которого не было никаких сантиментов по отношению к Эрец Исраэль, оставался ей так предан. Пожалуй, правильный ответ таков: он был преданным гражданином Эрец Исраэль по тем же естественным причинам, которые привели его к вере в сионизм:
Национальное воспитание неотделимо от Палестины, как слова Торы неотделимы от ее пергамента, огонь от очага; и нельзя читать Писание, не видя пергамента, или греться у огня, не приблизившись к очагу. Атмосфера национального воспитания пропитана Палестиной, и в этой атмосфере наши поколения будут вырастать и будут затем приносить свои силы на работу для восстановления и обновления того, что было в Палестине.
«О территориализме», 1905.«Трудящаяся Эрец Исраэль»
«Никогда не мог я понять, откуда у людей берется такая наглость — не уважать чужой труд...»
В ходе жаркой полемики, которую вели Жаботинский и его сторонники с кругами и партиями, присвоившими себе и своим учениям общее название «трудящаяся Эрец Исраэль», последние пытались приклеить Жаботинскому ярлык «врага рабочих». В те времена — 20—30-е гг.— такое обвинение было особенно ужасным. Ведь во многих частях света еще продолжалась героическая борьба рабочих за признание за ними права на человеческое достоинство, человеческое существование, элементарные права человека, освобождение от бремени многочасового каторжного труда. Поэтому все доброе и прогрессивное в мире было на стороне рабочих. В глазах людей рабочие были окружены ореолом святости, мученичества, считались единственно полезными людьми, создающими все материальные блага, и им противопоставлялись презренные кровопийцы — «буржуи», «торгаши», «паразиты».
Жаботинский восставал против такого разделения общества на «полезных» и «бесполезных», на «работающих» и «не работающих», «паразитов»:
У слов есть значение, смысл и есть традиция. Прямое значение слова «работающий»: всякий человек, затрачивающий усилия, физические или умственные, для достижения результата в сфере экономики, культуры или общественной жизни, называется «работающим», «трудящимся». «Рабочие» же — одна из разновидностей «трудящихся». Те, кто завели обычай называть словом «трудящиеся» «рабочих», и только «рабочих», имели совершенно определенную цель: они хотели, чтобы создалось впечатление, что труд не «рабочих» недостоин именоваться словом «работа», что это не что иное, как «паразитизм», «эксплуатация», «кровопийство» и т. п. Такое отношение — неверно, и особенно в национальном деле, а стало быть, и в деле сионизма. Ибо в нашем деле равноценны усилия всех слоев общества.
В принципе ошибочно разделять общество на «работающих» и «не работающих». В действительности «не работающие» составляют такую незначительную горстку, что вообще не оправдано подыскивать для них отдельного наименования. Правильное же социальное деление обусловливается совершенно другим подходом: на людей, «получающих прибыль», и «наемных работников», т. е. тех, кто трудится ради «прибыли», и тех, кто продает свой труд «за плату». Как среди тех, так и среди других мы найдем богатых и бедных, людей умственного и физического труда, все они — «трудящиеся».
«Новое рабочее движение», «ха-Мдина» («Государство»), год неизвестен.Другим проявлением такого искаженного подхода Жаботинский считал разделение людей на создающих «материальные ценности» и тех, кто создает ценности «нематериальные». Он указывал на абсурдность такого деления:
Все это разделение на «материальные» и «нематериальные» ценности — на три четверти пустая писанина и болтовня. Может быть, во времена гетмана Хмельницкого такое деление и было как-то оправданно, но теперь оно никуда не годится. Триста лет назад ростовщик, ссужавший под проценты, был пиявкой (но и тогда далеко не всегда был пиявкой тот, кто финансировал строительство Карлом Великим дороги Кельн — Милан), в наши же дни банковское дело — основа основ экономики. Или (уж простите за такое сравнение) в средние века, когда дело преподавания было в руках монахов, т. е. людей, от жизни как бы отстраненных, еще можно было считать школы и университеты рассадниками нематериальных ценностей. Но ныне — необходимо получить настоящее образование, чтобы стать инженером, агрономом, да и квалифицированным рабочим. Давайте пойдем еще дальше: Карузо (мир его памяти) — великий тенор — какие ценности он создавал? Если бы он придумал новую застежку для штанов, которую бы потом штамповали на фабрике сотни людей и тем кормились, то все ясно: созданная им ценность вполне материальна. Но ведь не сотни, а тысячи людей кормятся сегодня, изготовляя пластинки с записями его голоса. Как тут быть? И если ответить на это, что производство пластинок — создание ценностей нематериальных, ибо их нельзя съесть или надеть, что это — всего лишь развлечение, то тогда получится, что большая часть человечества занимается сегодня разными глупостями. Утверждают, что сегодня одна из самых мощных отраслей индустрии США — киноиндустрия. В 1925 году в ней было занято 300 тысяч человек, они получили более 75 миллионов долларов заработной платы. И этот безумный мир истратил 500 миллионов долларов на то, чтобы посмотреть фильмы.
«Жилищный вопрос в Эрец Исраэль», «Морген-журнал», 14.7.1929.Быть может, вся эта путаница и не волновала бы Жаботинского, если бы он не был сионистом. Ныне трудно даже представить, насколько искренне и непоколебимо верили деятели «трудящейся Эрец Исраэль» в свою правоту и абсолютную непогрешимость в своем неограниченном праве диктовать Ишуву свои условия, насаждать свои «порядки». Их «головная организация» — «Всеобщий профсоюз» — стала подлинным диктатором в Стране. Естественно, от его диктата страдали не только «паразиты», но и «трудящиеся». Свои взгляды по этому поводу Жаботинский изложил в статье «Рабочий народ», которая ни разу не переиздавалась и нигде не цитировалась:
Слишком много ухищрений, эквилибристики вокруг слов «труд», «работа». В последние годы смысл этих слов втиснули силовыми приемами в рамки понятия «наемная работа» или «пролетариат». И даже дальше пошли — сделали так, что под «работой» стали понимать только физическую работу. Правда, потом решили смилостивиться над бухгалтером, секретарем, экономистом и учителем — им тоже разрешили называться «трудящимися». Об этой «милости» вспоминают тогда, когда нужны их голоса на каком-нибудь конгрессе или собрании. Дальше — стоп! Что сверх того — от лукавого, дальше понятия «рабочий народ» и «трудящаяся Эрец Исраэль» не распространяются. Когда коммерсант «вкалывает» не восемь, а двенадцать-четырнадцать часов в сутки (если ему есть над чем «вкалывать»), когда врач носится из одного конца города в другой, когда лавочник обслуживает покупателей в то время, как его жена и метет, и варит, и стирает,— это все не относится к делу. Это все не «работа».
Никогда не мог я понять, откуда у людей берется такая наглость — не уважать чужой труд и присваивать себе право решать, что — «работа», а что — «не работа». И особенно в Эрец Исраэль, где «работающих в три раза больше, чем «рабочих». Если бы я был редактором, я бы просто запретил употреблять на полосах моей газеты идиотское выражение «трудящаяся Эрец Исраэль» в этом специфическом понимании. Быть «рабочим» — значит всего лишь принадлежать к некоторой части «трудящихся», причем в наше время — не к самой многочисленной и далеко не к самой бедной. Существуют, и особенно у нас, евреев, несколько дюжин разновидностей «работы» более уважаемых и, зачастую, куда более «продуктивных», «материальных», чем работа иного «пролетария». Нас пытаются убедить, что билетер в кинотеатре — «рабочий», а вот страховой агент — нет. Просто идиотизм. «Работа» — это любое умственное или физическое усилие, цель которого — получение платы или помощь другим в получении таковой. Всякий, делающий такое усилие, работает, и его работа «почетна» не менее, чем труд лучшего из пионеров.
И это далеко не только теоретический вопрос. В самое ближайшее время в лагере сионизма разразится настоящее сражение между этими двумя представлениями о «работе» — узким, монополистским и разрешенным, общепринятым. Нет смысла напоминать, что в Эрец Исраэль на почет и уважение может рассчитывать лишь тот, кто хочет и умеет работать. И вопрос о «почете» не только теоретический. Необходимо, чтобы все государственные учреждения на всех уровнях безоговорочно помогали, преданно служили таким людям. Но вот находятся люди, и они пользуются огромным влиянием в Стране, которые утверждают, что им и только им причитается весь почет. Доказательство? А вот — они называют себя «рабочим народом». Вот. Нет сомнения, что другая сторона (называйте ее сионисты, называйте ее как угодно) этого впредь позволять не будет. Борьба только начинается.
...Это не имеет никакого отношения к почестям, воздаваемым пионерам. Я сам готов оказать им любые почести. Не только пионерам, но даже «Профсоюзу». Я считаю, что каждый еврей и каждая группа евреев, которые приехали и трудились в Эрец Исраэль, совершили такие трудовые подвиги, такие чудеса в освоении земель, каким еще не было примера в истории колонизации. И среди организаций, внесших огромный вклад во все это,— и «Пионер», и «Профсоюз»[*]. Но почести — одно, а безраздельная власть — другое. Не менее важен, чем подвиг пионеров, на мой взгляд, подвиг еврейских легионеров во время войны. Но если бы легионеры потребовали себе монополии на «уважение» и «почет», я бы усмотрел в этом глупость и абсурд. Мы должны крепко-накрепко усвоить: если промышленник или владелец цитрусовой плантации утверждает, что он — «пуп земли, а все остальные — второго сорта», он просто идиот. И если нечто подобное заявляет наемный работник — он тоже идиот. В общей экономике строящегося еврейского государства вклад торговца не менее важен, чем вклад землепашца и любого другого работника, работают ли они мускулами или мозгом, платят ли они за свое жилье из своего «капитала» (Боже упаси!) или из своей зарплаты.
И еще о «вкладах» и «достижениях»: достижение наемного рабочего в Эрец Исраэль в том, что он своими руками возвел дома, вспахал землю и двинул машины. Но есть на свете еще миллиард неевреев, которые изо дня в день делают то же самое и не видят в этом никакой особенной доблести. Согласен, в нашем случае — все это действительно доблесть. Ибо еврейский народ, в массе своей, веками был отлучен от физического труда. Я снимаю шляпу перед еврейским рабочим, но это только одна сторона медали...
Просто нечестно утверждать, даже в полемическом задоре, что мы, желающие всего лишь отменить монополию одного класса и напомнить о существовании других, «забываем» о правах рабочих и даже (!) о правах «Профсоюза». Это нечестно. Ибо мы помним. Но мы помним обо всех, не только об одной стороне. Заслуги этой другой стороны, ее вклад важны ничуть не меньше, и не должно быть места у нас для спеси и чванства.
«Рабочий народ», «Момент» (идиш), 25.11.1932.Чужая земля
«В «чужой земле» — всего лишь пара слов, из Вечной книги вечного народа, А в них — вся суть потерянных веков, погромов и убийств кровавая природа».
Источник всех мучений еврейского народа в галуте — действенная «боевая» ненависть к евреям. Если б дело было только в «людском антисемитизме», можно и нужно было бы бороться с ним, пытаться ослабить его путем агитации, разъяснительной работы, как это делается по сей день в Западной Европе и Америке (без особого, правда, успеха) при помощи всевозможных лиг борьбы с антисемитизмом. Но Жаботинский считал, что дело не в нем, а в «объективном антисемитизме», причина которого не в людях, но в обстоятельствах и который невозможно изжить без коренного изменения самих обстоятельств. Бурное возмущение отдельными проявлениями антисемитизма, какие бы мерзкие формы они ни принимали, было, по его мнению, делом бесполезным. Ибо причина причин трагедии евреев в галуте — сам галут — «чужая земля». Поэтическое выражение эта его мысль нашла в строках, вынесенных в эпиграф.
И пока эта «пара слов» будет держать во власти еврейский народ, нет смысла разражаться воплями и рыданиями по поводу того, что вулкан в очередной раз намерен проснуться. Он, вулкан, живет согласно своим законам, и мы, евреи, ничего изменить тут не властны. Такие высказывания Жаботинского навлекли на него подозрение в равнодушии к беде своего народа. Ибо как же можно не разразиться благородным гневом, читая или слыша о зверствах погромщиков? Даже теперь трудно читать без волнения ответ Жаботинского на эти обвинения:
Один еврей-журналист воспользовался недавно Белостоком, чтобы сунуть мне в душу свои пальцы и пощупать там, какова моя «погромная философия». И нашел, что я равнодушен к еврейскому горю. Я ему не ответил — я слишком хорошо понимаю настроение людей этого типа, чтобы гневаться на них за несправедливость или обиду. Здесь было повторение старой еврейской истории — человек отдал лучшие соки своей жизни на то, чтобы распахать чужую ниву, и в последнюю минуту хозяева убили его братьев и трупами их удобрили свое поле; и человек пошатнулся от оскорбления, и судорожно хватается за соломинки, и злится на всех людей за каждое слово правды, и хочет непременно что-то такое кропотливо и мелочно доказать или опровергнуть — даже нельзя понять, что именно. Я не стал ему отвечать, да и нечего мне было ему ответить: у меня нет никакой погромной философии...
«В траурные дни», «Фельетоны», 1913.Прошло более двадцати лет с тех пор, как написал Жаботинский эти строки, когда они ему вспомнились в связи со страшным погромом в г. Константин, в Алжире, в 1934 году. Евреи Франции, которых должны были бы непосредственно касаться события в Алжире, так как алжирские евреи были французскими подданными, опять ничего не поняли:
«Все, что есть, уже было»[*]. Самое печальное во всех этих событиях — это то, что ничего нового в них нет. Еще 30 лет назад я писал обо всем этом в петербургском «Рассвете». Несмотря на весь ужас происшедшего, это даже нельзя назвать трагедией — в трагедии есть нечто Божественное, есть какая-то надежда на утешение, какой-то урок, что ли. Пала Троя — стали понятней законы истории. Может быть, что-то от трагедии есть в крушении германского еврейства; в какой-то мере, возможно, и в погроме 1929 г. в Эрец Исраэль — по крайней мере для тех, кто еще тешился иллюзией «сосуществования» с арабами.
Но чему нас может научить резня в Константине, где-то там в Алжире? Разве у кого-то были иллюзии относительно «добрых намерений» «туземцев» или же «благородства» и человеколюбия тамошних наместников? Бялик сказал: «Нет смысла в вашей смерти, как нет его в жизни вашей». Очередная бессмысленная резня.
Но, возможно, какая-то часть евреев и имела такие «иллюзии», во всяком случае, могла иметь — это евреи Франции. Они, может быть, действительно верили, что «у них» такое немыслимо. Для них происшедшее — действительно трагедия. Однако — с горечью должны мы сказать — человек должен быть достоин пережить трагедию.
Участь овец, которых режут вам и мне на котлетки, достойна всяческого сожаления, но нельзя называть это трагедией. Потому что овцы не способны извлечь из этого урок.
Я гляжу на французских евреев и ожидаю каких-то проявлений гнева, каких-то попыток сделать выводы. И не только сегодня — после кровавых событий в Алжире. Ведь уже несколько лет подряд рядом, вплотную к их сытым телам и душам, на улицах Парижа они слышат и видят такое, что заставило бы всякую живую душу задуматься. Если не стариков (а ведь они помнят процесс Дрейфуса), то хотя бы молодежь. И ведь известно, что они не глухи и не слепы, что они очень наблюдательны и у себя — меж четырех стен — наверняка шепчутся об опасности. Но — никаких внешних попыток поискать какой-нибудь выход — ничего. Даже сейчас, после Алжира, когда мерзость проявила себя в такой явной форме, что должна была возмутить их не только как евреев, но и как граждан Франции.
«Мой дневник», «ха-Ярден», 13.9.1934.Женщина
«...Душа, сотканная из стальных и шелковых нитей».
Через всю свою жизнь Жаботинский пронес рыцарское преклонение перед женщиной. Он видел в ней воплощение тех свойств человеческой души, которые он образно сравнивал со сталью и шелком: тверды как сталь, во всех испытаниях этой жестокой жизни им присуща «стальная» приверженность к порядку, организованности. И в то же время — красота, утонченность, мягкость — истинный шелк. В принципе, он был не прочь, чтобы все его современники сочетали в себе эти качества, с иным, правда, их осмыслением: «сталь» — как неподчинение любым проявлениям хамства, попыткам унизить, несгибаемое упорство в отстаивании правой позиции; и в то же время «шелк» — как любовь к людям, к своему народу, любовь, исполненная самоотвержения, а также тонкость, душевное благородство, интеллигентность. Жаботинский говорил, что весь его жизненный опыт учил его преклонению перед женщиной:
Я — не из апологетов Яфета (впрочем, как и Сима)[*], но есть качество у жителей Севера, перед которым я действительно склоняюсь: рыцарское отношение к женщине. Я уверен: любая женщина — клад. И если его не открыли — то в этом не ее вина.
Я уже совсем не молод, и моя жизнь убедила меня в этом...
«Повесть моих дней»; в сб. «Автобиография».В другой части дневника Жаботинский вспоминает о формировании Еврейского легиона во время Первой мировой войны. Его друзья-сионисты в России ополчились на него и не остановились перед тем, чтобы причинять серьезные неприятности его матери. Жаботинский писал ей: «Посоветуй, что мне делать?» И она ответила: «Если ты уверен, что прав,— не останавливайся ни перед чем». Жаботинский продолжает:
Не я один тогда имел неприятности от этого «парада дураков». Многим моим друзьям тоже досталось.
...Я уже, кажется, извещал читателя, что предпочитаю женщину мужчине практически в любом деле — и в общественной жизни, и дома. Кроме работ, требующих тяжелых физических усилий, конечно. Такое отношение — в моем случае — не результат размышлений, а инстинктивное чувство, аксиома, что-то вроде cogito ergo som[*]; может быть, это от личного опыта — от тех трех женщин, с которыми связала меня судьба, от опыта, который внушил мне этот образ: «душа, сотканная из стальных и шелковых нитей». Не во многое я верю, и это — одно из того немногого: мать, сестра, жена — это святыня, существа высшего порядка, недостижимой высоты. Но в те дни именно на этих святых женщин покусились недоумки и хамы (слово «хамы» употребил Бялик — к нему претензии). Но ткань из стали и шелка — материал настолько прочный, что не только сам не дрогнул — и мне помог удержаться. Признаюсь без тени стыда: если бы я услышал в решительную минуту зов: «Пожалей меня, я устала, я не могу больше»,— я бы сидел в Москве и писал фельетоны. Но я услышал нечто совсем другое. Мать мне сказала: «Если веришь в свою правоту — не отступай»; сестра мне сказала: «Они еще придут целовать тебе руки»; жена мне сказала: «Иди и не беспокойся. Все будет хорошо».
Там же.Обращался Жаботинский и к более «низменным» материям, призывая к необходимости добиваться истинного равноправия женщины в обществе, на работе. Едва ли не лишним будет напомнить, что в то время движение за права женщин еще не вошло в «моду» и равноправия не было в большинстве государств. Но когда Жаботинскому стало известно о проявлениях дискриминации женщин в его стране, он провозгласил с трибуны одного из митингов:
Уважение к женщине — вот что отличает цивилизацию от дикости. Не может быть прогресса в обществе, позволяющем темным силам унижать женщину. Почтительное отношение к ней было одним из могучих факторов расцвета европейской цивилизации. В прежние времена такое отношение находило выражение в «рыцарстве», в наше время — в равноправии. Наш народ внес огромный вклад в формирование европейской культуры, и мы не позволим отнять у нас это наследие, нашу национальную гордость.
Речь «Собрание Израиля», цит. по «Доар ха-йом», 18.2.1929.Месяцем позже Жаботинский перевел эти свои взгляды на язык практических действий. Он писал в мэрию Иерусалима (15.3.1929): «Всем сердцем хотел бы я быть исправным плательщиком городских налогов, но до тех пор, пока к руководству жизни города не допускаются женщины, моего имени не будет в списке налогоплательщиков» (в сб. «Письма»). Жаботинский утверждал, что женщина ни в чем не должна уступать мужчине, что к ней «равно применимы все хвалебные слова, которые существуют в мужском роде, такие как «герой» и даже «рыцарь», что еврейский народ «нуждается в равной мере в солдатах и солдатках, в рабочих и работницах». Но, в то же время, женщина — существо, лишенное грубой физической силы, и степень рыцарского к ней отношения есть мера человеческого в мужчине. С равноправием должно сочетаться преклонение перед женщиной:
Женщина — существо особенное, у нее — свои специфические задачи в этой жизни, и она должна гордиться этой своей «особостыо» и требовать к себе особого отношения. Это не значит, что она не может или не должна выполнять те же функции на работе, в учебе, в самообороне, что и мужчина. Она может и должна. Огромен был вклад женщин в победу на Западном фронте[*]. Но при всем при том у женщины есть своя роль в обществе, отличная от роли мужчины. Ее здоровье и жизнь — десятикратно ценнее здоровья и жизни мужчины. Или вот, например: если мужчина владеет ивритом (речь идет, разумеется, о галуте), то это вовсе не гарантирует, что его дети будут знать его тоже. Но если ивритом владеет женщина — то это значит, что в семье будут знать иврит.
...Женщина — природный «организатор». С древних времен она выполняла «организаторские функции» в семье. Мужчина был «приобретателем», «добытчиком», его задачей была «доставка» необходимого «сырья». Но превратить это «сырье» в пищу, в одежду, в «жилье», организовать все хозяйство — всегда было делом женщины. У нее есть природный дар «предвидеть», трудиться не только ради «сегодня», но и ради «завтра». Этим, возможно, объясняется, что во всемирной истории известно гораздо больше великих цариц, чем великих царей (при том, что правящие царицы гораздо реже),— наша Шломцион из династии Хасмонеев, Елизавета Английская, Екатерина Великая в России, Мария-Терезия в Австрии... И все они отличились, прежде всего, на поприще укрепления государственности, «организации» и экономики.
Разумеется, не всякая женщина — «Суламифь», бывают среди них и легкомысленные, и всякие, но у огромного большинства из них есть природная тяга к миру, организованности и аккуратности. Излишне разъяснять, насколько эти качества необходимы нам при строительстве нашего государства.
«Идея Бейтара», 1934; в сб. «На пути к государству».Жаботинский посвятил женщине так много своих работ, что их хватило на целый отдельный том — «Образ женщины в трудах Жаботинского» (Тель-Авив, 1952). Мы приведем здесь с сокращениями один из фельетонов, вошедших в этот сборник, написанный незадолго до смерти автора:
...Это напомнило мне еще одну беседу — на ту же тему и с той же моралью; надеюсь, мне удастся обеспечить инкогнито герою, ибо я не хочу, чтоб его линчевали. Мы прогуливались по Лондону и заговорили о достижениях женщин-летчиц. Я, как обычно, выразил свою горячую приверженность равноправию. Мой собеседник согласился — и зевнул.
— Мне это безразлично,— заявил он.— Может быть, это оттого, что я не политик и не общественный деятель. Мне это совершенно неинтересно. Это все равно, как если бы меня взволновала вдруг проблема — есть ли право у Йегуды Менухина или у Яши Хейфеца работать санитарами в больнице «Хадасса» в Иерусалиме. Понятно, лучше, чтоб было такое право. Но, честное слово, я не хотел бы, чтоб они им воспользовались. Не считай меня врагом прогресса — я уже говорил, что я за полное равноправие. И когда оно будет достигнуто (если оно еще не достигнуто), я взмолюсь перед нашими возлюбленными сестрами, особенно перед еврейками,— я буду молить их, чтобы они не разменивали свое возвышенное назначение на таскание тяжестей, с которыми любой осел управится лучше их, а посвятили бы себя целиком сотворению чуда, которое они, и только они, способны сотворить.
— И что же это за чудо?
— Мы уже говорили об этом: эстетика. Расовая, генетическая эстетика, если угодно. Говорю тебе, в еврейском генотипе заложена ослепительная красота, которая выиграет в сравнении с античными образцами, не говоря уж об общепризнанных красавицах. Но в таком превосходстве есть и опасность, как у итальянцев, у которых голоса либо Карузо, либо петуха...
(Тут я его перебил — лучшие свои дни я провел в Италии, много путешествовал по ней, но не слышал «голосов Карузо»...)
— Ничего, не перебивай. И усвой, что образ, сравнение не обязаны соответствовать реальности, их цель — лучше объяснить предмет. И я объяснил то, что хотел объяснить: генотип, способный дать нам неподражаемые образцы, в то же время способен породить свою противоположность, если мы по своей глупости создадим ему для этого условия... И вот, мой друг, что может случиться тогда с типом еврея: посмотри — мы не заботились об этом давным-давно, как и вообще о большинстве наших ценностей,— и вот он, тип галутного еврея: жирный, низкорослый, сгорбившийся, треугольный подбородок, отвислая нижняя губа... Если бы я был царем над Израилем, тотчас воззвал бы ко всем девицам в Стране и в галуте, особенно — в Стране, и потребовал бы от них почтительного отношения к своей телесной красоте. Я бы обратился к ним так: «К черту работу! Да не коснется ваша рука не то что плуга или мотыги, но и помела и кастрюли! Всякую работу — в поле, на фабрике, дома — пусть делают мужчины. Вы же — расу нашу возродите — через каждодневное служение лицу, прическе, фигуре!» Что ты скажешь о моей программе?
Не помню в точности, что я ему ответил. Скорее всего — согласился, я вообще имею привычку соглашаться с собеседником.
«Между двумя берегами», «ха-Машкиф», 2.4.1940.Национальный арбитраж
«В идее национального арбитража — вся суть идеи государственного сионизма».
Через 35 лет после образования Государства Израиль — спор об учреждении обязательной арбитражной инстанции в самом разгаре. Речь идет о том, что в государстве, окруженном со всех сторон врагами, 400 000 рабочих дней ежегодно пропадают из-за забастовок во всех отраслях хозяйства и в государственных учреждениях. И это несмотря на существование закона об «охлаждении» трудовых конфликтов. Следует признать, что спор — действительно деловой, серьезный и стороны в нем заботятся и о благе государства, и о благе граждан. Раздел сторон идет не по партийной принадлежности — это главное.
Не так обстояло дело за 25 лет до образования государства. Тогда Жаботинский, предложив идею национального арбитража как средства разрешения классовых конфликтов, которое учитывало бы интересы всех сторон, удостоился ярлыка «врага рабочих», был обвинен в посягательстве на их священное право — право на забастовку. Тут уместно напомнить, что в то время в Стране еще не было развитой промышленности, крупных частных, государственных или профсоюзных предприятий, и трудовые споры возникали, как правило, между владельцами крохотных мастерских или цитрусовых плантаций и их наемными рабочими, недовольными оплатой труда и в то же время вынужденными конкурировать с куда менее притязательными арабскими рабочими. При таких обстоятельствах, в общем-то, было просто смешно всерьез говорить о столкновении «классов», но те, кто пережил ту эпоху, помнят, конечно, как малейший спор между хозяином лавки и продавцом моментально разрастался до «классовой борьбы» со всем ее пафосом и идеологическими ухищрениями. Жаботинский видел в этом двоякое проявление одной опасности: с одной стороны, это отпугнет хозяина «предприятия», живущего пока за границей, он не приедет в Страну и прекратит вкладывать капитал в ее экономику; это, в свою очередь, неизбежно приведет к безработице в Стране и сделает невозможным приезд новых иммигрантов — им нечего будет делать. Шансы на достижение еврейского большинства исчезнут:
Мы говорили и говорим: еврейский труд — синоним еврейского большинства в Стране. Нанесение ущерба еврейскому труду — национальное преступление. И еще мы всегда говорили: частные капиталовложения и строительство нашей страны — синонимы. И нанесение вреда нормальному процессу получения прибыли с вложенного капитала — национальная измена. Похоже, тут образуется неразрешимое противоречие. Но мы заявляем: в период становления недопустима классовая вражда; необходимо искать и находить компромиссные решения конфликтов.
Речь на III всемирном конгрессе сионистов-ревизионистов в Вене, 1928; в сб. «Речи».Жаботинский подчеркивал, что необходим национальный арбитраж, а не «прекращение огня» в столкновении классов — последнее слишком легко нарушить:
...У нас это должно быть гораздо четче, гораздо лучше организовано, чем в других странах. Должно стать непреложным правилом: если возник трудовой спор или конфликт, стороны немедленно обращаются в арбитраж. Недопустимо доводить дело до забастовок и стачек. В любом трудовом соглашении и контракте должен быть четко оговорен арбитраж.
Вся совокупность отношений между трудом и капиталом — всех разновидностей капитала и всех видов труда — должна быть подчинена этому принципу. Проблема справедливой оплаты труда и разумной, с точки зрения капитала, прибыли не может зависеть от «свободной игры социальных сил», как это называется в мире, а иногда и в наших газетах. Ибо такая «свободная игра» — не что иное, как синоним войны классов, которая несет с собой лишь забастовки и локауты и, как следствие, крах всех усилий по восстановлению Страны. Более того: разрешение споров не должно быть отдано на откуп дипломатическим способностям капиталиста или представителя наемных рабочих. Ибо компромисс между имяреком и его рабочими — лишь еще один эпизод в той самой «игре», которая ведется по-джентльменски до тех пор, пока это не надоедает одной из сторон. Такой компромисс — всего лишь передышка между схватками...
Проблема должна найти свое решение не в форме временного соглашения между определенными группировками и сторонами. Решение проблемы должно быть увязано с общенациональными интересами, с высшим из них — идеей государственного сионизма.
Понятно, в арбитражной инстанции должны заседать представители всех заинтересованных сторон, но «верховный арбитр» не должен принадлежать к какой-либо группе. Он должен представлять Ишув как целое, представлять сионизм, Эрец Исраэль, строящую государство.
«О НЭПе сионизма», 1928; в сб. «На пути к государству».Жаботинский снова и снова подчеркивал, что речь идет не о разовом компромиссе, но о государственной системе, решения которой обязательны для сторон:
Не должно быть никакой неясности в отношении этого принципа: «обязательный арбитраж» — это не теоретическая «обязанность» найти третейского судью в случае спора: «обязательный арбитраж» — это организационный принцип, глубокая общественная реформа, если угодно — новый общественный строй, выраженный в новых общественных институтах. Это — экономический «парламент», включающий доверенных представителей всех отраслей еврейской экономики в Стране: хозяев предприятий, рабочих, служащих, и его исполнительный орган — Верховный суд арбитров, избираемый самим «парламентом», суд, решения которого обязательны для всех избирателей. Те, кто не согласятся избирать такой парламент, пусть остаются «при своих». Никакого принуждения не будет, но они сами очень скоро поймут, что для них же лучше присоединиться к общему соглашению, ибо велика притягательная сила мира, она сильней эгоизма и упрямства. Такой строй гарантирует приемлемые условия работы и, вместе с тем, приемлемые условия для развития частной инициативы. Он спасет нас от уродливых проявлений конфликта, ставящих под удар дело развития еврейской экономики.
Письмо конгрессу сионистов-ревизионистов, 1934.Это предложение Жаботинского не понравилось руководителям рабочего движения в сионизме, которые усмотрели в нем покушение на их священные ценности. Учреждение Национального рабочего профсоюза, провозгласившего своей целью достижение классового мира и социального компромисса, было бельмом на глазу руководителей «рабочего» движения. Они обвиняли членов нового профсоюза в «прислужничестве буржуазии». Жаботинский отвечал на это:
Те, кто вышел из «левого» профсоюза, доказали тем самым, что признают следующие принципы. Первый — идеологический: из двух идеалов (идеала сионизма и идеала классового) они выбирают сионизм; второй — экономический, научный: они согласны с тем, что в период строительства государства (цель которого — спасти массу людей) их работа, к нашему глубокому сожалению, будет низкооплачиваемой.
И из того, что наши друзья приняли такой подход, вовсе не следует, что они намерены с радостью подарить «дешевую работу» еврейскому капиталу в Эрец Исраэль.
Во-первых, большинство этих рабочих — молодые люди, могущие похвастаться волчьим аппетитом. И, естественно, предпочитающие зарплату побольше. Так же, как я предпочитаю высокие гонорары, а предприниматель — высокую прибыль. Во-вторых, они считают, что вопрос высокой или низкой оплаты труда должен быть решен только при помощи национального арбитража, т. е. после детального расследования, проведенного надпартийной инстанцией. В-третьих, и это главное, речь тут вообще не идет о подарках или пожертвованиях еврейскому капиталу.
Если понадобится, мы пожертвуем здоровьем и самой жизнью ради целей сионизма, но не ради промышленника или плантатора. То самое «в-третьих», о котором упоминалось выше,— самое главное, ибо самый ярый апологет национального согласия и самый ярый противник классовой борьбы никогда не согласится с тем, что самые крупные жертвы во имя процветания родины и народа должен принести он, бедняк, а самые малые жертвы или вообще никакие — его работодатель. Я подчеркиваю это, чтобы напомнить, что, когда мы создавали Национальный профсоюз, никто из нас не тешил себя иллюзией, что немедленно разгорится пламенная любовь между работниками и предпринимателями. Нам было ясно как раз обратное — что идею обязательного национального арбитража, которому должны безоговорочно подчиняться все и от которого не должно быть никаких производственных или бухгалтерских «тайн»,— первыми встретят в штыки работодатели, а не рабочие.
«Промышленный вопрос», «ха-Ярден», 1.5.1936.Исторический факт: еврейская буржуазия — как в Израиле, так и за границей — не проявила восторга по поводу идеи национального арбитража и социального учения Жаботинского вообще. Многие представители еврейской буржуазии присоединились к хору хулителей этого учения. Один из них, лидер американской еврейской общины д-р Стефан Вайс, заявил, что Жаботинский покусился на «еврейские идеалы», базирующиеся на социальной справедливости... Жаботинский вынужден был защищаться и от нападок с этой стороны:
Нет справедливости там, где нет суда. Первое правило любого суда: заинтересованные стороны не могут выносить решение. Когда стороны решают «разобраться» сами, без посредников — побеждает не правый, а сильный. При забастовке добьется своего непременно тот, у кого больше денег, а вовсе не тот, кто прав. Возможно, в джунглях это и считается «справедливостью», но у людей, в особенности у евреев,— это не так. Единственный путь к достижению социальной справедливости — арбитраж.
«Тенета «клейзмеров», 1935; в сб. «На пути к государству».На статью в лондонской газете «Джуиш кроникл», написанную английским евреем Маркусом, Жаботинский ответил в частном письме, не упоминая ее автора:
Мы, несомненно, приветствуем социальные реформы и не приемлем порядка вещей, допускающего существование нищеты, точно так же, как любой из наших оппонентов. Некоторые из нас по своим убеждениям — социалисты, приросшие душой к этому учению... Более того, некоторые из нас вовсе не против классовой борьбы в радикальной форме, ведущей к общественным потрясениям,— в странах, где имеется установившаяся экономика. Но все мы решительно не приемлем классовую борьбу в экономике поселенцев, т. е. в экономике, развивающейся ненормальными темпами. Здесь мы бы хотели, чтобы забастовки и локауты были заменены арбитражем. Называйте это, если хотите, утопией, но вы не можете отрицать, что арбитраж не означает освящения низкооплачиваемого труда.
Письмо на английском яз., 21.8.1935.Бейтар
«Дети моей мечты».
Десятилетия прошли со дня смерти Жаботинского, но по сей день его ученики и последователи часто называют его не по имени, а величают «Глава Бейтара». Много почетных званий было у Жаботинского, но ни одно из них не было так дорого ему и не произносилось его учениками с такой любовью, как это. Жаботинский отвечал на любовь и уважение бейтаровцев безграничной верой в них и в их миссию.
Как же определял Жаботинский смысл миссии Союза имени Йосефа Трумпельдора (Бейтар)? Из многих его статей и выступлений на эту тему мы выбрали следующий отрывок из брошюры «Идея Бейтара»:
Задача Бейтара формулируется просто, но в то же время она невероятно сложна: сформировать тип еврея, который необходим народу, чтобы как можно быстрее и лучше решить задачу построения государства. Другими словами — создать «нормального» или «здорового» гражданина этого государства. И здесь скрыта огромная трудность, ибо ныне еврейский народ «не нормален», «не здоров», и жизнь в галуте со всеми ее прелестями мешает нам воспитать «нормального» и «здорового» гражданина. За две тысячи лет галута наш народ утратил цельность, готовность сплотиться вокруг общенациональной задачи, разучился защищать себя с оружием в руках перед лицом опасности; он привык к разговорам, а не к делу; в его жизни воцарилась дезорганизация, безалаберность возведена в принцип. И поэтому бейтаровцам предстоит совершить восхождение на высокую и крутую гору, и пройдет немало времени, прежде чем они достигнут цели. Но именно потому, что цель хорошо видна в вышине, мы можем быть уверены, что бейтаровцы ее. достигнут.
Из сб. «На пути к государству», 1934.Жаботинский видел в Бейтаре прежде всего школу, цель которой — совершить переворот в сознании еврейского народа, рожденного в гетто. Рядом с ним и вокруг него могли вырастать дочерние организации, цели которых более конкретны, но сам Бейтар, созданный не для избранных, а для масс еврейской молодежи, должен был оставаться школой. Жаботинский решительно протестовал против попыток увести Бейтар с этой главной дороги:
Авантюризм? Есть моменты, когда он полезен. Подполье? Тоже. Но Бейтар не может и не должен иметь касательство ни к авантюризму, ни к подполью, ни к антиавантюризму, ни к антиподполью. Бейтар — это начальная школа, где юноша научится владеть кулаком и палкой и вообще средствами самообороны, маршировать и ползать, трудиться, быть опрятным, презирать любые формы разгильдяйства, как бы они ни назывались — лень или гетто, научится уважать женщину, старость, молитву (даже чужую), демократию и еще много вещей — устаревших, но бессмертных. Такой школой будет Бейтар — именно школой и именно такой — или не будет вообще.
«Понятие авантюризма», «Хазит ха-ам», 5.8.1932.На этих страницах не хватит места, чтобы перечислить все, что Жаботинский хотел бы видеть в Бейтаре, у колыбели которого он стоял в 1923 году и окруженный воспитанниками которого лежал на смертном одре в 1940-м. Сионизму, ревизионистскому движению он отдал свои силы и свой талант. В Бейтар он вложил свою душу и любовь. Свидетельством тому — письма, цитируемые ниже. Первое написано в Иерусалиме, к пятой годовщине основания Бейтара:
Мои юные друзья, «дети моей мечты и дум моих» — что скажу я вам в день рождения Бейтара?
Только одну вещь смогу я сказать — правду.
Что такое Бейтар? Что он собой представляет, что привлекает меня именно в нем, а не в других движениях еврейской молодежи?
Не знаю. И это, быть может, лучшая хвала, которую вы сегодня услышите. Человек, столь близкий вам по духу, даже он не в состоянии объяснить, чем вы ему так дороги.
Я истратил много слов, пытаясь объяснить вашу духовную сущность: «соединение воина и пионера», «преданность идее государства, а не классовой идее», «стремление к героизму и к рыцарству» и т. д. и т. п. Но чувствую, что ни одного из этих словосочетаний не достаточно, что они описывают лишь отдельные грани того целого, что называется «Союз еврейской молодежи имени Йосефа Трумпельдора». Безусловно, этому целому присущи все перечисленные грани. Но есть еще что-то главное, а что — я не знаю.
Говорил и повторяю: эта хвала — выше любых похвал. Это значит, что то, что родилось в Риге пять лет назад,— не новая организация, и не новая партия, и не новое движение — ибо всему такому легко дать название и определение; новый мир родился в тот день, если хотите,— новая духовная раса, новая «эманация» божества нашего народа.
Не будем преувеличивать — только «родился», далеко еще не реализовался и не созрел. Бейтар — лишь семя, от которого заколосится поле. Намек на мысль, которая воплотится.
Вместе мы будем искать пути к ее воплощению. Вместе мы будем ошибаться и исправлять ошибки, пока не найдем — быть может! — то, что искал и не нашел Ахад Гаам, искал и не нашел Герцль, искал и не нашел Трумпельдор: образ еврейского народа, не только мечтающего о возрождении, но способного к нему.
Если б только я мог подобрать слова, чтобы выразить все это яснее, четче... Но это очень трудно — выразить словами то, чего ты еще не видел, приближение чего ты только предчувствуешь. Вы молоды, быть может, не все вы поймете теперь, что я хотел вам сказать,— ничего, придет время, и все станет понятно, и мир тогда поймет, что прошло для нас время рабства, что пришло время нашему народу взойти на свой престол.
Бейтар — это подвижничество. Как древние подвижники, храните чистоту и внутреннюю красоту вашей жизни. Да будет для вас законом — красота во всем. В речи и в поведении, в отношениях с друзьями и с врагами, со стариком, с женщиной, с ребенком. Чем бы вы ни занимались — делайте это честно. В минуту опасности — будьте подобны разящему мечу. В повседневной жизни будьте примером великодушия и честности...
Про себя же скажу одно: с этой минуты главное для меня — Бейтар. Будем же работать вместе.
Ваш Зеев Жаботинский.
К временному высшему руководству Бейтара, 22 хешвана, 5689 (1928) г.И еще через пять лет — к десятилетию Бейтара:
Мне хорошо известны все недостатки нашего движения — о них я мог бы написать тома. Но все же — я горжусь Бейтаром, я счастлив, что удостоился возглавить это юное сообщество, подобного которому не было в нашей истории...
«Я надеюсь», «Хазит ха-ам», 21.1.1934.А это — к тринадцатилетию Бейтара:
Примите поздравления к юбилею бар-мицвы[*]. Вы смогли за эти 13 лет влить в духовную кровь молодежи металл — твердый и благородный одновременно. На это поколение можно будет положиться в дни бед и лишений — в горькие дни, которые, видимо, ждут нас в ближайшем будущем.
В глубинах души нации под застывшей оболочкой клокочет гнев. Мы еще увидим решительное восстание, и вы будете в тот день указывать народу дорогу.
До тех пор — хватит на нашу долю боли и испытаний. И я верю в вас и отдаю вам честь.
«Ха-Ярден», 22.2.1937.Два следующих отрывка взяты из писем, адресованных Жаботинским «первому бейтаровцу», одному из его бессменных помощников в руководстве Бейтаром Аарону-Цви Пропесу:
Что бы ни было, я верю: через пять лет во главе нашего народа встанет новый сионизм, и Бейтар — основа этого сионизма. Эта вера помогала мне все последние годы. Ради нее буду жить и работать. И посмотрим.
24.9.1931....И гораздо важнее прошлого — будущее и предстоящие задачи Бейтара. В ближайшие годы мир либо погибнет, либо обновится. Если суждено ему погибнуть — то мы, евреи, должны погибнуть с ним, но на поле боя, защищая справедливость и свободу. И если обновится этот мир, то пусть возродится вместе с нами.
Из всех идей, положивших основу Бейтару, эта главная: из избиваемых рабов сделать воинов, «гениев и гордецов». Бейтар родился 15 лет назад с тем, чтобы в день совершеннолетия стать еврейской армией, отвоевывающей Государство Израиль.
20.4.1939. Бейтар — Из праха и пепла, Из пота и крови, Поднимется племя, Великое, гордое племя; Поднимутся в силе и славе, Йодефет, Массада, Бейтар. Величие — Помни, еврей, Ты царь, ты потомок царей. Корона Давида С рожденья дана. И вспомни короны сиянье, В беде, в нищете И в изгнанье. Восстань Против жалкой Среды прозябанья! Зажги негасимое Пламя восстанья, Молчание — Трусость и грязь. Восстань! Душою и кровью Ты — князь! И выбери: Смерть иль победный удар — Йодефет, Массада, Бейтар. «Песня Бейтара»; в сб. «Стихи».«Дети царей»
«Помни, еврей, Ты царь, ты потомок царей».Идея индивидуализма, с которой выступил Жаботинский (см. ст. «Индивидуализм»), рассыпаясь в извинениях и оговорках, сдобрив иронией, представив все личным капризом,— не была, на самом деле, всего лишь экстравагантной выходкой, игрой расшалившегося ума, решившего поразить всех и вся, продемонстрировав свою независимость от признанных авторитетов. Эту идею породило глубоко укоренившееся, инстинктивное ощущение абсолютного, безоговорочного равенства людей. Жаботинский уверял, что «мания равенства» была присуща ему с раннего детства:
Эта идея, эти взгляды сформировались во мне с раннего детства, и по сей день я руководствуюсь ими при рассмотрении иных социальных проблем. Некоторые утверждают, что это не «взгляды», а сумасшествие, мания. Да, действительно, я «маньяк» — когда речь идет о равенстве. В пору детства эта мания проявлялась у меня в настоящем бунте, который я поднимал, когда незнакомые люди обращались ко мне на «ты», а не на «вы»,— т. е. в бунте против всего взрослого мира. Я не «изменился» и поныне: если я обращаюсь к детям на языке, в котором есть это разделение, даже трехлетнему малышу я говорю «вы». И ничего не могу с собой поделать. Я органически не приемлю, ненавижу лютой, врожденной ненавистью любую идеологию, аргументацию, обычай, в которых есть хоть намек на разделение людей по сортам. Это, наверное, очень недемократично: я верю в то, что каждый человек — царь, и если б я мог, я создал бы новое учение, учение «панбасилии» («всеобщее царствование» — греч.)...
«Повесть моих дней»; в сб. «Автобиография».С годами это стремление к равенству стало не только инстинктивным чувством, а священным принципом, на котором Жаботинский пытался построить свою социальную философию:
Коль скоро все живое стремится к царствованию, коль скоро к этому сводятся все усилия, следует признать правомочность этого стремления, т. е. признать: да, всякий человек — царь. Общество должно стать сообществом царей. Абсолютно неприемлемы любые этические концепции, пытающиеся подавить волю человека. Не может быть воли, властвующей над волей царя-одиночки. Нет правоты у этики, у морали, построенной на аморальном допущении, что человек-де послан в этот мир против собственной воли и должен терпеливо сносить все испытания, должен «по моральным соображениям» кому-либо или чему-либо. Ложно по самой сути понятие «обязанность», трактуемое как нечто внеположенное, противостоящее самому «обязанному». Единственный источник «обязанности» скрыт в самом «царе», «обязанность» возникает лишь в тот момент, когда царь признает ее, и исходит она из него самого. Это относится и к религии. Бессмысленно спорить об объективном существовании Божества, но признание «святости» предписаний Всевышнего — добровольное дело каждого отдельного царя.
«Введение в политэкономию», 1938; в сб. «Нация и общество».Жаботинский указывал на два источника, из которых вытекает учение об абсолютном равенстве «царственных особ». Один из них — грандиозные свершения в сфере духа в XIX веке, достижения, которые Жаботинский приравнивал к чуду:
Я не верю, не хочу верить, что в человечестве может быть разделение на «высших» и «низших». Никогда я не буду работать с людьми, готовыми признать мое духовное превосходство. Я тешу себя иллюзией, что мир состоит из наследных принцев, и не намерен отказываться от этой идеи. Боюсь, что диктатура — это не вина отдельной личности, а общая склонность людей подчиняться диктату,— завелся, мне кажется, такой вирус в мире и гуляет сейчас вовсю. Очень жаль. Я пришел из девятнадцатого века. Тогда умами владела идея, что человек, даже плохой, даже низкий человек мог бы стать хорошим и мудрым, если бы получил соответствующее воспитание. И я в это верю. Поэт сказал: «Пришел из времени другого, в другое время я уйду». И мне легче уйти из этого мира, чем согласиться с тем, что мой сын и сын моего ближнего в чем-нибудь не равны.
Речь на конгрессе ревизионистов, 1932; сб. «Речи».Другой источник — еврейская традиция, ее основа — Библия. За несколько дней до смерти Жаботинский в письме американским бейтаровцам попытался изложить сущность своих взглядов на общество. В предисловии к этому обращению мы читаем:
Если мы поищем, откуда же происходит этот новый еврейский дух, ярко выраженным носителем которого является Бейтар, то мы найдем его источник в идее царственности человека. В отношении евреев эта мысль выражена в гимне Беара:
Величие — Помни, еврей, Ты царь, ты потомок царей. Корона Давида С рожденья дана.Когда я писал эти строки, то имел в виду любого человека — грека или банту, европейца или эскимоса.
Они все рождены по образу Бога — это мы учим из первой главы Библии. Библия идет даже дальше в своем возвеличивании, возведении человека на царский престол. Она намекает, что люди — почти что боги или дети Божьи... Но употребление таких терминов может нас сейчас увести слишком далеко, поэтому не будем выходить за пределы «царства». Во всяком случае, первому человеку в момент его сотворения были вручены самые почетные геральдические символы и — так учит традиция нашего народа — эта геральдика издавна принадлежит всем его потомкам.
Здесь наша библейская традиция вплотную соприкасается с бейтаровским принципом гордости. Унижен ли я, порабощен, пленен — «я царь и требую уважения моих царских прав». Права же «царя» вытекают из одного высочайшего принципа: он не является ничьим подданным.
Давайте посмотрим теперь, можно ли увязать эту идею «всеобщей и поголовной царственности», вытекающую из нашей древней традиции и нового бейтаровского духа, с понятиями общества и государства. Прежде всего — дадим упрощенное описание, а затем рассмотрим его практическую применимость к будущей Эрец Исраэль и общественному строю, который мы бы хотели в ней видеть.
Первый вывод из идеи «всякий человек — царь» — это, понятно, всеобщее равенство. Моя и твоя царственность означает, что никто не может поставить себя выше тебя или меня — всем, независимо от классовой или какой-либо иной принадлежности, полагается равное уважение. Второй вывод — свобода личности — царь не является ничьим подданным...
Отношение наших предков к вопросу подданства нам представляется так: они были вынуждены подчиняться кому-то перед лицом необходимости защищать общество в целом от вторжений, ради поддержания внутреннего порядка. То есть — вынуждены были назначить царя и поставить его во главе государства, но это, повторяем, была вынужденная мера, не было ничего «освященного» в ней, а наоборот, люди знали, что сам Бог относится к ней без восторга, и верховной властью над людьми была и оставалась их совесть.
«Дети царей», «ха-Машкиф», 25.4.1941.Когда Жаботинский присваивал каждому титул «сын царя», он исходил не только из принципа всеобщего равенства. Он ценил, славил Человека — венец творения, хотя как никто знал все его недостатки, слабости и даже уродства. Не единожды он был вынужден выражать горькое разочарование современниками. Трудно без волнения читать эти строки, с которыми он обратился к лидерам сионистского движения в дни отчаянной борьбы за спасение евреев Восточной Европы. Это обращение осталось без ответа:
Мои ближайшие друзья, прочтя эти строки, разумеется, рассердятся на меня: «Какой смысл,— спросят они,— пытаться опереться на трость, ветром колеблемую?» Но я не могу внять этому призыву моих юных друзей. Я признаю за человеком царское величие. И даже когда он побежден, растоптан, унижен и в глазах людей, и в собственных глазах — для меня он — царь. И что бы ни случилось, я буду чтить в нем его величие. И только в одном случае я готов признать, что человек лишен этого титула, и вычеркнуть его имя из геральдических книг: если он сам «отречется от престола», если он сам, по своей воле смолчит там, где должен греметь его царственный голос,— это молчание будет означать для меня, что передо мной — покойник.
«Усыпленные хлороформом», «ха-Машкиф», 16.6.1939.Социальное избавление
«Избавление нашего народа, которое станет предвестником исправления мира».
Противники Жаботинского часто обвиняли его и его последователей в том, что последние, якобы, равнодушно относятся к социальным проблемам своего народа и мира в целом. Но даже поверхностный взгляд на библиографию трудов Жаботинского показывает, как много работ он посвятил этим проблемам. Свой каждодневный труд он, естественно, посвящал насущным проблемам дня, которые вынуждали его на время отказываться от рассмотрения проблем будущего, но в редкие «свободные часы» он «позволял себе» мечтать. Мечтать о будущем общественном устройстве Эрец Исраэль, устройстве абсолютно справедливом, которое послужит примером другим народам. Но для того, чтобы была возможность проводить эти «социальные опыты», еврейскому народу нужна «лаборатория»:
Не желание соригинальничать заставило меня употребить это слово — «лаборатория». Народы веками не жалели духовных сил для создания того разнообразия мнений и устремлений, которое мы называем всемирной духовной культурой. Бесценен вклад каждого из них, но нет народа, который бы, подобно нашему, внес такой большой вклад в раздел человеческой культуры, именуемый «исправление мира», «изменение общественного строя». Среди всех народов мира именно мы — «главные специалисты» в этом вопросе. Но в результате несчастного стечения обстоятельств именно этот «специалист по общественной справедливости» остался без земли, без того социального организма, который можно было бы перестраивать в соответствии с чаяниями этого народа. Вышло так, что мы вынуждены предлагать свои идеи о социальном равенстве и справедливости другим народам. Т.е. давать советы, а не пытаться подать пример, как это делают другие народы. Ибо это — единственный способ указать миру на вновь открытую истину. Мы видим, что произошло с еврейской идеей в России, где она попала в чужие руки... Социальное избавление не придет, пока специалист не будет иметь собственной лаборатории. Строящие эту лабораторию, быть может, оказывают большую услугу всему человечеству, чем своему собственному народу. И даже если забыть на минуту о национальных интересах, то только ради социального избавления человечества стоит «пожертвовать» двумя-тремя поколениями молодых людей, которые бы, ничего не видя вокруг, занимались исключительно строительством лаборатории. Ибо в ней и только в ней будет найдена социальная панацея. Еврей, строящий свое государство, вносит в дело социального избавления человечества вклад гораздо больший, чем тот, кто «помогает» (или — «мешает») другим народам залечить их социальные раны.
И когда возводится такой храм — жертвы неизбежны. И горечь этих жертв не должна застить нам глаза, не должна нас отпугивать.
Это будут немалые жертвы. Многие и многие должны будут пожертвовать капиталами, удовольствиями этой жизни, здоровьем, самой жизнью. Не хочешь? — не иди. Но если вступил на этот путь, то не делай трагедии из исторической необходимости пожертвовать всем — даже классовыми интересами.
«Классовый вопрос», 1927; в сб. «На пути к государству».На каких же основных принципах должна быть, по Жаботинскому, построена эта социальная лаборатория? Из многих его работ и выступлений на эту тему мы выбрали поздравление учредительному съезду Национального профсоюза в 1934 году. В нем мы усмотрели нечто вроде резюме всех работ Жаботинского на эту тему:
Характерное качество еврейской души — стремление к социальной справедливости. Еще до появления пророков в своих древнейших легендах и сказаниях выражала эта душа свою вечную жажду исправления мира. С рождения и по сей день ни разу не смирилась еврейская душа с «существующим положением вещей». В священном трепете склонялась она перед своим Создателем, но вместе с тем настаивала на своем праве изменять и улучшать созданное Им. Несмотря на Высший запрет, она вкусила от «плодов древа познания». Великое видение Яакова — лестница, соединяющая небеса и землю,— символ гордой идеи: человек тоже творец. Наивный рассказ о «генетических опытах» Яакова с овцами учит нас подчинять силы природы воле человека. Лицом к лицу с Создателем боролся Яаков у брода Хибок и приобрел титул — Исраэль, «ибо будешь ты властвовать с Господом». Позже построила еврейская душа государство и установила в нем законы. Законы «Шабат» — обязательный отдых и «Пэа»[*] — источники современной нам системы законов, защищающих права рабочих и обездоленных, лишенных заработка. Но она, еврейская душа, пошла еще дальше — идея юбилейного года[*] — регулярно повторяющейся бескровной социальной революции — идея, величие которой дано оценить только нашим потомкам. Пророки приходили и уходили, их сменяли новые, и две главные идеи были у них на устах: освобождение общества от позора нищеты и голода и вера в «мессию» — т. е. в «золотой век» не в прошедшем (согласно верованиям сынов Яфета — греков и римлян), а в грядущем, и ты, Человек, будешь его строителем.
Нет народа, у которого эта идея социальной справедливости проникла бы до таких глубин души, как у народа Израиля. Но нет у него дома, где он мог бы создать общество согласно своим мечтам, по «образу и подобию» своей совести. Народ, миссия которого — быть хранителем общественной правды, вынужден скитаться и предлагать свои идеи другим народам, предлагать «на словах», а не «на примере», ибо нет у него лаборатории, где он мог бы воплотить эти свои идеи, «опробовать» их и создать общество, которое стало бы примером для всех народов.
Я не специалист в обществоведении и экономике, но я просто не верю, что какой-либо другой народ способен создать идеальное общество. Мы свидетели таких попыток повсюду: на юге, на севере, на востоке, западе и в центре. И вот — «полицейское государство» левого толка, «полицейское государство» правого толка — и нет намека ни на социальную справедливость, ни на избавление от голода и нищеты — ни на что, что хоть отдаленно напоминало бы об обещанном «золотом веке». Ибо еврейская идея в чужих руках выхолащивается, приобретает механические формы, теряет жизнь. Еврейское представление о социальной справедливости сложно, многогранно, внешне даже противоречиво. Согласно этому представлению, каждый человек — царь, безраздельно властвующий в «винограднике своем и под смоковницей своею», а не раб, принадлежащий кому-то или безликому «обществу», раб, жилье, одежда и жизнь которого принадлежат не ему, а кому-то или чему-то. Еврейское представление о социальной справедливости признает святость частной собственности и святость общественных интересов, освящает равенство и признает конкуренцию, освящает справедливый общественный строй и в то же время — обязательную, регулярно повторяющуюся социальную революцию — «Иовель» — ради строя еще более справедливого. Это представление широко, как сама жизнь, и не может быть воплощено никем, кроме самих евреев в их собственной «лаборатории».
Поэтому и строит сейчас еврейский народ такую лабораторию. И этим, и только этим, он не только спасет самого себя, но и всем народам укажет путь к социальному избавлению в будущем, возможно, не таком уж далеком. И во времена обоих Храмов трудился еврейский народ не только ради себя, но и на благо всего человечества, закладывая и формируя основы общечеловеческой нравственности. Но дар человечеству, который еврейский народ принесет в будущем, несравнимо больше, гораздо ценнее. Задачи столь грандиозной не знали другие национальные движения, известные доселе в истории. Никто еще не шел столь прямым путем к «идеалу» — в самом прямом смысле этого слова — избавлению нашего народа, которое станет предвестником исправления мира.
И именно поэтому не должно быть места в наших сердцах ни для какого другого «идеала», не должны наши души терзаться «борьбой близнецов», спорящих о первородстве.
Это поколение евреев послужит всему человечеству тем и только тем, что построит Государство Израиль.
«Письмо на иврите», «Хазит ха-ам», 11.4.1934. Золотой луч солнца в споре Победит сырую ночь; Вечно свет и тьма в раздоре. И Израиль гонит прочь. В каждом веке рабства тучи, Тучи лжи и тучи бед. И в награду он получит Свет свободы — правды свет. «Песнь знамени»; в сб. «Стихи».Мужество
«Нет более проверенного лекарства от всех наших болезней, чем мужество».
Жаботинский остался в народной памяти человеком, который более, чем кто-либо, трудился над тем, чтобы привить мужество народу. Не духовное — над этим немало поработали и другие, но обыкновенное — «мужество сильного». Действительно, на протяжении всей жизни Жаботинский не жалел усилий, чтобы воспитать «мускулистого еврея» (этот символ ввел д-р Макс Нордау), подвигнуть его на мужественные дела.
В Программе конкретных действий сионистского движения, составленной Жаботинским в 1905 году, он писал слова, сегодня звучащие наивно, но в то время ставшие просто революцией в еврейском мире:
Необходимы гимнастические кружки. Все это понимают, все об этом говорят, но мы, в России, не слыхали ни об одном гимнастическом кружке у сионистов. В нужную минуту выясняется, что еврейские юноши физически слабы и, как следствие этого, слабы духовно, попросту нерешительны. Это, разумеется, не прибавляет нам почета ни в чужих, ни в собственных глазах. Мы много говорим о необходимости, неотложности и т. д. Но вместо разговоров надо взять десять молодых людей и организовать гимнастический кружок, купить гири, снаряды (все это не так уж дорого) и начать делать дело — руками, ногами, мышцами груди и спины, начать учиться основам борьбы. Необходимость этого назрела настолько, что вслед за первым кружком тотчас появятся десятки новых. Тогда — если позволят обстоятельства — можно будет снимать и большие, хорошо оборудованные залы и организовать свое гимнастическое общество. Так мы положим начало всееврейскому атлетическому союзу, наподобие чешского «Сокола», его спортивным фестивалям, крупным спортивным состязаниям.
В сб. «Первые сионистские труды».Один из современников Жаботинского запомнил речь, сымпровизированную им, наверно, в том же 1905 году. Хотя, конечно же, мы не можем ручаться за стенографичность памяти этого современника, но дух выступления он выразил, по всей видимости, точно:
С развитием воли спортсмен одновременно развивает в себе такие качества, как внутренняя дисциплина, хладнокровие, смелость, и, главное,— стойкость, умение преодолевать страх.
Нет ничего, так унижающего человека, как трусость. Это свойство души, несмотря на то, что оно порождено инстинктом самосохранения, не имеет ничего общего с понятием «человек» — т. е. создание, сотворенное по образу и подобию Божьему. Это свойство отрицает выражение Горького: «Человек — это звучит гордо». Человечество навеки обязано эллинизму, который впервые признал спорт неотъемлемой частью образования, лучшим средством выработки таких необходимых человеку качеств, как физическая сила, красота и мужество. Греки первыми устроили гимнастические залы — гимнасиумы. Еврейство трудилось в основном в духовной области и «создало» Совершенного Бога. Греки «создали» «совершенного человека», что не менее важно. В душе такого человека нет места трусости.
Й. Тривуш. «Зеев Жаботинский».Через 15 лет Жаботинский встретился в Иерусалиме со спортсменами общества «Маккаби». Жаботинский возлагал на это общество немалые надежды, рассчитывая, что оно будет заниматься спортом не ради спорта, но и будет выполнять воспитательные функции, помогая формированию таких качеств, как мужество, дисциплина и... умение молчать. В речи Жаботинского, произнесенной им на упомянутой встрече, мы нашли следующее:
Почему мы так славим мужество? Говорят же нам: «Где евреи и где мужество? Не силой, не мощью — но духом. Сила духовная — вот истинная сила. Традиции еврейства — духовные традиции, а не традиции телесной силы». Я не верю этому. У нас есть и традиции духа, и традиции силы. Свидетельство тому — герои нашего народа разных времен. Действительно, Маккавеи — эта горстка храбрецов, восставших против могучей силы, святые, восставшие против мерзости. Они были сильны духом, но не меньшей, надо думать, была их физическая сила. С помощью сильного духа они могли «хорошенько накостылять», как выражаются гимназисты. Невозможно сомневаться в ценности духа, но что в нем пользы, если он не подкреплен силой? И как нет чести бездушному богатырю, столь же мало проку и в духе, лишенном силы. Лишь соединенные — они ведут человека и обеспечивают его безопасность и само существование. Сегодня, встретив еврея, мы тотчас узнаем его по немужественному, опасливому выражению лица. Это очень печально.
Я наблюдал такую сценку на вокзале в Венгрии: в буфет вошел еврей. Там сидели офицеры, не обратившие никакого внимания на вошедшего. Еврей передвигался так тихо и осторожно, как будто рядом была свора собак, готовая броситься на него... Мне пришло в голову, что Самсон, видимо, имел несколько иную походку...
Дух рождает идеалы, планы на будущее, но им не осуществиться, если не найдется силы, которая их воплотит. И пророки сходят со сцены тогда, когда у них недостает силы, чтобы воплотить свои пророчества.
Надо уважать телесную силу. Нет более проверенного лекарства от наших болезней, чем мужество.
«Доар ха-йом», 28.1.1920.А вот несколько мыслей Жаботинского о мужестве, необходимом в армейской жизни, из обращения к бойцам еврейских батальонов:
— Друзья, учить вас храбрости не за чем. Но не это главное. В жизни солдата страшнее всего не опасность, а две другие стороны армейской жизни: скука и грубость. С опасностью встречаешься раз в месяц: но в промежутке между двумя атаками нужно несколько недель просидеть в траншеях или в тылу, проделывая нудные, надоевшие поденные работы, в которых нет ни соли, ни перцу — и при этом сержант, хотя бы из вашей собственной среды, будет еще обзывать вас bloody fool или эквивалентом этого титула по-еврейски. Научитесь и это выносить. Лучший солдат не тот, кто лучше стреляет — лучший тот, кто больше в силах вынести...
Слово о полку, Автобиография.С годами Жаботинский все решительнее настаивал на важности физической подготовки. И спортивная, и боевая подготовка стали неотъемлемой частью жизни бейтаровцев. На еврейской улице звучали новые песни:
Каждый молодой еврей — парень или девушка — должен быть готов стать солдатом. Он — резерв национальной армии. Он должен быть готов к бою, и не только морально. Готовьтесь неустанно, готовьте ваши души и ваши мускулы. Мужественные игры сегодня, завтра, быть может,— мужественные дела.
«Письмо к еврейской молодежи», 25 адара 5687 г. (1927); в сб. «Письма».При всем уважении к физической силе, Жаботинский прекрасно осознавал опасность бездумного ее использования. В своем письме к руководству Бейтара в Израиле он предупреждал:
Мне кажется, что наши друзья еще не научились обуздывать то новое чувство, которое мы так старались привить еврейской молодежи,— ощущение своей физической силы. Силу-то они уже накачали, а вот пользоваться ею еще не научились. Ее можно применять только тогда, когда все остальные средства исчерпаны. Мне тоже очень не по душе, например, попытки насадить в Стране языки галута, я тоже вижу в этом своего рода национальную измену. Но, друзья, кулак здесь — не довод. Сила — средство самозащиты, средство защиты нашего народа от врага, а не аргумент в споре с соотечественниками.
Иерусалим, 2.11.1928.Раса
«Для меня все народы равны и велики в равной мере».
С тех пор, как нацизм и его «фюрер» стали отравлять народы Европы ядом своего «расового учения», у каждого порядочного человека, а у еврея в особенности, употребление слова «раса» вызывает естественное отвращение. Но все же разумный человек должен осознавать: одно дело — твердить о существовании «чистых» и «нечистых», «высших» и «низших» рас, и совсем другое дело признавать объективность существования различных рас — со своими особенностями, отличительными чертами, историей развития. За 20 лет до победы нацистского чудовища, но уже в эпоху, когда расизм завоевал себе массу поклонников, Жаботинский выступил с разоблачением теории о «чистых» расах:
Допустите на минуту, что вы добрались до первобытного, «чистокровного» арийца или семита; но откуда вы знаете, что и он в еще более глубокой древности не произошел от смешения каких-то других, неведомых нам рас? Наоборот, гораздо удобнее допустить, что так называемая «раса» есть всегда продукт смешения таких-то элементов в такой-то пропорции.
Таким образом — если не гнаться за придирчивой точностью выражений — мы можем сказать, что в общем приблизительно каждая национальность обладает особым, своеобразным и общим для всех ее индивидов «расовым рецептом»; в этом смысле (но, конечно, не в политико-юридическом) национальность и раса почти совпадают.
Если бы наука обладала уже достаточными для этого средствами, можно было бы, разложив особенным образом, скажем, кровь «типичного» француза и «типичного» сакса, обнаружить и записать формулу «спектра» или «рецепта», на котором зиждется их расовое своеобразие. Существуют ли «чистые» расы или не существуют, это все равно в данном случае.
«Раса», 1913. «Фельетоны», 1922.По Жаботинскому, этот «генетический код» влияет также на психику той или иной расы, что в той или иной мере проявляется в каждом отдельном ее представителе:
Психика есть верховное орудие производства, и потому ее различия неизбежно должны сказаться во всех сферах человеческой жизнедеятельности, прежде всего в хозяйственной. Две «расы», при идеальном равенстве всех прочих условий — климата, поверхности, почвы, истории — создали бы разные типы хозяйства. Для марксиста из разных типов хозяйства уже сами собою вытекают вообще разные типы культуры.
Совершенно иначе ставится вопрос (как уже отмечено выше) в области политики. Для политика и юриста — решающим моментом для установления национальной принадлежности в спорных случаях является только один психический момент: наличность национального самосознания. К этой точке зрения, впрочем, примыкают иногда и философы и психологи. Ренан, Лацарус, Фребель, Манчини, Блюнчли, Иеллинек и т. д. единогласно сходятся на том, что нация есть воля. Но для исследователя, интересующегося не только фактами и потребностями сегодняшней политической жизни или феноменами психической, а и объективными первопричинами, «нация» в конечном итоге, за вычетом всякого рода наслоений, обусловленных историей, климатом, окружающей природой, инородными влияниями,— сведется к своей расовой основе.
«Раса», «Фельетоны», 1922.Жаботинский отвергал мнение, что в ближайшем будущем расы и нации сольются в единое целое. Он предсказывал, что каждая нация будет продолжать развивать свою национальную самобытность, национальную культуру, несмотря на влияние (а возможно, и благодаря ему) межкультурной интеграции. Картина будущего ему рисовалась так:
Небывало яркий расцвет национальных самобытностей при полном мире и взаимном обмене продуктами самобытного творчества. Благо народам, которые доживут до того счастливого времени. А кто не доживет, о том будущие люди даже не вспомнят, и только ученые, пожимая плечами, скажут о нем: туда и дорога.
Там же.Намек слишком прозрачен: он предупредил своих соплеменников...
А что насчет существования «высших» и «низших» рас? Жаботинский, который говорил, что он предан принципу равенства «до сумасшествия», естественно, не мог принять такое разделение. Поэтому можно найти немало его высказываний, где он в самой резкой форме осуждает презрительное отношение к неграм. Это была его вера:
— По-моему,— вообще нет высших и низших рас. У каждой есть свои особенности, своя физиономия, свой комплекс способностей, но я уверен, что если бы можно было найти абсолютную мерку и точно расценить прирожденные качества каждой расы, то в общем оказалось бы, что все они приблизительно равноценны.
«Обмен комплиментами». «Фельетоны», 1922.В записях, сделанных в конце его жизни, Жаботинский вернулся к «расовой» теме. Он высказал свои мысли о еврейской расе, сохранившей свои отличительные признаки, невзирая на тысячелетия скитаний в галуте:
Вот я сижу и пытаюсь разрешить для себя этот невероятно запутанный вопрос: что же такое еврейская раса, в чем ее особенности, в чем эстетическая ценность (и есть ли таковая) еврейского генотипа?
В последние годы у нас завелся глупый обычай отвечать на этот вопрос, что, мол, нет никакого особого еврейского типа, так как евреи — не «чистая» раса, а результат смешения, и вообще нету чистых рас, а все они — сплошная мешанина. Это правда. И пустая болтовня одновременно. Несомненно, любая раса — результат смешения. И мы — дети Израиля — в особенности. Это вытекает из библейской истории, не говоря уже о временах галута, и мы, вероятно, самая богатая раса по количеству составляющих, хотя бы в силу древности нашей истории. Но это вовсе не значит, что наш «состав» похож на «состав» германской или русской расы. Вода и воздух — тоже сложные вещества, «смеси», но вода — это вода, а воздух — воздух. Ясно, что есть, слава Богу, еврейская раса и есть у этой «смеси» свой «рецепт» — и физический, и духовный, и это все — у нас в крови. Глупо отвергать очевидные вещи, давным-давно признанные всеми, только из-за того, что их употребили во зло в Мюнхене. В рамках общего для евреев «типа» есть «разновидности» — литовская, галицийская, сефардская, йеменская и сколько угодно еще. Разница в чертах лица, в форме черепа, в цвете кожи. Но очевидно, что существует общий «еврейский тип», и он не скроется ни под военной формой, ни под прической «мадам Помпадур».
«Между берегом и берегом», «ха-Машкиф», 2.4.1940Духовная раса
«Пусть хоть не все, но кто-то выйдет из гетто; пусть хоть не все, но кто-то дойдет до древних, а быть может, и до новых времен».
Жаботинский пришел к сионизму не в результате логических рассуждений, его не подвиг на это какой-то необычный случай, «научивший» бы его сионизму (см. ст. «Природный сионизм»). Он признавался, что эта вера появилась у него спонтанно, естественным образом, будто бы выросла из глубин его души. Это было делом принадлежности к некой «духовной расе», избавиться от которой невозможно даже при всем желании.
Жаботинский пришел к выводу, что «сионистом» надо родиться или быть воспитанным с младенчества. Иначе никакая логика, никакие убеждения не помогут. Обращаясь к офицерам Еврейского легиона, он писал:
Мне давно казалось, что сионисты — это особая «раса»: особый прирожденный склад души, а может быть и особый какой-то состав крови. Нельзя «обратить» человека в сионизм; и все толки о том, будто контакт с Палестиной может «сделать» кого-либо сионистом, тоже выдумка. Если это и случается, то только с теми, у кого и раньше была в душе капля сионистского яду, только прежде незамеченная. Это — тот самый яд, чья примесь, у других народов, при других условиях, создает ушкуйников, пограничников, авантюристов; людей, которым отроду не по сердцу взбираться по готовым ступенькам, а хочется и лестницу выстроить самим. Этой черты ни привить, ни подделать нельзя. Будет время, когда весь еврейский мир «признает» сионизм и даже будет его «поддерживать», но и тогда сионисты будут в еврейском народе малым меньшинством.
Слово о полку. Автобиография.Жаботинский показал, в чем разница между «сочувствием» сионизму и сионизмом:
Факт, есть многие, трудящиеся на благо сионизма и при этом не являющиеся сионистами. Сионистом можно только родиться. Бывает, что человек сам до поры не знает за собой этого свойства, как Илья Муромец, просидевший на печи тридцать лет и три года. Можно представить себе, что кто-то так и прожил всю жизнь, не «открыв» для себя это свойство своей души. Но тот, в ком нет этой искры с рождения,— никогда не станет сионистом. Вера сиониста отличается от «взглядов» сочувствующего и количественно, и качественно. Вера сиониста включает особые «элементы»: это и необычная сила воображения, необычное восприятие реальности, которое толпы насмешников назовут «витанием в облаках», и дерзость в мыслях и в поступках, которую насмешники назовут «авантюризмом»,— и, возможно, на самом деле есть тут капля склонности к авантюре, капля, которая и «создает» всех великих строителей и первооткрывателей, от Моисея до Колумба...
«Агентство», «ха-Арец», 27.8.1925.Сквозь призму этих различий в психике рассматривал Жаботинский и свой вечный конфликт с прочими лидерами сионизма. Он высказывался в частном письме:
Я согласен с тем, что если бы наши лидеры поставили свои подписи под нашей версией программы, то сама логика требовала бы от нас выйти из оппозиции. Но это было бы настоящим несчастьем. Разница между нами — не в планах или программах. Разница в подходе, в психике. Иногда мне кажется (это, разумеется, всего лишь шутка), что мы принадлежим к разным «расам». Ты пишешь, что в Ишуве сталкивался с ужасными типами. Тебе не кажется, что это просто другая «порода»? Поверь мне: девять десятых всего накала полемики — в этой разнице. Разумеется, далеко не все «они» — ужасные типы, есть среди них честные и прекрасные люди. Но они — из поколения пустыни[*].
Письмо доктору Зееву фон Вайзелю, 11.8.1926.Демократия
«Единственный путь создания руководства — прекрасная древняя традиция всеобщих прямых выборов».
Общественный строй, о котором пишет Жаботинский, основан на минимуме власти и полностью зависит от свободного волеизъявления граждан, «царей» в своем государстве. Однако перед лицом внешних и внутренних опасностей, подстерегающих современное государство, оно по самой природе не способно обойтись без организующей роли власти. Жаботинский видит в демократии общественный строй, в наибольшей мере соответствующий его ревностной преданности идее равенства людей. Преданность демократии привела его к солидарности с составителями известной «Гельсингфорсской программы» (см. гл. «Гельсингфорс»), и от ее имени он вел бескомпромиссную борьбу с олигархическими тенденциями, обнажившимися в сионистском движении, когда его руководство решило разделить власть с группой «магнатов», ни один из которых не был избран демократическим голосованием. Их финансовое могущество было единственным фактором, побудившим делегатов сионистских, по преимуществу рабочих, партий дать им право вмешательства в принятие политических решений «государства в пути». Жаботинский восстал против этого антидемократического акта (именно в связи с этим бунтом на заседании Палаты депутатов в Тель-Авиве раздавались выкрики: «Сломайте ему хребет!». И почти сломали...). В тот вечер, когда было принято решение по вопросу, известному как вопрос о создании «смешанного агентства», Жаботинский выступил перед делегатами Шестнадцатого сионистского конгресса с декларацией своего демократического «символа веры»:
Взгляните, уважаемые господа! Еврей наших дней уже не тот, каким он был тридцать лет назад. Он горд, обладает самосознанием, он гражданин. Ведется полемика, в особенности в стране, из которой я прибыл: чья в том заслуга? Революционные партии утверждают: мы сделали еврея гражданином, мы сделали его борцом. Однако в историческом и психологическом аспектах это неверно. Совсем иное произвело революцию в еврейской душе. Это сделал маленький клочок бумаги — «шекель»[*]. Те, кто выросли в других странах, более счастливых, чем моя, возможно, не смогут представить себе все значение этого. Когда, тридцать лет назад, обращались к нищему, задавленному еврею, призывая его на борьбу во имя закона и справедливости, он отвечал: «Кто я и что я? Я нищий. Я должен молчать. Право решать, что в интересах народа, принадлежит богатым и сильным, идет ли речь о депутации к губернатору или о заселении Эрец Исраэль». Ему не приходило в голову, что он имеет право высказывать собственное мнение. И тогда появился Герцль. Многие из заслуг Герцля будут отняты у него, однако одна принадлежит ему вне всяких сомнений: он дал приниженному еврею его «шекель». И уже спустя три-четыре года стало заметно, какой переворот произвела в согбенном человеке сионистская мечта, связанная с ней национальная надежда, новое солнце в небе, спасение народа Израиля. Он, вечно унижаемый, делает выбор, он решает! Он говорит себе: «Приближается Сионистский конгресс. Кто знает, может быть, на нем будет обсуждаться вопрос, решение которого будет зависеть от одного-единственного голоса. И, может быть, этот голос будет принадлежать представителю моего города. Возможно, этот представитель будет избран минимальным большинством и в числе решающих окажется мой голос. И вот, вопрос, от решения которого зависит, выберет ли народ Израиля правильный путь или пойдет по неверному, решится благодаря тому, что маленький человек с Молдаванки голосовал именно так, а не иначе! Я решаю, на меня возложена ответственность, я могу послужить причиной того, что народ Израиля пойдет по правильному или ложному пути! Я понимаю это, я тот, кто творит историю! И несмотря на то, что я нищий, а ты богач, у каждого из нас в час решающего выбора есть только свое собственное мнение. Мы равны. Мы граждане». Двадцать лет революционной пропаганды никогда не смогли бы вызвать подобное чудо в душе униженного человека. Это сделал «шекель», сама идея, что бедняк и богач имеют равные права.
Речь на VI сионистском конгрессе в Цюрихе, август 1929 г.; в сб. «Речи».Жаботинский приветствовал демократию как неоспоримую ценность. Он хорошо понимал, что недостатки демократической системы являются временной болезнью роста, существовать же она сможет только благодаря добровольному участию масс. Массовое движение по необходимости должно быть демократично, исходя даже из чисто прагматических соображений, и поэтому обвинение в фашизме, предъявленное Жаботинскому, представляется не только низкопробной клеветой, но и вопиющей глупостью:
Не затрагивая моего личного человеческого отношения к фашизму, могу, тем не менее, сказать, что в еврейской политической реальности этому явлению просто нет места. Сущность фашизма выражается в том, что действия каждого индивидуума подчинены задачам господствующего в стране насилия. Во главе государства также стоит один человек, в руках которого сосредоточены все средства угнетения и подавления. У евреев нет в настоящее время государственности и нет средств давления. Все наши учреждения — добровольные организации. Если какое-либо постановление кому-то не нравится, он волен не исполнять его. Он может оставить ряды организации, когда захочет. Даже в том случае, когда человек, не удовлетворенный определенным решением, тем не менее остается в своей организации, ясно, что он делает это потому, что, взвесив все «за» и «против», решил остаться, несмотря на свое несогласие. В такой ситуации все наши учреждения демократичны в силу необходимости. Более того: это не просто демократия, а постоянно действующий референдум, широкое соглашение всех «подданных», входящих к данному моменту в состав организации.
«Ответ „Социалистическому вестнику”», «ха-Ярден», 3.10.1934.Все сказанное относится как к еврейским добровольческим организациям, участвующим в сионистском движении, так и к еврейскому народу в целом. Поскольку народ все еще рассеян среди других наций, не может быть и речи о каком-то руководящем органе, обладающем независимыми полномочиями. Эти полномочия зиждятся только на свободном выборе тех, кто готов их признавать:
Прежде всего нужно сформулировать убедительные, не вызывающие сомнений политические основы. Исключительно важно не поддаться новой моде, зародившейся в Германии и Италии и продолжающей, к нашему прискорбию, проникать в страны демократического блока. Я подразумеваю открытое издевательство над прекрасными принципами свободных выборов. Я не специалист в том, что затрагивает другие народы. Может быть, для них периодический отказ от всеобщих выборов и обращение к «большой дубинке», когда отказывающийся подчиняться получает побои, является здоровым и органичным явлением, хотя я в этом сомневаюсь. Но нам, евреям, невозможно оказывать подобное давление. Единственный путь создания руководства — прекрасная древняя традиция всеобщих прямых выборов.
«А теперь — нужна программа», «ха-Машкиф», 3.4.1939.В этом месте любой историк сионистского движения не может не вспомнить один эпизод из жизни Жаботинского, касающийся также движения сионистов-ревизионистов. В 1933 году Жаботинский сложил с себя полномочия лидера и распустил правление движения, которое, как и он сам, было избрано демократическим путем. Не входя в подробности обширной и болезненной полемики, развернувшейся вокруг событий, приведших к отставке некоторых наиболее значительных членов руководства, приведем здесь отрывок из письма, в котором подведен своего рода итог, говорящий об отношении к происшедшему самого Жаботинского:
Не верь басням, что я отказался от демократического принципа. В Катовицах я взбунтовался против гегемонии меньшинства — против того, что представители 10% хотели задавить представителя 90%; и ведь конгрессные выборы доказали, что мой подсчет был верен. Можно спорить о том, хороший ли метод Putsch, но нельзя отрицать, что я боролся за право большинства, т. е. за основное начало демократии. Я не представляю себе никакой работы, кроме коллегиальной; и если завтра получу на 1 голос меньше другого, без всякой обиды пойду ему в помощники или просто в рядовые. Ты не можешь верить, чтобы я под старость отрекся от принципов, на которых мы выросли, и увлекся бы вождизмом, который презираю до отвращения.
Письмо Израилю Розову, 9.11.1933.При всей верности идее демократии, Жаботинский никогда не предавался иллюзиям относительно ее способности предложить лекарство от всех недугов человеческого общества. Например, он не видел в демократии средства против угнетения одной нации другой, против расовой дискриминации. Поскольку демократия наиболее полно выражает политическую власть народа, то и предрассудки, признаки отсталости, укоренившиеся в народе, получают наибольшую возможность выражения именно при демократическом строе. Уже в 1910 году, прежде, чем демократическая доктрина успела одержать решительную победу после завершения Первой мировой войны, Жаботинский сумел различить слабые стороны демократии. Он указывал на то, что даже в Соединенных Штатах демократия в то время была не для всех:
Издали обетованная земля кажется краше, чем на деле. Мы, у которых не только демократической, но и вообще никакой конституции нет, мы естественно склонны верить, что в демократизации государственного устройства заключается панацея против многих общественных зол. Когда-то люди были еще глупее и думали, будто свобода лечит — даже от бедности; однако, с тех пор социалисты успели нам втолковать, что голодные останутся голодными даже при всеобщем избирательном праве. Но в одном старая вера сохранилась: что расовые, национальные или религиозные предрассудки поддерживаются исключительно абсолютизмом, демократия же их не знает и знать не хочет. Как раз социалисты разных наименований особенно старались до недавнего времени вбить в головы эту неправду.
Ибо это неправда, наглая и вопиющая. Демократия сама по себе очень хорошая вещь, мы ее все желаем и добиваемся, но не надо облыжно судить то, чего не будет. Расовые предрассудки, коренятся именно и главным образом в массах. Допущение этих масс ко власти далеко не всегда улучшает положение угнетенных племен. Что пользы евреям от того, что в Румынии конституция? Что выиграли те же евреи от того, что в Финляндии введена самая демократическая в мире избирательная система? Негритянский вопрос в Северной Америке ярко иллюстрирует печальную картину. Здесь, на фоне почти идеального демократизма, полной свободы, широкого самоуправления — расовая ненависть действует в самых чудовищных формах и в самом беспримесном, очищенном виде. В России или в Румынии пускаются по крайней мере в ход, для оправдания аналогичных явлений, доводы экономического или политического свойства: такая-то народность якобы революционна или якобы эксплуатирует «коренную» бедноту. В Америке никто даже не пытается сочинить что-либо подобное: негры политически кротки, как ягнята, и занимаются почти поголовно ремеслами или низшими видами наемного труда. Во Франции или в немецкой Австрии, чтобы оправдать антисемитизм, ссылаются на громадные богатства Ротшильдов или так называемых венских Quai — Juden; в Америке среди негров нет ни одного крупного состояния. Здесь на лицо простая, голая, ничем не прикрытая антипатия расы к расе, без всякого повода или предлога, так здорово живешь. За то, что Джонсон повалил Джеффри. Это в свободнейшей стране, среди населения, почти поголовно грамотного, и в других случаях — например, в обращении с белой женщиной или с белым ребенком — рыцарски-корректного; это в стране, где ни полиция, ни суд не боятся никакого давления сверху. В такой стране и в такой среде расовая ненависть не раз и не два, а из года в год выливается в такие формы, которые соперничают не только с кишиневской или бакинской резнёю, но прямо с подвигами курдов в армянских вилайетах Турции. Видно, против этой болезни не помогают ни всеобщее голосование, ни всеобщее обучение.
«Homo homini Lupus», «Фельетоны», 1913.Эта статья относится к тому времени, когда разочарование Жаботинского в демократии достигло своей кульминации. Это разочарование, в сущности, стало уделом всего цивилизованного мира. Гитлер пришел к власти в Германии самым законным демократическим путем. И это продемонстрировало, что демократия не в состоянии поставить преграду перед шабашем самого худшего рода. А по другую сторону границы, во Франции, создавались и падали демократические правительства — каждые несколько недель или месяцев, как свидетельство того, что демократия не обладает ни устойчивостью, ни эффективностью. Эти события —
...больная тема для людей моего поколения. Современная молодежь интересуется этим вопросом очень мало, даже когда она говорит, что действительно хочет понять, является ли строй демократическим или нет. Возможно, этот вопрос все же отчасти «интересен» молодежи. Но для нас, стариков, в нем заключено нечто гораздо большее, нежели простой «интерес». Нам этот вопрос причиняет жгучую боль, приносящую немало страданий. Мы выросли, веря в то, что общество, построенное на всеобщем избирательном праве, на ответственности правительства, способно найти самые лучшие способы излечения всех политических, а в будущем — и социально-экономических бо лезней. Мы сомневались только в одном: сможет ли демократии заживить рану антисемитизма. Ибо тяжело было вспоминать дело Дрейфуса. Но, может быть, оно было единичным исключением?.. И все эти проблемы, кроме разве только одной — антисемитизма, разрешит, упорядочит, исправит демократия. Этой веры мы твердо держались в первые годы после войны. Мы не желали верить своим глазам, когда глаза наши начали видеть нечто иное, совершенно противоположное, противоречащее всей нашей вере. И, может быть, только теперь стало невозможно обманывать себя: нет, не все в порядке с демократией. И для нашего поколения эти слова звучат как пощечина. Или еще хуже — это удар прямо в сердце.
«Демократия», «ха-Ярден», 26.10.19.4.Велика боль, но еще сильнее — растерянность. Какие выводы можно было сделать из сложившейся неразрешимой ситуации? На том этапе Жаботинский был не в состоянии предложить конкретный выход. Он продолжал превозносить святость демократических принципов, однако советовал истолковывать и применять эти принципы в соответствии с требованиями и обстоятельствами ради того, чтобы сохранить их сущность:
Какой вывод вытекает из всего, что сказано здесь, какой нравственный урок мы могли бы извлечь? Я не могу этого сказать. Во-первых, потому что я этого не знаю. Во-вторых, это не дело сиониста, лишенного родины. Ибо прежде, чем подобные трудности возникнут в нашей собственной стране, у меня будет еще достаточно времени для изучения этого вопроса и размышлений. К свободным организациям типа всех наших партий все это не имеет никакого отношения. Однако даже если мы поглядим со стороны на то, что происходит сегодня в мире, то окажемся лицом к лицу с серьезной проблемой. Мы увидим страны с высокой культурой, в которых самая черная реакция восторжествовала не посредством путча, а с помощью признанной непогрешимой системы всеобщего голосования. Мы увидим истинную, глубоко укоренившуюся демократию, которая не способна управлять из-за того, что всеобщее избирательное право привело к созданию дюжины различных партий, ни одна из которых никогда не будет иметь большинства голосов. Каждую неделю угрожает возникнуть новая политическая комбинация, способная свалить правительство без видимой причины, просто так. В одной из этих стран мы находим ситуацию, в которой демократия видит свою единственную надежду во вмешательстве Папы или феодального офицерского корпуса... Мир «ревизионизма» на каждом шагу требует «ревизии». И я начинаю думать, что так и должно быть. Любой закон нуждается в истолковании, которое приведет его в соответствие с условиями времени. Право на неприкосновенность сохраняет только самая глубокая сущность тех идей, которые для нас святы. Но для того, чтобы защитить эту сущность, нужно иногда не побояться произвести «ревизию» — заново истолковать закон.
Там же.Демократия консолидировалась под знаменем войны против различных форм диктатуры меньшинства. И вот маятник качнулся в противоположную сторону, большинство добилось власти. Но совершенно неправильно отождествлять слепоту демократии с властью большинства. Ценность демократии не в порабощении меньшинства, не в подчинении десяти, или хотя бы одного, воле ста. Не ради этого она существует. Смысл демократии в том, чтобы искать соглашения, действовать в духе компромиссов и находить решения, которые будут на пользу всем.
«Введение в учение о хозяйстве», 1938; в сб. «Нация и общество».Религия и традиция
«Есть особая логика жизни, тесно связывающая древние традиции с явлениями сегодняшнего дня и планами на будущее».
Когда покойный сын Жаботинского проф. Эри Жаботинский давал мне свое согласие на эту публикацию, он писал: «...И еще одна просьба, не условие: не делай из отца религиозного человека, как это стало модным нынче. Он не был таковым. Если ты приводишь выдержки, показывающие его почтительное отношение к религии, приведи и его «безбожные» высказывания». Я так и сделаю. И не только из уважения к воле покойного, но и из уважения к самому Жаботинскому, который действительно не был религиозным человеком в общепринятом понимании. Он жил, не подчиняясь религиозным сводам правил. Но в то же время он никогда не позволял себе выражать публично свое пренебрежение этими правилами, оскорблять чувства религиозных людей. Он зачастую резко критиковал косность еврейской религии и ее «официальных представителей», фанатично придерживающихся мертвой буквы старинных обычаев. В одной из своих статей он писал, что тот, кто присоединяется к сионистскому движению, должен уважительно относиться к еврейской религии, роль которой в сохранении еврейского народа, особенно в галуте, невозможно переоценить (см. ст. «Национальное единство»). Но в то же время он считал, что светская культура, ворвавшись в гетто, «расправилась» с омертвевшей религиозной догмой. Найти «безбожные», «антирелигиозные» высказывания у Жаботинского — чрезвычайно трудно. А вот высказываний, «показывающих его почтительное отношение»,— сколько угодно. С годами Жаботинский все более внимательно относился к еврейской традиции, воздавая ей должное как могучему средству воспитания человека в духе вечных, непреходящих национальных и общечеловеческих ценностей. И вместе с тем выражал крайне резкий протест против попыток религиозных деятелей задушить свободу совести и установить власть обычаев насильственными методами.
Первый отрывок, самый «безбожный» из всех, найденных нами, относится к тому времени, когда Жаботинский боролся с намерением религиозных деятелей ограничить избирательное право женщин в Ишуве, что привело к откладыванию первой сессии «Совета избранных» — первого органа еврейского самоуправления после освобождения Эрец Исраэль от турецкой оккупации:
Вот уже несколько лет мы слышим вопли наших противников, что, дескать, в Эрец Исраэль необходима власть клерикалов, подчиняющая все и вся ярму религии. Нападки на нас ассимиляторов в Англии еще до декларации Бальфура, принесшие нам немало вреда, были продиктованы именно опасением, что все так и будет. И вся внешняя пропаганда сионизма была направлена на развеяние именно этого опасения. Мы объясняли, что еврейство — нация, а не религиозная община. Мы разъясняли, что и у нас, как у всякого просвещенного народа, человек может принадлежать к нации, не имея никакого отношения к религии. Ныне мы сами опровергли все это... Мы капитулировали перед клерикализмом, воюющим с равноправием женщин — принципом, торжественно провозглашенным Базельским конгрессом, принципом, на котором построена наша Организация. Эта Организация ценой невероятных усилий склонила на нашу сторону большинство еврейского народа, просвещенный мир, наконец, и вот теперь откуда-то из щелей выползают темные личности и заявляют, что Сионистская организация основывается на принципе, противоречащем Торе, и мы послушно им уступаем. Мы дорого заплатим за эту слабость.
...Еще несколько месяцев тому назад казалось, что мир с ортодоксами возможен, и многие из нас были готовы пожертвовать какими-то своими личными привычками, лишь бы не обижать уходящее поколение. Но теперь появляется серьезное опасение, что и у нас в Эрец Исраэль не избежать «войны за культуру». Это будет очень неприятно, но если это будет, то в этом будут виновны не ритористы, которые не имеют понятия о политическом образовании, но те образованные и «подкованные», кто пошел на уступки. Они забыли, что нельзя играть с огнем и давать поднимать голову силам, которым место давно уже в могиле.
«Здание» (оригинал на иврите), «Хадашот ха-Арец» («Новости Страны»), 27.10.1919.Прошло несколько лет. Стороны оставались при своих мнениях. Вопрос о войне за культуру, «за честь нашего народа, за его право именоваться культурным народом» еще не был снят. Но в одной из статей Жаботинский выражает надежду на возможность примирения если не со всеми, то с некоторыми течениями религиозной ортодоксии, на возможность сотрудничества во имя Сиона:
Пятьдесят лет назад обратился наш учитель, великий Элиэзер Бен-Йегуда, к раввинам того времени с призывом возглавить движение нашего народа — равно грешников и праведников — ради их спасения от гибели. Рав Яаков Меир и рав Авраам ха-коэн Кук откликнулись на этот призыв и встали на сторону нашего дела. Мы верим в силу традиций наших отцов, в могучую силу, которая способна слить нас воедино — единый народ, единый язык, единая страна и единая вера.
Идемте же с нами, укажите же нам верные пути к Сиону.
Ибо и вы, и мы — равно стремимся к нему.
«А дальше?», «Доар ха-йом», 22.2.1929.Вот что писал Жаботинский в дни, когда разгорелся печально знаменитый конфликт вокруг Стены Плача (были предприняты попытки ее осквернения):
Многие засмеются мне в глаза, если я скажу, что у каждого народа есть священные места. Ибо слепцами и глупцами сделал нас столь модный ныне цинизм. Но я утверждаю — есть священные места. Что такое Стена Плача? Не найдется и одного из сотни среди евреев мира, кто видел бы ее своими глазами, и одного на тысячу — кто бы знал ее историю, но все — даже завзятые ассимиляторы — были потрясены, узнав о попытках осквернения ее камней. Если вы спросите: «А ты-то сам понимаешь — почему?» — признаюсь, что не понимаю. И я причислял себя к поборникам прогресса и думал, что любой завод мне дороже древних руин,— и ошибся. Ибо есть особая логика в жизни, тесно связывающая древние традиции с явлениями сегодняшнего дня и планами на будущее.
«Доар ха-йом», 23.10.1929.Со временем в отношении Жаботинского к религии произошел драматический поворот, что отразилось на проекте Основного закона, который Жаботинский вынес на рассмотрение конгресса Новой сионистской организации. Там было сказано: «Цель сионизма — избавление Израиля и его земли, возрождение его языка и государства, укоренение святых принципов Торы в жизни нации. Пути к достижению этого: создание еврейского большинства в Эрец Исраэль... воссоздание еврейского государства на принципах гражданской свободы и социальной справедливости в духе Торы Израиля, возвращение в Сион всех любящих его и конец рассеянию. Провозглашается равный приоритет интересов личности, общества и классов». Этот проект был утвержден после блистательной речи Жаботинского, в которой он сказал:
Доселе в национальном движении в Израиле властвовали искренние, честные, прекрасные лозунги, заимствованные у блистательной эпохи освободительных войн прошлого века: «Религия — это частное дело», «Отделение церкви от государства». Но история развивается диалектически, и сегодня мы сталкиваемся с необходимостью пересмотреть свое отношение и к этому вопросу. Изгнание церковников, отлучение их от власти было необходимо, но это привело к изгнанию Бога. И более чем сомнительно, было ли это желательным результатом. Да, религия должна оставаться сугубо личным делом, в смысле твоего, моего, его мировоззрения. Тут должна быть сохранена полная свобода в традициях священного либерализма, святость которого пребудет вечно. Но далеко не «частный вопрос» — умерла ли традиция или она жива. Остались ли гора Синай и пророки живыми явлениями духа или это пылящиеся под стеклом мумии, фетиши, наподобие ацтекских. Да, «церковь должна быть отделена от государства» — в том смысле, что никто не может навязывать кому-либо свои взгляды — как религиозные, так и атеистические.
Но высший интерес «государства» и нации — чтобы Вечный огонь не угас, чтобы среди всего, что сваливается ныне на голову молодого человека, попадало к нему и представление о наших ценностях, чтобы доходил до него Священный дух, дух нашей традиции.
Речь на открытии Новой сионистской организации, Вена, 7.9.1935; в сб. «Речи».Но раздел «Укоренение святых принципов Торы в жизни нации» был принят не без яростного сопротивления многих делегатов. Многие обвиняли Жаботинского в том, что при помощи такого «реверанса» он хотел склонить на свою сторону массы религиозных фанатиков. Жаботинский это решительно отрицал. В письме к сыну, написанном за два дня до закрытия конгресса, он писал:
Я готов подписаться под каждой буквой. Это плод долгих размышлений. Нет нужды говорить, что я по-прежнему за принцип свободы совести и т. д. и не вижу ничего священного в «ритуале». Идея глубже: «укоренение святых принципов Торы в жизни нации»... Всякий согласится, что в Торе есть священные принципы, а все священное стоит «укоренить». С другой стороны, эти «святости» — все из области этики, морали, любой атеист из атеистов обеими руками за мораль, так зачем же религиозная «упаковка»? Я думаю, в этом вся суть спора. Тысячу раз можно преподать моральные правила без всякой связи с Божественным. Так делал и я всю сознательную жизнь, но теперь я считаю, что правильнее все же рассматривать основы этики как нечто, данное изначально и свыше, как нечто недоступное разуму исследователя. Не только из соображений обычной вежливости, ведь, в конце концов, Библия — это действительно наш первоисточник, и почему мы должны это скрывать? Почему можно тогда провозглашать принципы сионизма именем Герцля (если их вообще можно провозглашать без Герцля)?..
Почему же только Тору мы должны стесняться цитировать? Это не что иное, как известный сорт снобизма, брезгливого отношения к «местечку». Но для меня — дело не только в этом. Не просто в неприятии брезгливости и снобизма, не только в желании возвратить Торе ее почетное место, я иду дальше. Я считаю, что нам необходим религиозный пафос сам по себе. Я не уверен, что возможно «укоренить» его в душах, быть может, это «врожденное свойство», нечто вроде музыкальных способностей. Но если б только появилось поколение верящих, я был бы счастлив.
У меня нет сомнений, что наши друзья ортодоксы еще натворят нам бед. Но я не боюсь. Надеюсь, мне удастся загнать их фанатизм в рамки приличий. Но я хочу знать, что ты об этом думаешь. Я встал в 6 утра, чтобы излить душу.
Письмо Эри Жаботинскому, 14.9.1935.Жаркие споры вокруг «Основного закона» продолжались. Нападки сыпались и со стороны ортодоксов, и со стороны «светских». Но прежде, чем мы приведем отголоски этого спора, поместим здесь в качестве «интермеццо» одно письмо Жаботинского, где он высказывает свое отношение к реформистскому течению в иудаизме (за несколько лет до этого он выражал резко отрицательное мнение об этом течении из-за откровенной склонности последнего к ассимиляции):
Что до моей лекции в реформистской синагоге, то прошу передать моим друзьям следующее: в свое время я высказывал резко отрицательное отношение к реформизму, когда последний занимал антисионистские позиции. Если бы ситуация оставалась таковой, о моем выступлении у реформистов не могло быть речи. Но все течет, все меняется. Сегодня в США — главном «оплоте» реформизма — многие лидеры реформистской общины — преданные сионисты.
И коли так, я решительно не намерен рассматривать реформизм как нечто выморочное. Речь не идет о моих личных взглядах на ортодоксальный и реформистский иудаизм. Никто пока не просил меня высказываться на эту тему. Нужна или не нужна реформа иудаизма — этот вопрос вне моей компетенции. И доколе реформизм не является проявлением ассимилянтства, дотоле я ни за что не соглашусь видеть в нем нечто «преступное», или «еретическое», или «неприятное».
Я решительно призываю всех наших друзей с большей серьезностью относиться к таким вещам, как свобода совести и свобода мысли. Что до меня, то я не готов участвовать в такой глупости, как предание анафеме чьих-либо духовных исканий, пока последние не покушаются на святость основных принципов свободы, равенства и национализма.
Письмо г-ну Хайману на английском яз., 15.6.1937.Письмо, приведенное ниже, было адресовано раби Леви Юнгстеру, возглавлявшему ортодоксальную фракцию в Сионистской организации:
Я давно уже пришел к выводу, что религиозная традиция представляет собой не только «историческую ценность», но живую и активную силу, действующую и развивающуюся ныне и вовеки веков. Когда мы удостоимся нашего государства, когда мы начнем строить жизнь этого государства в соответствии с нашими национальными идеалами — станет очевидным, что основа основ наших «национальных идеалов» в той чудесной связи человека с Божественным Духом и что вся история еврейской мысли по сей день во всем ее разнообразии есть не что иное, как выражение этой связи.
Эти свои взгляды я пытался выразить в Основном законе Новой сионистской организации. Я буду и впредь бороться за победу этих взглядов и уверен, что они найдут понимание не только у масс, но и у интеллигенции. Но это не значит вовсе, что они будут приняты безоговорочно, и ни в коем случае — под каким-либо давлением, путями, которые решительно отвергает сама вера, ибо основа основ веры — свобода мнений.
Поймите меня правильно. Божественный Дух нельзя «насадить». Он не может прибегать к услугам полицейского или цензора. Этот Дух хочет завладеть сердцами и совестью, преодолеть сомнения, но — не запретить сомнения. Поэтому не может быть веры, традиции, Божества у общества, в котором не спорят именно об этих вещах. От этой своей убежденности — что истинной вере свобода совести и выражения мнений необходимы как воздух — я не отступлю и на волосок. Отступясь от этого, мы причиним лишь вред религии и традиции.
Я не намерен — и это просто никому не нужно — заявлять, что национальное движение и, тем более, весь еврейский народ относятся к Всевышнему с трепетом, почтением и т. д. Такие игры оставим для всяческих движений, пытающихся совместить несовместимое...
Мы говорим совсем о другом: мы намерены трудиться ради переворота в душах людей, переворота, который обратит души нынешних «вольнодумцев» к поискам правды в вечном источнике, имя которому — «наша традиция»... Это не значит, что мы откажемся от современной науки или от мудрости Яфета, но мы постараемся показать, что источник всех истинных достижений науки в области этики, морали, исправления мира — в нашей традиции и то, чему мы научились у других,— не что иное, как толкования того, чему они сами научились у нас. Именно это я имел в виду, внося в предложенный мною в Вене проект слова «укоренение священных принципов Торы в жизни нации».
У великой цели великие средства. И имя этому средству — свобода. Не должна даже на далеком горизонте замаячить тень стражника, ибо даже тень его губительна для этой цели. Не ставьте преград игре исследовательской мысли. Но бойтесь споров о самом главном, самом святом для вас. Ибо истина рождается только в споре.
«Письмо», «Унзер вельт» («Наш мир», идиш), 21.5.1937.В тот же период Жаботинский изложил в статье свое кредо о ценности традиции:
...Одно из двух: либо мы должны заявить, что еврейство — примитивная раса, лишенная всякой культуры и пребывающая, с духовной точки зрения, в младенчестве, либо мы должны считаться с очевидным фактом, что библиотека нашей национальной культуры состоит на 95 процентов из книг «религиозных» и лишь на 5 процентов — из «светских». Почти все ценности в области философии, этики, социальной справедливости, которыми мы обогатили мир и ради которых восходили на костер,— все они или почти все (если есть тут исключения) — сотканы из шелковых нитей нашей традиции, рождены в беседе человека с Богом, были осмыслены и выражены в лучах Божественного Духа. С такой могучей скалой наследия невозможно бороться. Да и зачем «бороться»? Что тут обидного, где тут унижение для народа, если народ считает, что его взгляды на мораль связаны с глубочайшими тайнами Вечности?
«Фундамент Новой сионистской организации», «Унзер вельт», 28.5.1937.Сдержанность и реакция
«...Не убий» никого, кроме еврея,— есть ложь».
Весной 1936 года стало очевидно, что в ближайшее время ожидались кровавые нападения банд арабских террористов на Ишув. Жаботинский предупреждал об этом английского верховного губернатора в Палестине. Никакие меры не были приняты. Через две недели арабы объявили всеобщую забастовку и начали систематические нападения на евреев, они сеяли смерть повсюду. Отряды еврейской самообороны «Хагана» оказывали арабам сопротивление, но — не более того. Никаких ответных акцией не было. Дело в том, что руководство Ишува проводило так называемую политику «сдержанности». В принципе, ее поддерживал и Жаботинский, надеясь, что такая политика приведет в конце концов к тому, что англичане согласятся на формирование еврейских вооруженных сил, которые будут отвечать за порядок в Стране. Однако время шло, а англичане, смотря сквозь пальцы на арабские вооруженные банды, не позволяли, между тем, вооружаться евреям. Собственно, у самого Жаботинского никогда не было иллюзий относительно «сдержанности». Он временно поддерживал ее из тактических соображений, но свои взгляды по этому поводу он выразил еще в 1928 году:
О том, что мода убивать евреев еще не прошла, нету спора. Это видит даже слепой. Остается только одна проблема: каково лучшее средство против этой моды? Следует помнить, что противники и оппоненты Трумпельдора решительно против погромов, что они тоже хотели бы, чтобы на еврейской улице царили тишь да гладь. Однако, утверждают они, реагировать по принципу «око за око» — не выход. Здесь у них появляется возможность сняться в обнимку с такими гигантами, как Толстой и Ганди. Они также утверждают, что подставление другой щеки — куда более эффективное средство, чем ответная пощечина. Они говорят, что противление злу насилием способно повредить мышцам злодея, но сердце его еще более отвердеет и он затаит еще большую злобу. В свою очередь, «непротивление» — оружие, бьющее прямо в сердце злодею; он начинает рано или поздно стыдиться, а стыд — самая сильная человеческая эмоция, стыд не позволит творить зло. Они утверждают, что все беды человечества вытекают из этого пагубного стремления — отвечать злом на зло. Если бы люди «не отвечали», войны и погромы давно бы исчезли.
Красивая и очень притягательная теория. Но, увы, далеко не все красивое и притягательное правильно. Лучшее опровержение у нас перед глазами. Имя ему — история галута. Неправда, что люди никогда не пробовали проверить эту теорию на практике. Мы, евреи, проводили испытания. Мы, собственно, ничем другим и не занимались, кроме как методично, с нечеловеческим терпением, поколениями применяли на практике теорию Толстого. Мы не обращали внимания на то, что она не «сработала» в третий, в десятый и в сотый раз. Нас били снова и снова. Мы не отвечали. История галута полна погромов, но она не знала самообороны. Перед нами самое добросовестное, проведенное по самым строгим правилам науки испытание. И результат? — Бьют.
«День памяти Трумпельдора», 1928.Как уже говорилось, Жаботинский какое-то время надеялся, что «сдержанность» евреев создаст благоприятный политический климат для формирования и легализации еврейских батальонов — силы, признанной британскими властями. Он писал своим друзьям из ЭЦЭЛ: «Несмотря на то, что невероятно трудно в такое время терпеть и сидеть сложа руки, вы должны считаться с нашими политическими усилиями ради сформирования еврейских молодежных отрядов. Ваше терпение поможет нам в этом деле. Пока есть надежда на успех — терпение необходимо». Но надежды не сбылись. ЭЦЭЛ вынужден был перейти к ответным активным действиям. Жаботинскому, гуманисту до мозга костей, было тяжело смириться с необходимостью войны. Ведь в ней погибнут не только бандиты и террористы. Возможны жертвы и среди ни в чем не повинных людей. Но сама жизнь требовала активных действий. Дальше терпеть убийства было нельзя:
Мы постоянно слышим спекуляции в том духе, что, дескать, террор запятнает самих арабов и никго не захочет сесть с ними за стол переговоров. А вот мы, евреи, покажем себя всему миру людьми честными, терпеливыми и солидными. Нас признают позитивной силой в государстве и т. д. Надо ли объяснять, каков будет результат такой хитроумной дипломатии за счет еврейской крови, дипломатии «на фоне» каждодневных убийств евреев, а также и англичан, и каковы будут «купоны», которые состригут евреи. Единственный вывод яснее ясного: тот, кто не умеет кусаться всеми зубами, того не возьмут в компаньоны; и тот, кто покорно идет на заклание и не допускает и мысли о сопротивлении, удостоится всяческих похвал лорда Чемберлена и будет лишен права въезда в Страну. Потому, что никому не нужен в качестве союзника бездельник.
«За грехи наши», «ха-Йом» («Сегодня», иврит), 3.3.1939.И в другом месте:
Когда речь идет о войне, не спрашивают, что предпочтительнее — стрелять или не стрелять? Единственный вопрос, который можно задать: что «хуже» — покориться и спокойно смотреть, как тебя убивают, или защищаться всеми средствами, даже жестокими, потому что понятие «предпочтительности» тут просто неприменимо? Все связанное с войной — «плохо», ничего «хорошего» в ней нет и быть не может. Не надо себя обманывать: стреляя во вражеских солдат, вы стреляете не в «виновных». Я прекрасно помню этих «виновных» на Палестинском фронте в 1918 году — турецкие крестьяне, простые и хорошие парни, и никто из них не имел никаких претензий ни к нам — солдатам Еврейского легиона, ни к Британской империи. Все они хотели только одного — домой... Убийство любого из них было таким же преступлением против Бога и человечности, как и убийство любого из нас. Мы-то хоть были добровольцами... Если бы мы задавались тогда вопросом о «предпочтительности», мы неизбежно должны были бы прийти к выводу, что нам следует немедленно разбежаться и плюнуть на такие вещи, как Дом, Свобода, Родина, Надежда.
Римляне говорили: «из двух зол выбирают меньшее». И приходится выбирать: либо спокойно, «сдержанно» взирать на убийство евреев, либо принять жестокие меры для того, чтобы прекратить это.
Это нелегкий выбор, и я вовсе не рекомендую считать это дело «простым». Но надо отдать себе отчет, что «сдерживаться» — тоже преступно.
«Амен», «дер Момент», 9.7.1939; в сб. «В бурю».И еще одна статья на эту же тему:
«Сдержанность» безраздельно правила в Израиле с апреля 1936 по сентябрь 1937 года. Т. е. у нас у всех было достаточно времени, чтобы картина стала ясна всем. «Картину» следует наблюдать под другими углами зрения: как выглядели евреи, с одной стороны, и как арабы — с другой. Евреи выглядели испуганными мышами. Мышь не боится, пока она сидит у себя в норе. Но стоит ей вылезти наружу, где правит кошка,— ее охватывает страх. Так же и евреи — чувствовали себя вполне уверенно в Тель-Авиве и Петах-Тикве. Но уже в местах со смешанным населением — в Яффо, в Иерусалиме — они чувствовали дискомфорт. Не говоря уж о дорогах. Обычная поездка из Тель-Авива в Иерусалим требовала немалого мужества. И смешно требовать от евреев «презирать опасность». Только дурак не считается с опасностью, и даже герой из героев вынужден, видя опасность, воздерживаться от поездок по дорогам, которые стали настоящими ловушками. Совсем иначе ведут себя арабы. Они не боятся гулять по Иерусалиму или по Яффо. Они не боятся разгуливать в Тель-Авиве. Ведь они же не евреи — никто их не тронет. Вот она — картина «сдержанности». С тех пор, как прекратили «сдерживаться», появилось нечто новое. Невелико достижение, но мы считаем, что и это важно. Арабы перестали ощущать себя безраздельными хозяевами. Ликвидирована прежде существовавшая «диспропорция». Как хотите, но объективно — это хорошо. Дело в том, что еще в юности, еще в России я накрепко усвоил одно: никогда, что бы там ни было, чем бы это ни пытались оправдывать, не следует мириться с принципом «кроме евреев». Свобода для всех, кроме евреев,— есть ложь; справедливость для всех, кроме евреев — есть ложь; «не убий» никого, кроме еврея,— есть ложь.
«Проблема сдержанности», «Унзер вельт», 2.8.1939.Самоопределение
«Учение о национальном самоопределении — это не просто механическая регистрация факта наличия национального большинства где-либо. Это учение — основа исправления мира...»
Жаботинский считал священным и неотъемлемым право каждого народа на самоопределение. Причем, он считал, что это право есть не только у народов, владеющих собственной территорией, но и у национальных меньшинств. Темой своей диссертации на степень магистра права он избрал «Самоуправление национальных меньшинств» (1912 год). Поэтому понятно, что он не мог попросту закрыть глаза на проблему арабов Эрец Исраэль — право решать судьбу страны, в которой они живут,— ибо именно они составляли в ней большинство.
Этот вопрос был отнюдь не теоретическим — британские власти долгое время предлагали создать в Стране нечто подобное парламенту («Законодательный совет»), который, если бы он был создан, автоматически положил бы конец надеждам сионизма. Этот план не был воплощен в жизнь в основном из-за сопротивления недальновидных арабских лидеров. Но он успел посеять настоящую панику среди руководителей сионистского движения — завзятых демократов, которые просто не знали, что делать, ведь воспротивиться этому плану значило отступиться от демократических принципов... Жаботинский не попался в эту ловушку, он сумел показать, что план британцев был хитро рассчитанной политической игрой, имевшей мало общего и с принципами демократии, и с правом народов на самоопределение. Он показал, что проблему нельзя рассматривать, исходя из сиюминутных соображений:
Почти все известные истории культуры были созданы народами, пришедшими в чужую землю без согласия на то тамошних жителей. Так появились Страна Израиля в древние времена, Англия и Франция в средневековье, Америка в новое время. Если бы политика делалась согласно воле аборигенов, то мы не знали бы ни Руссо, ни Вольтера, ни революции 1789 года, ни Шекспира, ни Дарвина, ни Бальфура, ни Исайи и Амоса, ни их ученика из Назарета. Вся мировая культура рождена «во грехе» колонизации, без согласия на то аборигенов. Если бы последние, встречая пришельцев, догадывались немедленно созывать парламент, то трудно сказать, как выглядела бы ныне мировая культура.
И еще — если право «аборигенов» неоспоримо и незыблемо и не ведает исключений, то что же тогда делать изгнанному, скитающемуся народу? Нет на земном шаре клочка суши, сколь-нибудь пригодного для обитания, который не был бы населен «аборигенами». Велико ли, мало ли «местное» сообщество — по отношению к колонистам оно всегда будет «большинством» на первых порах, ибо невозможно организовать единовременное массовое переселение скитающегося и рассеянного народа. И это большинство «имеет право» созвать парламент, взять управление страной в свои руки и закрыть ее ворота для «пришельцев». Это справедливо — когда один народ пользуется всеми благами «своего дома», а другой — вынужден скитаться и быть всюду на правах «бедного родственника»? Сила тождественна справедливости?
Имя такой справедливости — ложь. Земля принадлежит не только живущим на ней и не только обрабатывающим ее. На нее есть право также у тех, кому негде жить и нечего обрабатывать. Учение о национальном самоопределении — это не просто механическая регистрация факта наличия национального большинства где-либо. Это учение — основа исправления мира — народ, не имеющий удела, да получит удел. Священны права большинства, но не менее священны и права поселенцев, в особенности — скитающихся, доселе бездомных. До сих пор скитальцы приходили и отстаивали свои права кулаком и мечом. В нашем случае «пришелец» поступил иначе. Он обратился к суду мировой общественности, к сообществу цивилизованных стран, и они решили — в этой земле ему надлежит поселиться. Это решение — и есть справедливость. И если «местный» народ против, то единственный логичный вывод — не следует давать ему в руки такое «оружие», как парламент, ибо его воля будет злой волей, волей общества, выступающего против справедливости.
«Парламент», «ха-Арец», 21.7.1925.Восстановление справедливости и исправление ради этого существующего неправедного порядка вещей — по Жаботинскому — цель прогресса. Именно это, а не ловкое жонглирование лозунгами:
В войне против сионизма используются все популярные ныне лозунги: «демократия», «право большинства», «право на самоопределение». Дескать, раз арабы составляют большинство в Эрец Исраэль, стало быть, у них есть право на самоопределение, есть право заявить: «Эрец Исраэль — наша собственность, и мы не намерены ею делиться». «Демократия» и «самоопределение» — суть священные принципы, но именно поэтому ими нельзя спекулировать, произносить их «всуе», жонглировать ими ради достижения бесчестных, неправедных целей. Право на самоопределение не в том, что захвативший часть суши волен делать на ней, что ему заблагорассудится, а изгнанный со своей земли должен оставаться скитальцем навеки. Принцип самоопределения — суть ревизия существующего порядка вещей, справедливый передел мира, когда владелец слишком больших земельных наделов уступает часть в пользу обездоленных — чтобы у всех было место, где они могли бы осуществить свое право на самоопределение. И коль скоро мировое сообщество решило, что у евреев есть право вернуться на эту землю, т. е. признало, что и евреи — полноправные граждане и жители этой страны, неправедно изгнанные когда-то и возвращение которых требует времени,— неправедно утверждать, что местное население имеет право запретить евреям возвращаться сюда и что такой запрет вытекает якобы из самого принципа «демократии». Демократия в Эрец Исраэль имеет две составляющие: местное население и население, изгнанное отсюда. Последнее составляет большинство.
«Этика железной стены», «Рассвет», 1923; в сб. «На пути к государству».Далее в той же статье Жаботинский высмеивал готовность вытягиваться в струнку при первых звуках «Марсельезы», не обращая внимания на то, что, может быть, «инструменты, на которых играет оркестр, сделаны из еврейских костей». Жаботинский впоследствии возвращался к этому образу:
Мне рассказывали о таком случае: полиция — дело было во Франции — разыскивала известного преступника. В конце концов его следы привели в его же собственный дом. Полиция уже ломилась в дверь, но тут жена злодея уселась за рояль и заиграла «Марсельезу», то есть государственный гимн республики. Полицейские в священном трепете отдали честь и стали по стойке «смирно». Вор в то самое время спокойно удалился — прямо у них на глазах. Я все-таки не думаю, что это правда. В отношении французской полиции. А вот у нас такие «дисциплинированные» найдутся. Стоит заиграть перед ними гимн свободы и пронести перед ними знамя, на котором начертаны лозунги прогресса и равенства, как на них находит «священный столбняк» и они спокойно смотрят, как у них под носом растаптывают и убивают самое им дорогое, самое для них святое.
Вряд ли нужно подчеркивать лишний раз, что это как минимум глупо. И те полицейские, если рассказ о них — правда, Унизили, в первую очередь, саму «Марсельезу», превратив ее в истукана, и тем самым осквернили ее. Даже белый флаг, почитаемый повсеместно как символ прекращения огня, следует почитать «с оглядкой» — ведь его могут поднять и с тем, чтобы ударить исподтишка. Такой белый флаг — не более, чем тряпка.
Можно легко себе представить ораву погромщиков, принимающихся за свою «работу» не только что с «Марсельезой» на устах, но и с Псалмами. В нечистых душах самая священная молитва — пустое сочетание звуков. Поэтому мы утверждаем: любые самые громкие лозунги, когда их используют с целью обмана, заслуживают такого же обращения, как и склянка с ядом, на ярлыке которой выведено название лекарства.
Так же следует относиться и к планам создания парламента в Палестине. Это та же самая склянка — на ярлыке написано «самоопределение», а содержимое — очередная попытка помешать осуществлению права на самоопределение евреев. То есть уничтожить тот самый идеал, ради осуществления которого мировое сообщество и доверило Англии мандат на Эрец Исраэль.
«Еще один парламент», «Хайнт», 8.7.1927.Эмиграция
«Эмиграция во все времена служила средством избавления людей от лишних тягот...»
В пору горячих споров вокруг «эвакуации» Жаботинского обвиняли в том, что он хотел бы сорвать миллионы людей с насиженных мест. Эти обвинения звучали не ново. С подобным Жаботинский сталкивался на заре своей сионистской деятельности, когда многие евреи, даже поддерживавшие сионизм, опасались «морской болезни». Жаботинский отвечал им:
Сионизм, понятно, требует «мужественных поступков» и будет их требовать — подвигов терпения, стойкости, возможно, и самопожертвования... Но — «жертв»? Когда вы говорите о «жертвах», которых якобы требует сионизм от еврейских масс, вы имеете в виду, что по приезде на новое место у людей возникнут трудности, от которых они были бы избавлены, если бы остались в странах проживания и добивались бы для себя автономии? Странный подход. Я всегда, грешным делом, считал, что эмиграция во все времена служила средством избавления людей от лишних тягот, а не наоборот.
Перед нами огромный исторический опыт — небывалых размеров эмиграционные потоки нашего времени, и все это служит подтверждением сказанному выше — люди ищут (и часто находят) в эмиграции избавления от тягот.
А в нашем случае — люди не просто переедут с места на место. В нашей древней-новой стране люди впервые смогут сами вершить свою судьбу. В ней, и именно в ней, люди смогут по-настоящему раскрыть свои таланты...
«Письмо об автономизации», 1905; в кн. «Диаспора и ассимиляция».Жаботинский настаивал на том, что массовая эмиграция евреев будет благом не только для уезжающих, но и для остающихся:
Здесь я хотел бы высказаться по поводу отношения некоторых руководителей еврейских общин к проблеме эмиграции. Их подход начисто лишен какой-либо логики. Если бы они хотели быть логичными, то ход их мыслей должен был быть чрезвычайно прост. Что эмиграция необходима, «про себя», в кулуарных беседах признают все — и коммунисты, и бундовцы, и крайние ассимиляторы. Более того — все они прекрасно понимают, что эмиграция необходима и самим странам Восточной Европы. Все без исключения понимают, что существует тесная связь между эмиграцией и равенством в правах. Равенство на бумаге мало кого устраивает, нам нужно подлинное равенство. А чтобы достичь его, надо бороться с антисемитизмом. А всякий объективный наблюдатель согласится с тем, что для того, чтобы успешнее бороться с антисемитизмом, надо, чтобы «зона военных действий» была как можно меньше. Правда,— и это еще ни от чего не гарантирует — в Германии евреи составляли всего один процент населения, но это не избавило их от чудовищного антисемитизма. Есть такие пессимисты, которые решительно отказываются верить, что эмиграция решит многие проблемы в восточноевропейской части галута. Но ассимилянт знает твердо: чем меньше будет евреев на данной территории, тем легче будет бороться с антисемитизмом. Поэтому понятно, что стремление вывезти из Европы как можно больше евреев было «синонимично» стремлению помочь остающимся добиться равноправия. Менаше Маргалит, завзятый ассимилянт, из первого поколения маскилим[*] в Одессе, говорил: «Да, я ассимилянт и останусь им, но если вы меня спросите, до каких пор я намерен поддерживать еврейскую эмиграцию, я отвечу: пока не придут русские и не взмолятся: «Ради Бога, хватит уезжать, мы без вас не можем!». В такой парадоксальной форме он выразил общий взгляд на эмиграцию — не его и не мой взгляд, а просто реальный взгляд на вещи. Тут не на что обижаться, нечего сердиться: эмиграция — это дело естественное, испокон веков испытанное средство. Три четверти жителей земного шара — потомки эмигрантов, евреи тут не исключение, и нечего нам стыдиться и скрывать, что эмиграция нам необходима.
«Конец «Долой!», «ха-Машкиф», 30.6.1939.Хадар
«Все представления о благородстве души, рыцарстве, возвышенной красоте — заключены в этом слове».
Трудно сказать, когда именно слово «хадар» впервые появилось в идеологическом словаре Жаботинского. Однако несомненно, что суть, которую оно выражает, была необычайно важна для Жаботинского, равно как и сильно было желание видеть ее воплощенной в еврейском окружении. Уже в начале своей сионистской деятельности он не только проповедовал возвращение еврейского народа на родину, но и призывал воссоздать тот человеческий образ, который он называл «истинно еврейским» В этом образе для него заключалось воплощение всех привлекательных черт, присущих сыну народа Книги. В письме, написанном в 1928 году и адресованном организации Бейтар в Эрец Исраэль, Жаботинский определил слово «хадар» как «подвижничество». И уже через два с небольшим года, на Всемирном съезде движения Бейтар делегаты были потрясены речью Жаботинского, показавшей им, что таится в словах «хадар Бейтари», которые можно понимать как образ участника движения. Не прошло года, и Жаботинский написал гимн Бейтара, поэтическое восхваление «хадара» (см. гл. «Бейтар»).
Языком прозы он сформулировал это понятие так:
«Хадар» — еврейское слово, которое почти не поддается переводу на другие языки. Оно включает в себя около дюжины различных значений: внешняя красота, гордость, гуманизм, преданность... Однако перевод этого слова на повседневный язык может и должен осуществить сам Бейтар, каждый его член — всеми своими делами, словами, поведением, мыслью, действием. Понятно, насколько мы еще далеки от такого положения, не одно поколение понадобится, чтобы этого достичь. Но к этой цели мы должны стремиться изо дня в день, все мы и каждый должны быть подчинены неустанному, упорному воплощению того, что называется «хадар».
Только слепец может заявлять, что «хадар» — это не более чем частное дело или внутренний семейный вопрос. Каждый из нас знает, что отношение к человеку невоспитанному, неряшливому отличается от отношения к тому, чей облик говорит о его царственном происхождении, даже если он облачен в нищенское рубище. Если бы все евреи поняли это, то даже здесь, в изгнании, хотя антисемиты и продолжали бы ненавидеть нас по-прежнему, их ненависть была бы смешана с уважением и наше положение среди них отличалось бы от теперешнего. И после достижения наших сионистских целей это нам поможет, ибо у крикливого, вечно суетящегося народа нет чувства порядка и вряд ли он будет способен управлять государством. И движение, каждый член которого подавляет в себе свои дурные наклонности и демонстрирует всем своим повседневным существованием принадлежность к многовековой культуре, заставит даже ненавистников нашего народа признать: «Да, это действительно нация, да, это действительно люди, способные создать государство».
Дисциплина в нашем движении — это одно из лучших средств воспитания того, что называется «хадар». Однако ее одной недостаточно, каждый из нас должен «возделывать» самого себя, контролировать свои действия и совершенствовать свой облик. «Хадар» складывается из тысячи «пустяков», определяющих в совокупности нашу повседневную жизнь. Ешь спокойно, красиво; не выпячивай локти за столом, не чавкай. Когда идешь с товарищем по улице, не занимай весь тротуар. Поднимаясь ночью по лестнице, не повышай голос, чтобы не разбудить соседей. Уступай дорогу женщине, старику, маленькому ребенку, каждому человеку. Если кто-то груб — не отвечай тем же. Все это и еще бесконечный ряд «пустяков» создадут «хадар бейтари», образ члена движения.
Однако внутренняя сторона этого образа намного важнее внешней. Будь великодушен: пока дело не касается принципиальных вопросов, уступи, не торгуйся за свои мелкие «права». Если ты приносишь жертву, не требуй при этом жертв от других. Пусть каждое твое слово станет «словом чести», пусть оно станет тверже скалы. И тогда твоей заслугой будет то, что придет день, когда каждый еврей, который захочет выразить высшее уважение к человеческой честности, воспитанности и благородству, скажет уже не «это настоящий джентльмен», как сейчас, а: «он истинный бейтаровец!»
«Идея Бейтара», 1934; в сб. «На пути к государству».Понятие «хадар» имело в глазах Жаботинского такую важность, что он включил его в клятву, которую члены Бейтара давали при своем совершеннолетии: «Я буду всеми силами стремиться к «хадару» в своих помыслах, речах и поступках, ибо я — потомок царей». И это не было просто красивой формулой — Жаботинский прилагал много стараний к тому, чтобы его воспитанники действительно исполняли принятые обязательства. Об этом свидетельствуют два письма, которые приведены ниже. Первое обращено к ученикам мореходной школы в городе Чивитавеккья, в Италии:
Трудный шаг, который вы сделали, прибыв в морскую школу в Чивитавеккья, будет иметь очень важные последствия — либо добрые, либо дурные — это зависит от вас. Если вам удастся приобрести симпатию и уважение директора школы, ее итальянских преподавателей и учеников, вы пролржите новый путь для нашего народа, и этот путь приведет в будущем к захвату решающих позиций на море и в портах. Но если вам это не удастся — знайте, что результат будет обратным: возникнет новый очаг расовой ненависти в стране, которая до сих пор не знала этой болезни.
От вас, и только от вас, зависит это, и секрет вашего успеха заключен в том важнейшем принципе, который вам уже известен под именем «хадар». Там, в Чивитавеккья, вы пройдете экзамен, который покажет, усвоили ли вы не только название этого принципа, но и его сущность.
«Хадар» — это прежде всего такт. Не забывайте ни днем ни ночью, помните каждую минуту, что вы гости в школе, в городе и в стране.
Будьте учтивы! Не захватывайте переднюю скамью — даже если вам предложат сидеть в первом ряду. Изучите в совершенстве итальянский язык.
Не ставьте себя в положение бедняка, обращающегося за помощью к государству. Если вам не хватит денег, будет лучше, если вы оставите школу. Ибо честь нашего народа дороже карьеры.
Учитесь говорить вполголоса в школе, на улицах, в обществе друзей, в ваших комнатах, чтобы не мешать отдыху горожан. Прогуливайтесь по школьному двору или по улицам по-двое, а не по-трое, чтобы не загораживать дорогу другим.
Физическая чистоплотность и опрятность одежды пусть станет для вас законом, помните об этом всегда. Брейтесь каждое утро так, чтобы на ваших щеках и подбородке не была заметна даже легкая тень. Каждое утро приводите в порядок вашу одежду и зашивайте порванное. Постоянно следите, чтобы ваши ногти были чисты, как слоновая кость. Умывая лицо, руки, все тело, помните, что малейшая ваша небрежность ляжет пятном на Бейтар и на весь Израиль.
Работу в школе выполняйте старательно — но не гордитесь своими успехами. Помогайте своим итальянским товарищам всем, чем только можете помочь.
Не вмешивайтесь ни в какие партийные дискуссии, касающиеся Италии. Не выражайте своего мнения ни по какому вопросу итальянской политики. Не критикуйте режим, существующий в Италии, тот режим, который предоставил вам возможность учиться в школе. Но и режим, который был перед ним, тоже не критикуйте. Если вас спросят о ваших политических и социальных убеждениях, отвечайте: «Я сионист, мой идеал — еврейское государство, в своей стране я выступаю против классовой борьбы — и это все мои убеждения». Я вручаю в ваши руки честь Бейтара на очень важном фронте. И я уверен, что вы сумеете сберечь ее: вы из Бейтара — Тель Хай![*].
Письмо на иврите. 20.11.1934; в кн. «Зеев Жаботинский о «хадаре».Второе письмо написано Аврааму Ставскому, члену Бейтара, на которого было возведено ложное обвинение в убийстве доктора Хаима Арлозорова. Ставский был приговорен к повешению, но в конце концов его освободили «за недостатком доказательств вины». С этими отеческими словами Жаботинский обратился к Ставскому вскоре после его освобождения из тюрьмы:
Если в Ваших лекциях, статьях, публичных выступлениях и интервью Вы станете отстаивать свою невиновность, я хотел бы просить Вас в первую очередь остерегаться физических столкновений, драк между евреями, ибо это самое ужасное и способно причинить в теперешнем положении непоправимый вред нашему народу и сионизму. Поэтому Вы должны, уважаемый господин Ставский, проявлять осторожность в каждом слове, могущем повлечь за собой беспорядки. И второе: я подписался под соглашением, и наш рабочий комитет заявил, что, в соответствии с этим соглашением, никто из нас не имеет права возводить клевету на другую партию или на уважаемых и известных ее членов. Я с надеждой ожидаю, что Вы, человек, к которому я отношусь с уважением и глубоким доверием, будете отзываться даже о наиболее низких из числа Ваших врагов с такой деликатностью и порядочностью, что они просто не найдут к чему придраться, чтобы потребовать партийного суда над Вами.
Вы должны проявлять корректность, особенно в отношении г-жи Арлозоров. Лучше всего было бы, если бы Вы не упоминали о ней совсем. Однако если Вы считаете, что необходимо подвергнуть анализу ее свидетельские показания против Вас и ее действия на процессе, я осмеливаюсь просить Вас совершенно забыть о том, что Вы и многие из нас думают относительно ее искренности, и постоянно подчеркивать, что Вы не можете и не хотите судить о субъективной честности ее показаний. Что же касается объективной стороны дела, то г-жа Арлозоров несомненно заблуждалась.
Я ожидаю от Вас подобного поведения не только потому, что «недобросовестность показаний» относится к числу обвинений, которые невозможно доказать, но и вследствие иных причин. Госпожа Арлозоров многое перенесла, и поэтому Вы должны ее пощадить. Ведь она все-таки женщина. Я рассчитываю, что Вы подадите пример рыцарского отношения к женщине, даже если она поступила по отношению к Вам настолько непорядочно, что это трудно вынести.
1934, там же.Оправдались ли надежды, которые Жаботинский возлагал на молодежь, на своих воспитанников? Конечно, он понимал, что не в мгновение ока дано изменить свойства характера и привычки, укоренившиеся на протяжении поколений. Но в конце жизни он с гордостью и удовлетворением отмечал, что не напрасно трудился над воспитанием нового поколения. Символом этого поколения стал член Бейтара Шломо бен-Йосеф, сумевший шагнуть на эшафот не только с мужеством, которое вызвало восхищение и друзей и врагов, но и сделавший этот шаг с гордостью, присущей «хадару»:
А наша молодежь? Эта молодежь верит, она борется, она приносит жертвы. Что такое батальон Котеля? Что такое бен-Йосеф? Это нищие сыновья еврейского народа, их идеал — служить своему народу и своей родине. Они страдают от невыносимо трудных условий жизни — и в этом ваша вина. Но они сдерживают свою клятву. Мы обещали вам воспитать поколение «хадара». Я уже много раз давал объяснение этому понятию. Многие из вас успели поседеть на моих глазах, и я не буду долго задерживаться на значении этого слова. Все представления о благородстве души, рыцарстве, возвышенной красоте — заключены в этом слове. И взгляните на результат: жил в Луцке некий «еврейчик» — и он стал символом, сиянием которого заворожен весь мир. И нельзя сказать, что он был избранным. Напротив. Он был обыкновенным членом Бейтара, судьба выбрала его с закрытыми глазами. Я недостоин говорить о нем. Только одно я хочу сказать вам: британский мир потрясен, он начал понимать, в чем заключается смысл понятия «хадар».
Речь на народном собрании в Варшаве в июле 1938 г.; в сб. «Речи»....Четвертое — царственные манеры. В мире нет аристократии, сравнимой с еврейской. Среди нас нет плебеев: тот, кто является плебеем,— не еврей. Я призываю молодежь, учтивую в разговоре со стариком и ребенком, чистую помыслами, прекрасную в каждом движении, спокойную в гневе, протягивающую руку помощи слабому, бедняку, пришельцу; народ, где каждый — вождь; армию, где каждый солдат — полководец в душе.
Декларация от имени верховного командования всемирного Союза Трумпельдора, 3.6.1928.Гельсингфорс
«За принцип равенства мы будем бороться до конца, но сама проблема неразрешима...»
Гельсингфорс (Хельсинки), столица Финляндии, стал важнейшей вехой в жизни Жаботинского. Это было в 1906 году, и было тогда ему 26 лет. В Гельсингфорсе собрались посланцы сионистских организаций со всей России, и после обсуждения они приняли предложенный Жаботинским документ, вошедший в историю сионистского движения под именем «Гельсингфорсской программы». Программа включала 7 пунктов:
1) демократизация России на основе национальной автономии и парламентаризма; признание всей полноты прав всех национальных меньшинств;
2) полное равноправие евреев;
3) участие национальных меньшинств на равных правах во всех выборах;
4) признание всей полноты национальных прав евреев как автономной нации;
5) основание национальной организации для евреев России;
6) гарантированное право пользоваться национальными языками в судах, школах, общественных учреждениях;
7) право евреев на выходной день в субботу вместо воскресенья.
Весь свой дальнейший путь Жаботинский мысленно обращался к этой программе, как бы проверяя ее жизненность. С эмоциональной точки зрения, он испытывал ностальгию по тем временам:
Вершиной раннего периода моей сионистской деятельности была конференция в Гельсингфорсе. Думаю, то же могли бы сказать про себя многие и постарше меня. Ибо молодостью тогда дышало не только все вокруг нас, но и вообще все — вся Россия, вся Европа. Не часто повторяются такие времена, когда пульс мира бьется учащенно, как бы в ожидании чего-то прекрасного, будто влюбленный ждет желанной встречи. Такой была Европа в конце 1848 года, такой она была и на пороге XX века, так грубо обманувшего все ожидания. Так что тот, кто скажет о нас, что мы были наивны, легковерны, уверовали в «скачок» от тьмы к свету,— ошибется. Мы прекрасно сознавали все происходящее вокруг нас, мы видели погромы и убийства, наблюдали консолидацию сил реакции, готовившейся к прыжку, подобно гигантскому хищнику. Но невзирая на все это, мы были под обаянием XIX века и его святых и нетленных лозунгов: свобода, братство, равенство. Несмотря ни на что, мы верили, что близок день торжества этих священных символов. Я, едва вышедши из-под ареста «просто так», «для острастки», не видел в происходящем вокруг никакого противоречия нашей вере в успех, нашим дерзким требованиям, которые намеревался предложить конференции: в России нет и не должно быть властвующей нации, все народы равны, они все — «меньшинства»: русские, поляки, татары, евреи — у всех равные права и автономия...
Там, в Гельсингфорсе, мы стояли плечом к плечу, рука об руку — представители всевозможных направлений сионизма, сионисты России — главного звена всемирного сионистского движения, и провозглашенное нами мы провозгласили все вместе. Мы верили, что у нас на глазах рождается новый сионизм — синтез вечной любви к Сиону и государственного сионизма Герцля (ибо принципы «реальных действий» и «захвата позиций в Эрец Исраэль» мы провозгласили в Гельсингфорсе). И, вместе с тем, единство могучих крепостей, которые мы возведем для евреев в галуте, и главной, основной крепости на берегах Иордана. Ицхак Гринбойм подвел итог всем нашим чаяниям такими словами: «Мы пришли сюда, чтобы превратить сионизм из «идеи катаклизмов» в идею эволюционного развития, обосновать нашу веру верой во всемирный прогресс». Боюсь, молодой читатель не поймет всей этой терминологии, мне следовало бы дать разъяснения, но все же я решил без этого обойтись — те времена безвозвратно ушли, а с ними и их идеалы. Достаточно, что мы это все понимали и верили во все это.
Я остался одним из немногих, кто до сих пор в это верит. Да, я верю в идеалы, провозглашенные в Гельсингфорсе. И верю, что настанет день, когда представители тех же земель и областей, представители которых собрались когда-то в Гельсингфорсе, снова соберутся вместе, чтобы заново провозгласить эти принципы.
«Повесть моих дней»; в кн. «Автобиография».Жаботинский признавал: «Эти дни безвозвратно ушли... Через 30 лет после того, как мы с юным энтузиазмом и надеждами приняли эту программу, мир стал бескомпромиссным и несентиментальным, все поглотила идея тотальной «интеграции», в нашем мире не осталось места для такой «лирики», как права национальных меньшинств, а уже тем более для права такого меньшинства, как евреи, которые извечно страдают своей «национальной болезнью» — нетерпением». Однако галут — явление настолько древнее и настолько разнообразное, что проблематика, принятая когда-то в Гельсингфорсе, может «отозваться» где-то и теперь. Учитывая существующую реальность, Жаботинский больше не предавался иллюзиям. Он задавал себе и другим вопрос: почему сионисты должны заниматься переделкой чужих государств, даже если эти переделки происходят в чисто национальных интересах? Не правильнее ли распрощаться с галутом и направить все усилия на строительство собственного национального дома?
Вопросы эти актуальны для многих еврейских общин и по сей день.
Жаботинский пишет, как он пытался решить их тогда, в дни Гельсингфорсской конференции:
Мало кто заинтересуется сегодня Гельсингфорсской программой, ее принципами, историей борьбы, которая велась вокруг нее. Однако для нашего поколения это был важнейший этап, мы переживали тогда серьезный духовный кризис. Мы столкнулись с серьезным противоречием: осознав, что галут есть язва, болезненное состояние, и отвергнув его, мы в то же время занимались его «извлечением», требуя равноправия, национальной автономии и т.д., заявляли, что именно мы, сионисты, как самая передовая еврейская организация, с самым сильным национальным самосознанием, должны стать во главе этой борьбы. Такое противоречие, естественно, не осталось незамеченным нашими противниками — насмешки сыпались со всех сторон. Нас сравнивали с джинном, возводящим дворцы с тем, чтобы тотчас разрушить их — точнее, в нашем случае — оставить. И нам действительно пришлось искать решения, объяснять самим себе, зачем же нам борьба за национальные права евреев в диаспоре.
Тотчас родились несколько философских систем, пытавшихся дать этому объяснение. Энергичная группа «Серп», состоявшая из молодых интеллектуалов, предлагала примерно следующее: сионизм — это передовое националистическое еврейское учение, базирующееся не на теории «скачка», а на теории постепенного, эволюционного развития. Идеалы сионизма осуществятся в развитии, путем постепенного «захвата позиций», через духовное и экономическое развитие нации и ее самосознания. Став равным среди равных, еврейский народ, само собой, захочет иметь и собственный национальный дом, свое государство. Подобно миллионеру, имеющему виллы и квартиры во всех крупных городах мира, но в конце концов возводящему себе дворец на собственном острове.
Бер Ворохов, Духовный лидер «Работников Сиона», выдвинул другую теорию: «нормализация галута». Согласно этой теории, галут — неизлечимая болезнь. Но и такая болезнь может иметь острую и хроническую формы. Галут с погромами, с кровавыми наветами — это острая, наиболее тяжелая форма болезни, такой болезнью страдает еврейство в России. Но может быть и «благоустроенный галут», на манер западных стран — это болезнь в хронической форме. И здоровый, уважающий себя народ в конце концов захочет избавиться от болезни! Наша же задача в России — добиться «нормализации», сбить «остроту» протекания болезни, дать больному возможность отдышаться и набраться сил. Подобно усталому путнику, упорно идущему к заветной цели, он оборван, его мучит жажда. Он подходит к колодцу, напивается, отдыхает — и идет дальше... Ну, и я, ничтожный, вступил в соревнование с великими силами и предложил свою, третью теорию. Что такое, собственно, национальная автономия в диаспоре? Не что иное, как попытка организовать весь народ с помощью официальных властей, а не часть народа при помощи добровольной организации, какой являлась наша Сионистская организация. И что же сделает народ, когда он будет организован? А то же самое, что хотел сделать Герцль с помощью Сионистской организации,— осуществит мечту о возвращении в Сион. Национальные права евреев в галуте — не что иное, как «организация Исхода».
Там же.Когда один из делегатов выразил сомнение в обоснованности такой «увязки» и высказался в том духе, что у сионистов должно быть два разных, не связанных между собой направления работы, Жаботинский ответил:
Нет у нас двух горизонтов. Одна-единственная путеводная нить, ведущая из Сиона в Сион, проходящая через всю историю нашего народа. И все, происходящее с ним, будет переварено в котле сионизма.
«Еврейская мысль», 2.12.1906.Этот подход — абсолютный приоритет сионизма — Жаботинский отстаивал и в своем выступлении на Венской конференции сионистов России в 1913 году, когда он говорил о необходимости создания сети школ с преподаванием иврита в галуте:
Мне говорят, что мое предложение не соответствует духу нашего главного принципа — «создавать условия», а не заниматься «конкретными явлениями». С этим принципом я, в принципе, согласен. Даже абсолютно согласен. Но что же такое «условия» и что такое «явления»? Газета — это «условие»? Разумеется, поскольку она формирует общественное мнение, ведет пропагандистскую работу. Но она и — явление, да еще какое конкретное — с редакциями, с типографией, с бухгалтерией... А что такое банк? А что такое поселение? Всякое «явление» есть «условие» создания других «явлений». И такое явление, как еврейская школа,— есть «условие», условие абсолютно необходимое.
Я прекрасно понимаю, что плоды этого «условия» можно пожать только в Эрец Исраэль, что в диаспоре большинство плодов «пропадет впустую». Несправедливо обвинили меня здесь в том, что я забыл о нашем сионистском пессимизме и уверовал, якобы, в «еврейское национальное возрождение» в галуте. Да еще и задавали мне вопросы: если, мол, всего этого можно достичь здесь, то зачем тебе Эрец Исраэль?
Я никогда не имел иллюзий в отношении галута. Но предположим на минуту, что я действительно верю в «национальное культурное возрождение». Даже веря в это, я никогда бы этим не удовлетворился. Народу нужно не только «культурное возрождение», но и все возможные «возрождения»: национальное, духовное, экономическое, политическое. Культурное возрождение необходимо нам только как прелюдия.
«Язык просвещения»; в сб. «Диаспора и ассимиляция».Действительно ли Жаботинский верил, что равноправие для евреев достижимо в галуте, что тут возможна полнокровная национальная жизнь? Жаботинский утверждал, что не только он сам, но и его товарищи не верили в Гельсингфорсе во все это. Они понимали, что необходимо бороться во имя «принципа» равноправия, даже не надеясь, что эта борьба принесет реальные плоды:
Нас, понятное дело, уверяют, что после победы исправится мир, и что даже узкой полоски земли между Балтийским и Черным морями коснется это исправление, и что наши братья будут наслаждаться всеми его благами, и что весь мир будет гарантировать это, и что все будет в порядке и все будут счастливы. Слыхали мы это...
Но что кивать на наших христианских друзей? А что же сами наши братья? Где голос, который крикнет: «Хватит лжи!». Будто бы евреи посходили с ума или решились принести себя в жертву поголовно. Давно пора бы нам напомнить нашим друзьям-христианам, к чему привело повсеместное торжество равноправия после I мировой войны, что оно принесло в конце концов еврейству Восточной Европы. Напомнить с тем, чтобы после победы не раздался голос: «Ну вот! Теперь уж мы спасли евреев!».
Я не буду здесь излагать своего отношения к принципу равноправия евреев, достаточно сказать, что я был в Гельсингфорсе; те же, кто не знают, что означает «Гельсингфорс»,— не только не имеют права экзаменовать нас, но и сами еще не доросли до экзаменов на «зрелость» в этом вопросе. Мы были среди первых, кто формулировал этот принцип.
Но и мы тогда не тешились иллюзиями и не пытались обмануть общественность обещаниями «чудес в решете». Наш лозунг был: за принцип равенства мы будем бороться до конца, но сама проблема неразрешима — решение проблемы в другом. Почему же предыдущее поколение знало правду, а нынешнее забыло? Ведь опыта у него, у нынешнего, побольше, у нас такого не было. Мы в Гельсингфорсе не верили в достижение равенства, мы верили в его достижимость. Мы знали, что, добившись для евреев права проживания в столицах и даже права быть избранными на высшие общественные посты, мы не удовлетворим их этим, не насытим желания иметь «свое». Но, с другой стороны, мы видели неизбежность отмены черты оседлости; никто из нас не предполагал, что возвратятся времена самого мрачного средневековья. Дети нынешнего поколения узнали на собственных шкурах, что такое средневековье. И все-таки тешат себя иллюзиями.
«В конечном счете...», «ха-Машкиф», 5.3.1940.К этим идеям Жаботинский вернулся и в другой раз:
Каждый человек обязан быть царем среди царей. Иначе — не стоит жить. Равенство — это не только положение вещей, но и принцип. В этом качестве у него есть непреходящая ценность, независимо от того, находит сам принцип воплощение в повседневной жизни или же нет. Евреи, если у них есть понятие о чести, обязаны бороться за то, чтобы этот принцип (даже если и нет шансов на его осуществление) был торжественно провозглашен во всех сводах законов и конституциях. Это необходимо с точки зрения человеческого достоинства. Отказ от провозглашения этого принципа оправдывает любые карательные меры и акции со стороны других государств. Но когда человек защищает свою честь — это одно. Когда же утверждают, что чести достаточно для существования, это совсем другое. Лгут, утверждая, что равенство, провозглашенное странами-союзницами, спасет евреев. Что оно отодвинет, остановит развитие событий в Восточной Европе. Когда нам говорят, что победа союзников обеспечит нам равноправие — и не более того, это значит, что победа союзников не несет нам ничего хорошего — кроме, разумеется, мести нацистам. Мы сослужим союзникам дурную службу, если удовлетворимся такими обещаниями.
Из кн. «Фронт борьбы еврейского народа».Самообособление
На рубеже XIX и XX столетий — в годы юности Жаботинского — в кругу российской интеллигенции, еврейской в особенности, было распространено мнение о необходимости стирания межнациональных различий народов, населявших Российскую империю. Жаботинский не поддался этой моде. Он считал, что уничтожение национальной самобытности принесет огромный вред общечеловеческой культуре, наивысшие достижения которой имели ярко выраженный национальный характер. По мнению Жаботинского, «наднациональность» противна природе человека, черпающего силы и вдохновение в собственных корнях и истоках, в своей самобытности:
Всякое сообщество людей, обладающих выраженными отличительными признаками, стремится быть «нацией», т. е. создать свое, отдельное общество, в котором все и вся будет «по образу и подобию», т. е. сообразно вкусам этого сообщества, его характеру, его достоинствам и недостаткам. Все — язык, экономика, политический строй, короче — «культура». Ибо «национальная культура» — это далеко не только литература и музыка, как считают многие, национальная культура есть совокупность обычаев, общественных институтов, производительных и творческих сил народа. Педантичность немцев или любовь к крайностям русских — это тоже вопрос национальной культуры. Английская национальная культура — отнюдь не только Шекспир: это совокупность свойств и чаяний нации, которая породила парламентаризм, суд присяжных. И общественные институты, «принятые на вооружение» многими народами, у каждой нации имеют выраженный национальный характер. Английский парламентаризм не похож на французский или испанский. Это не значит, что он «лучше» у одного народа и «хуже» у другого. Это значит, что они различны.
Эти различия, возможно, еще ярче проявляются в экономике. Экономика «национальна» по самой своей сути. Люди забывают об этом, так как их обманывает поверхностное сходство производственных процессов. Но эта общая схожесть сопровождается бесчисленными «отклонениями». Англия и Франция достигли равно высокого уровня индустриализации. Обе используют примерно одинаковую технику. Но достаточно понаблюдать за экономической и производственной жизнью каждой из этих стран в отдельности, как обнаружится, что разница между ними огромна.
Всякое сообщество людей, имеющее выраженные отличительные признаки, стремится стать нацией, т. е. создать вокруг себя экономическое, политическое, духовное окружение, в котором все будет проникнуто особой «мыслью» и будет соответствовать специфическим «вкусам». Такое окружение это сообщество может создать только на своей собственной территории, в собственном доме. Поэтому всякое отдельно взятое сообщество стремится стать государством. Всякое. Одно — сильнее, ибо необходимая для этого «твердость» заложена в его национальном характере, другое — слабее, ибо не так выражен у него дух сопротивления. Но стремятся все, ибо только в собственном государстве они почувствуют себя «комфортно»; в любом же другом месте они будут ощущать «дискомфорт», и не только само сообщество, но, возможно, и его соседи.
«Лекция по истории Израиля», «Хайнт», 13.5.1932; в сб. «Нация и общество».Но как такое стремление может проявиться у еврейского народа, который вот уже две тысячи лет не испытывал чувства «комфорта»? Жаботинский показывает, что, будучи лишен территории, еврейский народ начал вырабатывать средства для «компенсации» этой потери, которые должны обеспечить его обособленность:
Самый сильный из них, конечно, ритуальная сторона религии: именно в диаспоре еврейство развило, умножило ту всеобъемливающую сеть обрядовых предписаний, которая должна была на каждом шагу предохранять члена общины от чересчур интимных соприкосновений с окружающей средой.— Вторым искусственным изолятором явилось гетто, особый еврейский квартал. Мне очень жаль, если я тут разочарую наивного читателя, который всегда верил, что в гетто нас силой запер какой-то злой папа или злой курфюрст. Он, правда, запер,— но post factum, через много столетий. Гетто образовали мы сами, добровольно, по той же причине, почему европейцы в Шанхае селятся в отдельном квартале: чтобы хоть тут, в урезанной сфере закоулка, жить «по-своему».
Третьим искусственным изолятором явилась экономика. Все мы слыхали про то, что своеобразие и односторонность еврейской экономики являются последствиями угнетения: народы, среди которых мы жили, не подпускали нас ни к земледелию, ни в цехи, ни на государственную службу — оттого мы все и ушли одно время в торговлю. Это правда, но не вся. «Угнетение» тут сыграло главную роль, но далеко не всегда в форме сознательного veto в устах правителя и законодателя: гораздо важнее был «гнет» самой силы вещей, гнет самого факта диаспоры. Еврей сам инстинктивно сторонился от экономических функций, захваченных «туземцами»: отчасти из страха, что прогонят или убьют, отчасти из того же нежелания чересчур интимных контактов. Намек на это есть еще в Ветхом Завете — когда братья Иосифа (первый опыт «диаспоры»), прибыв в Египет, просят у него совета, чем бы им заняться, и он их учит: «Скажите, что вы пастухи — потому что египтяне скотоводства чуждаются».
Еврейское государство, рукопись, 1936.Эти средства обособления служили свою службу веками. Но пришла промышленная революция, и преграды стали рушиться со всех сторон. Все смешалось: неевреи решительно вторгались в «еврейские» области деятельности, евреи могли теперь заниматься чем угодно. Средства обособления перестали «срабатывать» — ежедневно множились контакты евреев с неевреями. Казалось, что две тысячи лет сохранения своей национальной обособленности пропали даром. Однако стремление к самобытности не подвело и на сей раз:
В тот самый момент совершенно неожиданно, казалось бы, расцвел политический сионизм. Раз искусственные средства обособления утратили «работоспособность», в дело вступило средство естественное — стремление вернуться на свою землю, создать свое государство.
Там же.Ассимиляция
«Вся их жизнь — сплошная ошибка, вся их работа — насмарку».
Когда средства самообособления, созданные еврейским народом, утратили свою силу, среди еврейской интеллигенции появилось, естественно, «могучее» движение за ассимиляцию. Оно стало серьезной угрозой самому существованию еврейского народа. Но пути истории неисповедимы. Как это ни парадоксально, ассимиляция, в конечном счете, послужила толчком к духовному возрождению еврейского народа. Жаботинский так комментировал этот удивительный «поворот» истории:
Тут следует разобраться, была ли это действительно «ассимиляция». Всякий народ, терпящий иго, знает, что национальное возрождение наступает именно с расцветом «ассимиляции». Лет семьдесят назад все наблюдатели были убеждены, что «германизация» чехов неизбежна; лет тридцать назад индийская интеллигенция насмехалась над своей «самобытной культурой» и распевала исключительно английские песни. Результаты же были обратными. Объективно, с точки зрения истории, период ассимиляции есть не что иное, как первый шаг к возрождению национального самосознания. Веками народ сидел «в подвале». И вот, жизнь зовет его наружу, вынуждает бороться за свое существование при помощи новых, невиданных им доселе средств. Разумеется, освоить эти средства без посторонней помощи невозможно. Люди с жадностью принимаются за учение, и со стороны кажется, что наступила «ассимиляция» и что еще немного — и весь народ «растворится». Но стоит одному поколению освоить язык чуждой культуры, как приходит следующее поколение и переводит все освоенное на родной язык. И в результате появилась Чехословацкая республика, а завтра, возможно, появится и республика Индия.
Итак, господа, так же, как специфика нашей экономической жизни, как наши религиозные предписания и как гетто были не чем иным, как средствами национального самообособления и самосохранения, «вечным сионизмом», так и ассимиляция евреев есть не что иное, как неизбежный этап развития национального самосознания, шаг по дороге из Сиона в Сион.
Лекция по истории Израиля, «Хайнт», 13.5.1932; в сб. «Нация и общество».Считая еврейскую ассимиляцию естественным процессом, Жаботинский, тем не менее, делал все возможное для ускорения обратного процесса — возвращения «ассимилированных» к национальным истокам, к сионизму. В большей мере, нежели какой-либо другой лидер сионизма, Жаботинский посвятил себя борьбе с ассимиляцией. Он сам был в свое время близок «к растворению» в русской культуре и потому отлично понимал процессы, происходящие в душе человека, стремящегося раствориться в культуре чужого народа. В сдержанных выражениях он описал однозначную реакцию исконного населения на попытки чужака присоединиться к нему. Попутно он изложил и свое кредо в этом вопросе:
Я националист и вовсе не ощущаю себя при этом гражданином второго сорта. Я имею в этой стране такие же права, как и русский. Я хочу говорить, писать, учиться, судиться на своем национальном языке. Я не намерен приноравливаться ни к кому и ни к чему и, наоборот, требую, чтобы государство примерялось к моим национальным требованиям в той же мере, в какой оно обязано примеряться к требованиям русских, украинцев, поляков, татар и т. д. Пока я вижу свое место в России именно таким, я — не выше других, но и не ниже, мы все в равной мере граждане, граждане «одного сорта». Но если я захочу вдруг стать русским, то все изменится. Я сразу стану приемышем, «неофитом». Невозможно усвоить чужую культуру, ментальность, самосознание ни в течение одного поколения, ни в течение нескольких поколений. Во всем будет выражаться моя «чуждость». Возможно, по прошествии многих и многих лет мои режущие ухо и глаз «чуждые» черты несколько сгладятся, но пока это не произойдет, я буду оставаться неполноценным русским, ненастоящим русским, «примазавшимся» к русским.
Меня могут любить или не любить — речь сейчас не об этом, главное, что русская культура будет не во мне и не со мной, а с русским народом, я для нее буду посторонним. Когда возникнет потребность в национальном, истинно русском, про труды такого постороннего скажут: «Быть может, он был искренен в своем стремлении стать русским, обогатить русскую культуру, быть может, ему даже это и удалось и он служил нам не за страх, а за совесть, но — тысяча извинений, сейчас нам нужно нечто национальное, нечто истинно русское. Извините». Вот это и значит быть русским второго сорта. Надо различать понятия «сын России» и «русский». Сыновья России — мы все, живущие от Амура до Днестра, и в этой массе «русские» составляют лишь треть. Еврей может быть сыном России первого сорта, но русским — только второго. Таким будут видеть его другие и с неизбежностью будет ощущать себя он сам.
«Неправильным путем»; в сб. «Диаспора и ассимиляция».В том же сдержанном тоне Жаботинский обращался с призывом к ассимилированным евреям признать ошибку их жизни и, если не удастся самим изменить свой жизненный путь, то хотя бы помочь своим детям избежать той же ошибки:
Я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев ассимилированный еврей с известного возрастного рубежа уже не способен изменить свой жизненный путь. Он свыкся с этой культурой, и всякая другая для него — закрытая книга, и он не может обречь себя на духовный голод. И никто не может этого требовать от человека. Речь сейчас не о каком-то конкретном человеке, но о политической линии. Мы не только проживаем свою частную жизнь, но и определяем будущее развитие всей нации. Если мы уперлись в сплошную стену и многие не видят выхода, то мы должны направить последующие поколения по иному пути. Творить нашу национальную культуру, бороться за ее гегемонию в еврейской душе — это обязанность и тех, кто не сподобился пить из ее источников. Пусть же он поможет своему сыну, укажет верный путь потомству, более счастливому, чем он. И, главное, пусть всенародно признает, что его путь был ошибочен, пусть предостережет других от подобных ошибок.
Там же.Но не всегда Жаботинский оставался таким сдержанным. Гораздо чаще пускал он в ход оружие откровенной насмешки:
Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго отсюда не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства, и жизнь доказала нашу правоту. Теперь евреи ринулись делать русскую литературу, прессу и театр, и мы с самого начала с математической точностью предсказывали и на этом поприще крах. Он разыграется не в одну неделю, годы потребуются для того, чтобы передовая русская интеллигенция окончательно отмахнулась от услуг еврейского верноподданного, и много за эти годы горечи наглотается последний; мы наперед знаем все унизительные мытарства, какие ждут его на этой наклонной плоскости, конец которой в сорном ящике, и по человечеству и по кровному братству больно нам за него. Но не нужен он ни нам, ни кому другому на свете, вся его жизнь недоразумение, вся его работа — пустое место, и на все приключения его трагикомедии есть у нас один только отзыв: туда и дорога.
«Дезертиры и хозяева», «Фельетоны», 1913.Да, Жаботинский считал этих людей дезертирами. И считал, что у сионистов есть еще одна задача — восполнить потери, занять место беглецов:
Хочу вам указать еще одну его деталь: нашу окаменелую, сгущенную, холодно-бешеную решимость удержаться на посту, откуда сбежали другие, и служить еврейскому делу чем удастся, головой и руками и зубами, правдой и неправдой, честью и местью, во что бы то ни стало. Вы ушли к богатому соседу — мы повернем спину его красоте и ласке; вы поклонились его ценностям и оставили в запустении нашу каплицу — мы стиснем зубы и крикнем всему миру в лицо из глубины нашего сердца, что один малыш, болтающий по-древнееврейски, нам дороже всего того, чем живут ваши хозяева от Аахена до Москвы. Мы преувеличим свою ненависть, чтобы она помогала нашей любви, мы натянем струны до последнего предела, потому что нас мало и нам надо работать каждому за десятерых, потому что вы сбежали и за вами еще другие сбегут по той же дороге. Надо же кому-нибудь оставаться. Когда на той стороне вы как-нибудь вспомните о покинутом родном переулке, и на минуту, может быть, слабая боль пройдет по вашему сердцу,— не беспокойтесь и не огорчайтесь, великодушные братья: если не надорвемся, мы постараемся отработать и за вас.
«О евреях и русской литературе», «Фельетоны». 1913.Великая ложь ассимиляции стала особенно очевидной после прихода к власти нацистов — ведь евреи Германии были «правофланговыми» ассимиляции, ее идеологами, еврейская община Германии была, пожалуй, самой ассимилированной в мире. В своем выступлении по варшавскому радио Жаботинский сказал:
Что до нас — евреев вообще и наших братьев в Германии в частности, что до урока, который мы обязаны извлечь, то мы должны во весь голос заявить: ассимиляция есть чудовищная ложь всей нашей жизни. Тут речь идет не только о полумиллионе немецких евреев. Это грозное предупреждение всем нам, где бы мы ни были, напоминание о том, что гетто, даже самое благоустроенное,— не убежище, а карточный домик.
«Хазит ха-ам», 26.4.1933.«Красная ассимиляция»
«Стремление подчинить наши чаяния и дела... привнесенной извне идеологической моде... поджидает наших детей за каждым углом».
Жаботинский видел, что ложь ассимиляции многолика. Зачастую она рядится в одежды «заботы о национальных интересах», обусловливая удовлетворение этих «интересов» улучшением «внешних условий», общественным прогрессом, утверждая, что решение проблем еврейского меньшинства придет вместе с социальной революцией, которую совершит национальное большинство. Жаботинский, который в молодости не был чужд влиянию модного тогда социализма, воздерживался от критики социалистической теории самой по себе, но резко и беспощадно критиковал тех своих соплеменников, которые твердили, что «уход от революционной борьбы» и «перенесение национальных интересов куда-то в Палестину» есть измена «революции»:
Это основное свойство ассимиляции — она органически неспособна смириться с мыслью о самостоятельном, суверенном еврейском народе. Ассимилянтская психология сжилась с идеей, что еврейский народ — не более чем средство в руках «хозяина», и как бы ни рассыпался ассимилянт в заверениях о своей «преданности национальным интересам», от этой идеи он неспособен избавиться. Малейший намек на то, что исторический процесс может «отстегнуть» еврейский народ от русской «упряжки», которая его, ассимилянта, кормит, приводит последнего в бешенство. Так как до самого последнего времени еврейская политическая жизнь развивалась лишь в контексте чьей-либо другой политической жизни, ассимилянт не может себе представить независимой еврейской политики. Для него прогресс означает развитие русских, поляков, немцев, к которым евреи прицеплены в качестве «прицепного вагона». И всякая попытка «отцепить этот вагон от основного состава, направить его по своим рельсам», попытка создания независимого государственного образования представляется ассимилянту изменой делу прогресса. Он пойдет на любые уступки, признает хоть жаргон, хоть «древнееврейский», будет с утра до вечера скандировать: «Я еврей», лишь бы не отнимали у него его великодержавного подданства, не вынуждали его, принадлежащего к стасорокамиллионному русскому народу, «отойти» к маленькому и ничтожному еврейскому народу. Такая ряженная по последней моде ассимиляция происходит от древнего пристрастия раба к великолепию хозяйского дома. Особенно ярко выражено это пристрастие у социал-демократов, ибо само собой разумеется, что признание общенациональных целей и ценностей ведет к ослаблению накала классовой борьбы внутри нации. Этот фатальный факт сделал социалистов куда более яростными врагами национального вопроса, чем приверженцев буржуазной демократии.
«Бунд и сионизм», 1906; в сб. «Первые сионистские труды».Эта критика была адресована «Бунду» — еврейскому социалистическому движению, весьма популярному среди евреев в первой половине XX века. «Бундовцы» были также ярыми противниками сионистов-социалистов, делавших в начале века свои первые шаги. Жаботинский принял участие в этой полемике и выразил свое отношение к пророчествам о грядущем, якобы социалистическом, «золотом веке»:
Вся эта бундовская литература проникнута безграничным оптимизмом — оптимизмом до абсурда, до бесчестности. Можно предположить, что, в связи с тем, что еврейская экономика еще ни разу никем не исследовалась, экономические прогнозы социал-сионистов будут иметь некоторые черные оттенки. Разумеется, все это потеряется на общем преувеличенно розовом фоне. Но эта «розовость» не идет ни в какое сравнение с тем, о чем пророчествуют бундовцы. У них нет даже преувеличений — у них нет розового. У них сплошные гимны будущему. Сплошные литавры. Будет революция, а там все станет на места, исчезнет антисемитизм, «еврейские ремесленники и лавочники будут чувствовать себя прекрасно». Да и сейчас-то все не так уж плохо — еврейский капитал постепенно растет, еврейский пролетариат постепенно захватывает все новые позиции, короче — мир во Израиле...
Я повторяю — можно было бы требовать от социал-сионистов более глубокого, серьезного, добросовестного анализа действительности и соответствующих прогнозов. Но обещать людям золотые горы, твердить, что антисемитизм — всего лишь досадный пережиток, который будет искоренен немедленно, да и сейчас его, в общем-то, нет, убеждать измученных погромами людей, что соседи их обожают,— на все это нужно иметь моральное право. Когда мы, сионисты, делаем свои выводы, мы основываемся на тысячелетнем опыте, повторявшемся многократно и повсеместно — в Галиции, во Франции, в Германии... В конечном счете мы призываем народ к самоопределению, и если допустить даже, что наши выводы ошибочны, особого вреда они никому не причинят. Принесут только пользу. Но где те посылки, где основания, где источники, где исследования, из которых вытекает, что можно сулить еврейскому народу невиданно счастливую жизнь? Откуда это право — призывать народ к потере бдительности с тем, чтобы, когда назавтра нагрянет беда, люди встретили ее безоружными и неподготовленными? Да прежде чем обещать сотую долю того, что наобещано, надо было перерыть горы материала, провести скрупулезные исследования, тщательнейшим образом проанализировать весь накопленный опыт. Где все это? Где хоть намек на серьезные исследования, подвигнувшие этих господ на пение хвалебных гимнов и бесконечные обещания?
И мы, сионисты, обещаем народу лучшее будущее, но мы ставим условием достижения этого будущего волю самого народа. «Если захотите — это не сказка». Эти же господа обещают золотое будущее, исходя из предположения, что другие народы «смилостивятся». Они хотят сделать еврейский народ заложником чужой воли. Простите меня за резкость, но во всем этом нет ни элементарного чувства ответственности, ни честности по отношению к своему страдающему народу — есть лишь страх, слепой страх перед действительностью.
Там же.Через двенадцать лет русская революция подтвердила правоту Жаботинского — она не принесла и намека на решение еврейского вопроса. Сегодня мы знаем, что и через 50 лет после революции[*] в этом вопросе нет никакого «прогресса». Однако очень многие, даже и в лагере национального еврейского движения, были зачарованы достижениями социализма, не хотели или не могли видеть реальности. Они тешились иллюзией, что революция принесет избавление и счастье всем народам, в том числе и евреям. В 1930 году произошла трагедия — сын Герцля Ханс, не пошедший по пути отца, покончил с собой во Франции, в городе Бордо, над могилой своей сестры Паулины, тоже погибшей при трагических обстоятельствах. Жаботинский посвятил этому происшествию одну из самых волнующих статей, в которой предостерегал молодых сионистов об опасности «красной ассимиляции»:
Странную цепь подарил нам Всевышний, из странного золота она скована; выглядит оно тусклым, пыльным и серым. Если показать цепь большому ценителю,— даже гою, даже врагу — он сейчас же признает, что это чистое золото, золото высшей пробы. К сожалению, редко кто умеет оценить благородство металла или идеи. Большинство, созерцая пыльную, серую вереницу наших дней, лишенную всякого блеска, еврейскую обыденщину, даже наши лишенные веселья праздники — скажут: нет, это не золото, это свинец.
А у соседей даже свинец блестит, как золото. Не знаю почему, не знаю даже, действительно ли блестит — но нашим детям это так кажется, иначе они так не заглядывались бы через окна наших низких домиков на то, что делается на чужой улице.
До войны мы, влачившие цепь, знали нашего врага — ассимиляцию. Он назывался «ассимиляция» и выглядел, как ассимиляция, ясно и определенно: чужие языки лучше наших языков, чужие страны лучше нашей страны, чужие молитвы лучше нашего разорванного сидура[*]. С этим врагом мы боролись, победили его, потом наступила война и окончательно его доканала. Окончательно. Даже воспоминания от него не осталось. По крайней мере не в общественной жизни, не в странах Восточной Европы. Так мы думали, и вот вдруг обнаруживается, что это совсем не так. Враг жив и захватывает позиции. В наши дни он говорит на другом языке — на «национальном». «Национальном» в обоих смыслах: и в смысле собственно языка — идиш или даже иврит, к тому же с сефардским произношением, и в смысле содержания, связанного всегда с еврейской жизнью, например, с Палестиной или с еврейским школьным делом в галуте, или с еврейской кооперацией и еврейскими народными банками. И, тем не менее, под этим внешним покровом — тот же старый враг, ассимиляция, такая же трусливая, нищая, сама себе готовящая гибель, как предыдущая. Обеим формам ассимиляции свойственна одна общая черта: чувство еврейской неполноценности. Снова, как двадцать лет назад, мы слышим из уст молодежи, что одними еврейскими проблемами нельзя заполнить целую жизнь человека, что еврейских идеалов недостаточно для занятия всего алтаря, что на чужой улице гораздо лучше, шире и веселее и что единственное средство, которое еще может удержать у нас молодежь, чтобы она осталась работать в наших тесных пределах, в бедном еврейском саду, в скромном еврейском домике,— это дать молодежи постоянно сидеть у окна. Многие из них, действительно, сидят, постоянно высунув голову на чужую улицу — только ноги видны извнутри, и когда по чужой улице проходит процессия с красивыми знаменами, они едва сдерживаются — они должны высунуть голову еще дальше, протянуть руку и кричать: петь, петь, товарищи! Мы тоже! — В чем собственно выражается это «тоже» не важно. Это может быть Маркс, Ленин, Ганди, завтра, может быть Муссолини, главное, что это должно быть нечто не наше, нечто «более широкое», нечто «общечеловеческое». Старые, знакомые настроения; мы их уже видели, и чем они кончаются, мы тоже знаем. Кто сидит у окна, выглядывает наружу и высовывает голову все дальше и дальше, в конце концов выпадает и остается снаружи; целый или разбитый, это его забота, но — не у нас. Первые носители первой ассимиляции — той, которую мы, якобы, недавно «уничтожили», тоже облекались в идиш и иврит, тоже вращались вокруг еврейских, а не чужих дел: но в глубине души они стремились втолковать еврею, что его жизненная сфера — даже потенциально расширенная и обогащенная,— слишком узка для интеллигентной души. Такая проповедь всегда действует; сегодня точно так же, как тогда. Ибо это правда, мы этого совершенно не отрицаем, у гоев жизнь шире, красивее и веселее, и так еще долго будет, может быть — вечно; и не только их жизнь богаче, но и идеалы их заключают в себе более красочную радугу всяких благ. По меньшей мере — на вкус того типа людей, на которых влияет улица с ее шумом и шествиями с развевающимися знаменами. Но у большинства из нас — уличный вкус.
Враг жив. Склонность приспособлять наши мысли и стремления не к нуждам еврейского народа и его развитию, а именно к идеологической моде внешнего мира — тенденция, являющаяся корнем и ядом ассимиляции, поджидает наших детей за каждым углом: она провозглашается и культивируется на идише и на иврите, в еврейских организациях молодежи с национальными и сионистскими именами; даже в Палестине. Такая вещь может начаться где угодно и как угодно: безразлично,— окончится она в Бордо. Такие вещи всегда кончаются в Бордо. Конечно, не всякое самоубийство выражается в выстреле, но путь через те окна ведет всегда к тому же результату — бесполезно и бессмысленно прожитая жизнь, твои услуги совершенно не нужны чужой стороне. Троцкий сидит у турок и пишет похвалы самому себе, на сто лет германской национальной верности Германия отвечает евреям шестью миллионами плевков в лицо — какая разница, застрелиться из револьвера, или совершить духовное самоубийство? Станция Бордо — terminus.
«Его дети — и наши», «Рассвет», 1930.
Прочтя последние строки статьи, вы, конечно, удивитесь, откуда знал Жаботинский в 1930 году точную цифру — страшное число евреев — жертв нацизма? Что значит «шесть миллионов плевков»? Я сам долго не мог найти ответа. Покопавшись в прессе тех лет, я нашел следующее: на выборах в рейхстаг (Жаботинский писал статью через месяц после тех выборов) нацистская партия достигла первого значительного успеха — за нее было подано 6.000.000 голосов.
Наши права на Эрец Исраэль
«С тем, у кого ничего нет,— делятся; у того, у кого есть излишек,— берут; тому, у кого забрали,— воздастся».
Какое же право есть у еврейского народа селиться в Эрец Исраэль и осваивать ее? Да, она была его колыбелью, да, здесь он создал свою великую культуру — но ведь это все в далеком прошлом и почти ничего не напоминает теперь об этом. Какое право есть у евреев превращать арабов, живущих в Эрец Исраэль, в национальное меньшинство (полноправное, но — меньшинство), не могущее влиять на судьбы страны, в которой они живут? На эти вопросы Жаботинский отвечал еще в 1919 году, еще до того, как был утвержден британский мандат на Палестину, до того, как арабы начали тотальную, фанатичную войну против еврейских поселенцев:
Я обеими руками за соглашение с арабами. Я согласен с тем, что им должна быть обеспечена автономия. Но на чем я настаиваю, так это на том, что правительство должно быть целиком нашим. Никакой народ после долгожданного обретения родины не согласится на то, чтобы им правили другие. Весьма сожалеем. Но это не вопрос отношений еврейского народа с арабами — жителями Эрец Исраэль. Вопрос должен быть поставлен иначе: отношения еврейского народа и арабского народа. Тридцатимиллионному арабскому народу принадлежит чуть не полмира. Десятимиллионному еврейскому народу — ничего. Он хочет на узкой полоске земли, на этой земле построить свой дом. Все, что есть на этой земле замечательного, славного, все — наша, а не чья-либо история. Арабы не согласны? Арабы против? То есть тот, у кого земли больше, чем у всей Европы, не «подвинется» ни на пядь, а тот, кто лишен всего, так и останется обездоленным? Мы не можем с этим согласиться. Мы — за высшую справедливость, справедливость Юбилея: с тем, у кого ничего нет,— делятся; у того, у кого есть излишек,— берут; тому, у кого забрали,— воздастся.
Речь в Совете Эрец Исраэль, 1919; в сб. «Речи».Жаботинский, впрочем, неустанно подчеркивал историческое право евреев на Эрец Исраэль. Ему было ясно, что не преходящая демографическая статистика, а именно это неотъемлемое историческое право было фактором, склонившим народы мира на признание права евреев вернуться в Эрец Исраэль, в свой национальный дом.
Неужели вы настолько наивны, что всерьез полагаете, будто французскому, английскому или итальянскому министру известно о существовании Тель-Авива, или Ришон ле-Циона, или Реховота, или о том, что у нас есть 50 школ в Стране? Нет! Они заявили, что Эрец Исраэль следует возвратить еврейскому народу потому, что император Тит изгнал нас отсюда две тысячи лет назад и народ Израиля, уходя, сказал: «Это моя земля!».
Там же.Однако историческая справедливость не могла быть решающим аргументом ни в споре с арабами, ни, впоследствии, с остальным миром. Жаботинский изложил аргументацию сионистов сухим и деловым языком в письме, отправленном им из Нью-Йорка в Лондон в 1922 году:
Довод статистический: «У арабов земли больше, чем им требуется»,— весьма впечатляет христианского слушателя здесь, и я полагаю, что он должен иметь успех и в Англии. Им можно пользоваться и как ответом на прекрасную шутку арабов, говорящих, что у них есть такое же право на Испанию, как у нас на Эрец Исраэль. Первым вопросом должно быть: «Тебе действительно нужны дополнительные земли?». Если у тебя их и так достаточно, то исторические права ни при чем. Даже если тебе нужна некая земля, возникает второй вопрос: «Может ли народ, у которого ты требуешь его землю, обойтись без нее?». Т.е. не останется ли этот народ без земли вовсе? Именно поэтому Япония, весьма густонаселенная страна, которой действительно «тесновато», не может требовать территорий у Китая, которому еще «теснее». И только в случае, если и с этим вопросом все в порядке, может и должен возникнуть третий вопрос — вопрос об исторических правах на конкретную территорию, вопрос об обоснованности таких требований. Так, мне кажется, должны выглядеть наши требования и с точки зрения морали.
Письмо И. Штейну на англ. яз., 9.3.1922.Жаботинский считал, что сионистов не должны мучить «угрызения совести», что не может быть речи о несправедливости по отношению к арабам. Ибо требования сионистов обоснованы не только безысходностью положения евреев в диаспоре, но всей совокупностью понятий о справедливости, справедливости истинной, а не «справедливости силы»:
На наш взгляд, речь вовсе не идет об изгнании арабов. Наоборот, Эрец Исраэль будут населять арабы и миллионы евреев. Чего мы не отрицаем, так это того, что со временем, с развитием поселенчества арабы станут здесь национальным меньшинством. Но мы отрицаем, что это станет бедой для арабского народа. Нет тут никакой беды для нации, которой принадлежит столько земель и государств, а в скором будущем будет принадлежать еще больше. Да, какая-то часть этого народа окажется в чужом, не принадлежащем ему государстве. Но это нормальное положение вещей — трудно отыскать в наше время большой народ, часть которого не жила бы в чужих странах. Это абсолютно нормальное состояние, и нет здесь никакой «беды». Разумеется, каждое меньшинство стремится стать большинством. И, разумеется, арабы были бы не прочь добавить к уже существующим арабским государствам еще и «Палестину». Но если противопоставить такое желание арабов стремлению евреев к спасению, то это будет подобно разыгравшемуся аппетиту рядом с голодной смертью. Вряд ли какой-либо суд в мире сталкивался с тяжбой, в которой одна сторона была кругом права, а у противной не было бы даже намека на правоту. Любой суд должен взвешивать доводы обеих сторон на весах справедливости. Полагаю, в нашем случае дело достаточно ясное.
Показания перед Государственной комиссией, 1937; в сб. «Речи».К этому щепетильному вопросу — превращения арабского большинства в Эрец Исраэль в меньшинство — Жаботинский вернулся позднее:
Утверждение, что национальное меньшинство всегда и повсеместно есть угнетаемое меньшинство, лишено каких-либо оснований. Шотландцы, уехавшие из Шотландии, и валлийцы, оставившие Уэлс, живут по всей Англии, и никто не считает их притесняемым меньшинством. Или, к примеру, говорящее по-французски меньшинство в Канаде, в провинции Онтарио. Они никак и никем не ущемлены. Советская Россия совершила массу преступлений, но никто не может отрицать, что в ней национальные меньшинства обладают подлинным равноправием — насколько вообще можно говорить о правах личности и народов в таком политическом климате. А Чехословакия — она была примером в этом вопросе. А Финляндия — там плохо живется шведскому меньшинству? Понятно, нет ничего совершенного в этом мире и меньшинство себя чувствует всегда менее уютно, чем большинство, да и примеров, обратных приведенным выше, сыщется много. Но из этого вовсе не следует, что национальное меньшинство — это всегда трагедия. Какая-то часть любого большого народа живет в чужих странах в качестве меньшинства: англичане — в Южной Африке, французы — в Канаде, Бельгии и Швейцарии, немцы — по всему свету. Положение меньшинств зависит от политического строя стран, в которых они живут. И у мира нет никаких оснований полагать, что евреи создадут в своей стране политический строй, притесняющий национальные меньшинства, строй, который был бы «хуже», чем политическое устройство Канады или Швейцарии. В конце концов, мир узнал именно из израильских духовных источников, каково должно быть отношение к «пришельцу, поселившемуся в пределах твоих».
Только в одном-единственном случае положение национального меньшинства становится трагедией — когда оно обречено быть меньшинством повсеместно, когда нет места на всем земном шаре, где оно могло бы обрести дом и перестать считаться меньшинством, когда нет у него убежища. Не таково положение арабов, имеющих с десяток государств по обе стороны Суэцкого канала. Любое из них — национальный дом, родина для араба.
Из кн. «фронт борьбы еврейского народа», 1940.Как бы там ни было, но сегодня и евреи, и арабы стоят перед необходимостью. И нравится это евреям и арабам или нет, но эту необходимость следует принять:
Существует огромная разница между Эрец Исраэль и любой другой страной мира со смешанным населением... В иных местах источник конфликтов и трений — это амбиции, какая-то часть населения непременно хочет властвовать над другой (так, по крайней мере, считает более слабая часть). Возможно, такие амбиции не лишены оснований, или кажется, что они не лишены оснований, или их можно как-то оправдать. Ибо стремление властвовать заложено в самой природе человека, и только ангелы небесные способны это стремление в себе обуздать. Но в любом случае это — всего лишь амбиция, не обусловленная жизненной необходимостью,— «здоровый аппетит», а не голод.
Иное дело в Эрец Исраэль. Все неудобства, причиняемые нееврейскому населению Страны потоком иммигрантов, продиктованы трагической необходимостью, ибо иммигранты нуждаются в убежище. Тут нет никаких амбиций, никакого желания властвовать над кем-либо. Во многих случаях этот поток никак не связан с личной волей отдельного иммигранта. Ибо во все времена массовой эмиграции многие и многие предпочли бы не оставлять насиженных мест, если б это было возможно. Причина этого потока — настоящий голод, жажда обретения родины, стремление людей найти, наконец, убежище. Если арабы предпочтут уйти из Страны, то сам факт их ухода будет указывать на то, что им есть куда уйти, что у них «где-то еще» есть национальный дом. И этот спор между «бесприютным» и «имеющим несколько домов» есть отголосок тенденции нашего времени к справедливому разделу мира. И «обездоленный» не должен чувствовать себя виноватым, если весы наконец-то придут в равновесие, т. е. сделают то, что им давно пора было сделать.
Там же.Общество изобилия
«У современной молодежи... столь гигантский аппетит к личному благосостоянию, какого не было на протяжении всей истории».
«Общество изобилия» — понятие в социологии для определения фактов и тенденций, возникших, в основном, в западном мире после Второй мировой войны. В действительности, первые признаки подобного общества наблюдались за двадцать лет до того в Соединенных Штатах, перед большим экономическим кризисом. Но тот, кто помнит печальную экономическую реальность, бывшую в Европе в двадцатых-тридцатых годах нынешнего века, ужасающую статистику миллионов безработных и бездомных, борьбу за каждое рабочее место,— с трудом поверит, что уже в те дни Жаботинский предвидел приближение будущего «общества изобилия» (не называя его, разумеется, данным термином). Это предвидение не было экономически обосновано, а строилось исключительно на предположении, что существующий капитал будет тем или иным образом распределен и станет достоянием самых широких слоев общества. Жаботинский верил, что стремление к изобилию приведет в итоге к самому изобилию. В любом случае, материальные запросы, погоня за роскошью — эти настроения завладели коллективной душой молодежи того времени:
У современной молодежи, с общественно-социальной точки зрения, столь гигантский аппетит к личному благосостоянию, какого не было на протяжении всей истории. Повышенный аппетит, как известно каждому, не является непременно следствием голода; он рождается в тот момент, когда бедняк впервые пробует и познает вкус настоящих сладостей. В былые времена бедняк вообще не знал самого понятия «излишества». Он что-то слышал о них, но никогда не видел своими глазами, что и предопределило умеренность его притязаний. Известен анекдот о мечте русского крестьянина: «Если бы я был царь, я украл бы сто рублей и... сбежал». Однако организованная общественная «мечта» масс не ушла далеко от этого анекдота. В годы моей юности рабочее движение излучало подлинный восторг, произнося известные лозунги: «8 часов работы, 8 часов сна, 8 часов отдыха, 8 шиллингов в день» — или же проще: «жить в труде или умереть в работе». Притязания бедняков имеют сегодня иной оттенок, но ждите: когда нынешняя молодежь займется взиманием налогов, тогда вы услышите совершенно другую песню.
«Еще раз о душе молодежи», «Хайнт», 4.5.1928 г.Каким образом возникло, и почти мгновенно, это стремление к изобилию? Какой фактор породил эту перемену в умонастроениях и претензиях молодого поколения? В коротком, но содержательном очерке Жаботинский указывает на «виновника» — новый медиум в духовной коммуникации, влияние которого постоянно возрастает:
Я обязан сослаться на духовный фактор, который не пользуется особыми симпатиями среди публицистов, ревностно оберегающих свою респектабельность,— я имею в виду кинематограф. Уважающий себя человек пера сочтет оскорбительным расценивать белый экран как «духовный» фактор, значение и влияние которого соразмерно литературе и журналистике. В одном я соглашусь с ним: их воздействие несравнимо, ибо по своему влиянию, в особенности на молодежь, кинематограф значительно превосходит любую самую популярную книгу, переведенную на десяток языков,— ее тираж не достигает десятой части зрителей самого глупого кинофильма. Сколько людей во всем мире проведут вечер за чтением книги — и сколько просидят в многочисленных кинотеатрах, заполнивших земной шар от полюса до полюса?
Но не количественный фактор — главное. Фильм превосходит печатное слово по своей силе и с множества других точек зрения. Самая хорошая книга может «завладеть» читателем, лишь если он обладает достаточной фантазией для воспроизведения подлинно живой картины на основании рассказанного или описанного. Фильм не рассказывает и не описывает, он показывает, не опасаясь при этом плохого переводчика,— он пользуется одними средствами выражения и в Чикаго и в Токио. Он — короткий, в то время, как книга — длинная...
Там же.Какие сцены кинофильмов сознательно или подсознательно волнуют душу молодежи и масс в целом? Жаботинский отвечает:
Известно, что наибольшей популярностью пользуются фильмы, показывающие роскошь. Какое богатство, какие дворцы, какие наряды! Но у меня есть «нищенское» подозрение, что в действительности всего этого, возможно, и не существует. Вряд ли какая-нибудь королева доставляет себе «удовольствие» каждое утро надевать новый роскошный халат, какой носила госпожа Норма Тальмариш, вчера на моих глазах пролившая на него кофе. Но в то же время в кинотеатре сидели 500 девушек из рабочего класса, и они верили виденному. Сделайте простой арифметический подсчет: помножьте эту цифру на число кинотеатров в рабочих кварталах каждого города, а затем — на 52 воскресенья в году, и так на протяжении 20 юношеских лет... Впрочем, о магнетической силе белого экрана я уже говорил. Еще одна деталь: я пишу о рабочем классе, а есть еще десятки миллионов представителей средней прослойки, притязания которых еще более обострены...
Там же.Жаботинский пришел к заключению, что результаты этого постоянного влияния на душу молодежи не замедлят сказаться:
Прогноз относительно молодежи, постоянно подвергающейся подобному влиянию (даже не учитывая всю социальную пропаганду, которая является дополнительным могучим фактором, но на нем я не буду останавливаться, ибо он известен всем), прогноз этот ясен: борьба за обладание богатством и за достижение благ принесет с собой неописуемую горечь. Любой закон, который улучшит условия жизни неимущих, лишь усилит их аппетиты. Законодательство нашего времени отнюдь не способствует сглаживанию социальных конфликтов, напротив: около пятидесяти лет назад это была борьба между теми, кто был лишен всего, и обладателями всех благ — борьба, цель которой была достичь минимума. Отныне это будет война между теми, кто уже давно достиг минимума и сверх того, и теми, у кого есть больше,— в целях завладеть всем. Это уже не столкновение двух противоположностей — пропасти и возвышенности, а борьба между социально близкими соседями. Конфликт между соседями всегда более остр и ядовит, нежели война между далекими противниками, не знакомыми друг с другом.
Там же.Приведут ли повышенные материальные запросы к пробуждению коммунистических настроений среди молодежи? Жаботинский считал, что нет, ибо коммунизм в своей основе противоречит тенденциям, столь отчетливо намечающимся вследствие влияния кинематографа:
В то, что молодежь устремится к коммунизму,— я не верю. Хорош или плох коммунизм — это другой вопрос. Однако он исключает любую возможность преследовать личную материальную выгоду. Коммунизм — учение, несущее в себе ограничения, лишения, жертвы; это теория о том, что запрещается и что разрешается. Это учение не подходит поколению, преисполненному обостренной жажды обладания мрамором, автомобилями и всеми прочими благами. Оно будет бороться против имущих, пытаясь вырвать максимум возможного для бедных; но собственноручно преградить себе путь к богатству — с этим они не согласятся. Это — не пророчество, а просто логический вывод из проведенного психологического анализа, если, разумеется, анализ этот правильный.
Как я уже упоминал, у меня есть обоснованное подозрение, что и в Советской России среди молодежи царят, в основе, те же умонастроения, несмотря на комсомол и проповедуемую в школах идеологию. Такое, во всяком случае, впечатление производят юноши и девушки из этой страны — евреи и русские, которых мне довелось встретить здесь, в Европе. Правда, некоторые из них выступали как убежденные коммунисты, но не это главное. Главное — это то, как они рассматривали ковры в гостиницах и наряды дам в ресторанах: взгляд, выражающий вожделение и жажду обладания.
Короче говоря: это поколение, когда вырастет, будет «срезать» чудовищные налоги с миллионеров; но среди него будет в десять раз больше миллионеров, чем в наши дни.
Там же.«Хад-нэс»
«Я ищу такую молодежь, которая держалась бы одной-единственной веры и довольствовалась бы только ею, и еще гордилась бы ею и предпочитала ее всем прочим верованиям».
«Хад-нэс» — буквально «единственное знамя» — идиома, созданная Жаботинским как перевод на иврит иностранного слова «монизм». «Хад-нэс» обозначает принцип, согласно которому на протяжении всего процесса построения государства еврейский народ должен руководствоваться одним-единственным идеалом сионизма, не разбавляя и не смягчая его присоединением любого другого идеала. Поскольку контаминация двух национальных идеалов противоречит природе вещей, острие своей полемики Жаботинский направлял — в период, предшествовавший основанию государства,— против попытки присоединить к сионистскому идеалу идеал общественный:
Движение, мировоззрение которого я собираюсь сейчас изложить, занимает в отношении социальных проблем вообще и в отношении классовой проблемы, в частности, позицию, которую мы обозначаем словом «монизм». Это означает, что на протяжении всего процесса построения еврейского государства (сколько бы этот процесс ни продолжался) мы решительно отвергаем взгляд, что, с точки зрения сионизма, следует придавать значение любому классовому воззрению — будь то пролетарское или буржуазное. Следует заявить раз и навсегда, что движение израильского возрождения никогда не будет считаться с подобными классовыми воззрениями. Ясно, что мы никому не запрещаем лелеять в глубине его души, наряду с идеалом сионизма, какие-то иные воззрения на мир, суждения или даже идеалы,— это частное дело каждой человеческой личности. Однако, с точки зрения нашего герцлевского мировоззрения, мы не признаем прав гражданства за любым идеалом, кроме одного-единственного: еврейское большинство по обе стороны реки Иордан как первый шаг к созданию государства. Вот что мы называем словом «монизм».
Было бы несправедливо видеть в этой декларации что-то похожее на цинизм по отношению к социальным проблемам вообще. Мы тоже — как и остальные люди — в глубине души убеждены в том, что современное состояние общества дурно и антигуманно и что необходимо его полностью изменить. Именно как евреи мы помним, что борьба за улучшение общественного режима всегда была одной из самых прекрасных традиций еврейской мысли — начиная с великого религиозного законодателя Моше Рабейну вплоть до последних десятилетий. Многие из нас верят, что Эрец Исраэль станет в будущем лабораторией, в которой откроют и создадут — нашим собственным путем — эликсир социального спасения всего человечества. Но прежде, чем приступить к созданию этого эликсира, мы обязаны построить саму лабораторию.
Все время, пока продолжается процесс построения еврейского государства, капиталиста мы не считаем капиталистом, рабочего — не считаем рабочим. И тот и другой для нас — материал, из которого мы строим здание. Их интересы — личные или классовые, их радости и горести, их успехи и провалы интересуют сионистское сердце лишь в той мере, в какой это ускоряет или замедляет процесс создания еврейского большинства в Эрец Исраэль. Все прочие стремления — личные или коллективные, общественные, культурные, и проч., и проч.— абсолютно все без исключения мы подчиняем единственному примату идеи государственности. И мы не знаем, и мы не желаем знать никаких других «императивов»!
Из кн. «Еврейское государство — решение еврейского вопроса», 1936.Этот тезис — «хад-нэс» — Жаботинский защищал с пафосом, который дано понять только на фоне тогдашней действительности: когда в еврейском населении, управляемом лицемерными властями и окруженном со всех сторон Толпами врагов, безумствовали, с одной стороны, отчуждение еврейского труда и предпочтение ему дешевого арабского, и с другой — нескончаемые забастовки и распространение лозунгов классовой борьбы. Все это отнюдь не способствовало вложению частного капитала, столь жизненно важного для построения Страны. Отрывки, приводимые дальше, принадлежат, без сомнения, к лучшим публицистическим плодам пера Жаботинского:
Прежде всего — сионистский монизм. Большинство молодежи нашего поколения считает, что еврею недостаточно трудиться на благо Сиона, что ему необходимо еще что-нибудь, какой-нибудь дополнительный идеал, который украсит «эгоистическое» стремление национального возрождения «народа одного и не больше». А я ищу такую молодежь, которая держалась бы одной-единственной веры и довольствовалась бы только ею, и еще гордилась бы ею и предпочитала ее всем прочим верованиям. В начале всего Бог сотворил нацию; все, что способствует ее возрождению,— свято, а все, что мешает этому,— скверно, а каждый, кто мешает,— сам черен, и вера его черна, и черно его знамя.
Декларация от имени верховного командования всемирного «Союза Трумпельдора», 3.6.1928.Эта неразбериха есть не что иное, как закономерный продукт некой духовной моды, возникшей и распространившейся в нашей среде в последние годы. «Мода» эта выражается в признании и принятии мнения, что сионизм как таковой не является идеалом чистым и прекрасным в полной мере. Для того, чтобы очистить и украсить его, необходимо разбавить его каким-нибудь другим идеалом. Например социалистическим, или пацифистским, или учением Ганди, или открытием Южного полюса, или перелетом Париж — Нью-Йорк, или Бог знает чем еще — но чем-то еще обязательно. Чем-то, что не является сионизмом. Потому что сионизм как таковой — какая-то сомнительная тварь, не способная устоять сама перед лицом нравственного и справедливого суда.
А я полагаю, что сионизм — идеал самостоятельный и прекрасный в высшей степени. Он явился для того, чтобы спасти от ненависти толпы и от голодной смерти сотни тысяч людей, он явился для того, чтобы создать на земле новый народ — новую арену для создания ценностей, которые обогатят все человечество. Прекрасен он, сионизм, свят, чист и нравственен; и если так — то все, что препятствует ему,— безнравственно.
«Одна опасность», «Доар ха-йом», 9.10.1930.Делается попытка заново создать единую еврейскую душу — душу, которую никакой внешний блеск, никакая внешняя красивость не отвратят от нашей бедности, но душа эта окажется столь совершенной, столь цельной, что единственный ее ответ на это нелепое сопоставление будет такой: «В моем крошечном винограднике выросла лоза, вино которой благороднее всех ваших шампанских вин, и, чтобы быть таким, оно не нуждается ни в каких добавках лучших сортов вашего винограда — ему нужен лишь дождь, ниспосылаемый Всевышним. И стоит оно того, чтобы десять поколений подряд отдали за него свою жизнь, и во всем мире нет ничего выше и ничего святее его!». И если на сегодня состояние еврейского народа таково, что в то время, как другие народы готовятся коренным образом изменить основы хозяйства своих стран, мы вынуждены только помышлять о создании хозяйства нашей страны,— эта душа не почувствует стыда от такого сравнения. Она не закричит: «И мы тоже!..» Но она спокойно будет продолжать верить, что ее святыня не менее свята, чем иные. И если выяснится, что в то время, как другие народы уже могут говорить о прекращении обучения войне, мы вынуждены только начать это горькое учение,— эта душа не пустится в хитроумные рассуждения и не будет искать лукавых отговорок, а начертает на знамени всемирного движения за мир: «Самое святое условие всеобщего мира — чтобы никто не смел и не мог убивать нас тоже!».
Попытку эту я поддерживаю не только потому, что я — еврей-националист, но просто потому, что я ее отец. Конечно, некорректно общественному деятелю признаваться в том, что им движут какие-то личные причины,— пусть это некорректно, но я признаюсь в этом. Каждый из нас несет на себе золотую цепь, и каждый из нас время от времени спрашивает себя: в чьи же руки попадет это наследие? Потому что я не хочу черной пропасти — конечной остановки той железнодорожной линии, которая начинается у окна, где сидит еврейский мальчик и перебирает идеологические жемчужины — лишь в качестве «добавления» к своему собственному,— жемчужины, подобранные на чужой улице.
«Его дети и наши», «Доар ха-йом», 13.10.1930....До какой степени болело сердце Жаботинского из-за проблемы «хад-нэс» и противодействия ей, свидетельствуют два письма его к Давиду Бен-Гуриону, приводимые ниже с некоторыми сокращениями. Первое из них написано в Чикаго 30.3.1935:
Ты сказал мне, что я преувеличиваю влияние чистой «классовости» на дух вашего движения, и показал мне твои статьи, из которых действительно явствует, что дух вашего движения чист и не разбавлен никакими чуждыми примесями. Тогда я тоже спросил: уверен ли ты в том, что это относится и к рядовым членам вашего движения? Ты ответил уверенным «да!», но я в душе не поверил тебе (хотя тогда и не помышлял, что ратификация будет отвергнута большинством[*]). С дней моей юности я помню собственную зачарованность учением Маркса — логической цепочкой, из которой нельзя вынуть ни одного звена, не прибегнув к грубому насилию. Ты и твои соратники, основатели движения «Рабочие Сиона», создали очень тонкую смесь этого учения с сионизмом — возможно, что вы в свой душе действительно смогли слить это воедино, но это вопрос веры: понять это может лишь тот, кто верит в это. Сейчас пришло поколение, которое не знает вашего ратоборства и не участвовало в ваших поисках истины; тончайшие логические силлогизмы, с помощью которых вам удалось из двух нитей сплести одну, ныне забыты словно секрет Страдивариуса. Кроме этого всей современной молодежи (и еврейской, и христианской) свойственно нежелание глубоко вникать в проблему, они предпочитают ясные и недвусмысленные «да» и «нет», первобытную и грубую простоту. Из двух нитей они выбирают самую толстую или самую блестящую, а ту любовь, которая побуждала вас тогда тщательно вымерять пропорции вашей смеси, вымерять, вымерять и снова вымерять, они называют оппортунизмом, или бессилием, или еще чем-нибудь похуже. Что вы можете противопоставить этой грубости, какое снадобье? Попытаетесь ли научить их вашей вере? Сомневаюсь, что это поколение способно воспринять ее, и захочет ли оно вообще это сделать? Это поколение «монистское» до чрезвычайности — возможно, это не комплимент, но это бесспорный факт.
В сб. «Письма».Второе письмо написано в Париже 2 мая 1935 г.:
Немного «философии»: я уверен в том, что есть тип сиониста, которому совершенно безразлична социальная окраска «государства»,— я как раз таков. Если я приду к убеждению, что нет другого пути к «государству», кроме социализма,— я немедленно приму социализм. Больше того: я согласен и на государство фанатиков, где меня будут заставлять есть «гефилте фиш» от зари до зари (если другого пути действительно нет). Еще хуже того: государство, где разговорным языком будет идиш (что для меня означает конец всякого очарования в этом деле) — если другого пути нет, я согласен. И оставлю своим детям завещание: совершить революцию; только на конверте напишу: «Вскрыть через пять лет после основания еврейского государства». Много раз я проверял себя: действительно ли таковы мои убеждения, и теперь я уверен в этом.
В сб. «Воспоминания современника». Флаг бело-голубой, и нет у нас другого. Идеи яркий свет прорвется сквозь заслон. Единое найдут богач и бедный слово — Их побратит Сион. «Клятва», в сб. «Стихи».Долг перед народом
«Если вам нравится служить своему народу — это ваш свободный выбор».
Жаботинский был индивидуалист до мозга костей и ни за что не соглашался с тем, что сам факт принадлежности к нации обязывает человека посвящать себя служению ей. Он настаивал на том, что любая обязанность возникает лишь при наличии двустороннего соглашения, соглашения абсолютно добровольного, а не вытекает из случайного факта принадлежности, и она, обязанность, не может быть никому навязана. Но сам он целиком посвятил себя служению своему народу. И не стеснялся призывать к этому других. В 1908 году он обратился к своим бывшим друзьям — ассимилированным евреям, не пожелавшим встать на этот путь:
Я не служу и не хочу служить ничему из всего того, что вам дорого. У вас там есть свои идеалы — я их очень ценю, но в руках у вас они смешны и бесплодны: поэтому я издеваюсь над ними и над вами и буду бороться с ними и с вами, для торжества моей веры, всеми путями и всеми орудиями, во что бы то ни стало.
Я когда-то сильно чувствовал красоту свободного, нерядового человека, «человека без ярлыка», человека без должности на земле, беспристрастного к своим и чужим, идущего путями собственной воли через головы ближних и дальних. Я и теперь в этом вижу красоту. Но за себя и от нее отказался. В моем народе был жестокий, но глубокий обычай: когда женщина отдавалась мужу, она срезала волосы. Как общий обряд, это дико. Но воистину бывает такая степень любви, когда хочется отдать все, даже свою красоту. Может быть, и я бы мог летать по вольной воле, звенеть красивыми песнями и купаться в недорогом треске ваших рукоплесканий. Но не хочу. Я срезал волосы, потому что я люблю мою веру. Я люблю мою веру, в ней я счастлив, как вы никогда не были и не будете счастливы, и ничего мне больше не нужно.
«Ваш Новый год», «Фельетоны». 1913.Через 20 лет Жаботинский обрушился с критикой на ту часть сионистской молодежи, объединенную в организацию «ха-Халуц» («Пионер»), которая, столкнувшись с трудностями получения разрешений на въезд в Страну, запаниковала и стала угрожать «выходом из сионизма». Жаботинский писал: «Никто не обязан быть пионером, или сионистом, или даже патриотом своего народа. Я вообще не считаю, что существуют эти самые «обязанности», и никто не вправе предъявлять тебе претензии. Но если уж ты решил быть именно сионистом — то уж, ради Бога, без всяких условий». И дальше:
Половина всех несчастий, похоже, в том, что у нас безмерно любят играть надуманным понятием «долг перед народом». Когда человек — будь то юнец или взрослый — уговаривает себя, что все, что он делает, он делает не ради себя, а в силу своего долга перед народом Израиля, он создает иллюзию, в которой сокрыты все опасности и неприятности именно личных капризов. В наше безответственное время человек, выполняющий свой «долг»,— большая редкость, и поэтому он чрезвычайно спесив, а все прочие вынуждены ему заискивающе улыбаться, чтобы он, не дай Бог, не осерчал.
Я предлагаю совершенно иную трактовку отношений человека со своим народом. Все разговоры о «долге» — миф. Невозможно доказать, что существуют на самом деле какие-либо обязанности по отношению к нации.
Обязанность (а не «принуждение») возможна лишь при наличии добровольного соглашения. Никто не спрашивал человека, хотел ли он быть пущенным в этот Божий или чертов мир французом, негром или евреем. Откуда же взяться обязанностям? Это просто смешно. Господа, у народа нет на вас никаких прав и у него не может быть к вам никаких претензий. Если вам нравится служить своему народу — это ваш свободный выбор, ваша добрая воля, точно так же, как если бы вы решили быть скульптором или пианистом. Вы делаете это ради себя, а не ради народа, и так же, как у народа не может быть никаких претензий к вам, так и у вас не должно быть никаких претензий к народу. Это такой же позыв, как у художника, творящего что-либо. И если можно тут говорить об обязанностях, то это обязанности по отношению к себе, а не к кому-либо или чему-либо еще. Сможете выдержать все? Прекрасно. Не сможете — устали, надоело, или вы поняли, что это не ваше дело — быть скрипачом, что на самом деле вы — прирожденный астроном,— что ж, все в порядке. Желаем вам успеха в ваших исследованиях — народ Израиля переживет.
Я говорю все это не для того, чтобы отпугнуть или обидеть, а потому, что я верю в это. Никто не может утверждать, что никогда не оставит своих позиций. При всей своей преданности ты можешь назавтра столкнуться с тем, что не годишься для избранного дела, что народ в тебе вообще не нуждается — ни в тебе, ни в твоих советах, ни в твоей преданности. И тогда твое поведение будет зависеть от того, гордый ли ты человек, точнее — какой природы твоя гордость. Если твоя гордость — себялюбива (более чем почтенный вид гордости), ты утрешься и пойдешь искать другой службы. Если же гордость твоя — просто гордость, не ищущая чьего-либо признания, если главное для нее — веление сердца, ты останешься, несмотря на то, что тебя оттолкнули, не пустили, останешься до тех пор, пока раскроются двери или уши или пока ты сам не перестанешь существовать.
«Во времена «стоп-иммигрейшн», «Хайнт», 12.2.1928; в сб. «На пути к государству».Те же мотивы мы находим в письме Жаботинского актрисе Мирьям Бернштейн-Коэн:
Что тут сказать? Мы все, как и она,— начинаем снова и снова. Начинаем и спрашиваем: «Сколько можно?! В который раз?!». И все-таки что-то остается. Знаете, что я решил? Я понял, что не нужно мне духовного удовлетворения — не только что успеха или победы, но даже благодарности и удовлетворенности я не ищу. Делаю свое дело. Не по обязанности. Мы — и Вы и я — давно расплатились с долгами перед народом. Просто потому, что мне так нравится. Так моя левая нога хочет. И баста.
Париж, 19.5.1928; в сб. «Письма».«Индивидуализм» остался моей верой и по сей день. Если бы писал философию, я бы это вполне примирил со своей службой: служу не потому, что «должен» — никому никто ничего не должен — а потому, что так мне угодно. Бейтарское воспитание: не нравится — не берись; а взялся — так из уважения к себе держись на все 100 %.
Письмо сестре Тамар, 23.3.1935.«Футбольная мудрость»
«Бить сильней и без промаха».
Нет, Жаботинский никогда не был спортивным инструктором и не занимался футболом. Не замечен он был и в страстном «болении». Он просто использовал эту игру как хороший пример игры политической, которая должна вестись по принятым правилам и с использованием всех шансов для победы. Речь велась о конкретном противнике — «британской команде», но похоже, что черты, которые Жаботинский подметил у этого противника, присущи всем командам «международной лиги». В этой статье, написанной в 1920 году, Жаботинский давал своим коллегам — лидерам сионистского движения — урок политической игры. Удивительно, что этот трезвый анализ, даже с оттенком симпатии, который он дал британскому противнику, был сделан сразу после выхода Жаботинского из-под ареста в тюрьме Акко:
Англичане — очень хороший народ — в общепринятом понимании. И в том, что наиболее важно и интересно для нас, они тоже очень хороший народ. Но надо уметь их понимать. Похоже, что все наши трудности и беды начались с того самого дня, как Алленби[*] вступил в Иерусалим, и проистекали из нашего неумения понимать англичан. Мы создали себе весьма упрощенный образ англичанина, находясь под обаянием его побед,— образ «спортсмена и джентльмена». Мы слышали нечто подобное, но толком не знали, что все это значит, да и наша провинциальность сыграла свою роль.
Это надуманное представление можно описать так: если англичанин дал вам вексель на сто золотых, а вы забыли об этом и отправились путешествовать, то он, как истинный джентльмен и спортсмен, пройдет через моря, реки и горы, достанет вас из-под земли и, представ перед вами, скажет: «Здравствуйте, сэр, вы меня не помните? Я должен вам сто фунтов, и я привез вам их плюс проценты».
Такого англичанина не было никогда. Истинный англичанин — занятой, деловой человек, и у него нет времени гоняться за вами, если вы позабыли о своих делах. Он обязался уплатить вам сто золотых в такой-то момент, в таком-то месте и при таких-то условиях, и вам надлежит явиться туда в назначенное время и представить вексель к оплате. А он еще и вексель проверит с дотошностью, чтобы убедиться, не подделан ли он и правильно ли оформлен. И если он обнаружит в нем что-либо, к чему можно придраться, то будьте уверены, он придерется. И вам придется искать доказательств подлинности, приводить свидетеля, ибо вы — истец, а бремя доказывания — на истце. И только после всего этого вы получите свои деньги.
Так поступит англичанин, в особенности если его обязательство — политическое. Политические векселя всегда пишутся таким туманным и запутанным языком, что толковать их можно как угодно. И оплачивать их — это вам не денежки выложить, тут Бог весть что случиться может, ответственность велика. Что же удивительного, если в таких векселях англичанин придирается к каждому слову, старается трактовать его так, как это выгодно ему, а не вам,— в особенности такие понятия, как «национальный очаг», которые не имеют пока аналогов в политической истории. Кроме того, с какой стати кто-либо будет погашать свои политические долги тому, кто не умеет требовать их погашения? Человек, не умеющий взыскивать, он ведь может Бог весть что натворить с правами, которые ему будут предоставлены. Политические права — это вам не деньги, с теми и дурак знает, что делать, а вот политическими правами может пользоваться только сильный человек или сильный народ. Слабый, зависимый, несамостоятельный — что проку ему от независимости или национального дома или даже от царской короны и какой смысл давать ему все это, если наперед ясно, что он не сумеет этим воспользоваться?..
Говоря все это, я вовсе не намереваюсь бросить тень на репутацию англичанина как джентльмена и спортсмена. В этих его качествах я не сомневаюсь. Хотите знать, кто на самом деле сомневается в них? А все говорящие: «Тс-с!», «Не буди в нем зверя!» — они-таки не верят в джентльменство англичанина. Англичанин не рассердится, если кто-либо потребует от него вернуть причитающееся. Как раз такой настойчивости англичанин и выкажет свое джентльменство. Англичанин не инфантилен, не завистлив и не мстителен. Да, он будет склочничать из-за каждой запятой в векселе, он заставит тебя заниматься сизифовым трудом, пока ты не докажешь ему свою правоту, но когда ты все-таки докажешь, то тогда, и только тогда, он продемонстрирует тебе свое истинное джентльменство — он не рассердится как ребенок на то, что ты «выиграл», он примет это с достоинством и уважением к сопернику. Он скажет: «Олл раит» — и пригласит тебя на виски с содовой как равного ему. Тогда, и только тогда, ты увидишь, что он — настоящий спортсмен, ценящий достойного соперника, уважающий его, если последнему удалось победить в матче или в поединке, разумеется, при условии, что соперник играл по всем правилам, т. е. по принципу «play the game».
Это выражение «play the game» мы вызубрили, но поняли его совершенно неправильно. Мы почему-то решили, что это значит, что англичанин, играя с нами в футбол, обязуется падать, как только мы упадем, и промахиваться, когда мы промахиваемся. Глупости. Перевод и смысл этого знаменитого выражения — «уважай правила игры». И первое из этих правил —«бить по мячу, бить сильно и не промахиваться». Если ты вместо того, чтобы бить, начнешь раскланиваться и рассыпаться в комплиментах Великой Британии, не жди, что тебе ответят тем же. Англичанин спокойно отберет мяч и устремится к твоим воротам. А если ты начнешь жаловаться, то в ответ услышишь в качестве урока на будущее: «Бей!».
«футбольная мудрость» (оригинал на иврите), «ха-Арец», 7.7.1920.Халуцианство
«Человек, взгляд которого всегда устремлен к цели и все дела которого — во имя цели».
«Халуц» — пионер. В период между двумя мировыми войнами так назывался еврейский юноша, который прошел полутора- или трехгодичный курс в одном из центров «подготовки» в странах галута, т. е. приобрел навыки тяжелого физического труда, получил разрешение на въезд в Страну («сертификат») и прибыл в Эрец Исраэль «голым и босым», чтобы работать там в одном из кибуцев или на пригородных плантациях. Он приехал, чтобы, как пелось в песне, «построить Страну и построить себя в ней». Это стремление «построить себя» находило выражение не только в попытках скопить личный капитал (зачастую успешных, особенно в период «процветания» Эрец Исраэль), но и в стремлении утвердить «трудящуюся Эрец Исраэль» как главную, безраздельно властвующую силу в экономической и политической жизни Страны. Это стремление не могло не показаться Жаботинскому необоснованным. Но главное, против чего он возражал,— это попытка, придавая личным и классовым интересам высший приоритет, называть это «халуцианством». Представление о «халуце», о «пионере» было в его глазах совершенно иным. Здесь он был полностью согласен с основателем этого движения Йосефом Трумпельдором:
Никогда не забуду его ответа, даже обстановки не забуду. Мне он дал свой ответ в скупо освещенной комнате, где-то на задворках Челси, но еврейский народ получил тот ответ на горах и в долинах Палестины, и народ его тоже никогда не забудет. Первому плану его помешал развал России; второй он осуществил. Слов его я не записал — незачем: я их и так запомнил. В той каморке, летом 1916-го года, он развил передо мною простой и величественный замысел «халуцианства».
— Халуц,— значит «авангард»,— сказал я.— В каком смысле авангард? Рабочие?
— Нет, это гораздо шире. Конечно, нужны и рабочие, но это не то. Нам понадобятся люди, готовые служить «за все». Все, что потребует Палестина. У рабочего есть свои рабочие интересы, у солдата свой esprit de corps; у доктора, инженера и всяких прочих — свои навыки, что ли. Но нам нужно создать поколение, у которого не было бы интересов, ни привычек. Просто кусок железа. Гибкого, но железа. Металл, из которого можно выковать все, что только понадобится для национальной машины. Не хватает колеса? Я — колесо. Гвоздя, винта, блока? Берите меня. Надо рыть землю? Рою. Надо стрелять, идти в солдаты? Иду. Полиция? Врачи? Юристы? Учителя? Водоносы? Пожалуйста, я за все. У меня нет лица, нет психологии, нет чувств, даже нет имени: я — чистая идея служения, готов на все, ни с чем не связан; знаю только один императив: строить.
— Таких людей нет,— сказал я.
— Будут.
Опять я ошибся, а он был прав. Первый из таких людей сидел предо мною. Он сам был такой: юрист, солдат, батрак на ферме. Даже в Тель-Хай он забрел искать полевой работы, нашел смерть от ружейной пули, сказал «эн давар» и умер бессмертным.
«Слово о полку», «Автобиография».В лекции, прочитанной в Париже в марте 1925 года, в пятую годовщину гибели Трумпельдора, Жаботинский снова рассказал слушателям о «халуцианском кредо» героя Тель-Хая:
Трумпельдор научил нас очень важной вещи — что такое «халуц». Это слово обычно переводят как «пионер», первый в ряду. Но этот перевод не передает всего, скрытого в этом древнем слове. Халуц — не фермер и даже не крестьянин, он не страж и не просто рабочий. Халуц — это человек, прорвавшийся вперед и сбросивший как ненужное все, что связывало его с галутом. Человек, никому ничем не обязанный, не подчиняющийся никому, кроме его величества Еврейского Народа. Он целиком предан одной идее. Человек, взгляд которого всегда устремлен к цели и все дела которого — во имя цели. Сегодня он — рабочий, завтра — землепашец, послезавтра, возможно, воин. И воин настоящий. Трумпельдор был готов пролить и пролил во имя цели и пот свой и кровь свою.
«Его последний выстрел», «ха-Машкиф», 3.3.1939.Сказанное привело Жаботинского к выводу, что:
Прибывающий в Израиль делает это не для улучшения условий жизни или занятия какого-либо общественного положения. Благодарение небесам, нынче положение рабочего в Израиле не хуже, чем где-либо в Европе. Но я не уверен, что так будет всегда. Так не было во времена билуйцев[*], столь же неблестяще шли дела во времена американских пионеров, построивших эту страну, и у нас еще будут времена, когда придется нам потуже затянуть пояса. Это в природе понятия «пионер», еврейский перевод которого — «халуц»: жертвы, нехватка во всем, самоограничение. И нет тут места «жалости» — никто не заставлял вас ехать сюда, никто не будет заставлять.
Добровольцы! Не надо становиться добровольцем, если ты согласен строить государство лишь с таким-то и таким-то условием. Но если уж стал добровольцем, знай, что тебе придется отказаться от многого, от чего бы ты ни за что не отказался в галуте.
«Класс» (оригинал на иврите), ежемесячник «Бейтар», 2.1933; в сб. «Нация и общество».К тем, кто требовали себе титула «халуц» и обвиняли Жаботинского, развенчивавшего их, в том, что он «враг рабочих», Жаботинский обращался:
Зачем идет наш авангард к Сиону — «строить» или «застраиваться»? Строить государство для всех евреев во имя осуществления пророчества Возврата в Сион или создавать для себя лично условия поудобней? В первом случае его путь подобен дороге добровольца на войне: неважно, будет ли ему легко и удобно, главное — победа. Возможно, я наивен, но когда я впервые услыхал слово «халуц», я понял его именно так...
Нынче разговоры о неизбежности жертв считаются жестокостью. Но какая может быть жестокость, если речь идет о добровольцах? Не хочешь — не иди. Или иди и борись за «свои интересы», и Бог тебе в помощь, и становись себе «паном». Но тогда не называй себя «халуц». Никто не обязан быть пионером и отказывать себе во многом, но пионер — это лишь тот, кто готов себе отказывать и не требовать за это награды...
Было бы интересно представить этих господ Трумпельдору: вот твои пионеры, готовые жертвовать собой ради достижения цели — ради того, чтобы вытащить наш народ из бездны... Когда кто-либо пытается им напомнить, что спасение всего народа, строительство государства может потребовать и каких-то жертв, они разражаются криками о «жестокости» и честят его «классовым врагом рабочих»...
«Слаще меда», «ха-Ярден», 1.8.1935; в сб. «В бурю».Подобную «жестокость» проявлял Жаботинский и по отношению к своим ученикам-бейтаровцам, которые, приезжая в Эрец Исраэль должны были пробыть два года в «рабочих ротах» Бейтара, где вели полуголодное существование и занимались каторжной работой, ибо их целью было «отбить» рынок труда у дешевой арабской рабочей силы (главным образом, в Верхней Галилее), или несли боевую службу по охране жизни евреев («Рота Стены Плача», «Дорожные роты»). Жаботинский гордился этим «призывом» и мечтал о его расширении:
...Движение, именуемое «халуцианская алия», в последнее время превратилось в нонсенс. Понятия «пионер и его призвание» попросту умерли. Понятие «халуц» приобрело новый смысл: одна десятая — идеал, девять десятых — «гешефт»... Бейтар сделал огромное дело для Страны: создав боевые и рабочие роты, он вернул понятию «халуц» его первозданный смысл и сделал это тогда, когда коррупция и «гешефты» были в самом расцвете. Теперь можно не стыдиться и бедности — теперь бедность держит молот в руках и пасет стада. Я мечтаю, что Бейтар станет огромной «плантацией», на которой вырастут истинные подвижники, продолжатели дела «рабочих рот». Кто сказал, что не нужно подвижничества Сиону? Вот, выйдут на авансцену трое — «Работодатель», «Рабочий» и «Подвижник». Первые — два сапога пара: что тот, что другой используют в своих интересах экономическую «конъюнктуру». Третий же воплощает святой абсурд билуйцев, первых пионеров, рабочих рот Бейтара.
«...Но я верю!», «ха-Мдина», 4.2.1936.Когда Жаботинский со своими друзьями организовывал бейтаровский «призыв», помнил ли он, что писал об этом 30 лет назад, в 1905 году?
Чтобы политический сионизм мог осуществить свои цели, он нуждается в подготовленных евреях. Так поступают все культурные нации: когда хотят колонизировать какую-либо территорию, они населяют ее своими работниками. То же должны сделать и мы, если наша молодежь не испугается тяжелого труда и тяжелых условий Эрец Исраэль. Но она не испугается. Уже не испугалась. То тут, то там, слышим мы, организуются группы молодежи для эмиграции в Эрец Исраэль. Это не туристы и не нищие скитальцы. Это люди, намеренные возродить нашу Страну. Кто-то из них обживется там, кто-то — не выдержит и вернется, но пока они будут там — они сослужат народу бесценную службу. Эта служба подобна военной. Сотни лет еврейский народ не имел своих солдат. Теперь пробил их час. Человек, любящий свою родину и идущий добровольцем на войну за нее, не спрашивает, каково ему будет там — сытно ли, тепло ли. И у нас теперь война, и, понятно, наши бойцы-добровольцы должны быть готовы и к голоду и к холоду. Тем более, что многим из них терять нечего. А черствый хлеб все-таки лучше грызть в Эрец Исраэль, чем на чужбине. Но я уверен, что во множестве сыщутся и такие, кому будет что терять, но они не испугаются. А чего, собственно, тут пугаться? Разве тысячи еврейских студентов не грызут черствый хлеб и не мерзнут по чердакам европейских городов? Разве нам — бледным и немощным — стал так уж противопоказан свежий воздух или физический труд? Ну, а если кто и не выдержит — не беда, они вернутся, и расскажут другим, и разожгут в сердцах других желание помочь делу, да и их самих мы еще увидим «в наших Палестинах». Ибо не может быть, чтобы посеявший не пришел жать. Главное, чтобы у нас стало правилом: каждый молодой человек должен проработать три года на «воинской службе» во имя Эрец Исраэль.
«Что нам делать?», 1905; в сб. «Первые сионистские труды». Железо или медь — вот, в сущности, награда. Кузнец-Сион меня в ладони взял. Он серп кует, косу, а если надо, То — меч или кинжал. «Клятва»; в сб. «Стихи».«Хамство»
«Насилию среди евреев — нет!»
Чего Жаботинский не мог ни понять, ни принять, так это жестокости, которая в свое время «расцвела» вдруг в отношениях между евреями и между отдельными течениями в сионистском движении. Дело дошло до кровавых столкновений в Эрец Исраэль. С гневом и болью Жаботинский выступал против таких способов «выявления истины»:
Я обращаюсь ко всем, кто еще способен слышать. Я требую, я настаиваю: нападения на «идейных противников» должны немедленно прекратиться. Немедленно и повсеместно. Сейчас не время судить и рядить, какая сторона «начала первой». Подобное не должно повториться — вот и все.
Я не хочу здесь читать нотации и мораль. Я, грешным делом, полагал, что моральная недопустимость драк между евреями очевидна. В 1932 году, обращаясь к бейтаровцам в статье «Memento!» («Помни!»), я писал: «Именно потому, что физическая сила у нас в почете, она должна и может быть пущена в ход лишь там, где есть реальная, физическая опасность. В самых крайних случаях допустимо ее применение для защиты чести Израиля от посягательств его ненавистников. Но абсолютно недопустимо ее применение для «выяснения отношений» между евреями. Еврей, дающий своему брату хотя бы пощечину, совершает не только тягчайший грех — это еще и провокация».
Так я считал до сего дня. Но нынче, когда повсюду сила стала первым и последним «доводом в споре», стало ясно, что говорить о моральной недопустимости — бесполезно. Тех, кто дошел до такой степени низости, не остановишь напоминаниями о том, что «так поступать нехорошо». Поэтому мы будем говорить о чисто тактических соображениях. И именно потому, что я говорю здесь только о тактике, я обращаюсь к своим друзьям — прекратите! Наше дело требует от вас этой жертвы — проявите сдержанность, не отвечайте. Пусть обычай бить евреев останется монополией наших противников — это единственная «монополия», которую мы согласимся без боя отдать «Профсоюзу». Все остальные монополии мы у них отберем, а главное — монополию на еврейский труд в Эрец Исраэль. Но монополию на кулак мы им оставим — пусть забирают.
«Немножко правды об Эрец Исраэль», «Хазит ха-ам», 5.2.1934.Жаботинский требовал от своих друзей воздерживаться не только от применения физической силы, но и от некорректных выпадов в прессе и в публичных выступлениях. Вот что он писал Шломо Зальцману:
Я получил газеты, в которых помещены статьи наших друзей, резко критикующие сионистское руководство и его действия. В одной из таких статей мне встретились настолько грубые нападки на д-ра Вейцмана, что я просто не смог дочитать эту статью. Необходимо разъяснить этим добрым людям, что ничто так не затуманивает, не опровергает истин, которые они излагают, как грубость и бестактность. Самые правильные вещи, изложенные в грубой форме, превращаются в свою противоположность. Не уважаете себя — извольте уважать читателей. Трезвая логика и интеллигентность — самое сильное средство убеждения. Следует критиковать взгляды наших противников, ни в коем случае не опускаясь до «личностей». «Юпитер, ты сердишься — значит, ты не прав».
Из кн. Шломо Зальцмана «Былое».Жаботинский решительно настаивал на необходимости «сдержанности» в отношениях между евреями. По случаю шестидесятилетнего юбилея профессора Клознера он писал, между прочим:
Профессор Клознер — человек беспартийный. В последние годы он склоняется в своих взглядах к идеям ревизионизма. Но это — в последнее время. В одной из своих статей он писал: «Возможно, настанет день, когда ревизионисты набросятся с кулаками и дубинками на своих противников. Тогда я буду решительно бороться против них». Я, так же, как и Вы, профессор, очень хочу надеяться, что такой день не настанет. Но быть уверенным — не могу. Ведь людей «воспитывают» не только избранные ими лидеры. Поведение идейных противников тоже сильно влияет. Если ты — бейтаровец, воспитывавшийся в Эрец Исраэль, тебя избивали на улицах, гнали с работы, разрушали по ночам построенное тобою за день, доносили на твоих братьев, отправляли их на виселицу и на каторгу — и в такой обстановке выросли ты и твои сверстники... Я не знаю, каким вырастет это поколение. Не знаю, окажется ли оно на высоте, когда примет бремя власти. Мне остается только верить всем сердцем, что, приняв власть, наши друзья не превратят ее в орудие мести и сведения счетов, как это происходило в большинстве случаев прихода кого-либо к власти.
Допустим, придет день, когда профессору Клознеру придется взывать к нашим друзьям: «Хватит! Остановитесь!» — как это делает он теперь, обращаясь к нынешнему руководству. Но мы надеемся, что не придется. Мы все-таки делаем все, чтобы воспитать наших учеников в духе уважения к вечным ценностям — свободе мысли и слова, вежливости, к неприятию всяческого принуждения, уважению к старшим и младшим, к друзьям и врагам, к евреям и неевреям. Эти слова звучат несколько трагикомично в наше время — время торжества кровавых наветов и добровольного поголовного сыска. Но мы стремимся к тому, чтобы слова эти воплотились в дела.
«Духом единым», «дер Момент», 08.1934; в сб. «Литература и искусство».Моду доказывать свою правоту глоткой и кулаком Жаботинский называл русским словом «хамство». Его он употребил в письме Давиду Бен-Гуриону. Письмо было написано после того, как Сионистская организация большинством голосов не утвердила соглашение Жаботинского — Бен-Гуриона, подписанное для того, чтобы разрядить напряженность, царившую в лагере сионизма, и найти пути к сотрудничеству различных течений:
В последнее время я удостоился особого внимания прессы «левого крыла». И что меня поразило — так это невероятная жестокость, жажда крови — те самые «качества», которые так популярны в коридорах Лубянки. Там считают, что физическая боль — лучшее средство убеждения противника. В прессе же — откровенное злорадство: «Вам не дают разрешений на выезд, вам больно, вы в отчаянии, вас мучает голод — ну и прекрасно!». Кровавые нападения в Хайфе и в Тель-Авиве стали мне понятны лишь в свете подобных выступлений прессы.
«Еврей-хам» — порождение нашей эпохи. Вы можете возразить, что это хамство свойственно как той, так и другой стороне, и, возможно, будете правы. Но я, увидев проявления хамства в жизни или на бумаге, сделаю все, чтобы изгнать эту заразу, и девяносто девять из ста моих друзей мне в этом помогут с великой радостью, ибо у нас хамство не в почете. Вы можете сказать то же про своих сторонников? Ведь оно стало уже постоянным тоном Вашей прессы. Ведь большинство в Вашем лагере освистывает Соглашение. Боюсь, что в Вашем лагере эта склонность укоренилась и формирует сознание большинства...
Не сомневаюсь, что Вы в интимных беседах с ветеранами Вашего движения обсуждаете этот вопрос, что он волнует всех Вас. Ибо то, что происходит, опровергает все, к чему Вы стремились, позорит дело всей Вашей жизни. Я вижу корень зла в теории «избранности» «рабочего», в искусственном противопоставлении его всем прочим трудящимся. Все прочее произрастает из него и будет расти, пока мы все не придем к печальному концу.
30.3.1935; в сб. «Письма».Пять элементов
«Еда — жилье — одежда — учеба — медицина».
Придерживаясь принципа монизма, требовавшего отложить решение основных социальных проблем до завершения строительства «лаборатории» — еврейского государства, Жаботинский был настолько преисполнен социального пафоса, что иногда хочется задать вопрос: какие устремления были выражены у него сильнее — социальные или национальные? Даже в период наиболее интенсивной политической деятельности изменение мирового общественного порядка продолжало его волновать. Он неоднократно призывал своих воспитанников — бейтаровцев уделять время размышлениям об идеальном социальном устройстве, которое не только станет возможным в будущем государстве, но и не помешает его созданию. Источник вдохновения для подобных размышлений Жаботинский видел в социальной философии Торы, основными символами которой являются суббота, «пеа» (угол, край), «иовель» (юбилей). В библейском понятии «суббота» Жаботинский видел корень всего современного социального законодательства; принцип «пеа» (который, как и суббота, не был известен в общественном мировоззрении древней Греции и Рима) был воплощен в современном мире созданием таких институтов, как социальное страхование, подоходный налог, налог на наследство, пособие по безработице и т. д. Жаботинский принял идею, заложенную в этих двух принципах,— идею долга общества перед индивидуумом — обеспечивать его основные нужды, вне зависимости от того, работает он или нет. Что такое «основные нужды»? Жаботинский определил их так:
Я представляю себе, что понятие, которое мы определяем как «элементарные нужды» нормального человека,— то, за что сегодня он должен бороться, приходя в отчаяние, если ему не удается найти заработок,— включает в себя пять элементов: еду, жилье, одежду, обучение, медицину. В отношении суммы этих элементов в каждом государстве в разные периоды существовало определенное представление как о прожиточном минимуме. Долг государства, по моему «рецепту», должен быть таковым: каждый человек, претендующий на «пять элементов», должен получить их. Это первый из двух «моих» законов. Из сказанного следует, что государство всегда должно иметь реальную возможность обеспечить эти «пять элементов» каждому, кто в них нуждается. Откуда государство возьмет их? Ответ на этот вопрос содержится в «моем» втором законе: государство возьмет их в принудительном порядке у нации так же, как оно взимает сегодня другие налоги и обязывает молодежь служить в армии.
По моему «рецепту», правительство должно сделать расчет, сколько душ нужно обеспечить «пятью элементами» на ближайший год, иными словами, сколько понадобится продуктов, жилищных единиц, метров тканей и т. д. На это потребуется определенное количество денег и рабочих часов (по всей вероятности, немного «рабочих» часов, ибо основную работу выполнит машина). В соответствии с этим государство определит размер налогообложения или же экспроприирует какое-то количество частных фабрик и привлечет к «социальной» работе нужное число молодых людей. Несмотря на то, что я не великий специалист в статистике, я убежден, что это обойдется намного дешевле, чем обходится на сегодня содержание армии, и таким образом будет окончательно решена социальная проблема.
«Социальное спасение»: в сб. «Записки».Жаботинский признавал, что основоположником этой концепции был австрийский ученый еврейского происхождения Попер-Линкиус, автор книги «Обязательное всеобщее пропитание». Однако Жаботинский верил, что недалек тот день, когда эта утопическая теория превратится в реальность:
Я глубоко убежден, что не пройдет и ста лет, как эта теория станет свершившимся фактом. Возможно, что и тех огромных налогов, взимаемых сегодня государством с состоятельных граждан, было бы достаточно для прожиточного минимума, если бы не растрачивались миллионы на пушки и военные корабли. Попер-Линкиус выдвигает это требование как необходимое условие: прежде, чем будет введено бесплатное пропитание для всех, должна быть отменена обязательная служба в армии. А ведь это — в точности библейский принцип: «...и не будут учиться воевать...», и я верю всем сердцем, что и это пророчество воплотится в реальность раньше, чем по прошествии ста лет, и, возможно, дети наших современников будут жить в мире без войн. Тогда можно будет выделять на общественные нужды огромные суммы, поступающие от налогов, и эти дети, возможно, сами увидят мир, в котором осуществится библейская идея «пеа» в полном объеме. Мир, в котором слово «голод» будет отголоском древней легенды; мир, в котором будет предана забвению та трагическая горечь, которая определяет сегодня различие между бедным и богатым; мир, в котором ни один человек не будет более обременен заботой о вдовах и сиротах или обречен на гибель по причине финансового краха, ибо до самого «низа» он так или иначе не сможет опуститься и не размозжит себе череп и не сломает палец во время «падения» — общество создало для него мягкую «подстилку», что позволит каждому человеку передохнуть, собраться с силами и начать жить заново. Источник этой социальной мудрости — два слова на иврите, каждое из трех букв.
Но и в таком обществе останется различие между имущими и бедными. Это различие будет уже не столь явно, трагично и горько, как сегодня. Но оно всегда будет будить в человеке стремление к мировому соперничеству и выдвижению требований обществу: охранять равенство, не позволять этому различию сформироваться в вечную несправедливость. Человеческая мысль предложила два пути разрешения этой проблемы. Один — социализм, система, согласно которой различие между бедным и богатым должно со временем полностью исчезнуть, поскольку она лишает индивидуум возможности наживать капитал и проявлять личную инициативу — самый эффективный стимул созидания. Иной ответ дает Танах: принцип «иовель» — великий, превосходящий по своему гуманизму все известные в истории человеческой мысли социальные концепции.
«Главы о социальной философии Танаха», 1932; в сб. «Нация и общество».Как уже указывалось, Жаботинский не принимал принцип «кто не работает, тот не ест». У него была иная концепция «святости труда», отличная от бытовавшей в те дни среди широких кругов сионистского движения. Свою точку зрения Жаботинский выразил в статье, написанной им незадолго до смерти:
Система ликвидации нищеты по принципу «пеа» в корне отличается от социализма. В ней нет ничего общего с известным тезисом Ленина «кто не работает, тот не ест». В условиях современной реальности невозможно исключить ситуацию, при которой «работа» не является достоянием каждого, и бессмысленно учреждать закон, ставящий право на хлеб в зависимость от умения человека находить работу или же приспосабливаться к условиям, от которых зависит его трудоустройство в любом месте и в любое время. Право человека на хлеб определяется одним-единственным условием — его потребностью в пропитании. Именно это подразумевает Танах, говоря о сироте, вдове, неофите — примерах человеческих существ, которые существуют всегда и имеют право на помощь без предварительных расспросов, работали они или нет. Отношение Танаха к «труду» может разочаровать тех, кто склонен возводить в культ принцип наемного труда. Человек обречен добывать пищу в поте лица. Это — проклятие, и технический прогресс стремится освободить человека от него. Любое техническое достижение было не чем иным, как попыткой создать машины, которые хотя бы частично освободили человека от физического труда. Истинная цель прогресса — сконструировать «робот», на иврите «голем» — болван, настолько усовершенствованный, что смог бы выполнять всю физическую работу, необходимую для производства материальных ценностей, и тем самым позволил бы человеку свободно пользоваться ими, не трудясь в поте лица. Истинный робот — это механизация производства, и мы видим, как развитие техники стремительно вытесняет физический труд в производственном процессе. Недалек тот час, когда изнурительный труд будет предан забвению даже в каторжных угольных шахтах. Потребность в физической нагрузке — один из наиболее благородных и сильных импульсов человеческой природы; однако со временем он будет все больше удовлетворяться спортивной деятельностью. Труд как средство для повседневной добычи куска хлеба — в сущности, рабство, и просвещенное государство должно стремиться уничтожить его.
«Израиль и мир будущего», «ха-Машкиф», 9.5.1941.Приличия и этикет
«Преимущество человека перед скотом — вежливость».
Жаботинский и в этом был верным последователем Герцля: Герцль обратил внимание на то, что евреям катастрофически недостает культуры общения и поведения. И Герцль и Жаботинский считали, что это далеко не «мелочь» и не «частность». Во внешней культуре они видели необходимое условие возрождения нации. Жаботинский, по свидетельствам современников, был образцом соблюдения внешних приличий во всем: в одежде, в общении, в поведении, в быту. Он обращал особое внимание на культуру поведения, воспитание ее стало неотъемлемой частью образования бейтаровцев. Это было резким диссонансом повальной моде на расхлябанность, неаккуратность, царившие тогда почти повсеместно, и особенно среди молодых евреев:
Из всего неприглядного наследия гетто самое отвратительное — неуважение к внешней форме, к приличиям. Непричесанными, неаккуратными, просто грязными не стесняемся являться мы всему миру. Это у нас стало чуть ли не «доблестью».
И это проявляется во всем. Есть среди нашего народа элементы, настолько погруженные в свое «еврейство», что даже уважение к родному языку стало у них поводом для насмешек: «Что, мол, такое язык? Так, форма, оболочка»... Не многим лучше их те, кто «милостиво» соглашаются с необходимостью возрождения иврита, но не снисходят до изучения его правил, полагая, что «корова», написанная через «ять», все равно «корова». Зачем им правила грамматики? «Это же так, внешняя форма»... Они не замечают, что тем самым пытаются «отменить» единственно доступный человеку способ мыслить — логику. «Долой приличия, нам они не нужны!»... Мы должны бороться с этим. Отсутствие приличий — отличительный признак примитивных организмов. Цивилизация без приличий и этикета — нонсенс...
А ведь мы, если б не гетто, должны были бы унаследовать от наших предков истинно царскую вежливость, поскольку внешняя и внутренняя культура у нас в крови.
Теперь же мы стали притчей во языцех, примером бескультурья и неумения себя вести, и за это мы дорого расплачиваемся. Вам должно быть известно, что я менее, чем кто-либо другой, склонен искать причины антисемитизма в нас самих: антисемитизм для меня — производная галута как такового. Но проявления антисемитизма могли бы быть иными, если бы евреи не утратили своего великого наследия, если бы мы — наследники царственности Давида и мудрости Соломона — не вели себя как босяки.
«Хазит ха-ам», 5.7.1932.Настаивая на том, что требование опрятности и соблюдения правил поведения вовсе не прихоть, Жаботинский ссылался на пример армии:
Еще одно бесценное достоинство есть в воинской дисциплине, на которую мы все ворчим по привычке, хотя отлично сознаем, насколько недостает ее нам, евреям, недостает во всем. Достоинство это — этикет, церемония, четкая и ясная регламентация поведения человека. Умение вести беседу, проявление взаимного уважения, даже походка. Мы, евреи, страдаем неумением себя вести. В старом гетто были свои, весьма специфические, но все-таки правила поведения. А теперь и этого нет. А новых правил мы не выработали.
Средний еврей безвкусно и неаккуратно одет, а его походка, а как он ест, как разговаривает! Особенно ярко это неумение вести себя проявляется тогда, когда мы сталкиваемся с какой-либо иерархией, когда приходится беседовать с какой-либо важной «персоной». Еврей хотел бы выказать почтение, но не знает, как это сделать без того, чтобы унизить себя самого, а в результате он выглядит либо хамом, либо ведет себя как ничтожество, откровенно заискивает. Но это же неумение отражается и на более важных вещах, на самой духовной жизни нашего народа. Посмотрите, как ведет себя, как говорит магид[*] в синагоге: мудростью своей он превзошел всех нееврейских философов, но изложить свою идею, довести ее до логического завершения он неспособен. Он перескакивает с пятого на десятое, путается, но самое отвратительное, что именно это и нравится слушателям. Они утратили чувство логики, культуру беседы, они привыкли воспринимать лишь бессвязное обрывки фраз, забыли, что порядок и стройность абсолютно необходимы везде — в точности, как в армии.
«Путь милитаризма», «Хайнт», 25.11.1929; в сб. «На пути к государству».Молодые люди в Эрец Исраэль, особенно школьники, производят удручающее впечатление — они абсолютно не умеют вести себя, у них утрачено чувство «этикета». Мы должны заняться его воспитанием. Ибо этикет — это именно то, что отличает культуру от дикости. Учите этому молодых бейтаровцев, воспитывайте это в них. Учите их быть образцом приличия во всем — в самых банальных проявлениях быта. Учите их красиво и опрятно одеваться, аккуратно есть, красиво и правильно говорить — учите их себя вести.
Письмо руководству Бейтара в Эрец Исраэль. Иерусалим, 2.11.1928.Национальная самобытность
«Ощущение национальной самобытности — у человека в крови».
Жаботинский был «сионистом по природе». Сам он не нуждался в теоретизировании, «обосновывавшем» дело его жизни. Но как пропагандист своего дела он должен был разъяснять людям теории, бывшие в ходу, теоретически обосновывать собственные взгляды. Один из таких вопросов: откуда берется ощущение национального у евреев? (Этот вопрос не снят с «повестки дня» по сей день и особенно «заострился» в свете небывалого пробуждения национального самосознания у молодых евреев в Советской России).
Несколько лет тому назад я спросил себя: откуда берется в нас чувство национальной самобытности? Отчего нам так мил родной язык (тем из нас, конечно, у кого есть родной язык); отчего национальная мелодия, даже без слов, нас волнует особенным волнением? Где источник этой привязанности к своему национальному укладу, настолько сильной, что за нее люди готовы принять муку? — И первый пришедший мне в голову ответ был: источник ее — в воспитании каждого из нас. Уклад жизни, в котором мы воспитаны, дорог и близок нам на всю жизнь.— Но я вгляделся и понял ошибочность такого ответа; потому что, во-первых, я наблюдал людей, которые были воспитаны совершенно вне национального уклада, не видали в детстве ни одного седера, не сидели в куще в день праздника Сукот, не играли в орехи на Хануку, и вообще не унесли с собою из детских лет ни одного красивого образа национально-религиозной жизни, но зато запомнили много обидного, унизительного, отталкивающего; а у некоторых из этих людей еще и отцы были так же точно воспитаны; и тем не менее, когда пришло время, что-то встрепенуло этих людей, они оглянулись, затосковали по своей национальности и подошли к ней — познакомиться и породниться.
«Письмо об автономизме», «Еврейская жизнь», 1904.По мнению Жаботинского, воспитание само по себе не способно привить человеку ощущение национального. И поскольку это ощущение зачастую возникает помимо воспитания и даже вопреки ему, то напрашивается вывод, что дело в чем-то другом, в чем-то, что предшествует воспитанию:
Чувство национальной самобытности лежит «в крови» человека, в его физически-расовом типе, и только в нем. Мы не верим в то, что дух независим от тела: мы верим, что психика человека прежде всего обусловливается его физической структурой. Никакое воспитание — ни семья, ни среда — не сделает пылким и порывистым того, кому дан от природы спокойный темперамент, и наоборот. Психика народа еще более цельно и полно отражает его физический тип, чем психика отдельного человека. Народ вырабатывает свой самобытный психический уклад потому, что этот уклад один только соответствует его физически-расовому типу, и другой психики на почве этого типа и быть не могло. В смысле обычаев и обрядов, уклад жизни, конечно, меняется под влиянием времени; но ведь национальная самобытность не в обрядах и обычаях, и под «самобытным укладом» мы с вами понимаем, конечно, нечто более внутреннее: это «нечто» в разное время выражается в неодинаковых внешних проявлениях, сообразно эпохе и социальной среде,— но само по себе оно всегда одно и то же, покуда цел физически-расовый тип. Так, м. г., медный кларнет может звучать выше или ниже, верно или фальшиво, чисто или хрипло, может играть молитву или вальс, среди просторного зала или в тесной каморке — и все это меняет его звук; но всегда будет слышно вам, что это кларнет, а не валторна и не арфа, и вы не смешаете звуков его со звуками другого инструмента,— покуда цел, так сказать, его физически-расовый тип: покуда тело его, форма его есть тело и форма кларнета. Гните его, коверкайте, ломайте: он, быть может, совсем перестанет звучать, но и последний звук его, нечистый, пискливый, будет все-таки звуком кларнета, потому что кларнет не может давать других звуков, кроме звуков кларнета. И если вы хотите, чтобы он зазвучал как валторна или как литавры, то есть одно только средство: расплавьте его медь на огне и перелейте в форму валторны. Только тогда, получив тело валторны, он заговорит звуками валторны.
«Письмо об автономизме», «Еврейская жизнь», 1904.Поэтому Жаботинский не верил, что возможна полная ассимиляция. Специфически еврейское проявится в человеке, как бы он ни старался преодолеть его в себе. Опасность настоящей ассимиляции появляется лишь в случае смешанных браков. Только массовые смешанные браки смогут привести к «сглаживанию» национальной самобытности народа, ибо таким путем меняется его «генетический код». И этого невозможно будет избежать, если народ останется в галуте, даже если ему повсеместно будет дарована территориальная и культурная автономия. Лишь имея собственную территорию, на которой евреи будут большинством, они смогут сохранить свою национальную самобытность. Именно в этом причина вековой тяги евреев к обретению независимости. Через 30 лет после того, как была написана приведенная выше статья, Жаботинский разъяснял:
Я не марксист, но готов принять одно положение марксизма: формы и тенденции общественного быта зависят прежде всего от состояния орудий производства. Я только полагаю, что верховным «орудием производства», которое производит все другие орудия, является человеческая психика. Прежде, чем создать первое колесо или первый молоток, человек что-то обдумывал, задумывал, придумывал: все это он проделывал при помощи своего психического аппарата. Даже если все это, в первобытные времена, происходило вне сферы волевого сознания, «само собою»; даже если принять американскую теорию, согласно которой не только изобретение колеса, но и поэзия сводится к машинальному рефлексу желез и нервов — то и тогда верховным орудием всей человеческой жизнедеятельности остается тот механизм нервов и желез; и что я его по старому предпочитаю называть «психика», это сути дела не меняет.
Механизм «психики» у разных народов устроен по-разному. Почему это так, опять-таки для сути дела безразлично: может быть, психика зависит от «расы»; может быть от истории каждого народа; это для нас сейчас не существенно,— важно только то, что у разных этнических коллективов разная психика. Я при этом не настаиваю, что у всех коллективов она разная: может оказаться, что у финикян и ацтеков была почему-то совсем схожая психика. Но считаю несомненным, что есть на свете этнические коллективы, одаренные очень своеобразным психическим аппаратом; о таких люди говорят, что они по-своему мыслят, или по-своему воспринимают, или по-своему реагируют. И считаю несомненным, что одним из своеобразнейших в этом отношении является коллектив еврейский.
Из того, что верховным орудием жизнедеятельности является психика, и что психика эта у разных народов разная, вытекает простой вывод: каждому этническому коллективу удобнее жить в такой социальной атмосфере и обстановке, где каждая существенная мелочь им самим создана, по его собственному внутреннему «образу и подобию», или хоть им самим приспособлена к его собственному вкусу. Идеальное условие для этого называется своя земля, родственное население, собственная государственность. Тогда народ и создает ту самую обстановку или атмосферу, в которой ему всего удобнее жить (и даже страдать). Причем надо подчеркнуть вот что: главное в такой «национальной» обстановке и атмосфере не язык и не литература: главное, в чем сказываются национальные оттенки духа и темперамента — «психика» нации — есть государственный строй, и в особенности хозяйство. Нет места приводить здесь примеры, но это факт известный всем, кто когда-либо всматривался в жизнь: даже когда учреждения в разных странах одни и те же, то приемы и методы государственного, хозяйственного и бытового делопроизводства часто непохожи до того, что иностранцу (даже если он восхищен) они кажутся неудобными.
Еврейское государство, рукопись, 1936.Капитуляция перед насилием
«И поэтому редеют ряды бойцов, преданных всей душой справедливому делу».
Жаботинскому — настоящему гуманисту — было отвратительно любое насилие. Он неоднократно высказывал это свое отношение к насилию (см. ст. «Хамство», «Сдержанность и реакция», «Война» и др.), но он считал при этом, что смирение перед насилием, капитуляция перед ним позволяют насилию процветать. Эту идею он выразил в притче, отрывок из которой мы здесь приводим. В притче рассказывается о двух людях: первый прожил жизнь откровенным мерзавцем и предателем, второй был добрейшим человеком, неспособным обидеть и мухи; что бы ни происходило, какие бы несправедливости ни творились у него на глазах,— он не возражал и не сопротивлялся. И вот, пришло время им обоим предстать перед Высшим судом:
Долго молчал после того Всевышний и долго смотрел в кроткие и скорбные глаза старца, и многое таинственное было тогда написано во взоре Ад-ная.
И прозвучало затем слово Господа:
— Имя тебе — предатель.— Нет предателя хуже тебя на земле. Ибо о нем, о товарище твоем, что лежит рядом с тобою, и корчится, и воет неподобно человеку,— о нем говорят люди на земле: «О, то был дурной человек, и не должны быть подобными ему». И тем удаляются они от греха предательства.
«Но о тебе говорят люди на земле: „О, то был святой человек, и блажен тот, кто найдет в себе силы поступать всю жизнь подобно ему”».
«И оттого редеют ряды борцов Моих, готовых положить душу за правое дело, а в то же время злые, вспоминая тебя, говорят с усмешкой друг другу: „Безопасно для нас обижать этих людей, ибо не хотят они постоять за себя; пойдем же к ним, и возьмем их достояние, и повеселимся с их женщинами”».
«Так растет через тебя посев несчастия на земле; и вся жизнь твоя была предательством ближних, живших рядом с тобою, и внуков, которые придут после тебя. И потому говорю тебе: имя твое предатель!»
«Его, что предательствовал за деньги, не накажу муками: пусть идет, презрение Бога и людей да будет ему карой; но тебя, развратителя,— проклинаю!»
«Два предателя», Фельетон, «Хроника еврейской жизни», 10.11.1905.Приведенные ниже выдержки взяты также не из обычной публицистической статьи, а из фельетона. Он называется «Поколение реалистов», в нем рассказывается о разговоре трех молодых людей, услышанном Жаботинским в одном из парижских кафе. Молодые люди обсуждали намерение Японии оккупировать китайскую провинцию Маньчжурию (дело было в 1932 году). Один из собеседников высказался в том духе, что поведение Японии вполне оправданно. Затем собеседники перешли к обсуждению проблемы разоружения. Здесь благие намерения также не нашли пощады, а удостоились колкостей и насмешек. Взгляды, которых придерживались участники той беседы, были примерно такими: если у тебя есть что-то, чем ты не способен пользоваться и чего не можешь сохранить, то вполне разумно, чтобы это «что-то» отошло к другому — к тому, кому оно нужно и кто может его удержать. Дальше один из молодых людей договорился до восхвалений ЧК (гестапо тогда еще не было) и инквизиции. Жаботинскому оставалось лишь возмущенно пожать плечами.
Один из собеседников заметил реакцию Жаботинского и обратился к нему со словами: «Весьма сожалею, что нам пришлось разрушить слащавые иллюзии, которыми привыкли тешить себя люди вашего поколения. Вы абсолютно не способны понять нынешней молодежи. На самом деле «молодежь» — вы, а не мы. Мы принадлежим к повзрослевшему миру. Мы были свидетелями слишком многих проявлений насилия...».
Жаботинский напомнил, что и его поколение видело смолоду и погромы, и убийства, и бесправие. Это привело многих, и его в том числе, к выводу, что в этом мире надо уметь защищаться, «уметь стрелять» (см. ст. «Новая азбука»). «Но мы, несмотря на это, не сделали вывод, что кулак и охранка — лучшие средства ведения политических дел». В ответ представитель молодежи разразился следующей тирадой:
«Вы, ваше поколение, тешились иллюзией, что те мученики, которых беззаконно ссылают и гонят на каторгу, придут к власти и сделают этот мир лучше. Сегодня они у власти повсеместно. Все, кого во времена вашей молодости преследовали, ныне властвуют тут или там. Повсеместно осуществился идеал всеобщего избирательного права — и кого же выбирает народ? Гитлера. Или, к примеру, учредили Лигу Наций. Форум народов, обсуждающий мировые дела, открытый для критики свободной прессы. Вы, в дни вашей юности, услышав о таком, благословляли бы Создателя за то, что вы дожили до такого дня. Мы же видим, что из этого вышло — пустая болтовня и легализация права сильного. У вас была вера в людей, в идеи, которые тогда еще не осуществились на практике. Где наша вера, во что верить нам? Чем еще не злоупотребили, что не опошлили? Даже социализм, царящий в Советском Союзе, превратился в полицейское государство самого мрачного толка и породил невиданное доселе бесправие и угнетение людей. И так будет везде в скором времени. Чего же вы от нас хотите? Мы — испорченное поколение. Единственное, что мы видим с самого детства,— власть кулака. Возможно, в этом трагедия. Но невелика доблесть реагировать на трагедию словом «фу» и передергиванием плеч!»
«Поколение реалистов», «Хайнт», 19.2.1932.Жаботинский объяснил, что означает это «фу»:
Неправда, что вы испорченное поколение. Испорчены и прокляты времена, в которые вы живете. Но и в такие времена может вырасти благословенное поколение. Хороший солдат тот, кто умеет побеждать при самых невыгодных обстоятельствах, когда все восстает против. Но для этого нужно сильное поколение. А вы — слабы. Разница между сильным и слабым в том, что сильный умеет бороться за труднодостижимое, а слабый подбирает лишь то, что валяется у него под ногами. В этом ваша болезнь, и ей — мое «фу». Как угодно изощряйтесь, говорите о Японии или о Парагвае — смысл ваших речей не в уважении даже, а в страхе перед кулаком. Вы видите, что вам не по силам справиться с ним, вы сдаетесь и начинаете петь ему дифирамбы, называя кулак исторической неизбежностью, чуть ли не справедливостью. То, что происходит сегодня, вы принимаете за конец времен. Ничего, дескать, не поделаешь, мы испорченное поколение.
Жалкую крупицу, какие-то полтора десятка лет из многотысячелетнего опыта человечества вы возводите в абсолют. Вы полагаете, что последнее слово за злом, и — сдаетесь. Аплодируйте Ленину, Муссолини, даже Гитлеру, теоретизируйте, как хотите,— все ваши теории — страусиный страх перед силой.
И вы находите ей оправдание, благословляете ее на новые злодейства. Вы говорите: так, мол, и надо, можешь учредить «чрезвычайку» — валяй, можешь инквизицию — действуй, можешь преступать человеческие законы, собственные клятвы — преступай! Моим ответом на это может быть лишь презрительное междометие. Если вы действительно те, кем хотите казаться,— поденщики, которым ничего не надо, кроме сегодняшней миски похлебки, ищущие лишь места, где похлебка погуще,— тогда вы действительно испорченное поколение, тряпки, а не люди,— «фу»!
Там же.На вопрос молодого человека: «Так во что же верить, на что рассчитывать?» Жаботинский отвечал: а на что мог рассчитывать Герцль? На что рассчитывал он, восставая против всех, когда все, даже самые прогрессивные люди, попросту насмехались над его идеей еврейского государства? Герцля это не испугало. Жаботинский продолжал:
Рассчитывать ты должен только на себя. Не можешь — не достоин ты называться евреем, или гражданином, вообще — человеком. Если ты веришь во что-то — твоя вера единственно правильная, не может быть другой. И твоя вера — самая крепкая, самая могущественная держава на свете, могущественнее ее быть не может. И так же, как убежден ты, что ночь сменит рассвет, так же ты убежден, что вера твоя победит.
Там же.Либерализм
«Универсальная мечта человечества, сплетенная из милосердия, терпимости и веры в доброе начало человека».
Из всех «измов», потрясавших и волновавших мир в первые сорок лет двадцатого века, Жаботинский был наиболее увлечен «либерализмом», начавшимся еще в девятнадцатом веке. Эта приверженность, по свидетельству самого Жаботинского, сформировалась в период его политического созревания, в Италии:
В те дни, на пороге двадцатого века, Италия была приятным государством. Если бы мне понадобилось одним словом определить единую основу для всех течений политической мысли, соперничавших за популярность среди общественности, я бы выбрал устаревший термин, вызывавший тогда насмешку, а сейчас — презрение и отвращение молодежи Италии и всего мира: либерализм. Это широкое понятие, несколько туманное из-за своей многогранности: стремление к установлению порядка и справедливости без насилия, универсальная мечта человечества, сплетенная из милосердия, терпимости и веры в доброе начало человека. Тогда в общей атмосфере еще не ощущался столь явно, но уже появился первый признак культа «дисциплины», вылившийся впоследствии в фашизм.
Оригинал написан на иврите; в сб. «Автобиография».Жаботинский не пытался отрицать, что с усилением социалистических тенденций (влиянию которых он также был подвержен в период учебы в Италии) идея либерализма частично утратила свою популярность и ее «буржуазные» аспекты служили объектом критики и насмешек. Но при всей симпатии к революционной стихии, охватившей Россию в начале двадцатого века, Жаботинский не поддался модному тогда толкованию понятий либерализма и буржуазии как исключительно отрицательных:
Не надо только спекулировать словом буржуа, пользуясь его двояким значением, особенно по-русски. По-русски слово «буржуа» сейчас приводит на ум другое — «буржуй», и люди легкомысленные или недобросовестные часто пользуются этим созвучием для «херема» над инакомыслящими. Надо всегда помнить, что «буржуй» (у Горького «мещанин») есть понятие бытовое, а «буржуа» политическое, и одно с другим ничем извнутри не связано. Буржуа может не быть буржуем, и буржуй может не принадлежать ни даже краем уха к буржуазии. Загляните в дом к иному немецкому рабочему, избирателю Бебеля, и филистерски размеренный строй его семейного быта подчас заставит вас подумать: о, какой это в конце концов буржуй! А между тем, он не только не буржуа, но даже совсем напротив. В то же время Линкольн, Парнелль, Гладстон, Маццини, Кавалотти — все это несомненные буржуа, носители классически-буржуазных идеологий, но их имена вечно будут окружены уважением потомков. Герцлю принадлежит одно из первых мест в этом блестящем ряду великих людей третьего сословия. Из того, что мы с вами предвидим наступление момента, когда это сословие уступит господство другому, более многочисленному общественному слою, далеко еще не следует, что мы вправе забыть о передовой роли, которую сыграла буржуазия в мировой истории, и которую с таким беспристрастием подчеркивал сам основатель пролетарского мировоззрения. И было бы очень наивно думать, что эта роль уже сыграна до конца, и что классическому «либерализму» нечего уже больше делать на земле. Я полагаю, напротив, что нет еще на свете страны, где лучшие заветы классического либерализма были бы осуществлены во всем полном объеме; и даже смею верить, что не только в 1923-м году, но и в 1950-м добрых три четверти тогдашнего культурного мира будут все еще только вздыхать и мечтать о полном осуществлении настоящего буржуазного либерализма.
«Доктор Герцль», 1905; в сб. «Первые сионистские труды».Эта увлеченность либерализмом сопровождала Жаботинского на протяжении всей его жизни. В его сознании жила надежда на то, что, невзирая на все общественные бури, которые обрушились на человечество в период между двумя мировыми войнами, наступит час либерализма — в эпоху успокоения и отрезвления:
«Старик» обанкротился со всех точек зрения: запахом гнили отдает от всеобщего права голоса, парламентов, от его возвышенных принципов, его Десяти Заповедей; разбиты сами Скрижали Завета, и даже те, кто озарен светом порядочности, даже они, покачивая головой, перешептываются: мир праху его. Старики перешептываются, а молодежь говорит громко: он испустил дух.
Так ли это? Умер ли он? — Еще увидим... через пять лет... увидим, похоронен ли «старик»-либерализм и его ошибки в отношении свободы, равенства и народного волеизъявления...
И если я утверждаю, что через пять лет не будет и в помине нынешних модных увлечений, захвативших души стариков и молодежи, то это не потому, что мне не нравится превозносимая ныне общественная система. Я могу гарантировать, что она исчезнет, так как — безрассудна, а предлагаемые «стариком»-либерализмом основы общественного и государственного устройства — лучше и практичнее.
По правде говоря, «рецепты» мои взяты из кулинарии, а не из аптеки, и предназначены они для нормальных времен, а не на период болезни. Случается иногда, что человек заболевает, и тогда он нуждается в горьких целебных зельях и, возможно, даже в операции. Но больничный режим нельзя превращать в постоянный образ жизни. Больничный режим включает в себя уколы, перевязки и изнурительные диеты, в то время как образ жизни здорового человека предполагает свободу в выборе пищи и места пребывания. Факт, что три четверти мира находятся сейчас на больничном режиме — обоснованно или нет; возможно, это необходимо для некоторых, а для других — нет; и терапия, и хирургия, применяемая к ним руководителями лечебниц, возможно — правильная, возможно — ошибочная; я не компетентен в этой сфере. Но одно я понимаю: восторженные наблюдатели (молодые, старые, компетентные, невежественные), толпящиеся под окнами лечебниц, аплодирующие и скандирующие: «Да здравствуют хлороформ, уколы, касторка и смирительные рубашки!» — это не что иное, как масса зевак. Я знаю, что через пять лет все народы освободятся из «лечебниц». Иногда после вредного режима на долгое время устанавливается прочный политический режим. Но мода, восторг от политического хлороформа и общественно-социальных смирительных рубашек? Старик-либерализм еще попляшет на их похоронах, и его «погребальщики» будут плясать вместе с ним.
«Старик-либерализм», «Хайнт», 14.10.1932.Насколько велика была вера Жаботинского в либерализм, даже, а возможно, именно в период разгула фашистских настроений в Европе накануне Второй мировой войны, мы можем судить по его письму, классифицированному как «частное», господину Бартлету — лидеру британской либеральной партии:
Возможно, что в ближайшее время я и мои друзья обратимся к Вам по делам, касающимся Страны Израиля. Но данное письмо — личное, и цель его — иная.
Заинтересованы ли Вы в возрождении либерализма, старой веры, бывшей в моде в девятнадцатом веке? Я ощущаю, что его час приближается: я убежден, что приблизительно через пять лет восторженные массы молодежи поддержат либерализм и его тезисы будут произноситься во всем мире с тем же восторгом, с каким пять лет назад — лозунги коммунизма, а сегодня — фашизма. Однако его влияние будет гораздо более глубоким, так как либеральность коренится в самой природе человеческой, в отличие от казарменных теорий.
Если Вы заинтересованы сами или знаете о чьих-то попытках действовать в направлении возрождения и реализации либерализма, я бы хотел оказать свою помощь.
Я понимаю, что некоторые евреи, отвергающие мою концепцию сионизма, подозревают меня в профашистском настрое. Я — полная противоположность этому; инстинктивно я ненавижу любую разновидность полицейского режима «полицай-штат». Я подвергаю сомнению значение дисциплины, силы, наказания и т. д.— вплоть до планового (направляемого сверху) хозяйства.
Нет надобности уточнять, что, говоря о либерализме, я имею в виду не определенную британскую партию, а философское течение, бывшее достоянием людей многих партий в различных странах, течение, придавшее девятнадцатому веку его величие. Буду рад услышать Ваше мнение по этому поводу.
Письмо на англ. яз., 9.12.1938.Борьба
«Надо бороться. Возможно, и не победишь. Но сдаваться — нельзя».
Одним из новшеств, привнесенных Жаботинским на еврейскую улицу, была идея борьбы — бескомпромиссной борьбы до победы. Политическая борьба многолика. «Политическое давление», «политическое маневрирование» — об этом здесь уже говорилось. В этой статье мы приводим высказывания Жаботинского о политическом капитулянтстве, об «умеренности» и о бесперспективности такой политики.
Жаботинский, будучи непревзойденным мастером слова, не верил в силу слов, не подкрепленных делом. В приводимом ниже фельетоне он высмеивал систему взглядов, которую называл «системой Керенского»:
Керенский был адвокатом. Прекрасная и полезная профессия, пока она находит применение меж четырех стен зала суда. Там вдоволь простора для специфической психологии, свойственной каждому адвокату: для безграничной веры в силу слов, во власть довода, в царство формальной логики. Адвокат стремится доказать, и, если он привел неопровержимые доводы в пользу своей правоты, значит — победил. Но когда эта психология выносится из зала суда и привносится в политику, в особенности в критические времена,— тогда хоронят государство. Потому что политическая машина управляется не по законам формальной логики. Доводы не действуют на толпу...
Керенский не понял этой разницы. Он поднялся до вершин власти во время великих бурь и потрясений. Он стоял на берегу бурного моря и пытался увещевать бушующие волны, приводя им блистательные и неопровержимые доводы. Он разъяснил волнам, что спокойствие и порядок — это хорошо, а бунт и волнения — это очень плохо. Он доказал, что в культурном обществе следует разрешать все вопросы переговорами, а не кулаками. И сам был примером — он поступал в точности так, как этого требовал от других. Нарушителей спокойствия он призывал к порядку не силой мускулов, но силой доводов.
За месяц до падения Керенского один петроградский сатирический листок напечатал такую юмореску: на Невском — главной магистрали города, где беспрерывно носятся туда-сюда трамваи и пролетки, в один прекрасный день появляется господин. Господин несет в руках стул. Он водружает сей стул прямо между рельсами, усаживается на него и, скрестив руки на груди, погружается в ожидание. Подходит трамвай и тормозит перед господином, сидящим на стуле. Вагоновожатый орет: «Убирайся! Не мешай движению!». Господин ответствует: «Не пропущу». Собралась толпа. Выстроилась очередь из десятка трамваев. Господин сидит себе и говорит: «Не пущу». Послали к Керенскому. Керенский послал личного секретаря к месту происшествия с тем, чтобы тот разъяснил господину неблаговидность его поведения, ибо свобода трамвайного движения есть одна из основ всеобщей свободы. Злоумышленник выслушал и заявил: «Не пущу». Керенский, узнав про сие, распорядился, чтобы назавтра было бы о том пропечатано во всех столичных газетах, что и было исполнено. Однако ж злоумышленник заявил: «Не пущу». Керенский созвал чрезвычайное заседание Думы. Судили и рядили всю ночь и, в конце концов, приняли предложение Керенского: построить параллельный трамвайный путь. Пригласили экспертов и принялись за дело. В то самое время оказался в Петрограде некий мужик из глубинки. Увидел он, что перекапывают улицу, и спросил: «А зачем?». Рассказали ему эту историю. Спросил мужик: «А где сейчас тот?». Говорят ему: «А вот он — сидит». Подошел мужик к злоумышленнику и спрашивает: «Не пущаешь?». А тот: «Не пущу». Дунул-плюнул мужик в кулак, размахнулся и... что-то хрустнуло, брякнуло, и не стало на рельсах ни злоумышленника, ни стула. Не сохранишь порядка по системе Керенского.
«Система Керенского», «ха-Арец», 25.3.1920.По поводу же складывания оружия без борьбы Жаботинский предупреждал:
И надо здесь напомнить об ошибке, которой всегда грешили мы и которая причинила нам вреда больше, чем сами бедствия, обрушивавшиеся на нас со всех сторон. Смысл той ошибки в трех словах: протестовали — не вышло — сдались. Надо протестовать и бороться. Возможно, и не победишь. Но сдаваться — нельзя. Ибо победа правительства — не прецедент. Силовые приемы вообще не создают прецедента. А вот подчинение, капитуляция перед насилием создают и моральный и юридический прецедент, в особенности если они сопровождались не только пассивным непротивлением, но и какими-либо действиями.
Если меня избрали мэром города, а власти прогнали меня силой — ничего не поделаешь, и отсюда ничего не вытекает. Но если меня назначили мэром и я, хоть и протестуя, начал исполнять злую волю властей — тем самым я освящаю насилие, создаю юридический и моральный прецедент. И это касается не только высокого поста наместника верховной власти. Любая аморальная обязанность, возлагаемая на гражданина помимо его воли и невзирая на его протесты, аморальна вдвойне, если гражданин выполнит ее. Ибо тем самым он дает свою санкцию насилию...
Если ты против свадьбы — не пляши на ней.
«Что хотят, то и делают» (оригинал на иврите), «Доар ха-йом», 17.3.1920.Другое проявление слабости, рядящееся зачастую под «политическую зрелость»,— это «умеренность»:
Давайте же предостережем друг друга от одной опасной иллюзии. У нас любят играть фразочками вроде: «Умеренность свойственна истинному политику» и произносить глубоким басом, подобно ребенку, желающему казаться взрослым: «Не надо торопиться — ведь Англия не торопится». Разумеется, ведь Англия может себе это позволить. Она не занята сейчас поселенчеством. А когда и занималась им, то перед ней были необъятные просторы Америки или Австралии и ситуация была тогда совершенно иной. У нас же настоящая гонка с арабами — кто быстрее будет плодиться в Эрец Исраэль, «чья возьмет», у кого будет большинство в ближайшем будущем. Пока арабская «лошадка» сильно опережает нашу, а ее «резвость» нам продемонстрировали на примере Египта (в 1864 году — 4,5 миллиона жителей; в 1882—6,8 миллиона; в 1907 — 11,3 миллиона: сегодня — в 1927 году — почти 14 миллионов). В таком соревновании не победить средствами «сдержанности, присущей политику». Твой темп определяется темпом соперника. Суть искусства политики не в «быстроте» или «замедленности» движения. Суть этого искусства в умении выбрать скорость, нужную для достижения данной цели.
«Конгресс», «Морген-журнал», 6.9.1927.И еще по тому же поводу:
Долгое время у нас в моде была политическая сдержанность. Долгое время, но, слава Богу, не вечно. Времена Герцля уж, конечно, не были временами осторожничания и полумер. То же и во время Мировой войны. Но последние десять лет были именно такими. В последние десять лет сионистские деятели (как «общие», так и определяющие политику «на местах») как будто сговорились быть «политиками», т. е. с присущей политикам умеренностью топтаться на месте.
Но мне кажется, что наконец эта мода начинает проходить. Что приверженцы политики уравновешенной, сдержанной, тихой, солидной, изощренной, постепенной, зрелой, расчетливой (к моему сожалению, я позабыл все приличествующие эпитеты) начинают понимать, что такого рода политика — не помощник в критической ситуации, в момент смертельной опасности. Они испытали и словом и делом все мыслимые сорта «рыбьего жира» для спасения евреев и потерпели полное фиаско. Теперь они начинают удивлять мир решительными заявлениями: чтобы спасти евреев как в диаспоре, так и в самой Эрец Исраэль, нужны решительные шаги, героические усилия, крайние меры, борьба с установившимися в мире порядками и царящими в нем умонастроениями.
Согласен. Когда я говорю «согласен», это не означает, что у меня есть уверенность в том, что авторы полных решимости планов завтра, когда придет время применить их на практике, не откажутся от них. Вероятно, весьма вероятно. Но дело не в этом. Главное — осознать, что «умеренность» и «политиканство» всех мастей подходят еврейской политике, как корове седло.
Еврейская проблема — сплошной парадокс, ее разрешение — нестандартно, пути ее разрешения — революционны.
«Героическая умеренность», «Морген-журнал», 1934.Фонетика иврита
«Как пианист или скрипач работают над сонатой, которую намерены публично исполнить, так каждый должен трудиться над своим произношением».
Видя в возрождении еврейского народа и его языка не только историческую и политическую необходимость, но и дело, исполненное совершенства и красоты, Жаботинский был, пожалуй, единственным лидером сионистского движения, уделявшим внимание не только распространению иврита, но и «правильности» его произношения, его благозвучию. Он даже составил упражнения в устной речи для актеров театра «Габима». Неоднократно приходилось ему сталкиваться с тем, что даже в среде еврейской интеллигенции фонетика, благозвучие разговорной речи почитались делом неважным и даже ненужным:
Для еврея язык — прежде всего письменность. Он воспринимает его сначала глазами, а уж потом ухом. Он очень ценит грамматику, стилистику; произношение для него — дело второстепенное. По этой причине у нас есть поэты, давным-давно живущие в Стране, говорящие на иврите с сефардским произношением, но стихи свои пишущие с ашкеназскими ударениями[*]. И ритм и рифму они до сих пор воспринимают лишь зрительно, стихи для них — это то, что читают, а не декламируют. Они просто пренебрегают правильностью произношения. Директор банка в Тель-Авиве говорил мне как-то: «Когда ко мне приходит клиент и демонстрирует «ашкеназские прелести» своего иврита, я знаю, что нельзя давать ему ссуду — он бездельник».
«Заменгофф и Бен-Йегуда», «Морген-журнал», 9.10.1927.Что же это такое — «правильное ивритское произношение»? Этой теме Жаботинский посвятил брошюру, вышедшую в 1930 году. В ней он собрал правила ивритской фонетики. Мы приводим здесь выдержки из предисловия к этой брошюре:
Сейчас уже невозможно восстановить древнее ивритское произношение. Но очевидно одно — произношение наших предков отличалось четкостью и ясностью. Они не «проглатывали» звуков или слогов, четко произносили звуки, не смешивали их. Короче, им была неизвестна неряшливость речи, царящая ныне у евреев. Достаточно взглянуть на любую еврейскую книгу, снабженную полной огласовкой[*]. Наши мудрецы, огласовывая священные тексты, еще обладали знаниями об истинном произношении живого иврита. В те времена эта традиция еще не умерла окончательно. Если они в чем-то и ошиблись, так это не от неряшливости, а потому, что к тому времени стерлись различия между какими-то оттенками в произношении, возможно, какие-то гласные поменялись местами еще во времена Давида и Соломона. И сами недостатки принятой системы огласовки вытекают не из лишней педантичности, а наоборот, из ее простоты. Но посмотрите, какое богатство оттенков звучания! Для звука «а» есть три разных способа произношения, три разных значка огласовки; для «о» — четыре; четыре — для «е»; два — для «у»; два — для «и». Тончайшее чувство слуха выражается в этом богатстве. Наши предки говорили на языке, обладавшем богатейшей звуковой гаммой, для них были важны малейшие оттенки звучания. Можно сказать, они наслаждались своим произношением. Обидно терять такое богатство, разменивать его на убогость и серость речи, царящие у нас на улице, в школе, на театральных подмостках.
Язык — это душа нации. И как пианист или скрипач работают над сонатой, которую намерены публично исполнить, так каждый должен трудиться над своим произношением.
Откуда же нам взять правила нашего произношения, где источник его совершенствования?
Инстинктивно каждый из нас стремится приблизить «свой» иврит к языку, знакомому ему с детства: идишу, испанскому, русскому, немецкому, польскому, арабскому, английскому. Очевидно, что это не подход. Напротив, мы должны стремиться избавиться от всяческих «акцентов».
Некоторые специалисты полагают, что наше произношение следует максимально приблизить к арабскому. Полагаю, это будет ошибкой. Иврит, как и арабский,— семитский язык, но это не значит, что наши предки говорили «с арабским акцентом». Французский и итальянский — тоже родственные языки, но их произношения сильно разнятся. Есть звуки в итальянском, неизвестные французскому языку, и наоборот. Одни и те же звуки, например «r», произносятся совершенно по-разному. Русский и польский также очень близки, но ничто так не режет слух русского, как русская речь с польским акцентом, и, разумеется, наоборот. Сходство корней и грамматики вовсе не свидетельствует о фонетической близости. Ибо фонетика не зависит от строения языка, она зависит от «музыкальных вкусов» данного народа, от того, что приятно и что неприятно его уху.
Во времена расцвета нашего древнего языка наш народ практически не имел никаких контактов с арабским народом. В Библии слово «арабский» едва ли встретишь. Язык араба развивался в природных и климатических условиях, совершенно отличных от условий Эрец Исраэль. Посреди огромных просторов, а не в тесноте крохотной страны, на равнине, а не в горах, в пустыне, а не среди садов и лесов, которыми была так богата наша земля, в зной, а не в прохладном Иерусалиме, в уединении, а не на перекрестке всех дорог из Египта в Ассирию. Да и расы у нас разные. К моменту прихода евреев в Эрец Исраэль она была полна другими народами, самыми различными расами. Были там и пришельцы с Севера, и выходцы из Африки — отовсюду. К концу эпохи Царей мы не встречаем уже упоминаний об этих народах. Это значит, что они были полностью поглощены Иудеей и Израилем[*]. Так окончательно сформировалась еврейская раса как средиземноморский народ, к которому примешаны отдельные черты северян и жителей Запада...
То, что я намерен предложить в этой брошюре, вытекает из соображений, изложенных выше. Я не утверждаю, что предлагаю «правильное» произношение. Никто не знает и никогда уже не узнает, какое произношение «правильно» в смысле его сходства с древним. В конце концов мы вынуждены создавать произношение, и каждый волен предлагать что-то, что соответствует его вкусам. Время решит, соответствуют ли его «вкусы» вкусу народному. Оратор, учитель, чтец может предложить лишь что-то свое и сказать: «Вот мое произношение, нравится — принимайте, нет — предлагайте свою систему правил, но — систему»!
Без всякого стыда признаюсь, что «вкусы», положенные в основу предлагаемой здесь системы,— вкусы европейские, а не «восточные». Читатель легко убедится, что в моей «системе» есть выраженная тенденция избавиться от звуков, чуждых европейскому горлу и европейскому уху, стремление максимально приблизить фонетику нашего языка к европейским «стандартам», к европейскому пониманию «благозвучности». К тому понятию благозвучности, к тому «камертону», согласно которому итальянский, к примеру, считается красивым, а китайский — не очень. Я основывался на том, что мы, в большинстве своем, европейцы и наш музыкальный вкус — вкус Рубинштейна, Мендельсона, Бизе. Но я убежден, что и объективно (обоснования я привел выше) то, что я предлагаю, ближе к «правильному» произношению наших предков, нежели гортанное «арабское» произношение. И тем более ближе, чем неряшливое произношение, без системы, без мысли, без намека на красоту, которым мы испортили наш разговорный язык, унизили его — этот один из самых стройных, могучих языков мира, довели его до уровня безобразного шума.
«Фонетика иврита», Тель-Авив, 1930.И через десять лет, в самом конце своей жизни, во времена страшных потрясений Жаботинский все-таки нашел время обратить внимание своих соплеменников на необходимость уважать свой язык:
Можно предположить существование трех разных подходов к проблеме:
а) этот язык режет нам слух, его необходимо исправить;
б) это нам нравится, пусть так и будет;
в) «научный подход»: это естественный процесс; иврит приноравливается к запросам масс — неважно, режет это вам слух или нет,— вмешиваться бессмысленно, мы должны будем принять вещи такими, какими они будут.
Подходы «а» и «б» — дело музыкального вкуса. Но третий подход — дело глупости и полного непонимания.
Нужна особая осторожность в обращении с понятием «естественный процесс». Если мы «естественность» возведем в принцип, то нам следует перестать бриться и стричь ногти. Такому «принципу» нет места в культурном обществе. Весь смысл культуры именно в обуздании некоторых «естественных процессов», подчинении их разуму. Это вообще. В частности же, этот «принцип» особенно вреден сионизму. С первого дня существования галута «естественным процессом» было растворение евреев среди других народов. Вся наша история двух последних тысячелетий — это священная война с «естественными процессами». Апофеоз этой войны — дело сионизма, ведь одна только попытка перемещения городских жителей в сельские поселения была абсолютно противоестественна, в то время как естественный процесс во всем мире — урбанизация.
Но возрождение нашего языка — это уж вершина «противоестественности». История возрождения иврита просто анекдотична. Грелись себе на солнышке на крыше где-то в городе Париже два молодых бездельника — Бен-Йегуда (благословенна его память!) и Грозовский (да продлятся дни его!) и решили сделать иврит разговорным языком. На минутку обратили внимание на фонетические проблемы и постановили, что произношение будет сефардским. И стало так.
Сколько раз слышал я во дни своей юности от весьма ученых мужей, что так делать нельзя. Они (сии мужи) утверждали, что нельзя «сделать» язык по собственному хотению, что язык развивается по своим естественным законам и т.д. и т.п. И, разумеется, научная истина была на их стороне, в подтверждение каждого своего слова они приводили цитату из какого-либо непререкаемого авторитета, а мы, юнцы, просто не находили что ответить. А отвечать-то надо было так: анекдот, выражающий могучую волю человека,— это сила. А сила, объективная реальность, не опирающаяся на могучую волю людей,— это анекдот.
Иврит возродился не по велению объективных причин, а по воле конкретных людей. И как Бен-Йегуда и Грозовский могли взять и раз и навсегда установить, какое у нас будет произношение — сефардское или ашкеназское, так и мы властны вводить в разговорную речь новые слова и «изгонять» из нее какие-то слова и обороты, улучшать наше произношение или портить его, давать ему восточные оттенки или западные. Это наша общая беда, касающаяся не только языка. Мы слишком легкомысленно относимся к тому, что мы называем «историей».
«На лингвистические темы», «ха-Машкиф», 26.4.1940.Забота Жаботинского об уточнении и улучшении фонетики иврита интересна и с точки зрения использования в иврите латинского написания. Жаботинский нашел собственную систему такого написания и использовал ее в переписке на иврите.
Тоталитарное государство
«Почти в любом столкновении интересов личности с дисциплиной и подчинением я — на стороне личности».
Одним из излюбленных ярлыков всех противников Жаботинского, который они неустанно пытались наклеить на него и на его сторонников, был ярлык «фашисты». Так называть приверженцев полицейского, тоталитарного государства было весьма популярно в Европе в период между мировыми войнами. Даже рав Стефан Вайз, отнюдь не принадлежавший к числу заклятых врагов Жаботинского, заявил однажды: «Для ревизионистов, как и для фашистов, государство — это все, личность — ничто». Прочтя это, Жаботинский нарушил свой обычай не отвечать на ругань, которой его осыпали со всех сторон:
Где вы это вычитали, где услыхали, в какой из наших статей, в чьем выступлении? Как и абсолютному большинству моих товарищей, так и мне свойственна просто слепая ненависть к идее «государство — это все». И равно чужды нам и коммунизм и фашизм. Мы верим только в парламентаризм в самом «старомодном» его понимании, в парламентаризм, который зачастую так неудобен и «неповоротлив». Мы верим в свободу слова и организаций, и почти в любом столкновении интересов личности с дисциплиной и подчинением я — на стороне личности...
Что мы действительно провозглашали и провозглашаем, так это то, что стремление построить еврейское государство обязывает всех, кто признает это стремление, подчинить на время ему свои личные, групповые и классовые интересы. И Гарибальди полагал, что возрождение итальянской государственности стоит многих жертв, и Линкольн был готов пожертвовать многим ради единства Соединенных Штатов, но это не означает вовсе, что Гарибальди или Линкольн имели в виду такую Италию или Америку, где личность была бы ничем, а государство — всем.
«Повозка клейзмеров», «ха-Ярден», 8.4.1935; в сб. «На пути к государству».Каким было отношение Жаботинского к полицейскому государству, к тоталитаризму, видно из многих глав этой книги («Индивидуализм», «Дети Царей», «Либерализм» и др.). Здесь мы приводим две выдержки из статьи, где он обрушивается на саму «идею» полицейского государства:
«Дисциплину» 19-й век принимал и ценил только для особых надобностей, в моменты исключительные, «военные», когда общество и народ стоят пред особенным испытанием, и нужно его преодолеть тут же, и сейчас же, иными словами, как горькое лекарство: во благо временным полезно, но на каждый день непереносно. Дисциплина в виде постоянной и всепроникающей атмосферы общественного и государственного быта, как это сплошь и рядом проповедуется теперь людям 19-го века, не могла бы и в кошмаре присниться. Они вообще принимали государственность только с большими оговорками. Государственная власть должна быть как перила на лестнице — если споткнешься, можно опереться, и поэтому перила обязательно нужны; но костылей для каждого шага и каждой ступеньки не нужно. Городовой полезен и хорош у себя на углу, или когда он появляется в ответ на тревожный вызов: больше нигде, не чаще и не иначе. Государственный идеал 19-го века можно определить так: «минимальное» государство, или может быть, еще резче — умеренная анархия, или по крайней мере «а-кратия». Не знаю, было ли слово «тоталитарное государство» в 19-м веке; я, во всяком случае, никогда в молодости не слыхал ни этого имени, ни всей этой проповеди. Человек 19-го столетия, вероятно, ничего более отталкивающего даже и вообразить бы не мог, чем этот запах правительственного руководства в каждом углу, словно в квартире, где у кухарки подгорела баранина, эту идею дремучей и невылазной сверхполицейской государственности.
«Бунт стариков», 1934 г. «Современные записки».Революция и классовый строй
«Звания «революция» заслуживают лишь восстания освободительного характера».
Сегодня, как и во времена Жаботинского, тот, кто ратует за насилие в политической жизни, с гордостью называет себя революционером. Понятие «революционный» можно толковать очень широко — кровавые режимы в арабских странах тоже считают себя революционными. Жаботинский указывал на абсурдность этого явления:
Слово «революция» включает два понятия — формальное и идеологическое. В первом значении «революция» — это любая перемена в государственном устройстве, производимая насильственным путем при участии большого количества людей. Если, например, в Афганистане некий правитель сверг другого и занял его место и переворот сопровождался обильным кровопролитием, но режим практически не изменился — это тоже называют революцией. Но именно этого нельзя делать — как сказано: «Не произноси имени Моего всуе». Значение понятия «революция» определяется его идеологической стороной. Недостаточно «восстания» и его победы. Звания «революция» заслуживают лишь восстания освободительного характера, и нет «освобождения» без свободы слова, свободы объединения, свободы для каждого индивидуума избирать профессию и место жительства. Нет «освобождения» без права каждого гражданина влиять на режим, свергать его и устанавливать другой. Нет «освобождения» без равенства для всех граждан, вне зависимости от расовой, религиозной, классовой принадлежности. Таков и только таков идеологический смысл понятия «революция».
«Общественный класс» (оригинал на иврите), журнал «Бейтар», февраль 1933; в сб. «Нация и общество».Режим классовой дискриминации, при котором один класс возвышает себя за счет гибели другого, не заслуживает, разумеется, звания «революция». Жаботинский объяснил, что такой режим — законное детище реакции:
Принцип классового различия естественно и нерасторжимо связан с реакцией и жизнеспособен лишь в ее условиях. Нелепо заявлять, что правители Советской России жестоки, кровожадны и наслаждаются репрессиями и казнями. Это — ложь и глупость: большинство из них — потомки русской интеллигенции, у которой любой вид пытки, насилия вызывал омерзение. С молоком матери они впитали отвращение к угнетению и по сей день ненавидят его всеми фибрами своей души. Если бы существовала возможность сохранить классовый строй без тюрем и убийств, они радовались бы не меньше простых граждан. Однако это невозможно, хотите вы этого или нет — невозможно. Нет иной формы для классового режима. Он может опираться исключительно на реакцию; все, что не является реакцией, становится смертоносным ядом для классового строя. Гражданское равенство? Это противоречит самому принципу классового различия. Свобода выражения? Но ведь большинство против этого, ибо класс — всегда меньшинство и никогда не будет большинством (за исключением класса пролетариата, чья основная деятельность изо дня в день все больше и больше вытесняется машиной). Свобода собраний? Но ведь ее смысл в сплочении гражданского большинства против правящего класса. Это невозможно. Насилие, угнетение — все средства реакции здесь — не случайность, не ошибка; это — не садистские извращения группы живодеров. Они — квинтэссенция, животворная сила классовой идеи. И не может классовый строй существовать, даже в обители ангелов, не опираясь на реакцию, из которой он черпает свои силы.
Там же.Неудивительно поэтому то отвращение, с которым Жаботинский относился к классовой идее:
С субъективной точки зрения, я, разумеется, ненавижу саму классовую идею. Когда-то я уважал красный флаг, веря, что он символизирует равенство. Но в тот момент, когда нам объяснили, что его смысл — не что иное, как гегемония одной группы над всем остальным человечеством, он для меня — табу, так же, как и свастика, у которой, в моих глазах, тот же смысл — только в расовой, а не в общественно-социальной интерпретации.
«Царство Кодинка», «Хайнт», 13.10.1930; «Доар ха-йом», 23.10.1930.Жаботинский не принимал идею избранности какого-либо класса. Однако тогда как все другие общественные прослойки стыдились заявлять о своей привилегированности, пророки «пролетариата» возвели его чуть ли не в святые:
Понятно, все классы — не один рабочий — эгоистичны, когда дело доходит до их классовых интересов, но у других эгоистических классов не делают из эгоизма святыни. Когда буржуазия действует эгоистически, она этого стыдится: современный мир полон буржуев, которые «каются» и при всяком удобном и неудобном случае извиняются за свое, простите, буржуазное происхождение, «сочувствуют социализму» и дают деньги на издание пролетарских газет. Это означает, что они, по меньшей мере, не делают знамени из своего эгоизма. Пролетарское движение сделало классовый эгоизм святыней; сделало его предметом гордости. Оно попирает ногами вещи, связанные с общечеловеческими идеалами, и делает это совершенно открыто; требует закрытия Америки для иммиграции, закрытия Англии для голодающих иностранцев, недопущения негров в столяры или механики... И не стыдится этого, а прокламирует, что именно так и должно быть, что классовый эгоизм важнее человечности.
Мир всегда был миром хищных зверей; но прогресс в том и заключается, что этих зверей приучали стыдиться необузданного эгоизма. Главную роль в этом сыграли наши пророки. Они научили человечество стыдиться всех видов эгоизма, как индивидуального, так и коллективного. Не скажу, что это многим помогло; но все же это подействовало, и была надежда, что прогресс и дальше пойдет в этом направлении, покуда мир в один прекрасный день не станет таким, что в нем не будет противно жить; но вот внезапно возникло целое движение, провозглашающее, что классовый эгоизм одной части человечества более священен, чем понятие общечеловечности.
«Класс и человечность», «Рассвет», 1930.Пишу слово «левые» в кавычках тоже не для иронии, а скорее — с моей точки зрения — сочувственно. Сионистские рабочие партии усердно пользуются социалистической фразеологией; несомненно, и верят в нее вполне искренно. Но по существу, по всей деятельности, они не социалисты и вообще не левые. Устройство фаланстер, городских или сельских, титуловалось «социализмом» только во дни Фурье. Маркс в свое время жестоко издевался над этим смешением понятий. Социализмом в наше время называется стремление национализировать уже созданное хозяйство: средствами являются борьба, давление, революция. Для создания коммуновидных островков среди буржуазного или просто патриархального моря нужны другие средства, резко непохожие на борьбу, давление и революцию. Главное из этих средств — деньги, которых у рабочих нет, и которые поэтому приходится получать от других общественных слоев; причем не путем захвата, каковой в наших условиях немыслим, а путем аргументации, в которой единственным годным доводом является общность национального интереса. Тут нет ни следа классовой борьбы, тут политика национального блока.
«Левые», «Рассвет», 1925.Мораль и сионизм
«Даже если бы мы пришли с мечом завоевывать Эрец Исраэлъ, то и тогда были бы мы правы перед Богом и людьми».
Шестидневная война, чудесная и блистательная победа в ней пробудила во всех евреях чувство гордости за Израиль, уверенность в нем. Нашей стране она принесла небывалое увеличение экономической независимости, безмерно укрепила ее безопасность, позволила воссоединить нашу вечную столицу — Иерусалим, вернула наш народ к его историческим пределам. Но нашлось немало людей в Израиле, которые считают, что наша «экспансия» грозит испортить моральный облик нашего государства, выставляет нас в невыгодном свете в глазах всего мира. Эти необычайно совестливые люди считают, что лучше подвергнуть себя в очередной раз смертельной опасности и отказаться от всех плодов той блестящей победы. Может показаться, что это — новое явление, появившееся именно в результате войны. Это не так. Нет ничего нового под солнцем. Уже задавались все вопросы и уже даны были на них ответы. Давным-давно.
Что до Жаботинского, то он никогда не боялся отвечать на «проклятые вопросы», тревожащие совесть. Не боялся и ставить их. Все им написанное и произнесенное с ораторской трибуны проникнуто пафосом поисков справедливости в отношениях между людьми и между народами, пафосом борьбы с насилием, неуважением к кому бы то ни было. Но Жаботинский никогда не соглашался решать проблемы совести путем непротивления и уступок несправедливости. Этот самый легкий путь, считал он, ведет лишь к новому торжеству зла и насилия.
В этой книге читатель найдет множество высказываний Жаботинского на эти темы. Ниже мы приводим без комментариев выдержки из статьи, написанной им в 1916 (!) году,— как выяснилось, и тогда находились среди евреев люди, требовавшие «уступить» и «не посягать», дабы оставить незапачканной совесть, люди, считавшие «аморальной» идею строительства еврейского государства в Эрец Исраэль. Итак, вот статья, написанная за полвека до Шестидневной войны:
Есть мнение, что евреи не имеют «нравственного права» требовать для себя власти над Палестиной. Это не этично, потому что в Св. Земле только 100 000 евреев и 600 000 арабов; это значит требовать власти меньшинства над большинством. Еврейство не может и не должно компрометировать себя подобными несправедливыми требованиями. Единственное, на чем мы «имеем право» настаивать, есть «свобода иммиграции и колонизации», но не больше.
Рассмотрим эту претензию.
Прежде всего надо себе отдать отчет, что «свобода иммиграции и колонизации» есть пустое слово, лишенное всякого юридического содержания. Если оно даже будет вписано в постановления международной мирной конференции, оно будет само по себе иметь столько же действительной силы, сколько имел знаменитый параграф Берлинского трактата, «гарантировавший» евреям равноправие в Румынии.
Параграф о свободе иммиграции не есть гарантия. Следовательно, или надо вообще отказаться от мысли о гарантии и примириться с тем, что судьба нашей колонизации в Палестине будет зависеть от доброй воли того или иного правительства,— или же надо идти прямо к цели и требовать настоящей гарантии. А настоящая гарантия есть передача местной власти в наши руки, в форме «чартера» или в какой-нибудь иной форме.
Это и есть то, чего требует базельская программа. Люди, подписавшие ее 20 лет тому назад, вдруг теперь вспомнили, что она не этична. Они теперь стараются придумать, как бы и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Один из них писал мне недавно: «Я бы предложил такой модус, вполне справедливый и даже демократичный. Мы должны потребовать не чартера для себя, а просто автономии для Палестины. Парламент должен избираться всем населением, еврейским и арабским. Избирательное право должно принадлежать всем грамотным, без различия национальности и пола. При этом приблизительно получается следующие цифры. Евреев всего 100 000, но все взрослые мужчины и женщины умеют читать и писать; таким образом еврейское население даст приблизительно 40 000 избирателей обоего пола. Арабов 600 000, но женское население почти поголовно неграмотно, так что 300 000 сразу отпадают; среди мужчин грамотность тоже мало распространена, особенно в деревнях, так что вряд ли наберется даже 25000 избирателей. Если идти дальше по этому пути, то можно ввести, например, множественный вотум: это учреждение имеется в самых демократических странах,— напр., в Англии и Бельгии; оно заключается в том, что, скажем, лица со средним образованием получают 2 голоса, а с высшим образованием — 3. При этой системе мы получим в первом парламенте сильное большинство. Первый парламент должен быть избран на 10 лет, а за 10 лет мы успеем численно укрепиться. Как вам нравится этот проект?» — Я не знаю, что ответить на такой вопрос. Проект может быть и остроумен, но нехорошо то, что он построен на допущении, будто такая идеально-справедливая, идеально нравственная вещь, как передача Палестины гонимому еврейскому народу для заселения и возрождения, есть вещь несправедливая и безнравственная, которую нужно замаскировать всякими ухищрениями.
Евреи иногда бывают комично бескорыстны и сентиментальны. Они любят умиляться горькой судьбой своих противников — иногда даже злейших врагов. Я знаю десятки евреев, которые теперь, после всего, что произошло, горько жалеют бедных поляков, которым Бог послал такую неприятность — еврейский вопрос. С арабами, слава Богу, мы в гораздо лучших отношениях, чем с поляками; поэтому над их судьбой мы еще охотнее вздыхаем. Бедный народ,— говорим мы,— ведь в сущности Палестина — часть арабской территории, они там живут испокон веков, и вдруг мы туда приходим и хотим стать хозяевами.— Я смотрю на этическую сторону этого положения несколько другими глазами. Племена, говорящие на арабском языке, занимают Сирию, Аравию. Месопотамию, Йемен, Хиджас, Египет, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. На этом пространстве, равном (если не включать Аравию) всей Европе без России и достаточном, чтобы прокормить миллиард народу, просторно расположилась раса в 35 миллионов. С другой стороны, есть еврейский народ, угнетенный и бездомный, не имеющий на свете своего угла; он домогается Палестины, потому что у него нет своего угла и потому что вся слава, все величие, вся сверхчеловеческая роль, сыгранная Палестиной в истории мира, была делом его духа. По отношению ко всей территории, занятой арабскими племенами, Палестина представляет менее одной сотой. Я не знаю, можно ли в наше время, по поводу таких вопросов, серьезно говорить об этике. Но если можно,— то что такое этика, позвольте спросить? Заключается ли она в том, что у одного должно быть много, а у другого ничего? Заключается ли она в том, что земля, основа жизни, скопляется в невероятном количестве в руках у народа, который не умеет ее даже использовать,— а другой народ скитается, как собака, по чужбинам, и должен щелкать зубами, глядя из-за забора на недоступные пустыни? Откуда взялась такая мораль? Как можно называть ее моралью? Если бы даже с мечом и пушкой мы пошли отнимать Палестину, мы были бы правы перед лицом Бога, как нищий, который отнимает у богатого. Этика земельных отношений между народами в сущности та же, что между индивидами, и она заповедана Библией: от времени до времени приходит великий юбилей, и тогда тот, у кого нет земли, требует свою часть у того, у кого земли много. Вместо 2-х миллионов кв. миль хотя бы будем занимать 1900 тысяч, и зато на свете будет еврейское государство, и один из мучительнейших вопросов истории приблизился к разрешению.
Конечно, те арабы, которые живут в Палестине, имеют полное право требовать, чтобы их оттуда не вытеснили. Это другое дело, это неоспоримо, и никто и не собирается их оттуда вытеснять. В Палестине достаточно места...
Я не принадлежу к тем, которые считают в наше время лишним и наивным заботиться об этической стороне в политике. Конечно, сильные мира сего с нею не считаются; но еврейский народ не должен и не может покидать в своих выступлениях и требованиях почву права.
Мы стоим на этой почве, когда требуем от мира передать в наши руки страну нашего будущего, во имя всей нашей истории, всех наших страданий, во имя всей той безмерной вины перед нами, которую мир несет на своей совести.
«Сионизм и этика», 1916.Я верю в нашу мощь, в нашу огромную нравственную силу. Для обороны Петах-Тиквы хороша сила физическая, но что она значит, когда требуется справедливость от народов? И сила на стороне Израиля, потому что и нравственность на его стороне.
Речь на вечере в Тель-Авиве, «ха-Арец», 9.11.1926.«Дозволено!»
«Страшный яд, грозящий человеческой нравственности, скрыт в словах «это дозволено».
Жаботинский старался максимально приблизить свои взгляды, свою деятельность к природе человека, не быть оторванным от нее, не «витать в облаках». Исследования психологии человека привели его к следующему выводу:
Человек по природе ни плох, ни хорош. Он создан сочетанием, соотношением двух вещей — «аппетита» и «возможности». Человек имеет желания, аппетиты, и он стремится насытить их путем «наименьшего сопротивления». Если сопротивление слишком велико, он, сообразив, что результат не оправдывает затрат, умеряет свой аппетит. Но если он видит, что сопротивления нет, он говорит себе: «Это дозволено», и тогда его аппетит возрастает.
Страшный яд, грозящий человеческой нравственности, скрыт в словах «это дозволено». Там, где властвуют эти слова, мораль бессильна. Пример? Почитайте рассказы о поведении белых в их африканских колониях вплоть до XIX века. Скажем, бельгийцев в Конго. Бельгийцы — цивилизованнейший народ, отнюдь не убийцы с большой дороги. У них на родине в величайшем почете порядок и порядочность. Но в Конго, имея дело с неграми, они вели себя хуже рабовладельцев из «Хижины дяди Тома». Те же самые чиновники, те же самые купцы. Почему? Потому что они чувствовали, что это дозволено. В молодости я видел такое собственными глазами, и как раз это было связано с бельгийцами. В городе, в котором я рос, в Одессе, была трамвайная линия, принадлежавшая бельгийской компании. Ее представителя звали мсье Комбье. Этот человек посреди улицы, на виду у публики раздавал оплеухи вагоновожатым. А ведь у себя в Брюсселе он был порядочнейшим человеком. Ибо в Брюсселе такое недопустимо, а в России тридцатилетней давности это было дозволено.
Напишите над Святой Святых «дозволено», и ее тут же осквернят. Возможно, главное в культуре — это то, что она уменьшает количество вещей, дозволенных к осквернению. Откровенно детским выглядит предположение, что сто лет назад люди были «плохими», а сейчас они стали лучше, так как раньше они относились к крестьянину или рабочему, как к мусору, а сегодня снимают перед ним шляпу. Процент дурных и хороших людей вовсе не изменился в пользу последних, просто беднота научилась сопротивляться.
Во всем цивилизованном мире не осталось никого, кто позволил бы себя унижать, за одним исключением — евреи. Поэтому так любим нашей молодежью Трумпельдор — ей дорог не его плуг, а именно его меч. Поэтому форт Тель-Хай им в тысячу раз дороже общества Тель-Хай. Для них это символ, с которым можно найти путь к избавлению от унижений.
«День памяти Трумпельдора», 1928; в сб. «Воспоминания современника».Попытки гитлеровской Германии усилиться за счет других, пользуясь беззубостью Лиги Наций и слепотой великих держав, вынудили Жаботинского вновь выступить на тему «вседозволенности»:
Я, нижеподписавшийся, торжественно заявляю, что я человек порядочный. И вовсе не собираюсь заявлять своих прав, уважаемый читатель, на принадлежащую тебе книгу «Тысяча и одна ночь». Но если ты, читатель, положишь ее передо мной и будешь подчеркивать у меня перед глазами слово «дозволено» везде, где оно встречается в этой толстой книге, и будешь делать так изо дня в день, то я в один прекрасный день эту книгу у тебя попросту отберу. Силой.
Удивительное это слово — «дозволено». Кто из нас не дивился такому... англичанин дома себя ведет так, а в колониях (и в подмандатных территориях) — совсем иначе. По этой же причине немцы до 1933 года не были садистами (мы, во всяком случае, ни о чем подобном не слыхали), а с 1933 года стали вдруг вешателями и насильниками и загубили и искалечили уже десятки тысяч людей.
Несть числа примерам, показывающим, насколько меняется поведение человека, когда «отпущены тормоза», когда ему все дозволено. Именно для обуздания этих проклятых слов была создана Лига Наций. Чуть было не написал «покойная Лига»...
Мои сверстники, учившиеся в русской гимназии, конечно, помнят славную басню Крылова: жил-был кот, богобоязненный и приличный кот. Он и помыслить не мог о том, чтобы подобраться к хозяйской кринке с молоком. А в доме жила в клетке птичка. Не помню, какой породы была птичка, но как раз она была умна в этой басне. И стала птичка учить кота некоторым основам эмансипации. Кот послушал и внял ее советам. Результат — плакало хозяйское молоко и птичка тоже. Простите меня за то, что я ссылаюсь на Крылова. Уверен, в еврейских источниках есть подобная притча...
И самое печальное, что примеры, которые у нас перед глазами, выражают непреложный закон.
«Шаг в прошлое», «ха-Ярден», 27.3.1936.Самое яркое высказывание по этому поводу мы находим в беллетристике Жаботинского, в его романе «Пятеро». Герой — адвокат — пытается внушить своему приятелю Сергею, к чему может привести философия «вседозволенности»:
— Все дело в постепенности,— говорил мне адвокат,— в постепенности, и еще в одной коротенькой фразе, вопросительной фразе из трех коротеньких слов. Вы мне только что рассказали, что давно слышали именно эту фразу от самого Сергея Мильгрома — когда еще юношей отговаривали его от общения с какой-то шайкой шулеров; но дело не в Сергее Мильгроме, дело в том, что эта фраза характерна, убийственно характерна для всего его поколения. Фраза эта гласит: «А почему нельзя?». Уверяю вас, что никакая мощность агитации не сравнится, по разъедающему своему действию, с этим вопросом. Нравственное равновесие человечества искони держится именно только на том, что есть аксиомы: есть запертые двери с надписью «нельзя». Просто «нельзя», без объяснений, аксиомы держатся прочно, и двери заперты, и половицы не проваливаются, и обращение планет вокруг солнца совершается по заведенному порядку. Но поставьте только раз этот вопрос: «а почему нельзя?» — и аксиомы рухнут. Ошибочно думать, будто аксиома есть очевидность, которую «не стоит» доказывать, до того она всем ясна: нет, друг мой, аксиомой называется такое положение, которое немыслимо доказать; немыслимо, даже если бы весь мир взбунтовался и потребовал: докажи! И как только вопрос этот поставлен — кончено. Эта коротенькая фраза — все равно, что разрыв-трава: все запертые двери перед нею разлетаются вдребезги; нет больше «нельзя», все «можно»; не только правила условной морали, вроде «не укради» или «не лги», но даже самые безотчетные, самые подкожные (как в этом деле) реакции человеческой натуры — стыд, физическая брезгливость, голос крови — все рассыпается прахом.
Из кн. «Пятеро».«Восток»
«Мы, евреи, не имеем ничего общего с тем, что прозывают «Востоком»,— и слава Богу».
Идея «восточности» еврейского народа не нова. Многие седовласые профессора советовали молодежи возвращаться к своим «корням, лежащим на Востоке», «раствориться в Востоке». Эта мода на все «восточное» распространилась по всему миру. Жаботинский не был в восторге от этой моды:
Слово «Восток» неизбежно влечет за собой прилагательное «живописный». Вопрос еще,— всегда ли оно является комплиментом; всегда ли достойно восхищения с точки зрения моральной, гуманитарной или социальной то, пред чем мы восторгаемся с точки зрения эстетической. Нищий в лохмотьях иногда очень «живописен»; но было бы лучше и для него и для человечества, если бы ему дали суконное пальто, теплое, банальное и прозаическое. Дом новейшего образца, с центральным отоплением, не имеет никаких шансов вызвать энтузиазм туриста; когда говорят о «живописном» здании, речь идет неизменно о здании антигигиеничном, которое следовало бы, если не снести, то, по крайней мере, эвакуировать. А самое «живописное» зрелище на свете — развалины. Верблюд — очень благодарная тема для художника, а железная дорога — нет; между тем, экономическое благосостояние страны требует именно замены караванов поездами.
«Живописный Восток», «Рассвет», 7.2.1932.Но вернемся к специфической еврейской точке зрения. Чего же хотели наши поклонники «Востока»? Жаботинский формулировал так:
Мы, евреи, народ восточный по происхождению; несмотря на западные влияния, основа нашей души осталась восточной. Ибо у Востока есть своя особая душа (следует описание этой души; я его несколько раз слышал, но не понял, и не помню). Во всяком случае, эта восточная духовность, по своим качествам, выше души Запада (а по другим авторитетам: является необходимым пополнением к душе Запада). Идя в Палестину, мы возвращаемся в среду народов, которые сохранили восточную психологию в большей или меньшей целости. Мы поэтому должны и в своем нутре разыскать элементы восточности, засоренные пылью Запада, но все еще живые, и заняться их культивированием.— Затем следуют оговорки, ибо и востоколюбы не хотят отказаться от электричества: оговорки о том, что, конечно, мы должны дать Востоку и западную технику, и даже — в строго прочищенном виде — некоторую долю духовной культуры Запада; но все это бахрома, а основа, суть, главное — овосточимся.
«Восток», «Рассвет», 26.09.1926.На все это Жаботинский отвечал:
Против этой точки зрения с особенным удовольствием выдвигаю противоположную — ту, к которой, если я верно понял выдержки, близок редактор «Гашилоаха»: у нас, евреев, с так называемым «Востоком» ничего общего нет, и слава Богу. Поскольку у необразованных наших масс имеются духовные пережитки, напоминающие «Восток», надо наши массы от них отучить, чем мы и занимаемся в каждой приличной школе, и чем особенно усердно и успешно занимается сама жизнь. Идем мы в Палестину, во-первых, для своего национального удобства, а, во-вторых, как сказал Нордау, чтобы «раздвинуть пределы Европы до Ефрата»; иными словами, чтобы начисто вымести из Палестины, поскольку речь идет о тамошнем еврействе нынешнем и будущем, все следы «восточной души». Что касается до тамошних арабов, то это их дело; но если мы можем им оказать услугу, то лишь одну: помочь и им избавиться от «Востока».
Поскольку же нам, в течение переходного периода, или после, придется в Палестине жить среди окружения; пропитанного дыханиями «Востока»,— будь это окружение арабское или староверо-еврейское, все равно — рекомендуется тот жест, который каждый из нас невольно делает, когда проходит в пальто по узким «восточным» улицам Стамбула или Каира или Иерусалима: запахнуть пальто, чтобы как-нибудь оно не запылилось и смотреть, куда ставить ногу. Не потому, что мы евреи; и даже не потому, что мы из Европы; а просто потому, что мы цивилизованные люди.
Там же.Жаботинский продолжал исследовать, что же такое «Восток», в особенности его социальный и политический облик. Тут уже не остается и следа «живописности»:
Психологически Восток отличается от Запада, прежде всего, своим этическим спокойствием. В этом покое, говорят, есть своя красота; возможно — красота есть в каждом цельном состоянии, например, в смерти; но мы тут не говорим об эстетике. Это настроение покоя иногда называют квиэтизмом, иногда фатализмом, иногда другими именами, но его наличности никто не отрицает. Европа ищет, мечется, починяет, разрушает, строит, карабкается; Восток, когда его не толкает или не раздражает Европа, живет в состоянии равновесия. И на Востоке есть огромная разница между богатыми и бедными; есть эксплуатация, о какой Запад уже сто лет не слыхал; но активного движения бедноты против богатства нет; этического протеста против несправедливости распределения благ, протеста в форме определенного общественного натиска, нет.
В чисто политической сфере это различие выразилось так: Европа создала парламенты, свободную печать, сотни форм общественного контроля и инициативы; Восток (покуда не стал подражать Европе) остался при деспотизме. Внутренно он остался при деспотизме и там, где есть парламенты. Надо только заглянуть поглубже, под надстройку любой тамошней палаты депутатов, и мы увидим почти безграничную власть шейха над мужиком, мастера над подмастерьем, отца над детьми, мужа над женою — поскольку европейский губернатор не вмешался и не ввел каких-то ограничений; и в то же время мы увидим почти полное отсутствие осознанного протеста у угнетенной стороны — поскольку не подстрекнул ее к тому, с весьма малым успехом, европейский агитатор.
Там же.Когда Жаботинский указывал на социальные пороки стран Востока и на низкий культурный уровень их жителей, он не считал вовсе, что такая ситуация непоправима, что «фатализм» и безразличие ко всему у «Востока» в крови. Он полагал (так, во всяком случае, казалось в то время), что просто эти страны не достигли еще достаточного уровня социального развития. Он всем сердцем желал им «подрасти». Что до евреев и их места в «столкновении» «Запад — Восток», то:
Мы, евреи, как остающиеся в Европе или в Америке, так и едущие в Эрец Исраэль, имеем мало общего с «Востоком». Может быть, меньше, чем многие европейские народы.
И то, что мы — выходцы из Азии, вовсе не аргумент. Вся Средняя Европа вышла из Азии — и находится там меньше времени, чем мы. Евреи — все ашкеназские и больше половины сефардских — живут в Европе уже две тысячи лет. Время немалое.
И есть нечто еще более существенное. Мы не только давно живем в Европе, не только многое у нее переняли. Мы, евреи, были и остаемся народом, внесшим крупнейший вклад в формирование и развитие европейской культуры. Эта культура сформировалась «на базе» нашей религии, у нее она переняла свою основную идею — незавершенности этого мира, необходимости его «исправлять», активно «вмешиваться» в процесс созидания. Другим крупным нашим вкладом стала миссия по осуществлению международных связей в Европе. А затем — в последние восемьсот лет, т. е. с момента появления первых проблесков зари Возрождения, пробуждения Европы от средневековой спячки, представители еврейского народа стали вносить огромный «персональный» вклад в европейскую культуру — философы, поэты, музыканты, финансисты, ремесленники, политики. Евреи «вложили» в общеевропейскую культуру не меньше, чем итальянцы, немцы, французы, англичане, у нас на нее не меньше «авторских прав». И в Эрец Исраэль мы продолжим эту работу — теперь уже в чисто национальной, еврейской форме. Об этом хорошо сказал Нордау: «Мы идем в Эрец Исраэль, чтобы передвинуть границы европейской этики до реки Евфрат».
«Мода на арабески»; в сб. «Литература и искусство».Милитаризм
«...Нет службы более замечательной и благородной, чем служба бойца, охраняющего мирный труд народа».
Еврейский батальон, сформированный по инициативе Жаботинского во время Первой мировой войны, в котором он сам сражался, не был в его глазах преходящим эпизодом. Эта часть наглядно продемонстрировала всю силу политического влияния легальных вооруженных формирований, их способность обеспечивать безопасность Ишува. Батальон совершил настоящую революцию в сознании евреев и заставил мир взглянуть на них другими глазами. В речи, обращенной к бойцам батальона, возвращавшимся в Англию, Жаботинский говорил:
Я хотел бы, чтобы вы, вернувшись домой, что-то позабыли, а что-то запомнили. Все, что было мелкого, несущественного, забудьте. Но великое, вечное — помните! Обращаясь к добровольцам из Эрец Исраэль, я говорил им: «Помните пирамиды? На них можно глядеть по-разному. Можно — с точки зрения Мыши, живущей в щелях, для нее пирамиды — огромная куча грязных и пыльных камней. А можно — с точки зрения орла, парящего в вышине, для него пирамиды — чудо стройности и красоты. Запомните горы Шомрона и плодородные поля Рафиаха, запомните волшебную голубизну, которая у нас сейчас над головами. И на наш батальон взгляните глазами орла. Главное не то, что нам довелось вытерпеть. Главное то, что веками евреев либо били, либо защищали. Чаще били, иногда защищали. Но и то и другое равно унизительно. Пришло время показать миру еврейский меч. И именно потому, что нам это так трудно досталось, мы можем понять, насколько велика ценность этого. А может быть, нам этого оценить и не дано. Может быть, оценить это в полной мере смогут лишь наши дети, и благословят тогда они ваши имена».
«Ха-Арец», 1919.Жаботинский боролся за то, чтобы батальон не был расформирован по окончании военных действий. А когда все же пришел приказ о расформировании, делал все, чтобы вновь сформировать еврейскую боевую часть. Пока же он призывал еврейскую молодежь заниматься военной подготовкой, прекрасно понимая, что эти навыки будут ей необходимы. В те времена боевая подготовка не была в почете у сионистского движения. Жаботинскому присвоили титул «милитариста». Предполагалось, что это ругательный титул. Жаботинский же принял это «ругательство» без тени обиды:
У нас любят играть латынью. У бывших бундовцев в московской «евсекции» изучение иврита именовалось «клерикализм». Столько же смысла в наших разговорах о «еврейском милитаризме». В обоих случаях это злоупотребление терминами. Милитаризм — это строй, при котором государство содержит излишне большую армию. Это единственное правильное применение этого латинского слова. Но ни один разумный человек не станет утверждать, что народ может и должен оставаться полностью безоружным. Даже крайние пацифисты (здесь имеется в виду общепринятое понимание этого слова, а не «надмирные» личности, такие как Лев Толстой) не идут дальше требований свести вооружение к необходимому для самообороны минимуму. Но мы, евреи, не имеем и этого минимума. И это несмотря на то, что мы очень нуждаемся в средствах «самообороны». Я понимаю так, что милитаристы — это те, кто не хотят ограничиваться упомянутым минимумом. Но называть так тех, у кого вообще ничего нет и кто хотел бы обзавестись десятой частью того минимума,— значит просто бросать слова на ветер. Сытого человека, который продолжает есть, называют обжорой. Но когда просит еды голодный, ему, кажется, не пристала кличка «обжора».
«День памяти Трумпельдора», 1928; в сб. «Воспоминания современника».И в другом месте:
Надо набраться терпения. И не бояться латинских слов. Даже слова «милитаризм». Ненависть к войне — это духовное наследие нашего народа. Наши пророки гневно осуждали массовое убийство, и среди нас нет никого, кто не мечтал бы о поколении пацифистов. Но именно та система образования, которую клеветник называет «милитаристской», имеет больше всего шансов вырастить доброе и здоровое поколение.
«Путь милитаризма», «Хайнт», 25.1.1929; в сб. «На пути к государству».О чем же конкретно говорил Жаботинский?
На самом деле лишь война отвратительна. В армейской же жизни есть многое, чего нам не хватает в жизни повседневной. Это, прежде всего, «чувство локтя». В армии нет и не может быть «классовой вражды». Второе — регулярные занятия спортом. И третье — армейская дисциплина. Но здесь стоит остановиться и поговорить подробнее.
Мы иногда возвращаемся к идеям, казалось бы, давно вышедшим из моды. Спросите, например, обыкновенного человека: что он думает об армейской дисциплине? В ответ услышите: «Фи, человека превращают в машину!». Но ведь сам-то он в глубине души наслаждается зрелищем этой четко марширующей «машины»...
Разумеется, не всегда, разумеется, лишь при определенных обстоятельствах, человеку просто необходимо почувствовать себя частью огромного, мощного, стройного целого.
Там же.Второй бокал — за еврейскую армию. Молча выпьем за нее, ибо молчание прекрасно для солдата на поле битвы. И еврейская молодежь знает, что нет службы более замечательной и благородной, чем служба бойца, охраняющего мирный труд народа.
«Четыре бокала» (оригинал на иврите), «Доар ха-йом», 24.4.1929. Есть такая капля влаги — Завтра встречу с ней готовь. Капля влаги не на флаге — В сердце пламенная кровь. И когда бедой повеет, Мы поднимемся на бой. Кровь отважных Маккавеев — В нашей силе молодой. «Песнь знамени», в сб. «Стихи».Война
«Всякая война есть не что иное, как братоубийство».
Жаботинский ненавидел войну не только как гуманист. Для евреев война всегда была бедствием вдвойне, ибо и победители и побежденные обычно не щадили евреев. А если евреям приходилось сражаться в войнах, то они сражались с обеих сторон, убивая друг друга и умирая за чужие интересы. В 1929 году Жаботинский откликнулся на предложение установить в Эрец Исраэль обелиск в честь неизвестного солдата-еврея:
Почему мы сможем сказать: «здесь покоится»? Ведь под самим обелиском не будет никто похоронен. Да, конечно, нет в Эрец Исраэль ни пяди, где бы не пал когда-то, в продолжение тысячелетий, еврейский воин. Но неизвестный еврей — это лишь символ. Символ человека, который вынужден был убивать брата. И на обелиске должно быть написано: «Прохожий! Остановись на минуту. Подумай о том, что говорит тебе этот камень. Он поставлен в честь еврея, для которого любая война, где бы она ни велась,— братоубийственная война. Не думаешь ли ты, что это может стать и твоей участью? И даже если это и не совсем так, и даже если ты француз и пойдешь воевать с немцем — но ведь всякая война есть не что иное, как братоубийство. И всякий, павший на войне, есть жертва абсурда, массового сумасшествия, дикости. И мы, евреи, старцы этого мира, установили здесь, на этой самой святой на свете земле этот камень в память о нашей национальной трагедии, трагедии всего человечества и в то же время для того, чтобы ты понял и никогда не забыл».
Конечно, это все слишком длинно и неуклюже для надписи на обелиске. Но это все нетрудно изложить и коротко — слово, выбитое на камне, стоит десятка слов на бумаге. Я, правда, сильно сомневаюсь, что это все поможет, что действительно «поймут и никогда не забудут». Но все равно, нужно напомнить эти истины, и именно на памятнике безымянному еврею, неизвестно из какой страны, и именно в Святой земле.
«Наш неизвестный солдат», «Морген-журнал», 2.5.1920.«...Абсурд, массовое сумасшествие, дикость»... Абсурдность войны Жаботинский осознал десятком лет раньше, когда сам был участником войны и видел все ее ужасы. Он писал в «Слове о полку»:
Стемнело, и мы их повели: тысячу сто человек, турок и немцев, за шестнадцать верст, по безлюдным солончакам и обгорелым зарослям, под охраной восемнадцати солдат, почти всех — портных из Уайтчепла, с двумя офицерами и «падре»[*]: он тоже решил непременно псйти. Я шел сзади в черной, сырой и жаркой темноте и думал о том, что, собственно говоря, они голыми руками могли бы нас передушить; но они послушно плетутся как полагается, по четверо в ряд, немцы даже стараются идти в ногу, а наши солдаты, привинтив штыки к заряженным винтовкам, шагают справа и слева, «цепью», в которой звено звена не только не видит, но и оклик не сразу услышит.
«Падре», верхом на Коган Иксе, то уезжает вперед, то возвращается: надзирает, чтобы пленных не обижали или чтобы они сами не обижали друг друга.
Тащимся, тащимся, и все думаем одно и то же. Неделю тому назад эти люди были здесь ужасом и красою земли. И ведь только случайно мы их ведем, а не наоборот. Много я передумал в ту ночь. Видел я Реймский собор под обстрелом и дуэль аэропланов в воздухе, и gueules cassees и немецкие налеты на Лондон — солдаты с фронта божились, что это хуже Ипра[*]: в Ипре хоть не было в этом грохоте женского и детского плача. Все это страшно, но калечить людей и губить города умеет и природа. Одного не умеет природа: унизить, опозорить целый народ. Это горше всего; и это монополия человека. Живал я и в Берлине, и в Вене, и в Константинополе, видел эти самые обломки образа и подобия Господня, как они работали, как они смеялись, как гуляли со своими барышнями по Пратеру и курили наргиле в переулках Галаты. Часто теперь, когда обзовут меня публично милитаристом, я вспоминаю эту ночь, и дорогу, и долину Иордана, в тени той самой горы Нево, где когда-то умер пророк Моисей от Божьего поцелуя; вспоминаю и не отвечаю, не стоит.
Слово о полку. Автобиография.Что же, нет никакой надежды? Есть ли способ избавиться от войн, от убийств, от мучений? Жаботинский не полагал, что найти решение легко и просто. Он не верил в надежность пактов о ненападении и конвенций о сокращении вооружений. Единственная надежная гарантия — это сделать все возможное, чтобы устранить причины возникновения войны:
Народы не начинают войн просто так и безо всякой причины. Ушли безвозвратно те времена, когда король мог объявить войну из-за того, что обидели его фаворитку. Вообще-то неизвестно, были ли они когда-нибудь такие времена. Сегодня мы видим, что войны сопровождаются некоторым воодушевлением масс, общественным энтузиазмом. Это свидетельство того, что данная война ведется ради разрешения проблем, волнующих хотя бы часть общества. Но ведь эти проблемы можно разрешить иначе. Именно это и может помочь, а не конвенция, ограничивающая артиллерию Уругвая тридцатью девятью пушками.
И самого человека надо перевоспитать. И это вовсе не невозможно. Хрестоматийный пример: англичане, народ вовсе не трусливый, давным-давно прекратили моду на дуэли. Надо изменить природу человека, а не надеяться на конвенции, остающиеся на бумаге.
«Нелегкий путь», «Хайнт», 4.4.1928.Разумеется, не следует, вместе с тем, упускать любую возможность для реального сокращения вооружений. Даже если это не избавит от войн, по крайней мере, будет способствовать росту благосостояния людей:
Я настаиваю: наш старый, «прогнивший» культурный мир дойдет в борьбе до первых проблесков светлого будущего и в деле разоружения. И именно в скором будущем. (Тут необходимо некоторое пояснение. Разоружение — частичное или полное — вовсе не гарантирует мира. Эти два понятия никак не связаны; войны имели место и до изобретения пороха и, боюсь, будут иметь место и после демонтажа танков и уничтожения химического оружия. Войны происходят не из-за того, что в мире имеются пушки, а потому, что происходят столкновения интересов наций и не находится великой державы, выполняющей роль мирового жандарма, которая своей силой повлияла бы на противоборствующие стороны и заставила бы их прекратить резню. Вопрос мира — проблема абсолютно отдельная, и ее невозможно разрешить разоружением). Но само по себе разоружение — жизненно важный вопрос. Не для «дела мира», к которому оно не имеет прямого отношения, а для экономического развития наций. При всей силе нынешнего кризиса десятки государств могли бы немедленно излечить свои хромающие бюджеты и даже превратить их в «процветающие», если бы хотя бы наполовину сократили свои расходы на вооружение. Это так же, как если бы мне или вам объявили: «С завтрашнего дня вы ничего не платите за квартиру».— Шуточное ли дело!
Очень жаль, что в сознании людей связались эти две вещи — разоружение и пацифизм. Пацифизму-то это не вредит, а вот разоружению сильно мешает. Мешает потому, что у каждого начинания есть противодействие, а оно стократ возрастает, когда к начинанию неоправданно «пристегивают» вещи, его не касающиеся...
Пацифизм — это, возможно, самая прекрасная из еврейских идей. Но утверждать, что у нее есть шансы на легкий успех,— без основательной переделки сознания людей, без кардинального решения наболевших проблем этого мира, а просто так — сокращением военных бюджетов,— утверждать так неразумно и бесполезно.
Совсем другое дело — разоружение. Это важнейшее дело. И давно осуществимое. Государства стремятся, просто рвутся к нему. Надо только всегда представлять его чисто экономическим, выгодным делом, безо всякой «привязки» к посторонним вопросам. Смысл разоружения — в решительном сокращении военных бюджетов. Не более и не менее того. И перевод высвободившихся средств на нужды культуры и социального обеспечения. И разве этого мало и надо приплетать сюда еще что-то?
Разумеется, с чисто экономической точки зрения, все далеко не так гладко и просто. Что делать с многотысячной армией, с военной промышленностью? Это вовсе не простые вопросы, но они разрешимы. Миру и даже рабочим, потерявшим заработок, будет гораздо лучше, если прекратят лить пушки — эту мерзость.
«Хрупкая безопасность», «Хайнт», 22.7.1932.Жаботинский закончил эту статью неким вызовом цивилизованному миру:
Более всего сейчас нужно миру немного приличия, уважения к самому себе. Он должен показать, что он не вечный раб собственных предрассудков и ошибок, порождающих бесконечную цепь новых ошибок. Он должен разорвать цепь, избавиться от дурных привычек. Дайте миру немного уверенности в самом себе — он сможет и найти работу демобилизованным солдатам, и решить проблему сокращения рабочей недели без сокращения заработка, возможно, сможет, наконец, приняться за работу для установления прочного мира. Если бы только он сделал первый шаг и начал строить жизнь согласно нашим человечным установлениям, а не бездумно подчиняться решениям и привычкам этой жизни...
Там же.Вождь
«Его «мелодия» выражает наши собственные мысли».
На древний как мир вопрос — о роли личности в истории — Жаботинский не дал своего прямого ответа. Но, кажется, можно «вычислить», к чему он склонялся. В своих ранних записках он вложил в уста вымышленного собеседника вот такой монолог:
— Эти идиоты кричат на всех перекрестках, что роль личности в истории равна нулю. История, дескать, творится сама собою, так называемые вожди — это только ее ставленники и приказчики; если бы не было Юлия Цезаря, нашелся бы какой-нибудь Юний Цезарь, но уж история своего добилась бы, и из-за такого пустяка, из-за такой мелочи, как отсутствие той или иной личности, ничто бы не остановилось и ничто не изменилось бы.
Пусть надо мной смеются сколько угодно, а я верю, что без Руссо французская революция запоздала бы на множество лет, без Наполеона ее влияние ограничилось бы одною Францией, а не распространилось бы так широко по всей Европе, а без Гарибальди Италия до сих пор ждала бы... ждала бы своего Гарибальди. Я понимаю, массы накопляют материал, но строят, но зиждут только вожди, и где нет вождя, там лучший и богатейший материал будет лежать и гнить без пользы.
Идеологические вожди бывают двоякого рода. Одни дают содержание движения, дают ту идею, которую должна будет воплотить в жизнь предстоящая социальная катастрофа. Эта идея, или эти идеи должны соответствовать реальным запросам времени и давать практический выход накопившимся потребностям; тогда они постепенно усваиваются обществом, и содержание будущей революции готово. Но этого мало. Нужна еще самая революция. Новые идеи лежат, как мертвый горючий материал: нужен поджигатель.
Это — второй тип идеологического вождя. Секрет его влияния — не в уме, не в знаниях, не в ясном глазомере, а только в настроении, в темпераменте, во внутреннем огне. Вся повышенная температура эпохи концентрируется в его душе; он горит на глазах у современников и заражает их. Тогда они слепнут и уже не замечают его ошибок, его противоречий, его легкомыслия, невежества, даже шарлатанства: они чувствуют только его огонь, божественный огонь, pantön genêtor. И с этого человека начинается революция, этот человек делает историю, а не те умники, что так зорко прочли общественную нужду и так метко воплотили ее в своих социальных и политических идеалах.
И не самые эти потребности, и не самые эти идеи суть двигатели истории, но только личность вождя, маховое колесо социальной машины, без которого эта машина не сдвинулась бы с мертвой точки.
«Поджигатель», «Одесские новости», 15.06.1912.К какой же «разновидности» вождей можно отнести самого почитаемого Жаботинским духовного лидера — Герцля? Жаботинский, вероятно, именно потому и был очарован личностью Герцля, что относился с врожденной подозрительностью к любым «вождям». Жаботинский пытался понять, в чем секрет величия Герцля, его огромного влияния на людей. Он определил это так: Герцль был «прирожденным» вождем, подлинным лидером, не из личных амбиций или под воздействием обстоятельств возложившим на себя обязанности руководителя. Попутно, проводя это исследование, Жаботинский с ядовитым сарказмом отозвался о тех сильно расплодившихся «вождях», по поводу которых «наши дети поразятся, прочтя их биографии, чудовищному несоответствию хвалы, которая им воздавалась, и мелочности и ничтожества их дел и самой их жизни. Будут поражены, что люди, наделенные огромной властью и влиянием, были, на самом деле, просто тряпками, если не хуже».
«Вождем» совершенно иного порядка был Герцль. У него не было никакого звания, никакого поста. Люди просто подчинялись ему, поэтому он был «вождем». В русском языке есть более точное выражение — «властитель дум». Именно таким был Герцль — он «властвовал над нашими думами». Это было фактом, а не должностью. Другими словами, это была правда. Истинные вожди рождаются крайне редко, и их можно распознать как раз по тому, что они не претендуют ни на какое «лидерство». Подчинение им не имеет никакого отношения к дисциплине. Их слушают, как слушают великого певца, потому что его «мелодия» выражает наши мысли и чаяния. И еще — когда такой человек умирает, он и через десятки лет остается нашим вождем.
«Вождь»; в сб. «Воспоминания современника».«Вождизм»
«Общество, подстраивающееся под вкусы «вождей», а не выбирающее себе лидеров по своим потребностям, не имеет права на существование».
Одно дело — вождь, а другое — «вождизм». Вождь — редчайшее явление, он появляется один на поколение, если вообще появляется. «Вождизм» же — это лихорадочные поиски вождя — пастыря, поводыря, превращающего людей в послушное и бессловесное стадо, лишающего их права говорить то, что они думают, и вообще права думать. Высказывания Жаботинского по этому поводу, приводимые ниже в хронологическом порядке, не нуждаются в комментариях:
Я хотел бы довести до сознания читателя одну вещь. Наш тесный контакт с англосаксами привел к тому, что мы переняли кое-что из англосаксонских идей и многое из их фразеологии. Одно из таких заимствований — слово «лидер». Для англичан и американцев это слово — простая условность, не более. Болдуина называют лидером Юнионистской партии, но это вовсе не значит, что эта партия послушна воле Болдуина. Если завтра вскроются противоречия между ним и большинством в его партии, то попросят уйти Болдуина. Точно так же, как либералы в свое время дали отставку Осквейту и заменили его Ллойд-Джорджем. И так это и должно быть заведено в любом здоровом обществе. И только мы, евреи, заимствуя какое-нибудь слово, принимаем всерьез не только его звучание, но и само понятие, которое оно выражает. У нас всерьез полагают, что задача партии — быть послушной воле вождя.
А ведь это вовсе не еврейский подход. Христиане или магометане могут называть себя по имени основоположников своих религий, мы же, евреи, никогда не именовали себя «детьми Моисеевой веры» или «сынами Моисея». Так нас называли неевреи. Себя мы именовали «евреями», а не «народом Моисея».
«Объединенный фронт», «Доар ха-йом», 11.11.1929.Я позволю себе напомнить нашим уважаемым деятелям, что у цивилизованных народов принято «взирать» на программы, а не на «лица», и это разумно, именно так и должно быть. И наоборот, предпочитать программе конкретную личность означает проявлять политическую незрелость. Англичанин или француз, идя к избирательной урне, не думает, кто умнее — Макдональд или Болдуин, Тардос или Блюм. Избирателя интересуют их программы. Большинство англичан, кстати, полагают, что самый разумный политик в Англии Ллойд-Джордж, но большинство англичан при этом отдают свои голоса не его партии, и они правы. Давно пора позаимствовать эту премудрость и нам, сионистам.
Принятый доселе у нас политический «метод» поиска «личностей», прежде всего, аморален, ибо, с одной стороны, вызывает потоки ничем не оправданных восхвалений, а с другой — ничем не оправданной брани.
Нордау ввел в свое время в употребление понятие «общепринятая ложь». Но есть и понятие «общепринятой правды». К примеру, парламентский строй в любой цивилизованной стране базируется на таком «общепринято правильном» предположении, что во главе крупных партий должны стоять люди, обладающие достаточными способностями для управления государством... Но культурным народам этого мало, они хотят застраховать себя от ошибок и смотрят не на личность лидера партии, а на предложенную им программу и план ее проведения в жизнь. И если все это им подходит — они избирают его, нет — извините, будь он хоть семи пядей во лбу.
Общество, подстраивающееся под вкусы «вождей», а не выбирающее себе лидеров по своим потребностям, не имеет права на существование.
«Вопрос президентства», «ха-Ам», («Народ»), 46.1931.Советоваться с людьми — дело, безусловно, скучное, и потому так распространилась ныне мода на «диктаторов». Во главе — единственный и неповторимый, а кому не нравится — пусть пеняет на себя. Он кончит тюрьмой, или (если нет возможности сажать) его исключат из организации. Прежде чем обсуждать достоинства и недостатки такой системы, давайте разберемся, есть ли у нас претендент на роль «диктатора». Я таких среди нас не вижу. Правда, называли тут одно имя, но я совершенно компетентно могу заявить от его лица, что он дает себе самоотвод и категорически отказывается от роли диктатора. Почему не мясника, не пианиста, не скрипача? В жизни никому не «приказывал» и не знаю, как это делается. Само это понятие — «приказывать» — ненавижу. Все эти лихорадочные поиски диктатора у нас — просто комичны. Но есть здесь и некоторая опасность, здесь скрыто предостережение всем нам. Друзья, вы неосторожны в обращении с терминами. Вы очень любите слово «вождь». Его используют и те, кто весьма далеки от тоски по диктатору. Они используют его, чтобы сделать кому-то комплимент. При этом забывают, что это слово, особенно у молодежи, может вызвать вовсе не желательные ассоциации, например, с Италией. Лучше, гораздо лучше воздержаться от употребления этого опасного слова и вернуться к старой доброй моде прошлого века, когда полагали, что президенты и министры должны служить обществу, а не наоборот. Латинское слово «министр» означает не что иное, как «прислужник», «слуга». Государство или какое-то общество должно управляться служащими, а не «вождями».
Это недоразумение с поисками диктатора не стоило бы и обсуждать, если бы речь не шла о весьма распространенной в нынешнем мире тенденции. Тоска по диктатору в моде как у «правой», так и у «левой» стороны политического спектра. «Диктатор» — антипод таких явлений, как Линкольн, Гарибальди, Гладстон, Виктор Гюго. В их времена верили, что человек — он, в принципе, «в порядке», несмотря на отдельные пороки. Дайте ему свободу, дайте ему независимость, равноправие, право голоса, и он, хоть и натворит уйму глупостей, но в конце концов построит вполне приличный и благоустроенный мир. Да, действительно, возможны экстремальные ситуации, периоды тяжелых общественных болезней, которые требуют срочных и экстренных мер. Но лекарство не должно становиться физиологической потребностью. Из исключительных средств нельзя делать правила... Сегодня же распространено обратное мнение. Человек в принципе плох и глуп, и ему нельзя доверять свободы и самостоятельности. Его надо «вести» при помощи команд и запретов, а иначе он погубит себя, соседей, нацию, мир... Не мое дело — критиковать XX век и его моды. Я только хочу сказать, что мне не нравится эта мода, я не уважаю ее поклонников, я не хочу послушно следовать за «вождем» и не уважаю подчиняющихся диктаторам и, в особенности, я не верю, что эта мода — всерьез и надолго. Я верю, что еще при нас мир одумается.
«Мысли вслух», «Хайнт». 9.9.1932.У людей есть странная склонность восхищаться любым, кому удалось «преуспеть». Люди полагают, что не может быть такого, чтобы обыкновенному человеку что-либо «удалось». Преуспел — значит, герой и неординарная личность. В особенности, если речь идет об успехе у толпы. «Экий сатана,— говорят о таком,— был бы он прост, его б никто не слушал». Я настаиваю на том, что такая вера абсолютно безосновательна. История полна «лжепророками» — ловкими обманщиками, неудачливыми вождями. Приставку «лже» добавляют к их титулам потому, что у них «сорвалось». Если бы «проскочило», то их величали бы более уважительно. Но ведь они все вели за собой массы; когда читаешь о них, выясняется, что они были просто обыкновенные, зачастую даже мелкие людишки. А ведь у многих из них «не вышло» лишь по случайности.
Чтобы не углубляться в древнюю историю, обратимся к современности, к тому, чему многие из нас были свидетелями. Речь пойдет далеко не о «ничтожном» человеке, а о человеке «настоящем», достойном всяческих похвал и, действительно, всеми уважаемом, но не «преуспевшем» в конце концов. Речь идет о том российском политике, что играл руководящую роль в первой русской революции 1917 года. Массы слушали его, они даже шли на войну по его призыву — в то самое лето 1917 года, когда уже начался развал русской армии. И не только «массы» верили ему, но и интеллигенция, и высшие и средние слои общества. Какое-то время он был почти что диктатором... Но наступил конец — большевики, катастрофа, и нынче он в изгнании. Тут как раз он продемонстрировал замечательные качества своей души — не «надулся», а спокойно живет, ходит на свою скромную службу и не требует себе лавров гения или героя. Думаю (я не знаком с ним лично), он понимает, что можно вести за собой массы, интеллигенцию, быть властителем огромной страны и все-таки не принадлежать породе Наполеонов и Дизраэли.
История часто «бурлит», и на гребне волны оказываются самые обыкновенные, ничем не выдающиеся люди. Нет большой разницы между тем, кому удается убедить десятерых создать новый банк или фирму, и тем, кому удается сколотить политическую партию. Возможно даже, что уговорить десять финансистов труднее. И если банк или предприятие преуспели, это не значит еще, что их основатель обладает выдающимися способностями в экономике. И наоборот, если они прогорят — это вовсе не означает, что основатель — бездарность. То же и в политике.
Более того. Всем известно, что в предпринимательстве, зачастую везет круглым дуракам. То же, возможно, и в политике, как в обычной «конституционной» жизни, так и во времена революций. Вообще, человечество еще не оценило по достоинству силы и возможности дураков. Я всегда мечтал о немецком профессоре, который провел бы фундаментальное исследование этой темы. Я же, ничтожный, видя, что никто не интересуется этой важнейшей темой, изложил однажды свои беглые и поверхностные мысли в фельетоне на идише, который назвал «Трактат о дураках». В нем я определил некоторые основные принципы типологии дураков: дурак зимний, дурак летний, дурак активный, дурак пассивный... Но я не помню, ввел ли я туда а) дурака государственного, б) дурака преуспевающего. Пользуясь случаем, я, с вашего разрешения, внесу их в реестр.
«Германия после резни», «ха-Ярден», 29.7.1934.Вот любопытный симптом: ведь нет теперь ни в какой области (кроме одной), нет ни одного претендента на венец гениальности. Это еще не значит, что гениев нет: распознать гения дело потомства; но до сих пор считалось обычно делом современников — выдвигать кандидатов на венец гениальности, окружать их восторженным поклонением. Этого теперь нет ни в театре, ни в литературе, ни в пластических искусствах, ни в науке. Говорят, правда, что подлинный гений Эйнштейн; но если это и верно, то как это характерно! Единственный гений эпохи — и то на необитаемом острове, безнадежно непонятный для всех, кроме считанных единиц, а на материке, где живут «все», там просто нет спроса на гениев, и никто по ним даже не тоскует.
Одно исключение — политические «вожди». В этой области урожай на гениев, как известно, чудовищный: один за другим, одна за другой, народы и страны перенимают заразу и открывают в своей среде богоизбранного поводыря с печатью Цезаря на челе.. Априори ясно, что при таком эпидемическом распространении вождизма избранники почти поголовно должны оказаться людьми очень среднего достоинства, и так оно и есть. Устала мысль человеческая, мозги просятся отдохнуть; в старые годы каждый из нас ревниво хранил свое право самолично ломать себе голову над «проклятыми вопросами», а теперь никому не хочется; массы инстинктивно ищут охотника, что взялся бы думать за них, и платят ему за это воздвижением золотых статуй при жизни. Сомневаюсь, допускает ли психологическая наука такие обобщения, как «усталая мысль» у целой эпохи, а все-таки это так; и эта усталость именно и есть корень всех явлений, которые нас, стариков, отталкивают.
«Бунт стариков», 1927, «Современные записки».Похоже, что самым ярким выражением отношения Жаботинского к культу личности служит это письмо, адресованное Меиру Гросману — одному из лидеров Ревизионистской партии. Письмо было написано по поводу готовившихся торжеств к 50-летнему юбилею Жаботинского:
Мне стало известно, что в центр стали приходить письма с выражением интереса, будут ли организованы публичные торжества по поводу известного дня рождения.
Друг мой, я очень прошу обязать центр посылать на такого рода письма вот такие ответы:
«3. Ж. решительно требует от всех своих друзей, без различия их партийной принадлежности, воздержаться от любого рода торжеств по поводу его дня рождения. Невыполнение этой просьбы не только встретит решительный протест со стороны упомянутого, но и будет рассматриваться им как личное оскорбление».
Все, кто знает меня, поймут, что я пишу это, будучи глубоко убежден в своей правоте. Мне отвратительно и гадко все, хоть отдаленно напоминающее культ личности. Нет никакого смысла отмечать дату, никак не связанную с нашими идеями, с их развитием, имеющую лишь личный смысл. И я уверен, что все мои настоящие друзья уважат эту мою просьбу.
Оригинал на немецком яз., 24.2.1930.Торговля и промышленность
«Мы можем сделать Эрец Исраэль заметной силой в мировой промышленности и торговле».
Сельское хозяйство в Эрец Исраэль было воспето поэтами, окружено заботой и вниманием. Промышленность же и коммерция были «пасынками». Жаботинский был одним из немногих в то время, если не единственным деятелем сионизма, обратившим внимание на это и пытавшимся поддержать еврейского предпринимателя, внушить ему, что его дело не менее почетно, чем любое другое, и жизненно важно для возрождения Эрец Исраэль:
До сих пор у нас коммерсант считался кем-то, в лучшем случае, бесполезным, его деятельность — неважной для строительства Страны. Это было грубейшей ошибкой, и пришло время ее исправить. Евреи-предприниматели, живущие во всех концах света,— наши естественные союзники, в их руках судьба промышленности Страны. Закрывать глаза на важность этого дела недопустимо. Мы слишком увлеклись грохотом «классовой борьбы», созданием народа-пахаря, народа без коммерсантов вообще. Прельстились дешевыми лозунгами вроде «коммерсант — лишний посредник между производителем и потребителем, и без него можно обойтись». Такие заявления просто безответственны. Не зря в большинстве языков есть устоявшееся словосочетание «торговля и промышленность» — «Trade and Industry». С точки зрения истории, да и простой логики, торговля предшествует промышленности. Торговля — непременное условие развития промышленности. Отдельная семья производит только то, что необходимо для нее самой. Но когда человек научился снабжать продуктами своего труда сперва соседей, а впоследствии и более «отдаленных» потребителей, производить больше, чем ему необходимо, он стал «производителем» в полном, принятом ныне смысле этого слова, именно тогда начало развиваться человеческое сообщество. Торговля — основа развития промышленности, развития общества. И пока еще никто не придумал замены этой жизненно важной функции, сравнимой по важности с кровообращением — жизненно важным для любого организма. Эту функцию пока что способен выполнять лишь частный предприниматель — «купец», которого теперь объявили «лишним». Он не лишний — у него есть много работы. И мы, сионисты, обязаны позвать его нам на помощь, без него мы не построим государство.
Предприниматель и рабочий Страны сделали свое дело — они создали качественную продукцию по приемлемым ценам. Теперь пришло время сказать свое слово еврейскому коммерсанту — заполнить рынок продукцией Ишува. Вслед за Объединением производителей в Стране должно появиться Объединение коммерсантов — это необходимо всем нам, нашему делу.
Речь на открытии Весенней промышленной ярмарки, Тель-Авив, 1930; в сб. «Речи».Вывод израильской продукции на мировой рынок был одним из основных пунктов программы Ревизионистской партии. Газеты писали, что Жаботинский предлагал себя в качестве торгового агента в Париже первым в Стране текстильным предприятиям в Бней-Браке. Жаботинский намеревался работать «на общественных началах». «Плодами Израиля» он называл не только плоды деревьев — он называл так все, произведенное в Стране:
В Библии есть прекраснейшая метафора — плоды земли называются песней земли. И самая красивая «песня» народа — его работа — и в поле и в мастерской. Грохот машин в Тель-Авиве и в Хайфе — это тоже песня земли. Настало время созвать публику — слушателей песни Эрец Исраэль во всем мире.
Многое писано о продукции Страны. Давно известно и общепринято, что экспорт этой продукции — не «одно из средств», а важнейшее средство приобщения евреев диаспоры к делу строительства Страны. Это самый действенный, самый надежный, самый здоровый, если угодно, способ финансирования этого строительства — диаспора не жертвует доброхотные даяния, но покупает сделанное в Эрец Исраэль. Все это знают, но, несмотря на это «знание», мы до сих пор не пошевелили и пальцем ради этого. Не существует до сих пор никаких коммерческих организаций, не налаживаются коммерческие связи для донесения «песни Страны» до зарубежного слушателя. А давно пора бы.
«Песня земли», 1937; в сб. «На пути к государству».Невозможность обеспечения иммигрантов работой — довод, который приводили англичане в оправдание своей политики «закрытых дверей» в Эрец Исраэль. Жаботинский настаивал на том, что эти возможности практически неограниченны, т. к. все зависит не от размеров территории, а от частной инициативы, от размеров капиталовложений. И самый большой «резерв», разумеется, промышленность:
Разумеется, все мы согласны, что производительность, плодородие земли — важнейшее дело. И все мы согласны, что его можно и нужно повышать. Но мы не согласны с тем, что роль сельского хозяйства в наше время может оставаться такой же, как и в древние времена. Как тут не привести пример Англии — одной из самых здоровых в экономическом отношении стран: в ней процент сельского населения один из самых низких в мире. Надо отметить, что и у нас, в Эрец Исраэль, стала заметной тенденция урбанизации, по крайней мере, в еврейском секторе. Можно предположить, что эта тенденция в дальнейшем будет все более развиваться, удельный вес сельского хозяйства в экономике Страны — снижаться. И поэтому, при всей его важности, вопрос плодородия почв — не главный вопрос. Главный вопрос — увеличение «приемоспособности» Страны — рабочие места для новых поселенцев. Мы утверждаем, что приемная способность зависит только от людей. И что качество и ассортимент выпускаемой продукции зависят не от природных условий, а от человека.
Всем известны побасенки об «экономистах», утверждавших, что в Ланкашире не может быть текстильных фабрик, т. к. хлопок в Англии не произрастает, а в Швейцарии не могут производить шоколад, т.к. там не растут бобы какао. Ясно, что на текстильную промышленность Англии мало повлияло бы, если б на ее полях вдруг стал расти хлопок. А вот если бы в Ланкашире не стало рабочей силы, то текстильных фабрик там бы не было. Есть много стран, где выращивают хлопок и где нет при том текстильной промышленности. Главное «природное богатство» любой страны — люди, их способности, профессионализм, умение налаживать торговые связи, предприимчивость. Мы утверждаем, что Эрец Исраэль, при ее выгодном географическом положении, в скором времени будет весьма густо населена. Может статься, что не нами, не евреями — это другой вопрос, но ее географическое положение обладает огромной притягательностью. Мы можем сделать Эрец Исраэль заметной силой в мировой промышленности и торговле. Отсутствие природных ресурсов, по всей видимости, помешает этому не больше, чем оно мешает Манчестеру.
Свидетельство перед Государственной комиссией, 1937; в сб. «Речи».Бунт и восстание
«Ныне наши отношения с Англией — отношения гражданина оккупированной страны с оккупантом».
Непростым, неоднозначным было отношение Жаботинского к Англии, которой был вручен мандат на Эрец Исраэль. В Англии Жаботинский создавал Еврейский батальон — первое вооруженное формирование евреев. Жаботинский надеялся, что союз, скрепленный кровью и общностью интересов на Ближнем Востоке, приведет, в конце концов, к союзу независимого еврейского государства и Великобритании. Но уже в первые годы Британского мандата Жаботинский уловил другие «нотки» в политике Англии по отношению к сионизму. Жаботинский забил тревогу: он требовал от руководства сионистского движения сделать все, чтобы обратить внимание мировой общественности, общественного мнения самой Англии на близорукость и двуличие английских мандатных властей, на то, что их все более явное заигрывание с арабами Эрец Исраэль и соседних стран — угроза не только делу спасения еврейского народа, но и интересам Великобритании. (Очень скоро история подтвердила правоту Жаботинского). Трудно сказать, как сложилась бы история, если б лидеры сионизма тогда — во время «медового месяца» Британии и сионистского движения — вняли призывам Жаботинского. Но произошло то, что произошло: англичане, при прямом попустительстве сионистского руководства, делали все, чтобы не был возрожден в Эрец Исраэль еврейский национальный очаг.
Осуждая коллаборационизм руководства Ишува, Жаботинский признавал, что корень зла — чужеземная оккупация,— с ней прежде всего и надо бороться:
Не наша собственная нерешительность, а «внешняя измена», позор чужой власти — наши главные беды. Наше общество не должно забывать об этом. Наша задача — обострить до крайности конфликт, возникший между Ишувом и оккупационными властями, чтобы мир слышал отныне не только наши стенания, но и стенания оккупантов. Власть в их руках, и они умело используют ее для того, чтоб отравить нам жизнь. Но и наше общество, если оно будет достаточно решительным, способно «подсластить» жизнь и иноземному чиновнику, и наместнику, и министру. Мы должны воевать не с порабощенными евреями, а с чужеземным поработителем. Это гораздо труднее, но если мы не будем с ним бороться — мы не победим.
Оригинал на иврите, «Хазит ха-ам», 23.3.1932.Историки, изучающие борьбу Ишува с английскими оккупантами, должны признать, что Жаботинский был первым, кто призвал к борьбе с мандатными властями, первым, кто откровенно назвал англичан «оккупантами», более того — врагами. Жаботинский считал, что первым этапом борьбы должно стать гражданское неповиновение, но в то же время утверждал, что не замедлят появиться и другие, куда более радикальные методы борьбы:
Сейчас самое главное, чтобы Ишув начал готовиться к новой форме политической борьбы — гражданскому неповиновению...
Я наизусть знаю все доводы и уловки, все возражения против этого совета. Аргументы черепашьих «политических шагов», рассуждения о «сдержанном» отчаянии. Нет нужды отвечать на все это. То, о чем говорим мы, не «совет» вовсе и не предсказание даже, это простая констатация уже свершившегося факта. Это явление будет развиваться, захватывать все более широкие круги общества. Никакие рассуждения не помогут. Так будет, ибо так должно быть, ибо наш главный враг в Эрец Исраэль — английское правительство, а к врагу следует относиться как к врагу.
«Независимость», «Хайнт», 18.12.1931.Какие же формы примет борьба? Мысль о вооруженном восстании пока еще не приходит в голову — слишком неравны силы, слишком неподготовлен к вооруженной борьбе Ишув. Пока на повестке дня только различные формы неподчинения, и Жаботинский настаивает, что руководство Ишува должно присоединиться к этой борьбе:
Ишув должен был стать боевым авангардом еврейского народа, инициатором решительных действий. Но тут Ишув разочаровал даже своих самых страстных поклонников. А ведь очевидно, что в ближайшее время протест должен будет выражаться в самых разных, зачастую и радикальных формах,— словесный протест уже и сейчас практически бесполезен в борьбе с антисионистской, антиеврейской политикой англичан. Англия удерживает до сих пор свою власть в Индии благодаря тому, что духовные лидеры народов Индии сидят в тюрьмах. Мы не думаем, что конфликт непременно обострится до такой степени и у нас. Но совершенно ясно, что в ближайшее время он приведет к непосредственному противостоянию граждан и администрации. И Национальный комитет обязан встать во главе движения гражданского неповиновения, открыто выступить против мандатных властей, или он должен быть отстранен от руководства Ишувом, лишен права называться представительным органом еврейского народа.
«Прекращение огня?», «Хазит ха-ам», 25.3.1932.Жаботинский до поры воздерживался от того, чтобы призвать своих сторонников к более решительным действиям, все еще надеясь на успех дипломатических шагов, которые он предпринимал в то время. Но он решительно выступал в поддержку любой инициативы «с мест».
Несомненно, что формы политической борьбы, вступающие в прямое противоречие с декретами администрации, станут необходимыми в свое время. Разумеется, они не должны будут преступать общепринятых законов морали, в особенности в том, что касается неприкосновенности человеческой жизни (кроме случаев самообороны). Эти действия будут, повторяю, необходимы. И достойны похвалы терпевшие до сих пор и начавшие борьбу. Более того, сама наша организация, основывающая свою деятельность на принципе абсолютной легальности, должна, когда это необходимо, решительно выступать в поддержку активных действий. Всякая уважающая себя организация должна приветствовать тех людей в своих рядах, которые вступили в решительную борьбу за правое дело, против неправого закона.
Письмо руководству Бейтара в Эрец Исраэль (оригинал на иврите), «Хазит ха-ам», 29.7.1932.Борьба должна выражаться не только в прямых столкновениях с врагом, но и в пропагандистской деятельности. Жаботинский прекрасно усвоил, что мир готов слушать лишь тех, кто неустанно и громко напоминает о себе:
Это вовсе не «унизительно», когда слабый выходит на улицы протестовать против сильного, а тот, сильный, демонстрируя свои дутые бицепсы, прогоняет с улицы слабого. Наоборот, это почетно, когда слабый, не будучи в силах более терпеть, выражает свой протест всеми доступными средствами и не боится получить дубинкой по голове и угодить в тюрьму. Это всякому понятно и в Европе, и в Америке, и я надеялся до сих пор, что это понятно всем и в Эрец Исраэль...
Усвойте раз и навсегда: нынешнему поколению недосуг читать прокламации. И даже массовые собрания — тихие и «почтенные» — на него совершенно не действуют. А вот звон разбитого_стекла оно услышит и уж тем более впечатлится демонстрацией, сопровождающейся столкновением с полицией. Не думайте, что мне это нравится. Я не меньше вашего ненавижу звук разбиваемых стекол, не меньше вашего не люблю видеть разбитых голов, будь то головы демонстрантов или полицейских. Если бы я создавал нынешний мир, я бы создал его совершенно другим. Но не я и не вы формируете взгляды и привычки этого мира, определяете, на что он обращает свое внимание, а на что не обращает. Мир таков, каков он есть. Есть способы заставить его смотреть, есть способы отвратить его внимание. И если ваша цель — привлечь его внимание, то действуйте нужными для этого способами и не обращайте внимание на досужие разговоры о «бесполезности».
«О святости полиции», «Хазит ха-ам», 8.1.1934.Жаботинский пытался в то же время умерить пыл «горячих голов», полагавших, что вышеупомянутые действия дадут быстрый результат:
На нашем съезде в Кракове были и «максималисты». Слишком мало — мне хотелось бы, чтоб их было побольше. Я не согласен видеть в них «оппозицию». Всем нам, вообще всем евреям, присущ в той или иной мере дух максимализма, и то, что максималисты говорят, зачастую (не всегда) находит отзвук в наших душах. Ни за что не согласился бы, чтобы дух максимализма исчез совсем. Единственное, чего я требую от наших максималистов,— логики...
«Битье стекол» — и вообще методы физического воздействия мне глубоко антипатичны, и я серьезно советую воздерживаться от них при любых обстоятельствах. Правда, можно представить себе ситуации, когда такие действия оправданны, понятны, по крайней мере. К примеру, когда ты читаешь в газете, что где-то устроили охоту на туристов-евреев. Исключительная мерзость порождает исключительные взрывы гнева. Такие вещи можно понять, к таким вещам и суд присяжных относится с пониманием. Но во всем должна быть мера, и в максимализме тоже. Реакции должны быть адекватны, в противном случае у мира создается впечатление, что это все превратилось в своего рода спорт, и тогда достигается совершенно обратный эффект...
Даже «баррикады» — не всегда «метод». Тут нужно считаться с логикой, да просто с арифметикой. Когда на баррикады идут люди, живущие в окружении своего народа, даже если этих храбрецов — всего дюжина, то у них есть хотя бы надежда, что массы со временем пойдут за ними, присоединятся к их борьбе. Баррикады для народа, составляющего большинство,— это действенное средство борьбы. Но когда евреи Эрец Исраэль идут на баррикады, не будучи даже четвертью населения страны,— какие у них шансы? Еврейские баррикады — средство духовной борьбы, они пробуждают совесть мира, привлекают внимание, но физически — они не могут принести победы. В точности как человек, который бросается из окна на виду у всех, чтобы привлечь внимание к несправедливости, учиненной над ним.
...Если найдется дурак, который на основании вышеизложенного придет к выводу, что я «изменил свое мнение об оккупантах», то я не буду ему отвечать. Логика требует: в дождь — зонтик, в слякоть — галоши, летом — легкая одежда, зимой — теплая; все во имя одной цели, но средства — по сезону.
«О максимализме», «ха-Ярден», 1.2.1935.«Сезоны» же менялись с головокружительной быстротой — история в то время развивалась стремительными темпами. И сам Жаботинский, который всегда почитался самым решительным из вождей сионизма, чуть не отстал от времени. Но он сумел вовремя осознать свою «отсталость». Реальность изменилась: трагедия еврейства Восточной Европы стремительно надвигалась, а Англия наглухо захлопнула перед ним ворота Эрец Исраэль. Стала явной ставка англичан на арабов. Но и еврейское население было уже не то: оно окрепло, оно было готово дать решительный отпор. И арабам и англичанам было дано почувствовать это. Жаботинский понял необходимость борьбы «новыми методами»:
Если ли у нас еще компаньон? Годится ли он нам в компаньоны? Стоит ли он еще чего-то? До каких пор?
Поверьте — все это лишь риторические вопросы. То есть, не то чтобы ответ известен заранее. Ответ может быть и положительным и отрицательным, и, главное, он все еще зависит от нас — евреев, от нашей «линии». Но вопросы эти поставлены, их поставила сама жизнь. И нам надо дать на них однозначный ответ.
Время требует нового политического подхода. Новых методов, таких, которые еще несколько лет назад казались безумством и утопией.
«Одиннадцатый час», «ха-Машкиф», 27.1.1939.И наконец Жаботинский пришел к неизбежному, окончательному выводу:
Мы и вправду не хотели прививать молодежи вкус к незаконным действиям конспиративного характера. Ибо надеялись, что можно будет строить наши отношения с Англией как отношения граждан с их гражданским правительством. Надежды не сбылись, и ныне наши отношения с Англией — отношения гражданина оккупированной страны с оккупантом. Это не «мандат» — это оккупация. У такой власти нет морального права на существование, и у нас нет моральных обязательств перед ней, перед ее представителями.
Из кн. «Еврейская война за независимость».Самодисциплина
«Самое прекрасное свойство рода человеческого — это талант приводить личность в гармонию с другими личностями в целях общего взаимопонимания».
Евреи органически неспособны принять чье-либо мнение без споров, криков «выяснения отношений». Жаботинский считал, что это еще одно «тяжелое наследие» диаспоры. Он понимал, что без осознанной дисциплины, организованности такое дело, как возрождение государства, обречено на провал. На возражения в том духе, что дисциплина несовместима со свободой мнений, со свободой личности, Жаботинский отвечал:
Что же такое — дисциплина? Тот, кто считает, что дисциплина исключает свободу воли, ошибается. Что такое свобода воли? Существует ли она? Разве поступки человека никак не зависят от обстоятельств? Разве не вынужден человек считаться со всем, что его окружает? Разница только в одном — поступает человек осознанно или его сознание не влияет на его действия. Кант сказал: «Или я обязан, или я вынужден». Или я влеком обстоятельствами и ошибочно полагаю, что я свободен, или я осознаю происходящее, осознанно подчиняюсь, и тогда я свободен.
Члены спортивного общества «Сокол» в Чехословакии собрались на тренировки. Одно из их упражнений произвело неизгладимое впечатление. Огромное поле стадиона в Праге разметили на десятки тысяч квадратиков — вроде шахматной доски. В центре стоял молодой человек и без единого слова, неуловимым движением руки управлял десятками тысяч людей — они одновременно делали одни и те же движения! И в этом разница между организованным обществом и бушующей толпой, даже если у толпы — самые высокие цели, даже если толпа штурмует Бастилию. Толпа мечется из крайности в крайность, она — стихия, она способна растоптать что угодно.
Каждое сердце излучает что-то. В небесах есть экран, он вбирает в себя эти лучи и посылает в ответ могучий поток света. Этот свет и есть дисциплина. Эта связь должна быть непрерывной.
Речь на торжествах спорт общества «Маккаби», «Доар ха-йом», 28.1.1920.Жаботинский развивал эту мысль:
Когда мы слушаем оркестр, беспрекословно повинующийся палочке дирижера, и у нас создается впечатление абсолютного единства, это значит, что каждый из оркестрантов вложил огромный труд в достижение такого единства. Отнюдь не дирижер принудил его к этому, а он сам, его стремление к совершенству. Высочайшая цель человечества — достичь абсолютной гармонии всех личностей, всех их устремлений, чтобы «музыканты» не мешали друг другу, а создавали вместе и каждый в отдельности прекрасную симфонию. Собственно, понятие «человечество» и предполагает «единство».
...И нет здесь ничего от порабощения одного другим. Руководитель — всего лишь доверенное лицо тех, кто ему подчиняется. Каждый волен отказать ему в своем доверии и выйти из «оркестра». Мы все, каждый по своей доброй воле, возводим здание и делаем это по плану архитектора. Делаем мы это потому, что нам нравится план, мы его «утвердили». И пока архитектор сам верен утвержденному нами плану, мы будем подчиняться его указаниям.
«Руководителем», «дирижером», «архитектором» может быть один человек, может быть «комитет» — обе формы равно демократичны — до тех пор, пока в силе наша доверенность, данная им или ему. Во Франции управляет «Кабинет». В Америке — президент. И обе республики демократичны от темени до пят...
«Идея Бейтара», 1940; в сб. «На пути к государству». Избрав свободу — выбери опору. Закон Бейтара — это мой удел. И сердце эхом отозвалось хору. И в бездне дух запел... «Клятва»; в сб. «Стихи».Молодежь
«Такую замечательную молодежь не знала история».
Молодежь любила Жаботинского, он отвечал ей тем же. Какой же Жаботинский хотел бы видеть молодежь? Чего он ждал от нее? Ответ на эти вопросы содержится в некрологе, посвященном никому не известному молодому человеку, которого звали Джо Кац. Этот юноша вступил в Александрии в ряды Еврейского батальона, прошел с ним весь его боевой путь. После демобилизации какое-то время работал в Лондоне личным секретарем Жаботинского, затем поступил добровольцем на службу в ВВС Великобритании и разбился в 1923 году во время тренировочного полета:
Я никогда не подозревал, что есть еще во Израиле такие юноши, смелые, рыцарственные, верные даже невысказанной присяге, вечно верующие, вечно веселые, расторопные на всякую работу от починки звонка до разговора с товарищем министра, одинаково готовые и надеть смокинг и, когда нужно, тащить по улице тяжелый сундук; наездник, фехтовальщик, боксер, стрелок, танцор, гимнаст; шофер, стенограф, лингвист; идеализм без рефлексий и анализа, дисциплина без самоуничижения и без ворчбы — грациозная дисциплина гармонической натуры, которой нам так недостает в еврейском быту. Недавно, побывавши на Литве, в Латвии и Эстонии, я встретил новое поколение еврейского юношества, которое во многом показалось мне похожим на Каца. Дай им Бог оправдать эту похвалу.
То, что я здесь пишу, продиктовано вовсе не только личной привязанностью и чувством благодарности. Дело в вопросе, который я считаю жизненно, судьбоносно важным: этот рыцарь, этот правнук Самсона, в котором, как и в его пращуре, счастливо сочетались еврейское сердце и филистимская ясность духа,— кто он — мелькнувшая комета или первый проблеск новой зари?
Подождем ответа нынешнего поколения молодых. Быть может...
«Джо Кац»; в сб. «Избранные труды».Молодежь Прибалтики, так очаровавшая Жаботинского, была теми самыми молодыми людьми, которые в скором времени объединились в Бейтар. Этот союз вскоре распространил свою деятельность по всему миру и, в том числе, в Эрец Исраэль. Здесь нашлось много таких, кто хотел бы предотвратить «дурное влияние» Жаботинского на молодежь. Жаботинский сказал по этому поводу на молодежном митинге в кинотеатре «Эден» в Тель-Авиве:
На всем протяжении моей общественной деятельности меня обвиняли в том, что я-де совращаю молодежь, сбиваю ее с толку и с пути, восстанавливаю детей против отцов. И, возможно, твердившие это были правы. Перед этим выступлением я постарался припомнить все свои встречи с молодежью, и вспомнил я, что, действительно, так и обстоит дело — я всегда ее «совращал». Я вспомнил при этом и то, что Сократа приговорили к смерти именно за это — за совращение юношества... Все великие, по сравнению с которыми мы, живущие ныне, просто пигмеи,— титаны, как Галилей, Джордано Бруно, Байрон, Шелли, Гарибальди,— все они обвинялись в намерении сбить с пути истинного молодежь и подтолкнуть ее к бунту...
...В любом утверждении есть доля лжи и доля правды. Когда говорят, что юноша еще недостаточно опытен для того, чтобы вмешиваться во «взрослые» дела, в этом есть доля истины. Семилетний ребенок не способен к самостоятельности. Возможно, это относится и к семнадцатилетнему юноше. Но только в «спокойные» времена, когда все само идет своим чередом...
Во времена потрясений, во время войны, например, все иначе. Кто в последнюю войну спас честь наций? Те самые «юнцы» от 18 до 21 года, которые в мирное время не имеют й права голоса, которым всегда говорили: «пожалуйста, не вмешивайтесь». Но поди ж ты, в критическое время их вмешательство потребовалось, и они «вмешались» самым решительным образом — с винтовкой в руках. И я спрашиваю: разве сейчас здесь, в Эрец Исраэль — обыкновенные, спокойные времена? Кому, как не вам, молодым, играть сейчас главную роль в строительстве Страны?..
Кто вы, на мой взгляд? Что такое молодежь? Тот, кому немного лет,— не молод. Нельзя сказать, что весна — это без двух месяцев лето. Молодость — это особое состояние человека, его души. Отсюда следует, что далеко не всякий седовласый — не молод. Нордау был молод, Герцль, умерший в сорок четыре, был молодым, Гарибальди был молодым. Молодежь — это особая часть общества, общественной машины, ее маховое колесо, выводящее машину из состояния оцепенения, сдвигающее ее с «мертвой точки».
«Ха-Арец», 3.11.1926.В заключение Жаботинский сказал:
И вот я спрашиваю вас: «Вы — молодежь?». Мне не нужен ответ в виде аплодисментов. Ответ вы дадите самой жизнью своей. И следующее поколение рассудит — какой вы дали ответ. Ответ за вами...
Там же.По сути, Жаботинский знал ответ:
Во многом нам не повезло, судьба была к нам мало благосклонна, но одним, и необычайно важным, она нас все-таки оделила: она дала народу Израиля в первой четверти двадцатого века удивительную молодежь. Лучшей не знала еще мировая история.
«Со стыдом», «Доар ха-йом», 26.9.1930.Не бывает роз без шипов. И среди этой молодежи были многие, ушедшие к чужим «тучным пастбищам», не хотевшие слушать «призыва времени», поддавшиеся отчаянию или циники. На все это Жаботинский реагировал то гневной критикой, то словами утешения — в зависимости от обстоятельств. А мы приведем здесь пример студента-еврея из Южной Африки, который, столкнувшись с антисемитизмом в своем университете, впал в такую растерянность и отчаяние, что решил добровольно уйти из жизни. Жаботинский сумел отговорить его от этого страшного шага. В письме к нему Жаботинский писал:
Самоубийство — самое отвратительное проявление трусости — это капитуляция. Рассмотрите любое свинство, известное в истории или в жизни,— всюду, всегда вы увидите, что корень зла — чье-либо непротивление. Капитулянтство — самая страшная угроза всему живому, а самоубийство как символ — высшая мера капитулянтства, призыв к всеобщей, тотальной измене.
По отношению же к современникам и соплеменникам — это еще и нечистая сделка. Призыв времени ныне: творить чудеса, искать и находить пути к избавлению, к Сиону. Я уверен — через десять лет будет провозглашено, будет существовать еврейское государство. Очень может быть, что и раньше. И наплевать на все это только потому, что в таком-то университете творится свинство,— просто дешевка, просто унизительно.
«Что же делать?» Пардон, но когда я слышу такой вопрос, я перевожу его так: «А как бы мне побыстрее и попроще выбиться в генералы?». А ведь нужны на этом свете и рядовые, а ведь ваш возраст, при всех его достоинствах, возраст рядовых.
Пойдите, поищите себе простой, но всем нужной работы. Мы все через это прошли.
Друг мой, если бы мне сейчас было двадцать, я бы сейчас горы свернул, ведь посмотрите вокруг — теперь ли до безделия?
Лондон, 27.11.1938.С самыми горькими словами упрека Жаботинский обращался к той части еврейской молодежи Восточной Европы, которая не желала внять призыву к эвакуации (см. ст. «Эвакуация») и, как будто под наркозом, ждала надвигающегося конца:
Говорят, что там есть и молодежь. Простите, это невозможно. «Молодежь» — это не арифметическое, да еще и негативное понятие — т. е. «не взрослый». Это понятие позитивное, в точности, как весна, которая не есть недоросшее лето, но есть особое состояние природы. Весна без набухающих почек, не несущая жизнь всему живому,— не весна.
Молодежь в такое время не может взирать на все с безразличием. Если она ведет себя так, это значит, что ее не существует. Это просто клевета на человечество, на Создателя — говорить, что человек может быть молод, и не спрашивать себя в такой страшный момент: «Для чего я живу? Какое право у меня жить? Живу ли я?».
«Усыпленные хлороформом», «ха-Машкиф», 16.6.1939.Студенчество
«Университеты превратились во фронт освободительной войны».
Все, чего Жаботинский ждал от молодежи вообще, он особенно хотел видеть в студенчестве — самой образованной части молодежи. Он не мог представить себе, что эта передовая часть молодежи может остаться в стороне и не участвовать в решительной борьбе, которую вел еврейский народ за свое существование. С ностальгией вспоминал Жаботинский свои студенческие годы, когда:
Особенно проявлялось брожение в среде учащейся части общества. Трудно представить молодому читателю, какую огромную роль в жизни общества играли тогда университеты. Определение этого заведения как разновидности школы было предано полному забвению. Университеты превратились во фронт освободительной войны. Если бы спросили нас: «Кто же станет во главе, когда настанет тот день?» — мы бы ответили не задумываясь: «Конечно, студенческие комитеты!». И так оно и было в Одессе, когда пробил час. Во время революции 1905 года рабочие электростанции обратились именно к студентам за распоряжениями — тушить уличное освещение или нет?
«Повесть моих дней», в сб. «Автобиография».Совсем другое студенчество предстало перед Жаботинским, когда он боролся за формирование Еврейского батальона. Сионистское движение (ниже «партия») предало анафеме Жаботинского, его не допускали до трибун и до газетных полос. И именно один из студенческих союзов — Швейцарский — был во главе этой травли. В письме своему другу и сподвижнику Меиру Гросману Жаботинский высказывал горечь по поводу такого неблаговидного поведения студенчества в самый решительный момент:
И воспитали молодое поколение, во всем подобное воспитателям. Друг мой, я знаю, что Швейцарский студенческий союз выразил тебе протест по поводу опубликования моего интервью. То, что они «против Легиона», мне безразлично — что они знают о нем? Кто им о нем рассказывал? Какая цена приговору, вынесенному лишь на основании обвинительной речи? В любом случае, если Легион будет создан, в него пойдут все, кроме трусов,— не это меня сейчас заботит. Но это стремление «не пущать», появившееся у молодежи,— это нечто новенькое, о таком мы и не слыхивали. Странная молодежь у нас в партии. Странное дело — уже несколько лет, как мы видим приток молодых сил, а ничего нового, решительно ничего не ощущается. Так — ни рыба, ни мясо.
Мы в их годы создали Гельсингфорсскую программу — что сделали они? Чего хотят? Они всем довольны. Довольны, находясь в партии, занимающейся исключительно сбором и распределением пожертвований в момент, когда все вопиет к решительным действиям. О чем они все думают? Они будят спящих? Требуют решительных шагов? Нет — они только протестуют против напечатания еретической статьи. Знаешь, кого они напоминают? В гимназии был такой тип «первого ученика». Он был прилежен, аккуратен, послушен. Классный наставник был им доволен, а он был доволен классным наставником. Все чин-чином, все довольны. Но своему сыну я не пожелал бы такого обидного прозвища. Молодость — почетное звание, и далеко не всякий недавно родившийся достоин его.
Ты — один из достойных. Жму твою руку и жду.
«Ди Трибуне», 15.10.1915.Единственный университет в Эрец Исраэль не только не был университетом в полном смысле слова. Он был далек и от того, чтобы стать «фронтом освободительной войны». Наоборот, власть в нем прочно захватили «баре», которые насаждали идеи, способные погубить дело сионизма. Жаботинский обратился к студентам Еврейского университета с призывом проявить элементарное уважение к самим себе, дать отпор антисионистским тенденциям:
В одной из газет было опубликовано «разъяснение», что, дескать, задача молодежи — набираться знаний, а не вмешиваться в политическую жизнь. Вы должны знать, что это противоречит всем установлениям, самой морали сионизма.
Согласно положению Сионистской организации, право избирать в нее представителей и право быть избранным имеет всякий, достигший 18-летнего возраста. Это значит, что он не только вправе, но и обязан вмешиваться в национальную жизнь, иметь свое мнение по поводу вносимых предложений, голосовать за них или против.
Во-вторых, в любой еврейской организации в Эрец Исраэль, а уж тем более в Профсоюзе, средний возраст не превышает среднего студенческого возраста. И пока никто не утверждал, что эти молодые люди не должны вмешиваться в политическую жизнь,— наоборот!
Я признаю, и вы, наверняка, признаете, что молодой человек вряд ли готов руководить национальным движением, жизнью Страны. Но у него есть полное право оказывать помощь руководству, поддерживать его, если последнее отвечает предъявляемым к нему требованиям, и решительно добиваться его смены, если таковое требованиям не соответствует...
Еврейский университет — двойной обман. Мало того, что его название «университет» — т. е. высшая школа, призванная давать молодежи глубокие знания, но на самом деле там нечего делать молодежи, там попросту нет ей места, там занимаются Бог весть чем, а молодежь вынуждена ехать за море в поисках образования, в то время как молодежь диаспоры мечтает об Еврейском университете в Иерусалиме. Мало этого обмана, так еще хотят превратить это заведение в рассадник антинациональных идей.
Человек, вставший во главе заведения, не имеющий никаких научных заслуг, дающих ему на это право, а только всеми признанную напористость, использует свою должность для насаждения и пропаганды идей, не имеющих ничего общего с сионизмом. И вокруг этого узурпатора объединились люди, которым вообще нечего делать ни в сионизме, ни в самой Эрец Исраэль, люди, пытающиеся превратить и университет, и все вокруг в очередное гетто.
Ни в одной стране студенты не допустили бы такого унижения заведения, честь которого они призваны охранять в неменьшей степени, нежели их преподаватели. И если вы будете и дальше это терпеть, вы принесете университету больший вред, чем распространители гетто — ваши преподаватели. Национально мыслящей молодежи нельзя находиться под одной крышей с национальными изменниками. Или должны хлопнуть дверью вы, или должны уйти предатели.
Письмо М. Перельмутеру и М. Хаимовскому, Иерусалим, 22.12.1929.Жаботинскому был близок дух «корпораций» — студенческой вольницы. Он писал по поводу еврейской корпорации «Хасмонеи» в Риге:
Я учился в стране, где корпорантства не было; думаю, что евреям, выросшим вне германских влияний, оно всегда останется чуждо; но само по себе оно прекрасная вещь. Настоящая корпорация учит не только дисциплине. Она создает и чувство ответственности брата за брата. Каждый бурш отвечает за своего фукса во всех смыслах: аккуратно ли тот ходит на лекции, бреется ли как следует, чисто ли одет, учится ли еврейскому языку, не срамит ли корпорацию неблаговидными действиями. Если у корпоранта беда, болезнь, затруднения с уплатой за «правоучение» — дело не может ограничиться сочувствием: корпорация должна помочь осязательно, и во что бы то ни стало. Вообще надо помогать брат брату во что бы то ни стало. Я видел сценку: один из хасмонейцев приехал на вокзал с двумя чемоданами, а носильщиков не было. По площади проходил другой, с барышней. Они переглянулись: второй сейчас же извинился перед барышней, оставил ее на скамье под деревом, а сам пошел тащить чемодан; и барышня была хорошенькая. В мое время, в Одессе или в Риме, это было бы немыслимо.
Все это связывает людей на жизнь. Это гораздо прочнее, чем просто «дружба». У меня в гимназии было девять друзей, в университете еще больше; но, за двумя или тремя исключениями, я их теперь называю по имени-отчеству — впрочем, я и не помню, как их зовут; и если бы к кому нибудь из этих забытых я обратился в беде, он бы счел это наглостью. Но «бундес-брудер» отзовется по братски через пятьдесят лет.
«Рижская Хасмонея», «Рассвет», 28.2.1926.Избавительная буря
«Буря... погонит наши корабли к спасительному острову, острову спасения всего мира».
Для Жаботинского был характерен деловой, трезвый подход к проблеме антисемитизма (см. ст. «Эвакуация», «Антисемитизм» и др.). Он считал, что даже антисемитские правительства могут сыграть при определенных обстоятельствах положительную роль в деле спасения евреев:
Один из важнейших выводов отсюда — тот, что еврейская трагедия есть вопрос не только еврейский, но и международный. Если материально плохо нам, то нехорошо от этого и обществу, где мы живем. Если мы бесправны, это бесправие развращает всю систему государства. Если на улице или в салонах господствует проповедь расовой нетерпимости, она приведет к деморализации общества. Можно указать и на еще более грозные перспективы, но незачем. Одно ясно: если бы в одно прекрасное утро феномен диаспоры вдруг исчез и все евреи чудом оказались благополучно устроенными в собственной стране, то удобство получилось бы взаимное.
Эта постановка вопроса принадлежит Герцлю. И в его время — 1896 г.— и даже в наши дни нужно много решимости, чтобы сделать из нее конкретные выводы. Все евреи, даже самые убежденные сионисты, очень чувствительно относятся ко всякому намеку, что наше пребывание в диаспоре для кого-либо (кроме них самих) является неудобным. Между собою мы об этом давно говорим и пишем, давно это считаем несомненным научным фактом; прекрасно понимаем, что тут и стесняться нечего, и извиняться не за что — это вполне естественно и неизбежно, всякая социальная неурядица всегда ударяет по двум сторонам. Тем не менее, когда это самое повторяет нееврей — оно нас шокирует. Это так понятно, что и приличный христианин избегает вслух касаться этой стороны вопроса; что, говоря вообще, очень похвально. Наступают, однако, моменты, когда приходится считаться только с суровым голосом необходимости, как бы нас не коробило от этого сурового голоса. Такой момент наступил теперь.
Еврейский народ, целиком и в полном составе, катится навстречу беспримерной и всемирной катастрофе. Есть страны, где антисемитизм и вытеснение евреев стали официальной частью государственного порядка. Есть страны, где то же происходит неофициально: иногда с аккомпанементом уличного гвалта, иногда даже вежливо. Есть страны, где всех этих конкретных последствий еще нет, но где в массах и в обществе явно и быстро нарастают те же самые настроения, которые и привели к этим самым последствиям в странах первой и второй категории. Есть, конечно, люди, которые зажмуривают глаза или утешают себя надеждами на то, что авось как-нибудь все тучи рассеются: легкомыслие безответственное и непростительное. Положение это для нас невыносимо; но и для целого ряда стран, где разыгрывается наша драма, оно нелегкое и опасное. Если наши мучения там затянутся, будет и им нехорошо; если мы найдем для себя дома лучше, то и им в старых домах станет лучше. Это пора признать и сказать вслух. Целый ряд стран должен заявить миру: сионизм — это значит res nostra agitur.
Еврейское государство, рукопись, 1936.Хотя антисемитизм, по выражению Жаботинского, «тайфун, разрушающий все», неуправляемая стихия, грозящая всему на своем пути, но если разумно реагировать и управлять «стихией», можно использовать даже бурю чудовищной разрушительной силы для того, чтобы корабль Израиля прибило к спасительному берегу:
В мореходстве известен этот способ под названием «использование противных ветров». В море встречаются два парусника. Один плывет на запад, другой — на восток, хотя ветер дует, естественно, только в одну сторону. Вся наука тут в правильном подборе парусов и постановке их под нужным углом. В жизни народов эта наука, начисто позабытая нами, называется «политика».
Настали времена в нашей истории, когда задули сильные ветры, хоть и дуют они в противоположную сторону. Весь мир носится с проблемой еврейской эмиграции. Эта проблема стала во главу угла, она возбуждает всеобщую бурю. Все в один голос заявляют: «Мы не можем принять этих скитальцев». Конечно, у всех при этом остается неприятный осадок. Но действительно — что они могут поделать? И если мы перестанем понимающе кивать головой, а будем бередить совесть мира, тогда она, эта совесть, может стать недюжинной силой. И мы сможем сказать: да, в ваших странах евреям не найдется места — у вас и без того тесно. Но ведь мы можем все собраться в Эрец Исраэль. Помогите же ее экономическому развитию, и всем евреям там хватит места. Помогите своим влиянием изменить мандатную политику.
Именно так и действовал Герцль. Его цель была — сделать еврейскую проблему проблемой международной, довести до сознания политиков и общественного мнения, что единственный выход — еврейское государство.
«Избавительная буря», 1936; в сб. «В бурю».Это выражение — «избавительная буря» — Жаботинский ввел в обиход еще в 1924 году. Во второй половине 30-х годов он особенно активно использовал его. Жаботинский рассчитывал на помощь правительств Восточной Европы, на их поддержку еврейской эмиграции в Эрец Исраэль. Он встречался с премьер-министром Польши, с президентами Чехословакии и Литвы, с румынским королем. Он встретил понимание и готовность содействовать. Правительства этих стран намеревались созвать «Конгресс по спасению евреев Европы», который бы выработал четкий план эмиграции в Эрец Исраэль и ее освоения. Жаботинский видел в этом луч надежды на спасение перед лицом надвигающейся катастрофы:
Естественное дело, друзья, что человек в такую минуту спрашивает себя: «Может ли быть еще место в словаре для таких слов, как «утешение» и «успокоение»?» И тут я признаюсь. Во всей этой непроглядной тьме мне видится луч света. Грозовым тучам я говорю: «Вы рассеетесь, вам не одолеть нас, если только мы будем достаточно крепки». Сама по себе буря — полбеды. И в бурю парусники идут против ветра. Я знаю — у этой бури хватит мощи, чтобы нас смести. Или, быть может, принести нам спасение. Все зависит от нас, моряков, как мы поставим паруса. Время покажет, выстоим ли мы. Я готов использовать любое направление ветра, пусть дуют в наши паруса друзья или враги, ближайшее десятилетие покажет, какие ветры принесли нам спасение. Мы должны сделать все от нас зависящее. Мы ходили в самый центр бури — в Польшу. Были в Румынии, в других землях. Мы стучались во все двери. Говорили с королями, президентами, министрами. Они выслушивали нас и прислушивались к нашим словам. Мы говорили им: «Вы действительно хотите, чтобы ваши страны погрязли в болоте, в котором уже погрязли другие? Вы, вы — светочи культуры и либералы до мозга костей — хотите вымараться в крови людей, так много сделавших для ваших стран, помогших вашим предкам выйти из дикости? Есть на свете Эрец Исраэль, и в ней хватит места для всех евреев. Но тот, кто держит ключи от этой страны, он, при всем к нему уважении, стал, как бы это выразиться, ошибаться. Он вдруг решил, что сионизм — это его внутреннее дело, по крайней мере, его дуэт с евреями. Надо разъяснить ему, что это не дуэт, а всемирный хор. Что это в той же мере и дело ваших стран».
...Это тяжелая работа. Но мы продолжаем идти этим путем. И мы ставим наши паруса и верим, что буря — страшный тайфун антисемитизма — погонит наши корабли к спасительному острову, острову спасения всего мира.
«Утешайте, утешайте народ Мой», «ха-Ярден», 28.10.1938.Национальный спорт
«Еврейский национальный спорт» помогает смести барьер, стоящий на пути миллионов жаждущих сердец».
Явление, речь о котором пойдет ниже, называли самыми различными словами: «нелегальная иммиграция», «алия несмотря ни на что» и т. д. Жаботинский называл это — проникновение евреев в свою страну, невзирая на запреты британских властей, в обход всех их законов и постановлений — «еврейским национальным спортом». Занятие этим опасным спортом, к которому руководство официального сионизма долгие годы относилось резко отрицательно, требовало скромности из соображений конспирации. Но иногда Жаботинский видел необходимость нарушить обет молчания:
Совершенно очевидно, что народу, в особенности его молодежи, ни в коем случае нельзя опускать руки и вздыхая говорить: «Полиция запретила нам спасаться — наше дело послушно сидеть и ждать погибели». Нет, мы должны, обязаны искать и находить пути к спасению. И где написано, что в войне нет места известной доле «авантюризма»?
История учит как раз обратному. История учит, что зачастую и неудавшаяся авантюра прокладывает дорогу к будущей победе. В особенности, когда на риск идет не один, но многие.
Быть может, будет совсем не бесполезно, если изо дня в день англичане будут вынуждены отлавливать в Эрец Исраэль молодых евреев и возвращать их обратно. Может быть, будет неплохо, если будет сформирована целая подпольная сеть содействия такому проникновению в Страну, возможно, это поставит англичан в весьма затруднительное положение перед всем миром...
Был бы я помоложе, наплевал бы я на их визы и на их запреты. Невозможно? Расскажите это бабушке, мне — не надо. Да, трудно. Очень трудно. Но не невозможно. Был бы я молод, я ввел бы в обиход новый пропагандистский символ — дешевенький жестяной свисток. Свистели мы, дескать, на ваши запреты и ограничения!.. Британия утеряла право на уважительное отношение к ее законам. Все ее действия в Эрец Исраэль — не что иное, как плевок в лицо чести, морали и самого закона.
«Путь авантюризма», «Морген-журнал», 6.3.1932; в сб. «На пути с государству».Сейчас в Израиле живут многие, кто с благодарностью вспоминают эту статью, подвигшую их на риск, который, в конечном счете, спас им жизнь. Подобное влияние оказала и другая статья в том же духе:
«Еврейский национальный спорт» помогает смести барьер, стоящий на пути миллионов жаждущих сердец. Он помогает бездомной толпе обрести себе родину и стать народом. Все другие виды спорта — всего лишь игра. Наш спорт — всерьез. И воспитывает он такие качества, которые, возможно, и не требуются в других видах спорта... Терпение, стойкость в беде? — Спросите того, кто был схвачен, и он расскажет вам, какое сверхчеловеческое терпение, какая стойкость в испытаниях нужна в нашем национальном спорте. Преданность? Благородство? — Другие виды спорта не дадут вам возможности помочь старику, ребенку, женщине, другие виды спорта вообще не допускают слабых. Другие виды спорта — для атлетов с ясным взором.
Наш национальный вид спорта имеет короткую историю. Но у него уже появились свои славные традиции: последняя капля из фляги полагается женщине, здоровые проводят ночь стоя, чтобы больной мог спать хотя бы с минимальным удобством. Мужество? Опасности? Было бы с чем сравнивать. В самом «грубом» виде спорта — в регби — игрок рискует, в худшем случае, вывихнуть сустав, растянуть связки. В боксе — получить сотрясение мозга. Было бы с чем сравнивать...
Я совратил молодежь. Я учил ее быть непослушной, засорял ей голову новой «азбукой»: не читать по складам, а метко стрелять. И есть у меня подозрение, что до сих пор не удалось мне причинить молодежи большого ущерба. И потому я надеюсь, что Бог даст мне сил продолжать мое черное дело...
«Национальный спорт», «дер Момент», 28.4.1939.Движение, во главе которого стоял Жаботинский, создало организацию по «контрабандной» доставке евреев в Эрец Исраэль. Многие и многие воспользовались «услугами» этой организации. Целью этого предприятия было спасение человеческих жизней — в самом прямом смысле. Жаботинский подчеркивал также огромную политическую важность «национального спорта»:
Когда издается дурной закон, а народ подчиняется ему с верой в его справедливость, то это как бы придает и закону и горезаконодателю дополнительные силы. Молчание общества есть его молчаливое согласие с тем, против чего оно должно было бы бороться. Ежедневно, ежечасно общество обязано демонстрировать свое неприятие неправедного закона. Тогда с каждым днем из-под этого колосса будет выбиваться еще одна подпорка, дурно скроенный закон начнет трещать по швам. И тогда весь мир увидит и поймет, на чьей стороне правда. В этом смысл «алии Бет» — свободной иммиграции. Каждая попытка такой иммиграции — была она успешной или нет — пощечина принципу «стоп иммигрейшн». И чем более крутые меры будет вынужден принимать Лондон против этой иммиграции, тем больше будет он позорить себя в глазах всего мира, да и в своих собственных. Друзья, человек способен знать о существовании мерзости, но ощущать ее — совсем иное дело. Сто раз вы можете пройти мимо дома, где, как вам известно, отец-злодей избивает до полусмерти сына, но вы ощутите мерзость этого лишь тогда, когда услышите вопли несчастного ребенка. В конце концов наш крик дойдет до слуха всего мира, и, возможно, даже некоторые из наших сегодняшних противников поддержат нас из своих политических соображений.
Из всего, что мы делали в последнее время, самое горькое разочарование принесла нам наша попытка привести в Эрец Исраэль корабль с евреями из Польши. О сборах, о подготовке к отплытию вовсю писали польские газеты. Корабль, наконец, вышел и к празднику Песах подошел к Хайфскому порту. В Хайфе живет 50 000 евреев. Они видели этот корабль, люди с корабля видели Хайфу, гору Кармель, был Песах — праздник освобождения, и в этот самый праздник корабль с несчастными беженцами, уже видевшими на расстоянии вытянутой руки обетованную землю, был отправлен назад... А 50 000 хайфских евреев спокойно взирали на это...
Но я еще не потерял надежды. Не прорвались на сей раз — быть может, сумеют в следующий. Когда вы слышите об «алие Бет», помните о ее огромной политической важности. И об огромной важности этого дела для нас, евреев. Есть смельчаки, взбирающиеся на Монблан. Но идет ли это в какое-нибудь сравнение с нашим национальным спортом? И когда ты прорываешься через все препятствия, разве это только твоя личная победа? Нет! Это шаг вперед всего нашего народа.
Речь на митинге в Варшаве, май 1939; в сб. «Речи».Сефарды и восточные общины
«В каждой великой нации существует многообразие оттенков, и у каждой из ее частей есть свои, особенные достоинства».
Тот, кому знакома фанатичная преданность Жаботинского идеям равенства, прекрасно понимает, что он не мог умалить ценность какого-либо из колен Израиля, недоброжелательно отозвавшись о нем, или позволить кому-нибудь другому такое, что пробудило бы в нем ощущение своей неполноценности. Жаботинский умел с доброжелательным интересом вглядываться в характерные особенности разных частей нации, не испытывая предубеждения ни к одной из них. Вопреки мнению, распространенному в ашкеназском окружении, среди которого он жил и в котором родился, он находил у сефардов преимущество перед ашкеназами, которое отметил особо:
Если существует переселение душ и если — прежде чем родиться вторично — мне было бы позволено свыше выбирать народ и расу по своему желанию, я бы ответил: «Израиль, но сефардский». Я полюбил сефардов, возможно, именно за те качества, над которыми издеваются их братья ашкеназы: их «поверхностность» я предпочитаю пустопорожней нашей глубине. Их инертность мне гораздо милее нашей склонности гнаться за ускользающими иллюзиями, сменяющими одна другую. Поколения духовной и общественной спячки позволили сефардам сохранить свою душевную свежесть. Что же касается культурного богатства — то неизвестно, что больше приближает человека к порогу цивилизации (западной, ибо запад и цивилизация синонимы) — литр французской или итальянской культуры или тонна русской мистики. В Салониках, Александрии и Каире вы найдете еврейскую интеллигенцию того же уровня, что и в Варшаве и Риге; в Италии — на голову выше, чем в Париже и Вене. Только один единственный недостаток сефардов я готов признать — в том, что касается сионистской деятельности: хотя национальные идеи более распространены среди сефардов, чем у нас, в их сердцах еще не проснулся боевой дух, у них нет «амбиций». Но и это чувство еще пробудится в свой срок.
«Повесть моих дней»; в сб. «Автобиография», стр. 79.Однако, может быть, это похвальное слово сефардам было не чем иным, как демонстрацией моральных принципов, ущемленных действительными или надуманными фактами дискриминации евреев восточных общин? Может быть, Жаботинский хотел поставить на место евреев ашкеназского происхождения, чтобы те перестали заноситься перед своими братьями? Но это похвальное слово не было «сиротой». Во многих статьях и выступлениях Жаботинского мы находим выражения похвалы в адрес сефардов, йеменских и грузинских евреев — и слова раскаяния перед ними. Жаботинский отстаивал их интересы на сионистских конгрессах и других форумах, вел войну в защиту бесправных общин в израильском обществе. Например, в том факте, что сефарды практически не участвуют в руководстве сионистского движения, он видел несомненный ущерб делу сионизма:
Слова, которые я скажу здесь, являются результатом наблюдений и размышлений последних двух лет, а также времени, прожитого в Стамбуле и Салониках. Эти наблюдения касаются отношения к евреям восточных общин. Отношение это нездоровое, и здесь, в Эрец Исраэль, оно причиняет вред нашим национальным позициям. С одной стороны, терпит ущерб наше движение, почти совершенно лишенное содействия важного еврейского элемента, имеющего много важных преимуществ перед своими ашкеназскими братьями, прежде всего, душевную свежесть — ибо сефарды не страдали, как мы, не гонялись за пустыми звуками, тщетными мечтами, лозунгами чужих культур. Сон на протяжении поколений, хотя и привел к забвению многих приемов духовной борьбы, без которых невозможно победить в борьбе за существование, притупил меч и покрыл его ржавчиной, но одновременно сохранил под слоем пепла живительный напиток, который мы растратили без пользы. Помимо этого, евреи восточных общин знают Восток, его обычаи и языки, и невозможно исчислить ущерб, который мы претерпели из-за того, что не прибегли к их опыту и посредничеству в наших первых шагах на Востоке. И в борьбе за господство иврита как разговорного языка вклад восточного еврейства очень велик. Разве не протестует против влияния жаргона сефард, даже не знающий иврита? И всем этим не воспользовалось наше движение или воспользовалось в совершенно недостаточной мере, понеся немалый ущерб. С другой стороны, ущерб был нанесен и сефардам: они остались беззащитными перед растущим влиянием левантизма, не смогли приобщиться к тому хорошему, что мы принесли с собой с севера и запада.
«Сефарды и выборы» (оригинал на иврите), «ха-Арец», 9.3.1920.Руководствуясь вышеизложенным, Жаботинский высказывает серьезное обвинение своим ашкеназским братьям, укоряя их в вопиющем непонимании и заносчивости:
Кто виноват? На этот вопрос я готов ответить без малейшего колебания: ашкеназ. Только ашкеназ. Я слышал все оправдания и все привычные жалобы, все эти «невозможно» и «они не хотят» и даже «ты не можешь судить»... Болтовня. Когда пятьдесят лет назад основатели Альянса[*] прибыли в Измир и Стамбул, они нашли там куда более «чужое» окружение, чем мы имеем здесь сегодня. Несмотря на это, они смогли проникнуть в это окружение, повлиять на него, раскрыть ему глаза, вложить в его руку современные орудия труда, новые средства борьбы за существование. Цели Альянса отличаются от наших целей, но жаль, что мы не сумели пойти его путем. И мне понятна причина того, почему основатели Альянса добились успеха там, где мы оказались несостоятельными. Причина этого в том, что они были истинными европейцами, в то время как мы в своем большинстве — выходцы из стран Восточной Европы, которая только наполовину Европа. Полуобразованность, полукультура представляют опасность в любом месте; северный левантизм немногим превосходит своего южного собрата. Французские евреи в свое время прибыли на Восток, воодушевленные тем же духом, который привел британских миссионеров к племенам, населяющим нетронутые земли: они не чванились своим культурным превосходством, а настойчиво стремились к сближению, чтобы работать и учить. Мы, со своими черными косоворотками и ненавистью к галуту, привезли с собой из России, из Галиции нечто подобное извращенному самомнению нувориша, преувеличенный страх, не сочтут ли и нас дикарями,— характерный признак недостатка культуры, отсутствия настоящей уверенности в себе.
Там же.Жаботинский возражал тем, кто заявлял, что школы, в которых будут совместно обучаться дети из разных общин, решат проблему равенства. Это выглядело так, как если бы сказать: «Вы еще не достойны социального равноправия с нами, но вот ваши дети, следующее поколение — может быть...» Жаботинский предостерегал:
На этом фундаменте не построить здоровых взаимоотношений. Ни одна община, ни одна группа не смирится с мировоззрением, заключенным в подобных словах. Останутся подавленное раздражение, зерна ненависти и обиды, трещина, которая однажды, в час испытаний, может расшириться и образовать брешь в крепостной стене. Но и помимо сказанного, совместное обучение само по себе не способно выполнить тех задач, которые перед ним ставят. Школа — это еще не все воспитание, а только один из его факторов. В Тунисе и Алжире, Баку и Ташкенте еще десятилетие назад обыденным явлением стал тип молодого мусульманина из богатой семьи, обучавшегося в гимназии, колледже или даже в университете. Окончив учебу, он возвращался в свой город, в привычную среду, по прошествии двух лет снимал западную одежду, облачался в халат и войлочные туфли и наконец восседал на ковер, по-турецки скрестив ноги. Так делали его отцы и деды, и вместе с внешними обычаями он возвращался к привычкам и склонностям старшего поколения. Школа возводит и насаждает, но ее власть коротка, юноша вырос и покинул ее. В то же время власть окружающей среды постоянна и продолжительна, и она способна разрушить возведенное и искоренить насаженное школой. Общее окружение, общая среда — это не менее важно, чем общая школа.
Там же.Однако то, к чему Жаботинский обращает свои помыслы,— не уравниловка, а подлинное равенство. Тот, кто хочет видеть в саду человечества наибольшее разнообразие плодов — наций, должен, естественно, уметь ценить каждую традиционную особенность, специфический эмоциональный строй, присущий различным частям нации, должен противиться любой попытке затушевать это разнообразие, произвольно смешать цвета и оттенки:
Те, кто знают, что я требовал взаимного сближения между сефардами и ашкеназами, возможно, будут удивлены, когда я скажу им, что я не стремлюсь — разве только в самом отдаленном будущем — к созданию некоего обобщенного еврейского типа. В каждой великой нации существует многообразие оттенков, у каждой из ее частей есть особые, только ей присущие достоинства, и их, по моему мнению, необходимо развивать, не смешивая сотворенное «по роду своему» в общем котле. Я не хочу сейчас углубляться в психологические различия между общинами, однако я вижу и чувствую, что есть в сефардской лире звуки, которых лишен ашкеназский рояль, и наоборот. Может быть, между нами существует небольшое расовое различие, или это только следствие того, что множество поколений жили в разном историческом окружении, и кровь здесь ни при чем — но ашкеназ вышел из северного гетто вооруженный большей энергией, остротой и настойчивостью, чем его братья из других общин, в то время как сефарду из Салоник присущи физическое и духовное здоровье, спокойствие и внутренняя уверенность, взгляд, способный отчетливо различать цель,— все то, чего так не хватает выходцам из России и Галиции, торопливым, раздражительным, без конца разбрасывающимся. Мы надеемся, что с течением времени ашкеназы сумеют освободиться от этих недостатков, так же, как и сефарды — от своих. Но я не вижу смысла в искусственном смешении, от которого обе общины не получат никакого преимущества, а наоборот, пострадают. Более того, в самой ашкеназской среде тоже имеются непохожие друг на друга оттенки национального характера: остроумный и резкий литвак, склонный к анализу скептик; южанин, более оживленный, естественный, чуточку «гоишер коп», фантазер, деятель и строитель, не любящий вдаваться в казуистику; «поляк», более рафинированный в своих чувствах, богатый душевным лиризмом и честолюбием — источником всех стремлений. Мне кажется, что и эти типы не надо смешивать. Напротив, мы только выиграем, если будет взаимно дополнять друг друга. Это же относится к йеменскому еврейству, новому, еще не изученному явлению, обещающему быть очень интересным и, может быть,— кто знает — богато одаренным. Мы еще не знаем, что из нас выйдет — может быть, гениальный народ, а может быть — раса глупцов. На что похожа нация? Это большой оркестр, где есть своя партия для флейты и своя — для арфы.
Опубликовано Всемирным объединением восточных евреев, «Херут», 25.10.1932.Жаботинский побуждал сефардов к внутренней организации и настаивал, чтобы они не отказывались от объединения даже перед лицом обвинения в сепаратизме, боролись за свою роль и влияние в еврейском общества. Однако —
...Однако есть два аспекта, о которых восточное еврейство не должно забывать в своей борьбе. Первое — что это братская борьба, а не борьба между братьями. И второе — во всякой общественной борьбе самое главное, необходимое и способствующее успеху оружие — это самоусовершенствование, внутренняя подготовка, предшествующая восхождению. Было бы хорошо, если бы и ашкеназы не забывали об этих двух принципах.
Там же.Иврит
«Иврит, иврит и еще раз иврит».
Жаботинский с самого начала осознал историческую необходимость возрождения иврита как разговорного и литературного языка всего народа. В 1903 году он писал:
Нас упрекают в мечтательстве и романтизме, нам говорят, будто мы ведем свою национальную проповедь из какой-то эстетической прихоти — потому, что нам нравится еврейская культура и еврейский язык. Да, не спорю, нравится, но не в том дело. Если бы еврейская культура была еще ниже клевет Лютостанского[*], если бы еврейский язык был хуже скрипа немазанной телеги, то и тогда возвращение к этой культуре через посредство этого языка было бы для нас совершенно непреодолимой реальной потребностью, от неудовлетворения которой мы реально страдаем,— было бы властной исторической необходимостью. Нас национализирует сама история, и тех, кто ей противится, она тоже рано или поздно повлечет за собою. Но они поплетутся тогда за нею в хвосте, как связанные пленники за колесницей покорителя. Благо тому, кто вовремя поймет ее дух и пойдет в первых рядах ее победоносного течения.
«О национальном воспитании», «Фельетоны», 1913.Жаботинский был среди первых пропагандистов иврита в России, где жили миллионы евреев. Он считал, что недостаточно просто изучать язык, он настаивал на необходимости учреждения школ, в которых иврит был бы языком преподавания. Он изъездил с лекциями на эту тему всю Россию вдоль и поперек. Вот конспект одной из таких лекций — «Иврит — язык просвещения»:
Как я уже говорил, нынешнее поколение национально мыслящих евреев настроено «еретически» по отношению ко многим святыням своих отцов. Ибо многие и многие из моих сверстников выросли в ассимилированном окружении. Родители учили их ощущать себя русскими, учитель прививал им любовь к «нашему» Пушкину, к «нашей» русской речи. Но настал душевный кризис, они пришли к осознанию правды, поняли, кто они, и с великим трудом и великими муками вырвали они из сердца чужое национальное самосознание, растоптали ростки, посаженные их родителями и учителями. Некоторые даже прониклись отвращением к чужой культуре, в которой они были воспитаны с детства... Как бы там ни было, мои сверстники осознали: они связаны крепко-накрепко со своим народом — они стали евреями-националистами. Но при этом железными цепями прикованы они к чужой культуре. Сам строй их мыслей сформирован под ее влиянием, и по сей день пьют они из ее источников. Когда запросит их душа той неизъяснимой радости, которую приносит ей чтение, рука их непроизвольно тянется к полке, на которой стоят книги на чужом языке, и проникает в их души этот язык снова и снова, и мысли на этом языке, и сам дух этого языка... Ибо взгляды изменились, пришла новая вера, кто-то из поклонника превратился в хулителя, сменилась вся шкала ценностей, но язык, язык, которым отравили меня мои учителя,— он всемогущ и всепроникающ!
И именно такой неразрывной связью, именно таким «ядом», не знающим противоядия, мы должны привязать наших детей к еврейскому народу, «отравить» сами души их. В еврейском образовании язык — это главное, а содержание — внешняя оболочка. Я вовсе не отрицаю важности содержания — приобщения к духовным ценностям еврейского народа. Наоборот, это исключительно важно и без этого еврейское образование не может быть полноценным. Но связь, связь неразрывная, связь, которая выдержит любые испытания временем и обстоятельствами, которая навеки соединяет со своим народом,— это язык — язык, на котором мы приучены думать и выражать свои мысли и чувства.
Понятно, в диаспоре мы не сможем достичь этого идеала, мы можем к нему лишь приблизиться, и само это приближение потребует огромных усилий, тяжелой работы, запутанной сети различных учреждений и бесконечных сложностей. Я не утверждаю, что мы должны взять эту лестницу наскоком. Но я утверждаю, что мы обязаны начать ее строить, построить ее первую, самую важную ступень — национальную школу.
«Язык просвещения»; в сб. «Диаспора и ассимиляция».Жаботинский, воспитанный русскоязычной культурой, прилагал огромные усилия, чтобы максимально приблизиться, освоить культуру иврита, сделать ее своей. Он достиг в этом поразительных успехов, он научился виртуозно использовать богатейшие выразительные средства иврита. На этом языке он убеждал и других:
Я не вижу никакого выхода для всех нас, кроме немедленного обращения к тем мелким делам, о которых мы с таким энтузиазмом забыли в Гельсингфорсе. К таким мелочам, как вечерние классы, школы, гимнастические общества (sic) и, самое главное,— иврит, иврит и еще раз иврит. Мне кажется, ты немножечко хасид жаргона. Я не буду вступать с тобой в полемику в частном письме, но хочу, чтобы ты знал одно: если здесь станет известно, что на знамени евреев России не написано гигантскими буквами «ИВРИТ»,— это будет огромным препятствием на нашем пути. И еще — во время моей последней поездки в Россию у меня создалось впечатление, что единственное дело, вокруг которого еще теплятся искорки энтузиазма,— это изучение иврита. Но надо заниматься не разговорами, а, как это у нас заведено, делом: собирать людей, находить средства, ремонтировать классы и всерьез браться за обучение...
Мне будет очень обидно за тебя и за всех нас, если вы не примете всерьез эти пожелания.
Письмо И. Гринбойму, Константинополь, 1909.Но многие не хотели серьезно относиться к призывам Жаботинского внедрять иврит во все сферы жизни еврейского народа. Жаботинский вспоминал насмешливую реакцию на его предложение учредить ивритские школы на конференции сионистов России в 1913 году. Раздавались выкрики: «Глупость!», «Детский лепет!», «Прожектерство!», «Что вы понимаете в педагогике?» и т. д. И Жаботинский с горечью пишет: «И снова с тобой несогласны (хотя уму непостижимо, как можно быть несогласным и тут!), более того — ты помеха, обуза...» («О чем рассказывает пишущая машинка», «дер Момент», 18.11.1931). Но Жаботинский не сдавался и не упускал случая подчеркнуть важность внедрения иврита. На конференции общества «Тарбут» («Культура») в Варшаве в 1928 году он сказал:
Есть в евреях нечто, что может нам помочь. Несмотря ни на что, им присуща тоска по языку, на котором они могли бы выражать свои, еврейские мысли и чувства, чувства неуловимые, неопределимые, как неопределимы цвета и музыкальные звуки.
Есть новое течение в психологии, утверждающее, что любые эмоции живого организма зарождаются органом, их выражающим. В сердце человека скрыто огромное духовное богатство, оно существует само по себе, даже если нет еще для него выразительных средств. Не инстинкты создают органы чувств, а органы чувств вырабатывают инстинкты. Согласно этой теории, язык предшествует мысли. Не знаю, насколько правильна эта теория, но ясно одно: мы должны найти средства выражения, адекватные нашим национальным чувствам. Средства выражения создадут содержание.
«Ха-Арец», 8.1.1928.В ивритской газете «ха-Цфира» («Гудок»), издававшейся в Варшаве, Жаботинский опубликовал статью, в которой говорится о важности иврита для успеха дела сионизма, для возрождения еврейского государства:
Мне кажется, что иврит — это растение, растущее само, безо всякого ухода. Да не сочтут это за обиду просветители и учителя, возделывающие это огромное поле. Я с глубоким почтением отношусь к их труду, но сколько их? Ивритская школа — исключительное явление. Книгу на иврите надо искать в таких закоулках, куда даже случайно не завернет господин в белом воротничке. Всемирная сионистская организация, руководящая всем нашим национальным движением,— заметная сила на международной арене — относится к ивриту с таким же почтением, как к прошлогоднему снегу. По обочинам главной дороги рос современный иврит, но ведь вырос же! А каким мог бы он стать, будь вложены в его возрождение хоть какие-нибудь усилия!
Действовать — вот ключевое слово, которое должно определять теперь всю нашу работу. Если кто-то знает пассивно с десяток слов на иврите, надо помочь ему знать их активно. Если кто-то умеет на иврите говорить — надо сделать так, чтобы он говорил на нем...
Оживление, звучание иврита в нееврейском мире придает вес сионизму, заставляет других больше считаться с ним. Проделайте, если вам представится случай, такой опыт сами. Поговорите на иврите в присутствии обыкновенного нееврея. Дождитесь, когда он спросит: «А что это за язык?». Ответьте ему: «Иврит, язык Библии». Будьте уверены, следующий вопрос будет: «Что слышно у вас в Израиле?».
В недалеком прошлом я сам любил поиздеваться над «галутским демонстрированием». Но теперь и слепому видно, что демонстрации и в Нью-Йорке, и в Варшаве, и в городах поменьше оказывают влияние на общественное мнение, политическую атмосферу во всем мире. Но из всех форм «демонстрирования» живой иврит — самая действенная. Да, она не имеет сильного разового влияния как демонстрация протеста. Но иврит может влиять гораздо сильнее и влиять надолго. Не видящий этого — просто слеп.
В планах «политического наступления» ради укрепления позиций идеи еврейского государства живой иврит должен занять важное место...
Неважно на первых порах, как будет проявляться это возрождение: газетой, обществом «Тарбут» или модой на золотые брошки в форме ивритских букв[*], важно дать миру понять, какая это огромная сила — народ, способный поднять нить, тянущуюся к нему через сотни поколений, нить почти что утерянную, отряхнуть с нее пыль и протянуть ее дальше, на сотни поколений вперед. Возродить язык, на котором Боаз и Рут объяснялись в любви тогда, когда предки нынешних англичан не видели ни одной буквы... Похоже, у нас на самом деле есть основание гордиться тем, что мы по Божьей милости — евреи?..
«Ха-Цфира», перепечатано в «Доар ха-йом», 8.1.1931.Вот что написал Жаботинский по поводу смерти великого национального поэта Хаима-Нахмана Бялика:
Это не только будут читать, этому учиться будут у Бялика — доколе будет светить солнце, доколе будет жива молодость в нашей земле и доколе в устах нашего народа будет звучать этот изумительный язык — переливающийся, как калейдоскоп, твердый, как железо, сверкающий, как золото, бедный словами, но богатый понятиями, жестокий в гневе, едкий в насмешке, нежный, как колыбельная, язык, слова которого иногда грохочут, как камни при горном обвале, а иногда — шелестят, как трава весенним утром, язык неповоротливый, с медвежьими когтями и крыльями жаворонка, язык Десяти заповедей и Исайи, язык проповедей и «Песни песней», язык «Песни дождя» и Иеремии, язык забытый и незабываемый, похороненный, но вечно живой — язык Бялика.
«На смерть Бялика», 22.7.1934; в сб. «О литературе и искусстве». Язык веселья, гнева и печали. В нем мудрость, труд, псалмы и небеса. Цепь золотая вечности и дали — Синая чудеса. «Клятва», в сб. «Стихи».Пусть Эри знает хорошо по-еврейски. В остальном не даю тебе никаких советов.
Письмо 17.9.1918.Иврит в диаспоре
«Говорить на иврите в диаспоре — значит вести постоянную, ежеминутную борьбу».
Жаботинскому принадлежит большой вклад в распространение иврита как разговорного языка — и не только в Эрец Исраэль, но и в странах рассеяния. Предметом его главной заботы было молодое поколение, именно от него он в особенности требовал «активности в языке». Естественно, что в первую очередь Жаботинский добивался владения языком от членов молодежного движения, которое было наиболее близко его сердцу, доступно его влиянию и руководству,— речь идет о Бейтаре. Поэтому одним из пунктом присяги Бейтара он сделал обязательство бороться за укрепление позиций иврита: «Иврит — мой язык и язык моих сыновей в Эрец Исраэль». Жаботинскому причиняло боль то, что «гебраизация» движения продвигалась медленными темпами, поэтому он обратился к членам Бейтара с взволнованным требованием:
Я ожидаю «гебраизации» Бейтара. Насмешка и издевательство — отвечать мне оправданиями и ссылками на мнимую трудность изучения иврита. Не рассказывайте мне сказок, мои юные друзья! Нет никакой трудности. Препятствие только одно — недостаток «хадара». Никак не сочетается с этим качеством такое явление, когда юноша или девушка называют себя членами Бейтара, носят коричневую рубашку под цвет земли нашей родины, считают себя готовыми к служению и жертвам — но самую скромную, первую жертву — изучение своего языка — они не готовы принести. Нет, это не «хадар».
Потрудитесь собрать в ближайшие дни всех членов первичных организаций всех степеней и сообщите им на языках, которые им доступны, следующее: вот вам, мои молодые друзья, год, и в нем двенадцать месяцев. И в конце этого года вы или будете понимать иврит, или покинете нас. Я не желаю знать, тяжело это вам будет или легко: в том, что называется «хадар», нет места оправданиям.
«Я ожидаю» (оригинал на иврите), «Хазит ха-ам», 24.1.1934.Сходные требования Жаботинский адресовал и тем членам Бейтара, которые были далеки от своего еврейского наследия. К ним он не мог даже обратиться на иврите. Речь идет об американских членах Бейтара:
Нельзя стать настоящим членом Бейтара, не научившись говорить на иврите. И после того, как ты овладеешь ивритом,— говори на этом языке со всеми, кто способен понимать его. Даже если в начале это будет тебе трудно, даже если это причинит трудности твоему окружению. Цель Бейтара — повседневная борьба с препятствиями — личного, духовного, материального плана. Говорить на иврите в диаспоре — значит вести постоянную, ежеминутную борьбу.
Письмо на английском языке в журнал «Ежемесячник Бейтара», 20.2.1932.За несколько лет до написания этого письма Жаботинский уже предпринимал усилия для того, чтобы приобщить еврейскую молодежь Соединенных Штатов к изучению иврита. Он предлагал ввести иврит в лагерях, где американская молодежь привыкла проводить лето. В статье, посвященной летним лагерям, приводится та же мотивация, к которой Жаботинский прибегал во время своей борьбы за основание еврейских школ на иврите в России:
Факты очень быстро забываются, когда в окружающей среде нет ничего, что напоминало бы о них. А у среды, в которой суждено жить нашим детям,— какая у нее связь с династией Маккавеев или с мучениками, погибшими в Майнце с именем Всевышнего на устах?
А идеи... Иногда я опасаюсь, что насаждение идей — напрасный труд, который не под силу человеку. Прогресс человечества зиждется на том, что каждое последующее поколение стряхивает с себя идейное наследие предыдущего. Тургенев назвал свой известный роман «Отцы и дети». Сын, отвергающий сам принцип, который отец хотел сделать краеугольным камнем его воспитания,— так движется мир. Может быть, лучше и не начинать, не делать напрасной попытки?.. Может быть, более надежен иной путь? Просто приучать ребенка, подавая ему личный пример, к честности и прямоте, открытости и вежливости, учить его умываться каждое утро, красиво вести себя за столом и не вмешиваться в то, что он думает о сионизме и ассимиляции, о сельскохозяйственных колониях в Крыму? Я не могу рекомендовать этот путь как принцип воспитания, я и сам не уверен в его правильности, я говорю только «может быть»,— но я говорю это со всей серьезностью.
Только один прочный след оставляет воспитание: язык, на котором к ребенку обращается учитель. Как и во многих случаях жизни, форма здесь оказывается важнее содержания. Мое поколение доказывает это наилучшим образом: то, что внушали нам учителя в русской гимназии, мы забыли; над идеями, которые они пытались нам привить, мы смеялись еще на гимназической скамье; но язык сделал нас своими пленниками. Для большинства из нас Россия давно стала чужой. Нам глубоко безразлично, что случится с этой страной в будущем. Но русский язык пристал к каждому уголку нашего сознания, несмотря на то, что мы расселились среди далеких народов, рассеялись между ними и языки этих народов не похожи на русский. Помимо своей воли, механически, мы листаем русские газеты, прислушиваемся к разговорам. Язык приговорил нас к пожизненной связи с народом и страной, судьба которых в действительности интересует нас не больше прошлогоднего снега.
Я признаю, что у нас, в условиях нашего галута, и, возможно, в Америке особенно, окончательная победа невозможна. Но даже десятая часть этой победы — достойное дело.
«Летние лагеря и святой язык», «Морген-журнал», 26.7.1926.В другой части света, отделенной от Американского материка океаном, Жаботинский требует от родителей, которые еще не забыли усвоенные в детстве знания, не колеблясь обучать своих детей ивриту, даже когда кажется, что это тяжело (кстати, можно вспомнить, что Жаботинский не просто проповедовал другим, но сам осуществил эту программу в своем доме):
Есть немало отцов и матерей, свободно владеющих ивритом, которые, тем не менее, говорят с детьми только на языке страны, в которой живут. Никогда я не мог понять, почему. Если они хотят, чтобы ребенок чисто говорил по-английски,— нет повода для беспокойства, ребенок овладеет английским и без помощи отца, и часто эта «помощь» способна только ухудшить его произношение. Или, может быть, родители опасаются, что двуязычие вредно скажется на развитии ребенка? Но сегодня никто не верит в подобную чепуху. Семь языков может усвоить ребенок, если он привыкнет слышать их с раннего детства. Он не будет путать их между собой, и они не нанесут ущерба его духовному росту, напротив, будут способствовать развитию его способностей.
Нет нужды, чтобы на иврите говорили и отец и мать — достаточно одного из родителей. Я сам был свидетелем того, как отец, занятый в своей конторе, который мог только полчаса в день посвящать беседам и играм с ребенком, в конце концов приучил его не только понимать иврит, но и отвечать на иврите.
Ответ мне известен заранее — «тяжело». Но я не верю этому. Не тяжело — очень легко. Дело дисциплины и привычки, не более того. Есть человеческие существа, которым и мыться и бриться каждый день «тяжело», ибо они не приучены, им недостает сил и желания начать и продолжить.
Оригинал на иврите, «Баркай» («Утренняя звезда», еврейский журнал в Южной Африке), год неизвестенЧтобы помочь евреям диаспоры, владевшим ивритом, но почему-либо затруднявшимся разговаривать на нем, Жаботинский поддерживал создание «Общества говорящих на иврите в диаспоре»:
Даже если вы не затрудняетесь разговаривать на иврите... вас подчиняет иностранный язык. Почему? Вы «стесняетесь». Детская отговорка, однако нет причины сильнее этой. Возьмите героя, который не побоится выйти в одиночку против ста, и попытайтесь предложить ему появиться на улице в красном пиджаке и желтых брюках. Он не осмелится. И на всех нас, даже самых преданных, пользование ивритом в диаспоре все еще производит впечатление экстравагантного костюма, некоего крапчато-пегого украшения, которым серьезный человек никогда не украсит свой лоб, если он только уважает себя.
Против подобной «стыдливости» есть лекарство — «Общество говорящих на иврите».
«Активизм в языке», «Доар ха-йом», 9.6.1928.Жаботинский настолько жаждал сделать иврит разговорным языком в диаспоре, что он взвалил на свои и без того обремененные плечи составление фундаментального учебника иврита. Этот учебник, названный им «Тарьяг милим — введение в разговорный иврит с латинской транслитерацией», был написан в 1938 году (в самый разгар политической бури!), однако из-за бесчисленных препятствий смог появиться (в английском издании) только в 1948 году.
Как прекрасен и могуч этот язык, и что за великое счастье для народа — обладать таким языком.
«Четыре сына»; в сб. «Фельетоны».Беднота
«Бедняки в Израиле — они придут к спасению».
Картины ужасающей бедности еврейского народа, с которыми сталкивался Жаботинский, не могли оставить его равнодушным. Он считал избавление народа от нищеты главнейшей задачей сионизма, не мог смириться с нищетой просто как человек. В его во многом автобиографической повести «Пятеро» мы встречаем такие строки:
Помню один дом, кажется Роникера, в том участке, который мы с нею должны были обойти. Там была особенность, для меня еще тогда невиданная: двухэтажный подвал. Окна обоих этажей выходили, конечно, в траншею; но и за окнами внутри был сперва коридор, во всю длину фасада, и только уже из коридора «освещались» комнаты. Не умею описывать нищету, как не сумел бы заняться обрыванием крыльев и лапок у живой мухи или вообще медленным мучительством. Помню, что неотступно зудела в мозгу одна банальная мысль: на волосок от того было, когда ты должен был родиться, чтобы вышла у Господа в счетной книге описка, или передумал бы Он в последнюю секунду, что-то перечеркнул и что-то строчкой ниже вписал,— и здесь бы ты жил сегодня, в нижнем подвале, завидуя мальчикам из верхнего, а они бы «задавались». Совестно было за свое пальто; за то, что перед этим просидел час в греческой кофейне Красного переулка за кофе с рахат-лукумом, растратив четвертак, бюджет их целого дня.
Из кн. «Пятеро».«Расчетные книги» Всевышнего не назначали Жаботинскому нищеты. Но и богатство, даже просто достаток, не были ему отпущены. Жаботинский был совсем маленьким, когда умер его отец, и мать воспитывала его в спартанской обстановке. Когда Жаботинский стал одним из лидеров сионистского движения, он (так же, как и Герцль) тратил все свои доходы на нужды движения. Когда он ушел из жизни, материальное наследство, оставленное им, составляло гроши. Жаботинский всю свою жизнь сохранял глубоко почтительное отношение к неимущему люду, составлявшему в те времена огромное большинство еврейского народа. Используя образы четырех сыновей из пасхальной Агады[*], он сравнивал бедняков с четвертым сыном:
Четвертый мальчик не умеет спрашивать. Сидит на вечере чинно, делает, что полагается, и не приходит ему в голову расспрашивать, как и что, отчего и почему. Ритуал велит не ждать его вопроса и рассказать ему все по собственному почину. Я в этом несогласен с ритуалом. Ценная вещь — любознательность; но есть иногда высшая мудрость, высшее чутье и в том, что человек берет нечто из прошлого, как должное, и не любопытствует ни о причинах, ни о следствиях. Такую мудрость надо беречь и не спугивать ее лишними словами.
Такою мудростью мудр бывает серый, массовый человек. Это — тот невзрачный горемыка, что тачает сапоги, шьет платья, разносит яйца, скупает старые вещи, переписывает свитки завета, торгует в мелких лавчонках, бегает на посылках, тянет все те полунадорванные лямки, от которых его еще не прогнали, кряхтит, а по пятницам вечером наполняет дома молитвы. Это он, знаменитый Бонця-Молчальник из сказки Леона Переца, несет на своем горбу все бремя диаспоры, поставляя из своей среды человеческое мясо и для эмиграции, и для погромов; он агонизирует и не умирает, гибнет и не погибает, и творит исконный обряд, как творили деды, почти машинально, почти равнодушно, с той подсознательной верой, которая, быть может, в глазах Божиих прочнее всякого экстаза. Он, этот серый массовый молчальник, «не умеющий спросить», он есть ядро вечного народа и главный носитель его бессмертия.
Ритуал велит рассказать этому сыну про все то, о чем он не спрашивает. А по моему, пусть и отец промолчит и молча поцелует в лоб этого сына — самого верного из хранителей той святыни, о которой молчат его уста.
Фельетоны, 1913.Жаботинский решительно выступал против любых проявлений дискриминации бедноты в сионистском движении:
Чем мы дальше уходим от тех времен, тем более яркой и уникальной становится фигура Теодора Герцля. Со всех сторон слышал он предостережения: за тобой пойдут только нищие, та самая голь, ради которой приходится просить пожертвования у немецких, французских, английских и американских «графьев». А он отвечал: отлично, мы с бедняками это сделаем. И теперь, когда «графья» «пресмыкаются во прахе», поверженные кризисом, погромами, всеобщим отчуждением, та самая голь сейчас богаче, чем все эти «Альянсы», и их поселения в Эрец Исраэль — образец для всех, и они заставили мир считаться с еврейским народом, и имена их руководителей произносятся с почтением на всех политических форумах, а если вы спросите, как звали господ «протестовавших раввинов»,— никто и не вспомнит...
Если бы был я еврейским поэтом, обязательно сочинил бы своих «Веселых нищих». Славен он, «его величество Нищий», при одном условии — что он весел, что не опускает рук, что не теряет веры в себя, а не ждет «указки сверху», что не боится упасть,— ибо именно такими «падениями» поднимается народное движение и «Вышние и горние» нигде, как в самых глубинах «нищего» сердца.
«Всемирная еврейская конференция», «Хайнт». 5.8.1932.Жаботинский восхищается великодушием «бедных людей», их готовностью поделиться последним (в приведенном ниже отрывке речь идет о сборе средств в защиту трех молодых людей, ложно обвиненных в убийстве Арлозорова):
Есть еще нечто, что не так-то просто выразить. Если я попытаюсь выразить эту мысль словами, многие, вероятно, подумают, что я тоже на старости лет ударился в «классовый подход». Боже упаси, не грешен я в этом. Я не делю мир на работающих и имущих — видал я и фабричных рабочих, живущих в виллах, разъезжающих в автомобилях и владеющих неплохим текущим счетом, и видал я имущих, работающих по четырнадцать, а не по восемь часов в сутки. Не уважаю я «классов». Я уважаю бедняков. Будь проклята нищета, но все-таки есть в ней какое-то величие — нечто, делающее бедняков людьми, не забывшими еще таких, напрочь позабытых другими слов, как «сострадание», «справедливость», «обязанность»...
«Собрано на праздновании бар-мицвы» — один злотый и восемьдесят грошей... Можно представить себе бар-мицву побогаче. Но позавидовать можно именно этой. Где-то в иерусалимской тюрьме сидят трое оклеветанных, окруженных злобой, ненавистью. А тут — какой-нибудь Паневежис. И радостный праздник. Но именно во славу праздника и пустили люди шапку по кругу и отдали последние гроши. Да будут здоровы и счастливы эти люди, они и все бедняки в Израиле — именно они принесут Избавление.
«Еще теплится...», «ха-Ярден», 24.4.1934.Арабы
«Эрец Исраэль — территория вполне достаточная для миллиона арабов и миллиона их потомков... для миллионов евреев — и для мира».
Мы часто слышим претензии, что вожди сионистского движения «не видели» арабов в Эрец Исраэль и вокруг и игнорировали их фанатичную ненависть к сионистской поселенческой компании и национальное честолюбие. Впрочем, к Жаботинскому это не относится. В его концепции еврейского государства арабскому вопросу отведено весьма значительное место. Он много говорил и писал на эту тему. Его принципом было: гласность и откровенность, ничего не скрывать и не держать в тайне. В попытках «успокоить» арабов «изнутри», мол, якобы, общие намерения евреев чужды политике трансфера и вовсе не заключаются в этих «безобидных» поселениях, Жаботинский видел не только жалкие увертки и отсутствие всякой пользы, но и прямое оскорбление арабов:
Вы мне писали год назад, что перевод и публикация нескольких моих статей оказались достаточными, чтобы добавить ожесточения арабскому сопротивлению. Скажу прямо: я бы хотел, чтоб так это и было. Я, как и всякий другой, понимаю, что мы обязаны найти какой-то модус вивенди с арабами; они всегда будут жить в Стране и вокруг, и мы не можем себе позволить увековечение конфликта. Однако я не верю, что можно примирить арабов с возможностью существования еврейской Эрец Исраэль путем подкупа, посредством улучшения экономического положения или путем определенно водянистого и искаженного толкования целей сионистского движения — вроде того, что делал Сэмьюэл. Я не презираю арабов, как те, кто полагает, что арабы продадут нам будущее своей страны, покуда у них теплится самая слабая надежда так или иначе избавиться от нас.
Только когда пропадет эта надежда, их умеренные постараются превратить необходимость в добродетель. И тогда я готов позволить даже Кальварийскому[*] командовать парадом.
Но до тех пор и именно потому, что я хочу мира, моя единственная цель сделать так, чтобы они потеряли всякую надежду и поняли одно: «Ни силой, ни парламентскими актами, ни Божественным чудом тебе не удастся предотвратить превращение Эрец Исраэль, шаг за шагом, в страну с еврейским большинством». Следует действовать, чтобы они это себе уяснили, а если нет — мира никогда не будет.
Письмо на английском яз. полковнику Кишу, 4.7.1925.Жаботинский резко отзывался о порочной практике умалчивания правды:
Если будут переговоры с арабами и вас попросят присягнуть — присягнете ли? Я так не поступлю. Мое чувство к Эрец Исраэль горячо, и этот дом мне дорог, и я не отдам в залог мечту о нашей стране. И если бы я сказал иначе — кто мне поверит? В этом трагедия людей из «Брит-Шалом». Где вы найдете такого глупца, который поверит, что народ Израиля, поднимающий такой шум, посылающий пионеров, агонизирующий и бредящий от малярии, пришел сюда вовсе не для того, чтоб стать здесь большинством? Сионизм — вещь явная и элементарная. Господа! Трудно достичь компромисса между двумя верами и двумя аксиомами. Наша вера глубока, их также. Ничто не поможет. Это будет попытка, о которой наши враги скажут, что это попытка коллективного обмана.
Речь на заседании Национального совета, Тель-Авив, 3 хешвана 5689(1929).За два года до этого Жаботинский говорил:
Я пришел сюда не для астрологии. В моих словах, может быть, будет больше обвинений, чем оправданий. Но пусть все знают, что происходит среди сионистов. И чтобы это стало ясным, наши друзья, или начальники, или надсмотрщики должны понять нас в основном пункте: для чего мы пришли в эту страну? Что мы тут делаем и к чему мы стремимся? Почему семь лет назад мы обратились к Англии за помощью, почему мы утруждали Англию, теребили Лигу Наций и великие державы? Ответ — и пусть это знают там наверху, потому что нет другого ответа: в диаспоре мы меньшинство среди чужого большинства. И весь народ Израиля во всем своем рассеянии стремится создать место, где бы он не был меньшинством. Это и есть наше основное стремление. Не стоило нам беспокоить Англию, не стоило трепать нервы нашим друзьям и арабским соседям только для того, чтобы создать, в добавление к семидесяти семи уже имеющимся у нас во всем мире «райкам» еще один, семьдесят восьмой, под покровительством наших братьев — сыновей Измаила. И если мы потревожили кого-то и если мы страдаем — мы это сделали только для того, чтобы создать место, где евреи не были бы меньшинством. В этом вопросе нет крайних и нет умеренных. Есть провозглашающие это и есть помалкивающие, но в сердце — все едины. Галут есть галут, и здесь, в Эрец Исраэль, мы не хотим создать его заново. И пусть не думают, что мы провозглашаем это, чтобы кого-то раззадорить. Скажут: все хотят этого, но лучше молча работать. Как бы я был рад, если бы можно было замолчать это. Как прекрасна и возвышенна идея — не провозглашать, а только спокойно работать и созидать. Да, это красиво. Но, к сожалению, молчать невозможно. Нельзя замолчать то, что само кричит о себе. Прежде всего — поздно, так как Герцль объявил об этом в своей «Юденштат», а до него Моше Гесс, а раньше всех — Священное Писание, в котором записана наша надежда.
И не только это. Спросите сначала, зависит ли это от вас. Есть люди, полагающие, что молчание — это соло, в действительности же это дуэт. Недостаточно того, чтобы я молчал, необходимо также, чтобы тот человек, к которому обращено мое молчание, согласился бы с этим молчанием. Но что поделать, ежели сей восстанет и вопросит: зачем вам именно эта страна, почему вы сосредоточились здесь? Чтобы создать здесь новый Брест-Литовск? И если спрашивают, надо отвечать. И не ложь, а правду.
Речь в Иерусалиме, «ха-Арец». 20.10.1926.Все усилия сионистов были направлены на создание государства на территории Эрец Исраэль с преимущественно еврейским населением и еврейским управлением — ничто другое их не удовлетворяло. Более того, речь шла обо всей зеМле Эрец Исраэль, ибо только обширная территория позволила бы уберечь от гибели миллионы евреев. Жаботинский утверждал: если не убедить арабов, что евреи способны решить задачи поселенческого движения, то это будет ложь и обман:
Вы, конечно, слышали о компромиссах, промежуточных решениях и т. д., в том числе об идее «кантонизации», о плане «паритетности» или «уступках» со стороны евреев. Поверьте же в искренность моих слов, в искренность всего Движения, в искренность каждого еврея, которую я сейчас попытаюсь облечь словами: даже если бы мы очень сильно захотели согласиться на какой-либо промежуточный вариант, это оказалось бы невозможным. Мы не можем согласиться на план раздела Страны на кантоны, так как очень многие скажут, и даже среди вас, что даже вся Эрец Исраэль, возможно, мала для той гуманной цели, что стоит перед нами. Крохотные кусочки Эрец Исраэль — как мы можем поручиться, что ограничимся этим? Мы не сможем. Никогда не сможем? Если мы поклянемся вам, что удовлетворимся этим, это будет ложь. А где же еще мы можем «уступить»? Что может уступить Оливер Твист? Его положение таково, что ему нечего уступать: люди из работного дома должны уступить миску супа — тут нет другого выхода. Мы не верим в компромисс в этом вопросе. «Кантоны» — это пустые мечтания, «паритетность» — ложь. Никто не сможет их навязать и никто не поверит в них. И если снова и снова пробовать в этом направлении, это будет только значить, что хотят увековечить то положение, что породило, по моему мнению, беспорядки 1920, 1921, 1929 и 1936 годов и будет порождать их в будущем. Есть только один путь к компромиссу. Скажите арабам правду. И тогда вы обнаружите, что араб понятлив, араб трезво мыслит, араб честен, араб способен понять, что, поскольку есть три, или четыре, или пять чисто арабских государств, будет только справедливо, если Британия сделает Эрец Исраэль еврейским государством. И тогда произойдет перемена в отношениях с арабами. Тогда будет место компромиссу, и тогда будет мир.
Свидетельские показания перед Королевской комиссией, 1937 г.; в сб. «Речи».А когда в конце концов в еврейском государстве Эрец Исраэль наступит мир, какова же будет участь арабов? Жаботинский отвечает:
Вопреки доброму правилу — начинать статью с существа — приходится начать эту с предисловия, притом еще личного. Автора эти строк считают недругом арабов, сторонником вытеснения и т. д. Это неправда. Эмоциональное мое отношение к арабам — то же, что и ко всем другим народам: учтивое равнодушие. Политическое отношения — определяется двумя принципами. Во-первых, вытеснение арабов из Палестины, в какой бы то ни было форме, считаю абсолютно невозможным; в Палестине всегда будут два народа. Во-вторых — горжусь принадлежностью к той группе, которая формулировала Гельсингфорскую программу. Мы ее формулировали не для евреев только, а для всех народов; и основа ее — равноправие наций. Как и все, я готов присягнуть за нас и за потомков наших, что мы никогда этого равноправия не нарушим и на вытеснение или притеснение не покусимся. Credo, как видит читатель, вполне мирное, но совершенно в другой плоскости лежит вопрос о том, можно ли добиться осуществления мирных замыслов мирными путями. Ибо это зависит не от нашего отношения к арабам, а исключительно от отношения арабов к сионизму.
«Железная стена», «Рассвет», 4.11.1938; в сб. «На пути к государству».Жаботинский очень серьезно отнесся к обещанию предоставить арабскому меньшинству полное равенство в еврейском государстве. В проекте конституции Эрец Исраэль он отметил право арабов не только на гражданское равенство, но и на культурную автономию. Он писал, что «в кабинете премьер-министра должен быть заместитель араб» («Фронт борьбы еврейского народа»). Жаботинский говорил, что нет оснований опасаться какой-либо исполнительной силы арабов в еврейском государстве:
Превращение Эрец Исраэль в еврейское государство может быть осуществлено полностью без изгнания израильских арабов. Вы, утверждающие обратное (что чрезвычайно распространено среди широкой публики), просто абсолютно неправы. Территория, занимающая площадь в 100 000 кв. км, заселенная по французскому стандарту плотности населения (78 жителей на 1 кв. км), способна вместить более 8 миллионов жителей; по швейцарскому стандарту плотности (104 на 1 кв. км) — больше 10 миллионов; по немецкому или итальянскому (140) — 14 миллионов. Сейчас эту территорию населяют — если считать арабов и евреев и жителей Трансиордании — более полутора миллионов человек. В Эрец Исраэль еще осталось свободное место, чтобы абсорбировать большинство обитателей восточно- и центральноевропейского гетто — 5 миллионов душ, не достигнув при этом плотности населения Франции, которая достаточно мала. Если арабы сами не решат, что им удобнее покинуть Страну по их свободному волеизъявлению,— им нет нужды эмигрировать.
Из кн. «Фронт борьбы еврейского народа», 1940.Жаботинский с уважением относился к естественному праву арабов жить в стране, в которой они рождены:
Мне вчера стало известно, что в отчете о моем выступлении в Салониках в тамошней газете «За Израиль», выходящей на французском языке, было напечатано: «Не только к еврейскому большинству в Стране мы должны стремиться, но к абсолютному изгнанию арабов из нее».
Я не сказал этого, и вообще я не сказал ничего, что можно бы было истолковать в этом смысле. Мое мнение, напротив, что если бы кто-то попытался вытеснить из Эрец Исраэль ее арабских обитателей, всех или часть из них, то он делал бы, во-первых, нечто аморальное и, во-вторых, невозможное.
Из письма редактору «ха-Олам» («Мир»), 27 тевета 5687 (1927); в сб. «Письма».Но, вместе с тем, Жаботинский учитывал вероятность того, что часть арабского населения, по понятным причинам, не захочет проживать в еврейском государстве:
Другой вопрос, сочтут ли арабы это достаточным, чтобы захотеть остаться в еврейской стране. Но если они не соизволят остаться, автор не видит никакой трагедии или катастрофы в их готовности эмигрировать. Королевская палестинская комиссия не испугалась предложить это. Храбрость — заразная болезнь. Поскольку у нас в руках есть разрешение столь высокого морального авторитета обсуждать со спокойной душой вопрос об исходе 350 тысяч арабов из одной части Эрец Исраэль, то не стоит впадать в панику от возможности того, что 900 тысяч покинут Страну. Автор уже сказал, что он лично не видит никакой необходимости в этом исходе; более того, он даже нежелателен по многим причинам; но если выяснится, что арабы предпочитают эмигрировать, то можно обсудить такую возможность без огорчений или угрызений совести.
С 1923 года и далее, когда не менее 700 000 греков в течение нескольких месяцев эмигрировали в Македонию, а 300 000 турок — во Фракию и Анатолию, мир привык к мысли о таких массовых обменах населением и даже начал им почти симпатизировать...
Одно очевидно: всякая арабская страна, которая найдет в себе мужество — и необходимую территорию,— чтобы принять эмигрантов, покидающих Эрец Исраэль, получит колоссальную материальную прибыль. Она получит огромные денежные суммы, а лучшие в мире мозги предстанут в ее распоряжение, чтобы осуществить самые смелые планы по орошению и поднятию производительности почв. Более того: разумно предположить, что арабские эмигранты приведут с собой ослов, нагруженных золотом и всяким добром...
Но все это между прочим... Эрец Исраэль по обе стороны Иордана абсолютно достаточна для миллиона арабов, еще миллиона их потомков, которых они породят, для миллионов евреев — и для мира. И мира будет так много, что он придет и в Европу.
Из кн. «Фронт борьбы еврейского народа».Кризис пролетариата
«Естественное развитие мирового хозяйства содержит в себе необратимую тенденцию — уменьшать роль пролетариата как производящего фактора и увеличивать значение духовной и интеллектуальной деятельности».
Острая вражда между сионистским «рабочим движением» и Жаботинским, отголоски которой читатель встретит во многих главах этой книги, была многообразной и разносторонней. Кажется, что одна из наиболее глубоких причин этого конфликта заключается в том, что Жаботинский не желал поклоняться «культу труда», составлявшему основу идеологии левых сионистских кругов. Это не означает, что он не уважал должным образом сам физический труд, его плоды и затраченные на него усилия. Но при этом он не видел в физическом труде особой святости, дающей тем, кто им занимается, исключительное право на халуцианство и предводительство. Еще в 1906 году, когда большинство русской интеллигенции определило понятие «пролетариат» как «закваску человеческого теста» и Жаботинский сам был подвержен идеям социализма, которые не успели еще пройти испытания в горниле действительности,— он отвергал принятую тогда точку зрения о том, что пролетариат — активнейшая и важнейшая часть зарождающейся социальной революции:
В последнее время, когда в революционном пылу были сказаны и сделаны многие отнюдь не мудрые вещи, среди общественности распространилось парадоксальное мнение, будто во главе духовного развития человечества шагает пролетариат. Сейчас, когда все начинают приходить в себя, уместно напомнить, что в этом парадоксе нет ничего, кроме грубой лести. С объективной точки зрения, пролетариат — объект, а не субъект будущей социальной революции. Образование и сплоченность укрепляют его самосознание, превращая его постепенно в активного бойца за новые методы производства. Но пролетариат никогда не возглавлял, не может и никогда не будет возглавлять духовное развитие человеческого общества. Для того, чтобы усваивать новые идеи и, тем более, порождать их, необходим определенный уровень интеллигентности, которого рабочий народ не имеет, ибо он занят физическим трудом и не может посвящать много времени образованию. Но интеллигентность можно обрести лишь путем образования; она не спускается с неба. В этом зло нашего режима, обрекающего большинство трудящихся на невежество. В силу этого духовное развитие человечества возглавляют более состоятельные классы; пролетариат идет в конце, а в слаборазвитых странах — плетется в хвосте. Это верно и в тех случаях, когда речь идет о его собственных классовых интересах. Наиболее совершенное выражение этих интересов — социализм, но тот, кто изучал историю социалистических теорий, должен знать, что пионерами этих идей были не только представители интеллигенции, но и различные «владельцы фирм, фабрик, рантье из среднего класса, мировые судьи, инженеры, офицеры» и последний, кто присоединился к социализму, был пролетариат. Это никоим образом не бросает на него тень. Напротив, это — естественно для непросвещенного и порабощенного класса. Но в наши дни наблюдается путаница понятий, вынуждающая вновь доказывать и разъяснять самые простые истины.
«Бунд и сионизм», 1906; в сб. «Первые сионистские труды».А как в отношении объективной роли пролетариата в мировом хозяйстве? Действительно ли рабочая сила является доминирующим фактором в производстве? В эти вопросы Жаботинский углубился по прошествии многих лет, после наблюдения за хозяйственно-экономическими процессами, произошедшими в этот насыщенный событиями период:
Нас учили, что основных факторов производства — три: природа, капитал, труд; и что главный из них — третий. Нас учили, что ценность предмета измеряется, прежде всего, количеством человеческого труда, затраченного на его производство; что и прибыль на капитал происходит из того же источника — из некоего излишка труда, за который фабрикант не заплатил рабочему, а забрал этот излишек себе.
Не только профессора и книги, но и сама жизнь учила нас, что проблема мирового хозяйства есть гл. обр. проблема пролетариата, и что все ее «вопросы» суть вопросы о пролетариате: как облегчить его жизнь и труд, как распределить доход между ним и капиталистом, и не разумнее ли признать «весь народ» (тогда мы это понятие наивно, без всякого статистического основания, просто из сочувствия, отождествляли с понятием «пролетариат») — признать «весь народ» единственным собственником всех средств и орудий производства.
Конечно, мы знали, что есть на свете и техника: но учащие говорили нам о ней вскользь, как о некоей детали общего понятия «капитал»; если и останавливались на этой мелочи, то опять-таки, в связи с интересами пролетариата — техника, мол, облегчает его труд. Они как-то совершенно забывали главное,— то, что инстинктивно поняли сто лет тому назад неграмотные и несознательные ткачи где-то под Манчестером, когда пошли громить паровой станок: что техника вытесняет труд, т. е. делает пролетариат все меньше и меньше нужным.
«Кризис пролетариата», «Последние новости», 19.4.1932.Как естественный результат молниеносного, фантастического развития техники и ее изобретений — значение грубой физической силы отодвигается на задний план. В итоге, доля участия мускулов в производстве приближается к нулю. Жаботинский признает:
Конечно, до круглого нуля она никогда не дойдет,— всегда понадобится рука, нажимающая кнопку; но, вне всякого сомнения, значение роли пролетариата как производственного фактора стремительно сокращается. В перспективе — пролетариат, в огромном большинстве своем, постепенно превращается в класс социально ненужный. Колоссальная и могущественная группа, играющая громадную роль в соборной жизни человечества, постепенно в то же время теряет свою хозяйственную полезность, самый свой raison d'être[*]. He в этом ли «кризисе пролетариата» и заключается корень мировой болезни?
Там же.По мнению Жаботинского, на первое место после оттеснения физической силы выходит интеллект с его способностью покорять и использовать природу, изобретать машины:
Естественное развитие мирового хозяйства содержит в себе необратимую тенденцию — уменьшать роль пролетариата как производящего фактора и увеличивать значение духовной и интеллектуальной деятельности — изобретателя, конструктора, организатора, улучшающего систему производства, и «чиновника», напрягающего свой мозг, а не мышцы.
В этом суть кризиса пролетариата. Слой общества, считавшийся важнейшим фактором в хозяйственной жизни, уже давно утратил свое значение. Мировое производство развивается сейчас не благодаря ему, а, в первую очередь, благодаря участию интеллектуальных факторов. Их влияние возрастает, а потребность в мускулах сокращается.
Что будет через двадцать пять лет? В стоимости обуви, которую будут носить наши дети, физическая работа составит не более 5 % (или 1 %), в то время как мозговая деятельность, сырье и методы производства — 95 или 99 %. Пока это еще не так, но такова объективная тенденция хозяйственного развития. И я убежден, что в безработице повинна не только экономическая «депрессия», но и эта объективная тенденция. «Завтрашний мир не будет нуждаться в вас»,— сказал как-то Маркс по отношению к буржуазии. Но он ошибся.
Этот приговор висит сегодня в воздухе, но он обращен к другому общественному классу. Трудно опровергнуть это утверждение.
«Чей кризис?», «Хазит ха-ам», 3.6.1932.Тенденции экономического развития приводят нас, по мнению Жаботинского, к неоспоримому выводу:
Уничтожение «пролетариата»; не просто как социального класса (допустим, что до тех пор социализм сотрет классовые грани),— а уничтожается и само понятие «рабочего» или «работника». Это ведь не «работа». Пафос пролетарского самосознания строился всегда на некотором элементе трагизма, на «поте лица», на непрерывном изнуряющем физическом усилии. Я однажды, при посещении золотой копи, целый час наблюдал труд пролетария, который спускал клетку с людьми на 2000 метров и поднимал ее обратно: он сидел на вышке среди огромных катушек и раз в пять минут, по звонку откуда-то, передвигал рычаг то вверх, то вниз; и это все. Это и есть образчик будущего «труда» во всех или почти во всех областях производства. Я пишу эту статью от руки, т. е. должен буду, в общем, произвести около миллиона движений пальцами: вероятно, затрачу на это гораздо большее число физического труда, чем тот пролетарий на свой рычаг за целый день. В 2030 году труд «рабочего» будет, именно в физическом смысле, самым легким из всех видов человеческой деятельности. Каменноугольная копь, последнее убежище настоящего физического усилия, будет, вероятно, давно заброшена; энергию будет давать нефть, водопады, морской прилив, разница температуры между верхними и нижними слоями воды в океане. Перевозка тяжестей будет производиться в аэропланах без пилота — управлять ими будут с земли, опять-таки при помощи кнопки. Куда больше физического «труда» будут затрачивать тогда писатели, ораторы, пианисты, не говоря уже о барышне, играющей в теннис.
Все это ничуть не грустно, напротив,— дай Бог скорее. Но из всего этого вытекает, что исключительная, жертвенной святостью облеченная идеализация «труда» во всем современном быту и современном мышлении была явлением исторически мимолетным; не только в будущем, но отчасти уже и теперь, она является, в значительной мере, пережитком. Самая привычка наша связывать понятие «производства» с понятием «труда» есть, в перспективе эволюции, предрассудок одной, хотя долгой, но быстро уходящей, эпохи. Сентиментальное представление, что «кормилец», производящий для нас пищу, одежду и прочие товары, есть в то же время непременно и «труженик» par excellence — тоже временная, и не вечная истина. В 2030 году не придется даже издавать законов о фабричной или земледельческой повинности на два часа по два раза в неделю,— люди будут сами проситься в очередь, посидеть на вышке за кнопкой или покататься по полю на тракторе,— просто, чтобы отдохнуть на безделье от утомительного футбола.
«Кризис пролетариата», «Последние новости», 9.4.1932.Неудивительно, что поклонники «культа труда» в еврейских и сионистских кругах не могли принять такой образ мышления и вытекающие из него выводы, которые посягали на саму основу их мировоззрения. Несмотря на то, что со временем им пришлось смириться с действительностью и включить в состав «Всеобщей федерации трудящихся» представителей свободных профессий и даже работодателей — «эксплуататоров», они и сегодня не отваживаются признать, что сама основа «особой привилегированности» рабочего класса постепенно расшатывается. Приведенные ниже отрывки — это своего рода квинтэссенция веры Жаботинского в ту силу, которая правит и которой суждено господствовать в мировой экономике и, тем самым, в человеческой судьбе:
С точки зрения профана, настал момент проверить основоположения экономической науки (возможно, это уже сделано, но профан еще об этом не слышал). «Три» производственных фактора. Почему три, а не четыре? Четвертый называется по-английски brains — мозговой. На иврит вы сможете перевести его как «ум», «инициатива» или просто «мозг». И он никоим образом не является одним из компонентов понятие «капитал», но представляет собой самостоятельный фактор и даже — основной, не менее важный, чем «природа», которая постепенно покоряется техникой (в 2030 году в Сахаре будет налажено снабжение водой), и, в любом случае, гораздо более значительный, нежели «труд». Мировой пролетариат не имел и никогда не будет иметь того же влияния на производство, как «мозг» отдельных новаторов: технический интеллект знаменитых или неизвестных изобретателей, организационный талант Форда или того же Бати. Кому из них уготовано господство над миром? Это — бессмысленная дискуссия, грешащая и по отношению к справедливости: как созревающий демократ, демократ консервативного толка, я верю, что миром должны управлять все люди без исключения. И если все же следует делать различие, то в сфере мирового хозяйства, например, господствовал и должен господствовать разум индивидуумов, данный им от рождения, а не миллион серпов и молотов, тем более, что последние будут постепенно заменены автоматическими кнопками.
Там же.Когда мы были молодыми, приблизительно тридцать лет назад, «наемный рабочий» служил примером бедности и нищеты. Из всех обездоленных он был самым бедным, из всех угнетенных — самым несчастным. Так, во всяком случае, видели его мы — мелкобуржуазные бедняки. Но главное, что он, производственный рабочий, сам верил в это. Он считал себя представителем «заживо погребенного класса» и именно поэтому вел столь упорную борьбу за права таких же «погребенных»... Но за последние 30 лет ситуация изменилась. Сегодня объединенный пролетариат — один из самых могучих общественных факторов. Его профсоюзы — баснословно богаты; ни одно другое политическое объединение не в состоянии конкурировать с ним в этой области. В жизни государства пролетариат играет решающую роль. Половина законодательства просвещенных народов состоит из законов, охраняющих права рабочего. Он — единственный из всех слоев общества, о ком правительство и муниципалитет обязаны заботиться в момент кризиса — когда он лишается источника заработка. Уже давно миновали те времена, когда пролетариат служил примером безысходной бедности: сегодня он находится на положении, которое несколько поколений назад занимала «аристократия» — привилегированный класс, которому сам закон обеспечивает лучшие условия и расширенные права по сравнению со всеми другими слоями общества.
«Первое мая», «ха-Ярден», 14.5.1934.Гуманный сионизм
«Сионизм — это ответ на избиение, а не нравственное утешение, не духовное удовольствие...»
Идея сионизма прошла долгий и сложный путь развития — от Базельского конгресса в 1897 году и до провозглашения Государства Израиль в 1948-м. Большинство лидеров этого движения со временем предпочли «забыть» идею Герцля и Нордау о всеобщем спасении евреев путем создания еврейского государства и массовой эмиграции туда евреев всего мира. Вместо этого появились всевозможные теории об Эрец Исраэль как духовном центре мирового еврейства или «образцовом обществе», привлекательность которого со временем соблазнит всех евреев. Есть основания полагать, что д-р Хаим Вейцман — «архитектор» декларации Бальфура — видел в «национальном доме для евреев» не способ спасти их от Катастрофы, а лишь место, где Катастрофа не произойдет. Против такого «сужения понятий» Жаботинский восстал уже в 1919 году, когда Британия еще только «оформляла» свой мандат на Эрец Исраэль:
Сионизм — или ответ на ложь галута, или сам ложь. Сионизм призван создать убежище для народа Израиля в Земле Израиля, это — сионизм, и другого нет. Если мы будет вытаскивать из архивной пыли провинциальные идеи вроде «духовного центра» — мы не встретим ни отклика, ни поддержки... Если вместо грандиозного здания мы примемся строить ветхий шалаш — никто не придет к нам. Строительство здания — раньше мы рассчитывали строить его пол- или четверть века, но теперь очевидно, что мы должны закончить быстрее... Сионизм — это ответ на избиение, а не нравственное утешение, не духовное удовольствие и не образцовое общество для прочих евреев...
«Количество иммиграции» (оригинал на иврите), «ха-Арец», 18.12.1919.Для образцового общества вполне хватило бы «национального очага» — расплывчатого понятия, которое все больше вытесняло понятие независимого государства. Этим занимались отнюдь не только англичане. Многие лидеры сионизма им охотно в этом подыгрывали, не говоря уже о пресловутом «Союзе мира». Жаботинский называл такой сионизм «карманным сионизмом». И порочность его он усматривал не в его размерах — маленькие вещи могут быть тоже полезны. В статье, написанной в 1930 году, он описал невеселую картину, которая будет иметь место, если «идеал» национального очага осуществится, даже с согласия арабов. Несколько сот тысяч евреев заживут мирно, богато и счастливо (предположим) и будут наслаждаться всей полнотой национальной жизни. Но какими глазами будут взирать на этот рай преследуемые, голодные, избиваемые евреи галута? Они ведь захотят того же. Но ведь непреложным условием существования этого самого национального очага будет твердое соглашение с англичанами и (или) с арабами, что алия в Эрец Исраэль не будет превышать установленных квот. У правительства (в котором будут заседать и евреи) не будет другого выхода, как герметически закрыть границы страны, полиция (в том числе и евреи) будут следить за еврейскими туристами, как бы они «контрабандой» не остались в стране. Жаботинский подвел итог:
Не пожелал бы я себе чести и счастья жить в таком раю. Думаю, что у каждого там будет чувство, что он — предатель. И чем счастливее будет его собственная жизнь и жизнь его окружающих, тем сильнее будет это ощущение. Как будто он сидит на высокой скале среди бушующего моря и видит, как тонут люди и их сталкивают, не дают им уцепиться за скалу, на которой достаточно места, а ему не дозволено вмешиваться. И он спокойно продолжает жить вместе с теми, кто сталкивал его братьев в море, и развивать свою «национальную жизнь». Я решительно заявляю: не дай нам Бог дожить и быть современниками того поколения евреев, которое смирится с такой жизнью. Лучше исчезнуть в самой темной галутской дыре, чем жить такой «национальной жизнью».
«Чего хочет «карманный сионизм»?», «Морген-журнал», 3.8.1930; в сб. «На пути к государству».Понятно, что аналогичное нетерпимое положение создастся и тогда, когда алия будет ограничена не по политическим соображениям, а из соображений эгоизма и экономического «удобства», или если территория Эрец Исраэль будет урезана и на узкой полоске земли физически не хватит места для всех евреев. Жаботинский отказывался верить, что «карманный сионизм» имеет будущее:
Пора положить конец болтовне — якобы «научной» — о том, что сионизм будто бы никогда не ставил себе целью спасти весь еврейский народ от нищеты и голода. Именно эту цель он всегда себе ставил, по крайней мере подсознательно. Никогда ни один еврей не представлял себе внутренне, что конечным результатом всей «геулы» будет образование в Палестине рая для малого меньшинства, а огромные еврейские массы будут по-прежнему голодать и вырождаться в Европе и по-прежнему стучаться в двери Америки. Если бы кто-нибудь из евреев действительно поверил в то, что этим кончится весь сионистский порыв, он бы отвернулся и сказал: не хочу такой «геулы». Она так же неприемлема для еврейского сознания, чрезвычайно «целевого», практического, стремящегося к «тахлис», как неприемлемо для нас христианское толкование понятия «Мессии»: будто может прийти «Мессия», произвести «искупление» — и после этого мир еще 1900 лет и больше будет голодать и воевать. Еврейское понимание Мессии совсем иное. Придет он не скоро; когда придет будет одно время еще хуже, чем до того — наступят «родовые муки мессианские»; но после того, как он уйдет, совершив свое дело, не будет на земле горя. Так, и только так, понимает еврей слово «геула», все равно — в масштабе мировом или в национальном масштабе. Не шутка, не цацка для немногих, а серьезный и великий и всеобщий «тахлис».
«Эмиграция», «Рассвет», 1.02.1931.Кто, как не Жаботинский, ценил духовное самовыражение, возрождение еврейской культуры, идею создания образцового общества — но не за счет же медленного умирания и прямого убийства миллионов евреев!
Мне присущи, в какой-то мере, оба этих взгляда. Один утверждает: существование евреев в галуте — бессмысленно. Все культурные ценности, созданные евреями здесь,— чужое достояние. Поэтому мы говорим: давайте построим себе обитель среди пустыни, где мы сможем продемонстрировать себе и всему миру нашу духовную мощь, быть может, создадим образцовое общество — общество чести и справедливости. Давайте выжмем лимон мирового еврейства и сдобрим соком наши поля. Но сам лимон оставим в галуте?! Удобный подход. Но я не пошевелю и пальцем ради воплощения таких взглядов. Меня, главным образом, интересует сам лимон. Меня интересует весь еврейский народ! Я родился в самом эпицентре бед нашего народа, и если я сам и сподобился наблюдать эти беды с «верхнего этажа», то уж видел-то я их прекрасно. И меня интересует именно способ положить конец этим бедам. И со всем, что служит препятствием к достижению этой цели, я буду бороться. И будь это сам Прогресс собственной персоной, ополчусь и на него, если увижу, что в жертву ему приносится мой народ. Я встану на его пути, если он не несет с собой избавления моему народу. Я против «обители в пустыне» и против поселенчества «люкс». Потому что я против того, чтобы еврей оставался в галуте и, получая оплеухи, бурчал под нос: «Вы хулиганы, вы меня бьете, вы меня обижаете. А вот посмотрите, какая у нас есть «обитель в пустыне», как хорошо, как вольно живется там!». Я против того, чтобы избиваемый гордился тихой обителью, где живут его братья, не имея возможности к ним присоединиться. Нет, это не мой сионизм! Мой сионизм говорит: все, все должны здесь собраться, для всех должно быть здесь место — и для великих писателей и ученых, и для скромных тружеников, которые и вынесли на своих плечах все тяготы галута. Такой сионизм я называю «гуманным сионизмом».
Лекция в клубе врачей и инженеров в Варшаве, 1936; в сб. «Речи».Жаботинский верил, что только такой «гуманный сионизм» может рассчитывать на поддержку и понимание всего мира:
Мы должны решить для себя, чего мы хотим от Эрец Исраэль. Если задача, которую мы ставим перед собой, мелка, то мы должны осознать, что в современном мире нет места мелким задачам. Мелкая задача в современном понимании — это всякая цель, которая не ведет к решению важной проблемы. Пример: сегодня в одной из лондонских газет было опубликовано письмо д-ра Вейцмана. В письме приводятся весьма логичные доводы, но выводы, которые с неизбежностью вытекают из текста письма, губят саму эту логику: «Итак... разрешите въезд в Эрец Исраэль ста тысячам евреев (впоследствии — большему числу)». Когда речь идет об эвакуации (так выразился сам д-р Вейцман — в наше время трудно уклониться от употребления точных терминов) пятисот тысяч евреев Германии и миллионов евреев Восточной Европы, цифра, названная Вейцманом,— не дань скромности или умеренности, но просто искажение того дела, которому призвана служить Эрец Исраэль. Через полчаса после того, как я прочел эту газету, один мой знакомый журналист — нееврей — сказал мне: «Ну ясно — вы, евреи, сами отлично понимаете, что Эрец Исраэль не сможет вам помочь. Что толку, если вы ввезете туда сто тысяч душ — два процента от пяти миллионов, которым грозит опасность? И ради такого слабого утешения, ради этой капли в море бед мы пойдем на конфликт с арабами? Друг мой, я понимаю, что ради великого дела, ради спасения целого народа от смертельной угрозы можно не посчитаться с протестами арабов, как это бы ни было неловко. Но ради двух процентов? Этим письмом вы расписались в своей неправоте».
Таким и только таким может быть впечатление, производимое топтанием сионизма на месте. Наше время не понимает и не принимает нерешительных шагов и полумер. Идти в ногу со временем означает требовать все, добиваться кардинального решения проблемы — спасения всех евреев.
«Компаньон», «ха-Машкиф», 3.2.1939.Естественный сионизм
«Еврейское государство — как воздух и свет — оно мое».
Жаботинский считал себя сионистом от рождения (см. ст. «Духовная раса»). Он вспоминал, что в семилетнем возрасте задал матери вопрос: «Будет ли у нас, евреев, своя страна?». Мать ответила: «Будет, конечно же, дурачок!». Жаботинский заканчивал свой рассказ: «...с тех пор и поныне я больше не задавался этим вопросом...» («Повесть моих дней»). Будучи подростком, он был еще далек от осознания себя сионистом, но:
«Мировоззрения» у меня тогда никакого не было, не было его и позже — до двадцатилетнего, примерно, возраста — ни касательно еврейства, ни касательно какого-либо другого политического или социального вопроса. Если б тогда спросил меня приятель-христианин, каково мое отношение к евреям,— я ответил бы, что я их «люблю». Но еврею я отвечал бы по-другому и более искренно. Понятно, я, как и моя мать, всегда знал, что у нас будет «страна» и я поеду туда жить,— я был уверен в этом, как и все мое поколение. Но это не было «мировоззрением», это было естественным делом — таким же, как мытье рук и тарелка супа в обед.
«Повесть моих дней»; в сб. «Автобиография».Как же все-таки сформировались его сионистские убеждения? Жаботинский признавался, что сионизму он «научился» у неевреев, и именно тогда, когда он был ближе всего им по духу. Это было в его веселые студенческие годы:
Сионизму я «выучился» не по трудам Ахад Гаама и даже не по Герцлю и Нордау, сделаться сионистом мне «подсказали» неевреи. Лучшие свои молодые годы я провел в Риме и хорошо присмотрелся к итальянцам. В конце XIX века Италия была спокойным, очень либеральным государством, без тени шовинизма, в ней жили почти все итальянцы, какие есть в этом мире[*], и почти сто процентов населения страны составляли итальянцы, никого не задевавшие и не притеснявшие. «Так и должен жить каждый народ, и мы, евреи, тоже»,— сказал я себе. Теперь я часто слышу, что такая школа сионизма была неполноценной, что сионистские идеи нужно черпать из еврейских источников, вникать во все доводы «за» и «против». Но, по моему мнению, нет в сионизме никаких «за» и «против», сионизм — это так же естественно, как вода и воздух. Человеку достаточно просто окинуть взглядом Божий мир. А как называется данный уголок Божьего света — Италия, Англия или Франция — неважно.
«Ибо духом единым», 1934; в сб. «О литературе и искусстве».Разумеется, чувствовать так мог лишь человек, свободный от многих предрассудков, унаследованных евреями в гетто. Жаботинский называл еврея, свободного от нездорового скептицизма, пятым сыном, о котором не говорится в пасхальной Агаде:
Я верю, что в каждой душе уживаются все четыре сына, о которых упоминает Агада, а, быть может, и пятый, о котором она забыла. И, по мере духовного развития человека, каждый из них проявляется в нем. «Мудрый» — вообще-то не очень мудр. Он, пожалуй, самый первый — первая ступень. Он складывает руки на животе, задает себе свои вопросы, ставит проблемы, и поди объясни ему — как, зачем и почему. Иногда вырастает из него сам «злодей» — уровень, который, кстати сказать, должен пройти всякий сионист. Это время, когда тебя гложут сомнения. Ничто не убедит скептика. Страна мала, арабы сильны, англичане не хотят помочь — ничего не получится, зачем же метать бисер?.. Иногда такой «злодей» приобретает акции Земельного фонда (и тогда он называет себя членом «Союза мира»). Третий уровень наступает, когда мозг устает от сомнений и философствований, душа просит немного отдохновения. «Ой, расскажите мне, пожалуйста, о цитрусовых садах и тучных пастбищах, о еврейских гимназиях, обо всем, обо всем, я с легкостью уверую» — это и есть «наивный». А затем — самый мудрый из четверых — «неумеющий спрашивать»,— он делает свое дело. Можете рассказывать ему об успехах, можете, если захотите, прочесть ему диссертацию об исторической необходимости Исхода из Египта — он выслушает, кивая головой. Но ему-то всего этого не надо. Он и так сделает свое дело. «Неумеющего задавать вопросы» я ставлю выше всех поименованных, и именно с точки зрения интеллекта. К этой стадии приходят, когда человеку опротивели его собственные мудрствования. Он уже понял, чего стоят все разглагольствования...
Но, вероятно, существует и пятая стадия взросления, о которой забыла Агада,— «нежелающий спрашивать». Тот, кому просто не нужны, изначально не нужны никакие ответы, ибо ему наперед известно, что нет таких вопросов, которые стоило бы задавать. Подите-ка спросите французского крестьянина, правда ли, что его страна — Франция, и должна ли она быть независимой, и надо ли ее защищать в минуту опасности? Для него это аксиомы, а отнюдь не «проблемы». Лишь духовно ущербные люди, больные «галутной» психикой, могли создать «проблемы» из очевидных вещей. Надо ли «доказывать» воздух, воду, свет, голод, жажду? Еврейское государство — как воздух и свет — оно мое. Я знаю это с того самого дня, как глаза мои узрели свет Божий.
Я на этом настаиваю — и баста!
«Воинский союз», «дер Момент», 20.7.1933.Возвышенный сионизм
«Еврейское государство — не единственный шаг в процессе осуществления идей сионизма».
«Принципы веры» Жаботинского-сиониста можно встретить практически во всех главах этой книги. В виде своего рода резюме мы предлагаем читателю следующие четыре выдержки из его трудов, где он излагал свои взгляды на то, каким представляется ему будущее сионизма:
Что такое «Эрец Исраэль»? Эрец Исраэль — это клочок суши, существенным отличием которого от прочих является то, что по нему протекает река Иордан.
Что такое «сионизм»? Сионизм — это не стремление придумать для еврейского народа какой-нибудь символ в виде Эрец Исраэль. Значение слова «сионизм» — это реальный выход, прекращение политической, экономической и культурной трагедии многих миллионов людей. Поэтому главным стремлением сионизма должно быть не обеспечение еврейского большинства в Эрец Исраэль, а создание в ней условий для нормальной жизни всех евреев. Ученые могут спорить, реально это или нет и сколько времени потребуется на осуществление этого. Мы собрались здесь не для того, чтобы спорить на эти темы. Я хочу подчеркнуть еще раз: еврейский народ никогда не воспринимал сионизм как «утешение», сионизм для него — путь к спасению.
Речь на XVI сионистском конгрессе, 1929; в сб. «Речи»....Это касается всего, что называется «сионизмом». Даже его святая святых — «еврейского государства». Это государство должно стать лишь первым шагом к ликвидации диаспоры — этого требует от нас сама история. Все традиционные «виды» сионизма — сионизм духовный, сионизм политический, сионизм социальный — теряют свой смысл. Сейчас их место занял «простейший» — гуманный сионизм, сионизм миллионов, ожидающих спасения. В этом весь смысл сионизма — все прочее не стоит и ломаного гроша.
Все это говорит сионист, немало повидавший на своем веку. И если мне кто-то начнет излагать основы духовного сионизма — он опоздал. Я в младенчестве знал о видении своего прапрадедушки Яакова — видении «лестницы, достигающей небес», и знал я, что заклинание «Сезам, отворись!» есть символ великих тайн Всевышнего, Его мироздания и что тайны эти записаны квадратным письмом[*] справа налево.
И если бы даже пятнадцать с половиной миллионов евреев, живущих в диаспоре, были бы все богаты и счастливы и возродили бы свой язык и никто не мешал бы им быть евреями и не преследовал бы их за это, и тогда я, с горсткой таких же «сумасшедших», ходил бы и говорил: «Не надо нам всего этого, дайте нам нашу страну, пусть маленькую, как Сан-Марино, но в Эрец Исраэль!». Потому что в Израиле, пусть размером с Сан-Марино, хватило бы места всем, кто не хочет галута. И это и есть сионизм — решение проблемы для всех тех, кто не хочет жить в галуте. Сегодня их всех — несколько миллионов, завтра — будет еще больше.
«Из пропасти...», «ха-Ярден», 17.4.1936.Мы можем сказать, что предназначение Эрец Исраэль в том, чтобы решить проблему еврейской эмиграции, и, вместе с тем, это не должно причинить ущерба населяющим ее арабам. Эту идею можно выразить так:
Верните нам Эрец Исраэль, и через два поколения в ней будет 10 миллионов евреев, два миллиона арабов, и будет еще много места, и будет мир!
В этом назначение сионизма — создать в Эрец Исраэль условия для того, чтобы завтра, или через десять лет, или через тридцать, она могла бы принять всех евреев, которые приедут — неважно, по каким причинам — и захотят там жить. Сионизм не заканчивается еврейским большинством в Стране и еврейским государством. Сионизм охватывает весь круг еврейских проблем.
Сионизм в таком понимании мы называем «возвышенным сионизмом».
Лекция в Институте по изучению национальных проблем в Варшаве, 1936; в сб. «Речи»....Согласен — мы, похоже, подошли к краю пропасти, впереди — ужасная катастрофа мирового гетто. Эпоха, которую наша традиция именует «дни Мессии» или, по крайней мере, «беды Мессии». И перед лицом крушения таких масштабов стоит сионизм — беспомощный и растерянный,— мелкие задачи, никому не нужные организации, самоуправление национальной катастрофы в Стране, политическое ничтожество на мировой арене... Когда несколько месяцев назад раздались призывы к коренному переустройству сионистского предприятия, были сомнения, встретят ли они поддержку в массах, ибо казалось, что все проблемы сионизма скрыл золотой дождь «процветания»... Еврейское общество не позволило преходящему блеску ослепить себя. Еврейский народ ждет от нас решительных действий. Не критики, не соревнования, а просто «хорошей работы». Наша миссия — altneu![*] To, что рождено девятым валом бури, бездной несчастий, «бед Мессии» — «возвышенный сионизм». Не пример галуту в виде образцового клочка земли в Палестине, а ликвидация диаспоры. Всеобщий Исход. И далее — нормализация народа Израиля. Чтобы он стал нормальным народом. Как большой французский или как маленький датский. Все — в своей стране. Все — свободные люди. Без диаспоры.
С одной стороны — это невероятно трудная задача. Но она поставлена самой жизнью, и мы не властны менять ее условий. Еврейское государство — не конечная цель. Оно — первый шаг к цели, к выполнению предначертания возвышенного сионизма. Затем последует второй шаг — возвращение из галута в Сион, снятие еврейского вопроса. И третий, последний шаг — это то, ради чего, по сути, и существуют нации,— создание могучей национальной культуры, «ибо из Сиона выйдет Тора».
Речь на учредительном собрании Новой сионистской организации, Вена, 1935; в сб. «Речи».Идея «Юбилейного года»
«Социальные перевороты составляют и должны составлять неотъемлемое свойство прогресса человечества».
Вопреки общепринятому мнению, Жаботинский утверждал, что социализм — при том, что основные его положения сформулированы преимущественно евреями,— в действительности не основывается на чисто еврейских концепциях. Еврейская основа социализма выражается,— утверждал Жаботинский,— лишь в стремлении к социальной справедливости, но что касается самой системы социализма — она чужда и в корне противоречит духу иудаизма, как он выражен в книгах Танаха. Ибо на страницах этой Книги мы находим рекомендацию социального переворота совсем особого рода, называемого «Юбилейный год» («Вайикра», гл. 25). Жаботинский так сформулировал различия между этими двумя видами «социального переворота»:
Под тем, что называется «социализмом», мы понимаем систему, осуществление которой на деле будет означать упорядочение раз и навсегда всех общественных отношений, уничтожение различий между богатым и бедным, а также то, что отныне и до скончания века человеческому обществу не потребуется никакое дополнительное социальное исправление. Задумано это прекрасно, но в этой системе есть один недостаток: человек перестанет стремиться, бороться, разыскивать что-то лучшее — потому что ему от этого не будет ни малейшей пользы. Положение каждого человека будет определено заранее, не в его силах будет хоть что-нибудь изменить и невозможно за это бороться; не будет ничего, ради чего стоило бы напрягать ум, не будет никаких стимулов искать новые виды работы — даже делать технические открытия. Каждый человек станет своего рода чиновником всемогущего государства, которое будет охватывать все человечество,— а, как известно, природа чиновника такова, что он удовлетворяется тем, что есть: постоянным, традиционным. Самыми сильными и великими пружинами прогресса являются стремления, борьба, поиски, которые люди предпринимают ради чего-то лучшего,— а в условиях социалистического порядка всему этому суждено исчезнуть. И кроме этого — как мы видим на примере России, уже более пятнадцати лет являющейся ареной такого эксперимента,— социалистическая система связана со всевозможными ограничениями политических и гражданских свобод.
Идея «юбилейного года» совершенно иная. Представьте себе, что время от времени общество само производит в себе основательную социальную революцию: оно меняет все, у богача забирает лишнее и передает его бедняку. Однако после этой революции каждый остается свободным в своих поступках, каждый имеет право снова начать социальную борьбу, стремиться к лучшему положению, снова применять и напрягать все свои силы и способности. Здесь нет ничего «раз и навсегда». Наоборот: смысл всего состоит именно в том, чтобы начать с самого начала, чтобы человечество не застывало в окаменевшем законодательстве, когда нет ни смысла, ни желания работать лучше, чем сосед, потому что он все равно останется точно таким же «барином», как и ты. Нет, человечество всегда должно бушевать, кипеть, бродить, каждый человек должен видеть перед собой путь к вершине горы; один взойдет, другой — поскользнется и упадет, и в этом будет жизнь, с ее движением и соперничеством — до следующего «юбилейного года», когда богатый и бедный снова станут равными,— а затем все опять начнется сначала.
«Идея Бейтара», 1934; в сб. «На пути к государству».В промежутке между одним «юбилейным годом» и другим, считал Жаботинский, люди не будут страдать от голода и холода и не будут знать унизительной и позорной нищеты. Основные потребности цивилизации будут обеспечиваться социальной системой. Однако Жаботинский не видел себя достаточным авторитетом и не считал момент подходящим для того, чтобы предложить действенную программу осуществления этой идеи в ближайшем будущем. Он лишь набросал общую схему пути, ведущего к желанной ему цели, в ожидании более благоприятного момента:
Будь я царем, я бы перестроил царство по мысли Юбилея, а не по мысли социализма. Конечно, прежде всего пришлось бы найти подходящих мудрецов и поручить им разработку библейского намека. В той неуклюжей, первобытной ребяческой форме он неприменим к нашему сложному быту; некоторые историки сомневаются даже в том, соблюдался ли действительно юбилейный год и в древние времена Израиля, не остался ли мертвой буквой с самого начала. Но мало ли что в библиях мира сего осталось поныне мертвой буквой? Мечей на сошники мы еще тоже не перековали; но когда-нибудь перекуем. Мертвая буква не есть смертный приговор. Мертвая буква иногда есть признак истинного идеала. Я посадил бы мудрецов за разработку ветхозаветного намека в переводе на язык современности. В наказе моем этой комиссии было бы написано так: благоволите приспособить мысль о повторных, и притом узаконенных, социальных революциях к условиям нынешнего хозяйственного быта. Имейте при этом в виду, что предложенный в Ветхом Завете пятидесятилетний срок — деталь несущественная. Вы можете предпочесть другие промежутки. Более того: можете вообще устранить хронологический признак, можете заменить его признаком целесообразности. Можете, например, установить, что «Юбилей» наступает тогда, когда за это выскажется некое специально поименованное учреждение, парламент, сенат, верховный совет хозяйственных корпораций, или, наконец, плебисцит, большинством простым или квалифицированным, как найдете полезнее. Тогда «переделы» совпадут приблизительно с эпохами глубоких и затяжных кризисов — что, в сущности, и нужно. Главное — утвердите в вашем проекте раз навсегда законность того явления, которое теперь называется социальной революцией; отнимите у этого понятия страшный привкус насилия и крови, нормализируйте его, сделайте его такой же частью конституции, как, скажем, созыв чрезвычайного национального собрания для пересмотра этой конституции — мерой исключительной, мерой особо-торжественной, но вполне предусмотренной. Затем благоволите предусмотреть, как отразится введение этого начала на обыденном хозяйственном обороте, особенно же на той его основе, которая называется кредитом. В той же главе Левита вы найдете оговорку, что в промежутках между двумя Юбилеями ценность поля, например, исчисляется по количеству годовых урожаев, оставшихся до ближайшего «передела»: этого, конечно, недостаточно, это даже не подойдет при отмене хронологического признака, но, идя по этой линии, ваша мудрость и ученость поможет вам найти необходимые поправки для сохранения жизнеспособности кредитного начала. Словом, подумайте и устройте; только дайте каждому человеку в нашем царстве возможность жить, производить, торговать, стремиться изобретать, добиваться без предварительной цензуры — и в то же время знать, что от времени до времени будет Юбилей, и трубный глас по всей стране, и «провозглашение Свободы».
«Белый передел». Causezies.Жаботинский еще раз разъяснил свой взгляд на идею «юбилейного года» в общественно-публицистическом очерке, написанном за несколько дней до смерти, в обстановке разгорающейся войны, в разгар своей безнадежной борьбы за создание еврейской армии:
Кроме этих двух новых средств («шабат» и «пэа») в Танахе содержится еще идея «юбилейного года» — нечто несравнимо меньшее и в то же время бесконечно большее, чем просто часть социального законодательства. «Юбилейный год» — как он обрисован в Священном Писании — должен возвращаться каждые пятьдесят лет, и когда наступает его срок, все недвижимое имущество возвращается к своим первоначальным владельцам, потерявшим его из-за долгов. Это нечто меньшее, чем социальный закон, так как известно, что «юбилейный год» не выполнялся в реальности, да его и невозможно выполнить в такой наивно-простой форме. С другой стороны, это нечто большее, чем закон,— это революционное провидение, столь мощное, что способно дать пищу для мысли многих поколений и очистить общественную структуру человеческого общества. Суть идеи «юбилейного года» заключается в положении, что социальные перевороты составляют и должны составлять неотъемлемое свойство прогресса человечества. В противоположность социализму, принцип «юбилейного года» не направлен на единственное и окончательное потрясение всех основ, устанавливающее раз и навсегда абсолютное и полное равенство, чтобы устранить потребность в дополнительных переворотах в будущем. Намерение социализма — создать положение настолько хорошее, чтобы более никогда не возникла нужда улучшать его силой. Концепция «юбилейного года» не верит в идеальный социальный порядок — столь идеальный, что в нем просто не будет места для новых столкновений,— и не заинтересована в его построении. Наоборот: она видит в социальных столкновениях непременную и необходимую основу жизни общества, и, в частности, она видит в перевороте неизбежное средство очищения социальной атмосферы — так же, как гроза необходима для очищения воздуха.
Выдающаяся черта идеи «юбилейного года» — такой, как ее обрисовывает Танах,— это святость частной собственности. Царственное право каждого человека на свое царство столь свято, что, даже если он в результате какого-то несчастья потерял его, все равно, в конце концов, его достояние возвращается к нему. Этим самым идея «юбилейного года» осуществляет принцип необходимости революций и в то же время утверждает, что каждый человек обладает неотъемлемым правом владеть какой-то частью мирового достояния.
Это лишь краткое изложение воззрений Танаха на государство и социальные проблемы. Нет смысла преувеличивать его значение для реальной жизни на сегодняшний день. В большей ее части эта концепция — лишь набросок, слишком наивный, чтобы принести действительную пользу. Никакой государственный режим невозможно удержать, основываясь на взглядах пророка Шмуэля, сетовавшего, что царская власть есть только притеснение народа, и все. Никакие законы общественных отношений не могут согласоваться с опасностью социальной революции, назначенной на определенную дату. Но все эти намеки в целом составляют богатейшую сокровищницу идей, которые сами просят — если так можно выразиться,— чтоб их собрали и оформили заново, сделав из них основу политической системы, которая будет по сути своей еврейской и вместе с тем станет уроком всему человечеству. Мне кажется, что она никогда еще не была нанесена на бумагу. Я не предлагаю ее в качестве единственной программы, которая будет поставлена на голосование в рабочих комитетах. Она требует многих лет внимательного изучения — прежде чем будет сформулирована на бумаге; она потребует многих поколений, чтобы пройти через опыты и ошибки,— пока не будет переведена на реальный язык фактов реального государства. Но стоит, очень стоит проделать этот эксперимент.
«Израиль и мир будущего», «ха-Машкиф», 9.5.1941.Согласно еврейскому мировоззрению, государство не есть хозяин личности. Это воззрение — панаристократическое. Не только тот, кто работает, должен есть — но и любой голодный прохожий. Мир следует совершенствовать посредством более-менее регулярных переворотов. Время от времени бушует буря, опрокидывающая все,— и тогда естественное соревнование начинается снова.
Речь на III всемирном съезде «Бейтара», «ха-Ярден», 7.10.1938.Убийство Арлозорова
«Никогда еще наш еврейский мир не видел такого яркого отражения психологии погромщиков».
Убийство молодого сионистского лидера Хаима Арлозорова на тельавивском пляже шестнадцатого июня 1933 года арабскими террористами оказалось трагическим событием, которое погрузило сионистское движение в трясину клеветы, слепой ненависти и кровавых потасовок, и все это в сложный исторический момент, когда к власти в Германии пришел Гитлер. Освещение этого горького периода истории — от обвинения ряда членов движения Жаботинского в убийстве и до их освобождения,— а также связанной с этим вспышки ненависти,— не входит в нашу задачу, хотя и сейчас кое-кто продолжает открыто или намеками плести кровавый навет. Однако было бы искажением общей картины, если бы мы не упомянули хотя бы вкратце об этом деле, поразившем Жаботинского в самое сердце. Оно стоило ему огромных затрат драгоценного времени, сил, энергии. Мы насчитали, по меньшей мере, тридцать статей и заметок, которые Жаботинский был вынужден написать в течение полутора лет, пока длился процесс. Из этого количества мы приведем здесь самую первую статью, которую Жаботинский написал спустя четыре дня после того, как стало известно об убийстве. Сегодня даже современникам той эпохи трудно поверить, до какой степени уже в начальный период расследования выявились уродливые попытки использовать смерть Арлозорова в недостойных политических целях, стремление определенных кругов инсценировать процесс:
Как всегда бывает у свежей могилы, в которой покоится молодая жертва, появляется желание облечься в траур, тем более, что час этот — час скорби для всего еврейского народа. Хочется забыть хотя бы на миг ту атмосферу ненависти и лжи, которой последние годы дышало сионистское движение. Хотелось бы хоть семь дней траура провести в чистой человеческой скорби. Однако даже это не выпало на нашу долю, на долю сионистов. Как видно, личная жизнь не для нас. В поистине звериной атмосфере развивается наше еврейское существование. Над свежевырытой могилой, в первое же мгновение после постигшего нас несчастья тошнотворная политическая спекуляция начала вышивать свои узоры только что пролитой кровью. Люди, желающие удостоиться титула «народных вождей», воспитатели масс, не захотели позволить себе даже одного часа личной скорби. С первой же минуты они затеяли над могилой политическую свистопляску. Они думают только о том, как «использовать» случившееся в своих ничтожных коммерческих предвыборных интересах. Каждый знает, что это, и только это, кроется за их словами, что их скорбь в тысячу раз меньше их спекулятивных интересов. Это написано на их лицах, на всем их поведении, это заметно всем, об этом говорят на каждом углу.
Хаим Арлозоров — человек, который не хотел бы, чтобы подозрение пало на еврея. Но эти зоологические подобия человека во сне видели, мечтали с самого начала только об одном: о, если бы это был еврей! С самого начала они распустили слухи, что убийца, которого будут судить на предстоящем суде,— еврей. С бьющимися сердцами ожидали они вестей из Эрец Исраэль, бледные от страха, чтобы, не дай Бог, убийца не оказался неевреем. И они с облегчением вздохнули, испустив победный вопль отвратительного ликования вампиров, когда телеграф принес весть, что полиция арестовала еврея, слава Богу.
Нет, мы не удостоились и часа человеческой скорби — ни мы, ни они. У них скорбь растворилась в жажде политических спекуляций, у нас — в чувстве брезгливости при виде картины этого зоологического падения.
Никогда еще наш еврейский мир не видел такого яркого отражения психологии погромщиков. Это новая, неожиданная черта ассимиляции: ассимиляции с погромщиками. Они во всем подражают поступкам и действиям, которые были свойственны погромщикам в подобной ситуации. Погромщик не желает дожидаться решения суда. Ему достаточно того, что полиция схватила «кого надо» — само собой, еврея. Он не хочет знать, что подозрение полиции еще далеко не является доказательством вины. Ему неведом древний священный закон человеческого правосудия, что обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока суд не доказал его преступления. Нет, у них нет времени, они должны «использовать» подходящий момент, они мгновенно становятся — они, рыцари прогресса! — восторженными поклонниками полиции, они верят только ей. И они сердятся, когда им напоминают, что полиция — это та же самая полиция, которая должна бы вести расследование не в еврейской среде, а в том месте, где до сих пор скрываются необнаруженные убийцы Ягура и Нахалеля. Все это они забывают в суматохе своей великой радости: да здравствует полиция, арестовавшая еврея, который, без сомнения, виновен! Нет ничего нового в мире: мы помним эту психологию подстрекателей погромов, помним ее со времени процесса Бейлиса.
И еще одному они научились от гойских подстрекателей погромов: обращать подозрение, павшее на одного еврея, против всего общества, несмотря на священное правило: даже если ты веришь, что Шимон бен-Йосеф преступник, ты не имеешь права возводить на этом основании обвинение против целой общины. Ведь это та же самая вредоносная разъедающая система мотивировок, от которой мы больше всего страдали, мы, евреи, столь многие из нас... Они забыли это, они хотят похоронить не только человека, схваченного полицией и скорее всего невиновного, они хотят «использовать» это с целью утопить целый стан людей, живущих и борющихся во имя чистых возвышенных идеалов,— в точности так, как это делали Лютостанский, Замысловский[*] и другие их учителя.
«Человек», «ди Велт» («Мир», идиш), 21.6.1933.Катастрофа
«Вот катится этот народ по склону в последнюю пропасть смерти».
Первая «сионистская» речь Жаботинского в «русской колонии» Берна вызвала недоумение и раздражение заявлением, что еврейский народ в галуте дождется своей «варфоломеевской ночи», если не вернется в Эрец Исраэль («Повесть моих дней»). Правда, молодой Жаботинский в то время еще не занимался глубоким изучением проблем еврейского народа. Но предчувствие кошмара «варфоломеевской ночи» направило его на путь создания еврейского государства. А на еврейской улице царила атмосфера «all right» даже после захвата власти нацистами в Германии, что очень беспокоило Жаботинского с весны 1933 года:
Иди же сюда, уважаемый читатель, я покажу тебе «all right». Начнем, конечно, с центрального пункта нашего «нахеса» — с Германии.
Помнишь ли весну 1933 года? А сейчас уже и того хуже. Тогда ведь была весна. А весной человек наивен, и по своей наивности мы верили, что весь мир восстанет против нацистов, не потерпит такого, что мир их изолирует и подвергнет бойкоту.
Между тем, цивилизованный мир привык к некоторым из новых идей, как то: нет никакой нужды чем-то маскировать антисемитизм, можно его придерживаться открыто и официально и даже внести в законодательные кодексы. Далее, антисемитизм — дело весьма прибыльное, так как посредством его можно отбирать у евреев клиентов и покупателей и отдавать их «своим людям», т. е. торговцам, адвокатам и врачам «арийцам» (или христианам). И, наконец, самое важное: никто не возмутится, никто не выкинет антисемитов из приличного общества, даже Англия.
Есть дистанция громадного размера между весной 1933 и нынешним летом: тогда в Берлине больше били, но евреи не были столь неинтересны миру. Сейчас бьют меньше, но на евреев уже всем наплевать, и весь мир знает секрет. И потому повсюду вырастают ужасные опухоли — и по соседству с германской границей, и в тысяче миль от нее. Эти опухоли покуда мягки и нежны, но они растут и растут и скоро совсем вырастут, и тогда у нас будет снова «много счастья на века» и в других городах и местечках, иногда не с тем талантом и сноровкой, что в Берлине, а иногда, может быть, и с большими. Короче, all right.
«И не встрепенулся, и не вздрогнул, и не потрясся», «ха-Ярден», 9.8.1935.И уже без сарказма, но с гневом обращается Жаботинский к своему народу, к своим братьям, уверенным, что топор не поднимется на них:
В одном из стихотворений Бялика есть следующие строки: «И не встрепенулся, и не вздрогнул, и не потрясся». Грянул гром, и задрожала земля, но народ не содрогнулся. Они были, надо думать, храбрыми людьми, которых просто так не испугать: пущай себе гремит гром да сверкает молния, пусть себе земля трясется, как в лихорадке,— им не страшно. Это героизм особого рода. Героизм не меньший, чем у овец, которые тоже относятся к той разновидности удивительных животных, умеющих не бояться даже там, где лев дрожит от страха. Овца может спокойно и без страха смотреть, как пастух режет ее собратьев одного за другим, и ей даже в голову не приходит гениальная мысль, что вот сейчас и к ней пожалует пастух.
Героизм — весьма сложное понятие; иногда это синоним идиотизма. Мы не были бы правы, если бы утверждали, что только мы, евреи, одарены этим видом мужества. Весь мир заслуживает этого комплимента: он стоит на одной ноге посреди узкой доски над пропастью. Пропасть глубока, доска чудом держится, и к тому же его толкают с двух сторон, и к тому же доска горит или, напротив, она влажная и скользкая и т.д. и т.п., короче, положение дрянное и отчаянное. Самсон-богатырь, Геракл, архангел Гавриил тряслись бы от страха в такой ситуации. Но современный нам мир, бесстрашное человечество 20-го века не боится. Если бы ему было страшно, оно попробовало бы одно из двух: либо сойти с доски, либо укрепить ее, но человечество не думает ни об одном из этих двух выходов. Оно продолжает стоять на одной ноге над пропастью и даже мило болтает о том, что там внизу — острые скалы или топкие болота.
Там же.Зияющая пропасть разверзлась — в этом больше не было сомнений. Но, несмотря на это, народ «не встрепенулся, не вздрогнул, не потрясся». Он не понял еще, что единственная защита в том, что Жаботинский назвал эвакуацией (см. ст. «Эвакуация»):
Я уже не помню, кто из русских писателей написал рассказ, а может, это была статья, под названием «Не страшно». Он доказал в этом рассказе, что самые страшные и ужасные вещи выглядят, в общем-то, совершенно буднично. Мы проходим мимо, не замечая, что мы стоим перед ужаснейшим из всех «нестрашных» явлений: народ, который сжигают, топят, чье тело точит рак. И все это видят, и все видят, что лекарства нет. И не содрогнулся, и не потрясся народ. Как будто ничего необычного не случилось. Это даже не апатия, не безразличие — наоборот, все живет и кипит. Говорят, кричат, выламывают руки и ноги, но разговоры все — о прошлогоднем снеге, что давно стаял, а крики — вопли «ура!». А флаги — не хочется говорить, почему спущены флаги. И так валяется в грязи многомиллионный народ, партнер Бога и живой свидетель деяний Божьих три тысячелетия тому назад, народ, полный сил и талантов. Может быть, прекраснейший из всех племен и языцев, если бы только нашлось для него место на земле,— и вот он валяется и катится в небытие, в последнюю пропасть забвения. И ему шепчут на ухо, что стоит утешиться «алией» нескольких дюжин вместо исхода из Египта и возвращения в Сион десятков тысяч несчастных, которым уготовано истребление.
Там же.Кто-то приводил доводы, что Жаботинский и сам не предвидел близкую катастрофу. Ведь он не верил, что вспыхнет мировая война. Правда, у него были опасения насчет тех разрушительных последствий, которые принесет развитие современных средств уничтожения. У диктаторов — так он тогда полагал — нет потребности в войне, ведь они и так достигают свои цели одну за другой. «Но евреям будет очень плохо» («Разрядка напряженности», «ха-Машкиф», 8.06.1939). Для нас, евреев, часы уже пробили одиннадцать — неужели это конец?
По правде говоря, я иногда подозреваю, что время уже далеко за одиннадцать, что уже пробило полночь, то есть — конец. Я сын поколения, которое видело немало тяжелых времен. Кроме того, и в книгах мы читали изрядно о трагических эпохах. Но наша эпоха внове и для меня, и самая большая неожиданность — это странная пассивность, и не только евреев (тут-то что нового!), но и умных могучих христианских народов. Они знают, что к ним приближается страшная эпоха, знают, откуда она идет, ясно понимают, что им делать, чтобы спастись от нее,— и не делают ничего. Это то поразительное бессилие воли, придающее ситуации в мире характер ни на что не похожей напасти. Как если бы какая-то ведьма прокляла всех нас. Большие часы начинают бить полночь: вот приближается конец и человечество ждет ангела смерти. И среди этого человечества — мы, евреи, которые всегда свято верили, что мы бесмертны. Все без исключения, включая безбожников и атеистов и даже выкрестов, все мы были уверены инстинктивно, что полночь не пробьет.— А все же?
Но, может быть, лучше встряхнуться от этого наваждения. Пусть будет только одиннадцать. Это последний час. Пока еще есть возможность оглядеться, нет ли на охваченном пламенем горизонте какого-либо места, куда не дошли языки пламени, и, может быть, попытаться спастись.
В первой трети нынешнего века наш народ живет под двойственным знаком двух надежд или двух снов: укрепить наше существование в диаспоре — или же в Эрец Исраэль.
Мое мнение, что первую мечту уже не спасти. Я говорю сейчас исключительно о мечте номер два: это единственная, по крайней мере, мечта, стоящая того, чтобы рискнуть ради нее.
«Одиннадцать часов», «ха-Машкиф», 27.01.1939.Прошли недели, месяцы; тут и там появились признаки успокоения, но более чуткие уловили запах смерти и разрушения:
А я говорю вам, дорогие друзья, что это переход не к новому образу жизни, а к гибели. Ги-бе-ли, выучите это слово наизусть, и дай Бог, чтобы я ошибся. Если в нашем споре уже пошли в ход такие слова, как «предательство», тогда я считаю предателем всякого, кто попытается затушевать остроту вопросов, стоящих перед восточноевропейским еврейством (вопрос эмиграции). Этот вопрос всегда был решающим, но сегодня более, чем когда-либо прежде. Правда, волк спит: последние месяцы он меньше набрасывался на наших людей. Но нельзя быть таким ослом, чтобы надеяться, что волк будет спать долго. Его сон будет очень короток, он вот-вот проснется. Скоро появится отвратительный злобный зверь, чей аппетит только удвоился. Сейчас следовало бы, чтобы каждый имеющий уши прислушался к его сонным всхрапам и рычанию. Пусть Бог Израилев сохранит народ Свой от десятой доли тех страстей, что видятся чудищу в его снах!
«Конец «Долой»!», «ха-Машкиф», 30.06.1939.Прошло ровно два месяца со времени написания этих тревожных слов, и все они до последнего оказались пророческими...
Неделимость родины
«Рука еврея не упустит свое право — оно вечно, оно неделимо; и мы не свернем с пути к Сиону, и весь Сион — наш!».
Общественная полемика о «неделимости Родины» и «отдаче территорий» разгорелась задолго до Шестидневной войны. По решению Международного суда евреи получили право на «все территории» (в частности, на Синай и Голанские высоты) со дня установления (1920 г., Сан-Ремо) британского мандата на Эрец Исраэль «в интересах восстановления еврейского национального очага в Эрец Исраэль». В тексте мандата говорилось о целостности Страны, включающей оба берега реки Иордан, и об отношении к еврейскому национальному очагу: «...И таким образом признается историческая связь между еврейским народом и Эрец Исраэль». Но, запутавшись в колониальных интрижках и денежных отношениях с арабами, англичане решили урезать не только политические права евреев, но и предназначенные им территории. Вначале были исключены статьи мандата о восточном береге Иордана, затем в 1937 году Британия (на правительственной комиссии, во главе которой стоял лорд Пиль) выдвинула план раздела территорий, по которому евреям полагалось лишь четыре процента от того, что было определено мандатом. И Сионистский конгресс в Цюрихе в августе 1937 году принял и одобрил этот план!
Жаботинский был решительно против. Он вообще не верил в возможность осуществления плана раздела и провозгласил в день его публикации: «Ништ гештойгн, ништ гефлойгн» (в смысле: чушь и бред), но и он смирился с трагической ошибкой. За прошедшие годы многое изменилось, но просто поразительно, насколько похожи споры об «отдаче территорий» после Шестидневной войны на жаркую полемику о «разделе» во времена Жаботинского.
Отстаивая историческую связь народа Израиля с его родиной, Жаботинский с болью и горечью восклицает:
Историк будущего, изучая наше время, споткнется на сложном и запутанном психологическом феномене, не поддающемся объяснению,— феномене, который проявился, например, на последнем сионистском конгрессе в Цюрихе. Историк будущего возьмет в руки карту Эрец Исраэль. На обороте он обнаружит записанную цитату — упаси, Господи, не из ревизионистского плана, а из бумажек комиссии Пиля: «Декларация Бальфура была основанием для определения всей территории Эрец Исраэль в 116 тысяч квадратных километров по обе стороны Иордана». И от всей этой обширной территории сионисты на своем конгрессе просят оставить им для владения не более четырех процентов и после этого рады и счастливы. Не поддается пониманию!
И еще непонятно вот что. В предисловии к британскому мандату говорится, что существует историческая связь между еврейским народом и Эрец Исраэль. И историк, желающий разобраться в характере этой связи, перелистает Танах. И найдет имя праотца Авраама. Какое там место связано с именем Авраама? Хеврон. Но Сионистский конгресс в Цюрихе согласен отказаться от Хеврона. Он листает дальше: Гидеон. Имя этого судьи связано с городом Шхем. Но сионисты готовы отказаться и от него. С именем судьи и полководца Ифтаха связана земля Гилеад. И от нее сионисты отказываются. Что уж тогда говорить о святом городе Иерусалиме! Все, что осталось от Эрец Исраэль, все, что еще хранит дух Танаха, сионисты готовы передать арабам. И все это ради «раздела».
Но почему, собственно говоря, раздел? Если у меня есть 25 золотых и из них у меня отбирают 24 — это раздел или грабеж? То, что предложила комиссия Пиля и с таким энтузиазмом подхватили сионисты, это не раздел, а арабское государство во всей Эрец Исраэль, за исключением четырех процентов ее земель.
Речь в Варшаве, 12.7.1938; в сб. «Речи».Жаботинский предвидел опасность, угрожавшую усеченному государству:
Как возможно, с точки зрения стратегии, защитить эти «границы» от серьезной агрессии? У нас низменность, а у арабов — холмы. На арабских холмах очень удобно расположить артиллерийские орудия: в пятнадцати милях от Тель-Авива и в двадцати — от Хайфы. За несколько часов можно разрушить эти города, целиком вывести из строя порты и захватить равнины, невзирая на мужество защитников. Ведь нельзя отрицать страстное желание арабов прибрать к рукам «границы»...
Послание к делегатам британского парламента, 1937.Но больше всего потряс Жаботинского жребий, выпавший миллионам евреев, жаждущих освобождения, когда трагически закрылись врата Страны, так как урезанные территории просто физически не могли принять людей. С необыкновенным накалом пишет Жаботинский о судьбе человеческих масс, страдающих на востоке:
Нет, историк будущего не сможет понять психологию конгресса в Цюрихе. Представьте себе: корабль терпит бедствие в бушующем океане. Для спасения необходимо двадцать пять спасательных шлюпок, с их помощью все пассажиры смогут добраться до берега. Но они вдруг встают и говорят, что готовы отказаться от двадцати четырех лодок при условии, что двадцать пятую покрасят в бело-голубой цвет и напишут на борту: «Еврейское государство». Такую психологию невозможно понять!
Руководители старого Сионистского профсоюза и любители «раздела» дают такое объяснение этому явлению: «В наших интересах спасать только малую часть сынов Израиля, преимущественно молодежь. Оставшиеся — суть сброд, экономический и моральный. Их судьба уже решена, и у них все равно нет никакой надежды на возрождение. Увы, все евреи, кроме спасшихся, не ускользнут от судьбы». До чего откровенные слова! Прямо и искренне. Вот теперь понятно, как можно отказаться от двадцати четырех спасательных лодок и обойтись одной бело-голубой по имени «Еврейское государство». Евреи! Да будет вам известно, что только одно может спасти вас. Поймите, все мы — не пыль, не сброд экономический и моральный. Почему я вам говорю все это, трачу ваше время и внимание, при том, что я не верю в «раздел» и уверен, что из этой затеи ничего не получится? Я говорю вам это потому, что надолго укоренится в большом мире сознание, будто евреи готовы отказаться от девяноста шести сотых Страны. Сознание, что сионистские вожди думают о спасении лишь десятой части народа Израиля, что оставшиеся девять десятых — сброд и дети их — сброд,— вот что останется. И на всех международных конференциях будут помнить решение сионистского сборища в Цюрихе. И еще одно запомнится: когда Рузвельт созвал международную конференцию, полагая, что со стороны Эрец Исраэль раздастся страстный крик: «Дайте нам Эрец Исраэль!», тогда стало ясно, что представители еврейства вовсе не хотят и не требуют всю Эрец Исраэль,— значит, трагедия, как и считал Рузвельт, не так велика. Положение сионистских вождей напоминает мне позицию сидящих в Лондоне богачей, вопрошающих: «Почему семьи бедняков не могут где-нибудь в Варшаве проживать в одной комнате? И почему не смогут ужиться в одной комнате две семьи? Ведь евреи так проворны и так талантливы!». И смысл этих комплиментов сионистские вожди переносят сейчас на бедных евреев больших стран: верно, народы не могут жить на площади в один квадратный километр, для этого нужно 70, 100, 150 квадратных километров — в зависимости от климата и природных богатств страны, но это не относится к евреям: ведь благодаря своим талантам они и квадратный километр способны заселить сотнями душ. И смысл этого комплимента таков: нет народа иудейского — есть только сброд. И как сброд его будут притеснять там, и как к сброду будут относиться здесь, и растопчут и истребят его как сброд и пыль. Да, дорогие мои евреи, план раздела забудется, но останется еврейская готовность жить в «черте оседлости», и это значит, что на большинстве территорий Эрец Исраэль будет запрещено селиться евреям, как это было запрещено в царской России.
Речь в Варшаве, 12.7.1938; в сб. «Речи».За год до этого Жаботинский писал:
Когда я говорю «место для репатриантов», я ведь имею в виду место с точки зрения экономической. С географической точки зрения можно, конечно, строить тысячи десятиэтажных домов и увеличивать тем самым доходы частной собственности и национальных фондов. Но такой практики нет, и дело пахнет керосином... Я тоже верю в чудеса, в то, что «Ты избрал нас», и в то, что мы, евреи, достигнем большей плотности населения, чем в Бельгии. Но я предостерегаю всех от этого сентиментального патриотизма, от готовности заменить наши твердые требования уголком по имени «государство», даже включающим Негев.
...Итак, предложение правительственной комиссии (даже если территория еврейского государства будет включать половину Негева или весь Негев) — смертельный удар по еврейской репатриации. Большая алия обернется для нас неудачей, если не будет связана с неделимой Эрец Исраэль — с территорией по обе стороны святой реки.
«О разделе», «ха-Ярден», 13.8.1937.Жаботинский обратился с взволнованной речью к жителям еврейских поселений в Стране, предостерегая их от ловушки. Поскольку въезд на родину был ему запрещен, Жаботинский записал эту речь на пластинку и переслал ее в Эрец Исраэль:
Три замечания, касающиеся «плана раздела», хотел бы я издалека донести до Ишува.
Первое: из Эрец Исраэль поступили известия, что, хотя раздел и нанесет ущерб иммиграции, в Ишуве с этим не считаются. Ишув страдал, Ишув устал, и, может быть, прошло то время, когда его решения имели значение. Хотя я уверен, что так говорит меньшинство. Потому что нет Ишува без иммиграции. Но не в этом суть. Суть вот в чем: Эрец Исраэль заинтересована не только в тех, кому удалось репатриироваться. Я уполномочен говорить от имени тех, кому не удалось, перед кем заперты ворота, которые хотят закрыть навсегда. И наш голос должен быть решающим — голос народа, томящегося вдали.
Второе: не говорите, что устный и письменный отказ от Хеврона, Шхема и левого берега реки Иордан — лишь пустые слова. Каким образом двадцать лет назад произошло чудо, когда народы мира узнали о наших правах на Эрец Исраэль? Они тогда не знали о нашем реальном интересе к Стране, но одно знали все: в течение двух тысяч лет мы не отказывались от нее, и в этом наше преимущество.
Третье: не пренебрегайте силой права, не преувеличивайте значения достигнутого. Я тоже уважаю достигнутое. Но горе нам, если из этого мы сделаем основу наших прав. Двадцать лет назад, когда приняли декларацию Бальфура, мир мерил только категориями права, и тогда мы получили декларацию, наше право на всю Эрец Исраэль. Спустя двадцать лет мы позволяем мерить категориями достигнутого и получили план раздела. Право выше достигнутого. Не отягощайте христианскую руку нашими правами. Но и рука еврея не упустит свое право — оно вечно, оно неделимо; и мы не свернем к пути к Сиону, и весь Сион наш!
Пластинка, 1937.Биография Зеева Жаботинского
1880 Родился в Одессе 18 октября 1880 года.
1897 Первая публикация: статья в газете против существующей в школах системы оценок.
1898 Выезжает на учебу в Швейцарию, оттуда — в Италию. Деньги на учебу зарабатывает сам, посылая статьи и фельетоны в одну из крупных одесских газет. В Швейцарии впервые заявляет о необходимости репатриации евреев в Эрец Исраэль на собрании левых еврейских студентов.
1901 Возвращается в Одессу. Занимается журналистско-публицистической деятельностью. Его статьи, публикуемые в русских либеральных газетах, получают широкий отклик в обществе. Пишет пьесы, которые ставятся на сценах русских театров и нередко запрещаются цензурой.
1903 В связи с Кишиневским погромом, совершенным бандами антисемитов при поддержке властей, начинает вести сионистскую работу, участвует в организации групп еврейской самообороны в родном городе и других городах России. Сионисты России избирают его представителем на 6-й Сионистский конгресс, последний конгресс, в котором участвовал Беньямин Зеев Герцль.
1906—1914 Активно борется за возрождение языка иврит, создание ивритского университета в Эрец Исраэль, в 1909—1910 годах возглавляет комиссию по сионистской пропаганде в столице Оттоманской империи Стамбуле.
1907 Женится на Анне Марковне Гальпериной, ставшей ему другом и помощником до конца его жизни.
1910 Рождается сын Эри Жаботинский.
1915 Вместе с Трумпельдором принимает активное участие в создании еврейского батальона для борьбы с турками в Эрец Исраэль.
1915—1917 Занимается в Лондоне политической деятельностью, результатом которой является формирование еврейских батальонов в составе английской армии (август 1917).
1917 Публикует в Лондоне книгу «Турция и война», в которой предвещает поражение и распад Оттоманской империи.
1918—1919 Служит офицером еврейского батальона; участвует в боях за освобождение Эрец Исраэль от турок.
1919 Демобилизуется из английской армии в знак протеста против антисионистской позиции английской военной администрации в Эрец Исраэль, возглавляемой фельдмаршалом Алленби. Предупреждает об опасности погромов.
1920 Участвует в организации групп самообороны в Иерусалиме во время погромов в апреле 1920 г. Арестован британскими властями вместе с 19 другими членами групп самообороны и осужден на 15 лет тюремного заключения. Благодаря волне протеста в Эрец Исраэль, Британии и во всем мире освобожден вместе с другими осужденными.
1921—1923 Избирается членом сионистского руководства в Стране, становится одним из учредителей «Керен ха-Есод» (Фонда основного капитала). Выступает за активную антибританскую политику из-за явного нарушения Британией обещаний, данных еврейскому народу. В январе 1923 г. выходит из состава президиума сионистского руководства, возглавляемого Хаимом Вейцманом, из-за его примирения с антисионистской политикой правительства Британии.
1923—1924 Возглавляет ревизионистское движение, требующее пересмотра отношений между сионистами и британской администрацией.
Декабрь 1923 В Риге создано молодежное движение «Союз Йосефа Трумпельдора» (Брит Йосеф Трумпельдор — Бейтар), главой которого избран в Зеев Жаботинский.
Апрель 1925 Создает вместе с группой сионистских активистов «Союз сионистов-ревизионистов» (ха-Ционим ха-Ревизионистим — Хацхар) — оппозиционное политическое движение в сионистских профсоюзах.
1928—1929 Поселяется в Эрец Исраэль. Редактирует ежедневную газету «Вестник». Активно занимается политической деятельностью. Его резкая критика британской политики в Эрец Исраэль и твердая позиция против арабских экстремистов привели к тому, что после выезда Жаботинского с циклом лекций за границу британские мандатные власти не разрешили ему вернуться, и он остался до последнего своего дня в галуте.
1931 На 17-м Сионистском конгрессе в Базеле Жаботинский потребовал от имени своего движения провозглашения декларации о том, что целью сионистского движения является создание Государства Израиль. Конгресс отказался обсуждать это предложение.
1933 Выступает инициатором бойкота нацистской Германии.
1934 После напряженного периода столкновений между левыми сионистскими партиями и движением Жаботинского Бен-Гурион и Жаботинский подписывают соглашение о примирении и совместных действиях двух лагерей (Лондонское соглашение). В результате опроса, проведенного Рабочим профсоюзом, соглашение было отвергнуто.
1935 Жаботинский со своими соратниками создает Новые сионистские профсоюзы, ведущие активную политическую деятельность на международной арене, направленную на создание еврейского государства и свободную репатриацию в Эрец Исраэль.
1936 Выступает с призывом к эвакуации евреев из Центральной и Восточной Европы в Эрец Исраэль в связи с угрозой геноцида.
1937 Национальная военная организация в Эрец Исраэль (ЭЦЕЛ) становится боевым формированием движения Жаботинского, и он сам берет над ним командование. На встрече в Египте с главами ревизионистского движения и командирами ЭЦЕЛ Жаботинский выдвигает идею вооруженного вторжения десятков тысяч нелегальных эмигрантов с целью освобождения Страны и провозглашения еврейского государства. Движение Жаботинского организовало нелегальную эмиграцию, и десятки тысяч евреев прибыли в Эрец Исраэль.
1938 Ведет разветвленную дипломатическую работу в рамках «политики союзов», провозглашенных Движением, и добивается поддержки правительств тех государств, в которых евреи находились в бедственном положении. Правительства Румынии и Польши поддержали организацию нелегальной алии, помогали военному обучению и вооружению бойцов ЭЦЕЛ.
1939 Активно добивается созыва конгресса в связи с «бедственным положением евреев». Конгресс не был созван из-за начала Второй мировой войны.
1939—1940 Выдвигает идею создания еврейской армии, которая будет воевать на стороне союзников против нацистской Германии.
1940 В феврале 1940 г. выезжает в США во главе делегации нового сионистского профсоюза с целью начать политическую кампанию за создание еврейской армии.
4 августа 1940 — умер от сердечного приступа во время посещения летнего лагеря молодежного движения Бейтар, около Нью-Йорка.
1964 9 июля 1964 г.— прах Жаботинского и его жены Анны перевезен в Израиль и захоронен на горе Герцля в Иерусалиме. Это было совершено по указанию премьер-министра Израиля Леви Эшкола, согласно завещанию Жаботинского, просившего перевезти прах его в Израиль «по решению еврейского правительства».
Примечания
«Белая книга» Пасфильда.
Официальный британский документ, целью которого было ограничить права евреев — в частности, право репатриироваться в Эрец Исраэль.
(обратно)Мордехай и Аман.
Антиподы, герои библейской Книги Эстер. Мордехай — заступник еврейского народа, Аман — ярый юдофоб, стремившийся уничтожить весь еврейский народ.
(обратно)Хедер.
Начальная еврейская школа.
(обратно)«Комец-алеф».
Буква в алфавите языка идиш.
(обратно)Песнь Деборы.
Текст из Книги Судей. По мнению исследователей Библии — древнейший из дошедших до нас текстов на иврите.
(обратно)Авраам Шлёнский.
Поэт и переводчик, современник Жаботинского, писавший на иврите.
(обратно)Ишув.
Так называлась еврейская община Эрец Исраэль до создания Государства Израиль.
(обратно)Базель.
Город в Швейцарии. В Базеле проводились первые сионистские конгрессы.
(обратно)2 ноября.
Дата опубликования декларации Бальфура в 1917 г.
(обратно)Четыре вопроса.
В начале пасхального Седера младший из присутствующих задает четыре вопроса. Он спрашивает, в чем отличие пасхальной ночи от всех прочих ночей.
(обратно)«Рабами были мы в земле Египетской...».
Так начинается рассказ Агады об Исходе из Египта.
(обратно)Да будете записаны и будет поставлена печать.
Традиционное еврейское приветствие на Новый год звучит так: «Да будете вы записаны на этот год в Книгу Жизни, и да будет поставлена печать.».
(обратно)ЭЦЕЛ и ЛЕХИ.
Боевые организации в Израиле, созданные последователями Жаботинского. ЭЦЕЛ — Иргун Цваи Леуми (Национальная военная организация), ЛЕХИ — Лохмей Херут Исраэль (Бойцы за свободу Израиля).
(обратно)Сионистские организации герцлевского толка.
Ревизионисты, последователи Жаботинского, считали себя непосредственными продолжателями дела Герцля — «чистого сионизма», т. е. сионизма без социалистической окраски.
(обратно)Гидеон.
Герой Книги Судей, возглавивший освободительную борьбу против филистимлян.
(обратно)Шломо бен-Йосеф.
Боец еврейского подполья в Эрец Исраэль, казненный англичанами.
(обратно)Идея Уганды.
В начале XX века англичане предложили сионистскому движению территорию своей колонии Уганды для заселения евреями.
(обратно)«Профсоюз».
В Израиле несколько профсоюзных объединений. Здесь имеется в виду крупнейший Всеобщий Израильский Профсоюз.
(обратно)«Все, что есть, уже было».
Цитата из книги Танаха «Кохелет» («Эклезиаст»).
(обратно)Яфет и Сим.
В еврейской традиции Яфет — родоначальник европейских народов, Сим (Шем) — семитских народов.
(обратно)Бар-мицва.
(Дословно — сын Завета). Так называется каждый еврей, достигший тринадцатилетнего возраста. С этого момента он считается совершеннолетним и обязан выполнять все религиозные предписания.
(обратно)Пэа.
Дословно «угол», «край». Так назывался свод постановлений, обязывающий владельцев поля оставлять нескошенные участки для бедняков.
(обратно)Юбилейный год.
Согласно Торе, каждый пятидесятый год («Йовель») аннулировались долги, заложенное имущество возвращалось прежнему владельцу.
(обратно)Поколение пустыни.
Так называлось поколение евреев, вышедших из Египта и не удостоившихся войти в Обетованную землю. Все они умерли во время сорокалетнего скитания по пустыне.
(обратно)Маскилим.
От еврейского слова «хаскала» — просвещение. Так называли представителей еврейского просветительского движения в XIX в.
(обратно)Революция.
Имеется в виду Октябрьская революция в России.
(обратно)Сидур.
Молитвенник.
(обратно)Ратификация отвергнута большинством.
Ратификация соглашения между Бен-Гурионом и Жаботинским по поводу нормализации отношений между левыми и движением Жаботинского была отвергнута на референдуме большинством Всеобщего объединения рабочих («Гистадрут ха-овдим ха-клалит»).
(обратно)Генерал Алленби.
Командующий британскими войсками, сражавшимися на Палестинском фронте в Первую мировую войну. 9 ноября 1918 г. он торжественно вступил в Иерусалим. Тем самым был положен конец четырех-вековому турецкому владычеству в Палестине.
(обратно)БИЛУ.
Аббревиатура фразы из Танаха: «Сыны Израиля, соберитесь и пойдем!». Так называлась первая халуцианская организация российских евреев (70—80 гг. XIX в.).
(обратно)Ашкеназские ударения.
В ашкеназском произношении иврита ударение всегда падает на первый слог, в отличие от сефардского, где оно чаще всего приходится на последний слог.
(обратно)Полная огласовка.
Семитские алфавиты не имеют знаков для обозначения гласных звуков. В первом тысячелетии н.э. арабские, а затем и еврейские грамматики составили системы огласовок для своих алфавитов. Огласовками, как правило, снабжаются священные и поэтические тексты, словари, учебники.
(обратно)Иудея и Израиль.
Два еврейских царства, существовавшие в 9—6 вв. до н.э., образовались в результате распада единого Израильского царства после смерти царя Соломона.
(обратно)«Падре».
Прозвище военного раввина Еврейского батальона.
(обратно)Ипр.
Местность, где немцы впервые применили химическое оружие в боевых условиях.
(обратно)Альянс.
«Всемирный Еврейский Альянс» — еврейская благотворительная организация во Франции.
(обратно)Лютостанский.
Православный священник, опубликовавший в 1878 г. в России брошюру, содержащую «кровавый навет».
(обратно)Четыре сына из пасхальной Агады.
«О четырех сыновьях говорит Тора» — фраза из текста пасхальной Агады. В Торе четырежды говорится: «И расскажи сыну твоему о выходе из Египта». Еврейская традиция утверждает, что это сделано для того, чтобы рассказ дошел до всех: как для любопытных, так и для нелюбопытных, и делит всех людей — «сыновей» — на четыре типа: мудрец, злодей, наивный и неумеющий спрашивать.
(обратно)Кальварийский.
Один из руководителей «Брит-Шалом», крайне левой несионистской организации.
(обратно)Altneu.
Дословно «Древнее-новое». Книга Теодора Герцля называлась «Altneuland» — «Старая-новая земля».
(обратно)Лютостанский, Замысловский.
Клеветники, в разное время возводившие в царской России кровавые наветы на евреев.
(обратно)Жаргон.
Презрительное название языка идиш, принятое среди сионистов.
(обратно)Cogito ergo som.
Мыслю — значит существую.
(обратно)Победа на Западном фронте.
Имеется в виду Первая мировая война.
(обратно)«Шекель».
Членский взнос сионистской организации.
(обратно)Тель Хай!.
Приветствие членов молодежной организации Бейтар. Тель Хай — название крепости, в которой погиб Иосиф Трумпельдор, именем которого названа организация. (Бейтар = «Брит Йосеф ТРумпельдор» = Союз имени Иосифа Трумпельдора)
(обратно)Магид.
Проповедник
(обратно)Золотые брошки в форме ивритских букв.
Значок, который любили носить владеющие ивритом.
(обратно)В ней жили почти все итальянцы, какие есть в этом мире.
Массовая эмиграция в Америку началась позже.
(обратно)Квадратное письмо.
Шрифт, чаще всего используемый в еврейских книгах.
(обратно)raison d'être.
Смысл существования.
(обратно)hachlatá leumith.
Национальное решение.
(обратно)
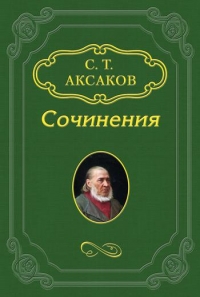


Комментарии к книге «Мир Жаботинского», Владимир Евгеньевич Жаботинский
Всего 0 комментариев