Переверзев Леонид What Am I Here For - для чего я здесь, Дюк Эллингтон как экзистенция джаза
Леонид Переверзев
What Am I Here For: для чего я здесь?
Дюк Эллингтон как экзистенция джаза (К столетию со дня рождения) текст, написанный при подготовке к одноименному докладу, но заведомо не
рассчитанный на чтение вслух
Синонимия
What am I here for, Для чего я здесь? - название трехминутной пьесы, сочиненной, исполненной и записанной в 1942 году на пластинку Дюком Эллингтоном и его оркестром. Наверное, каждому нелишне хоть изредка задаваться тем же вопросом. Спросим (риторически) прямо сейчас: Для чего мы здесь, в этом зале? Прежде всего, разумеется, чтобы воздать должное памяти и по-прежнему живому творчеству великого музыканта по случаю столетия со дня его рождения. Кроме того, нами (во всяком случае - мною) движут также и кое-какие дополнительные мотивы. Прежде чем к ним переходить, уточним: кто такие - мы? В основном, вероятно, те, кто любят играть (хотя бы на проигрывателе, хотя среди нас находятся также известнейшие музыканты-профессионалы, включая тех, кому довелось встречаться с Дюком на джем-сешнc и даже работать у него в оркестре) и слушать джаз Эллингтона. А попутно с игрой и слушанием - думать и рассуждать (про себя, вслух, публично или письменно) об Эллингтоне и джазе. Ведь Эллингтон и джаз для нас - (почти) синонимы. А для кого-то - и нечто неразделимое. И бесконечно драгоценное. И нам почему-то ужасно хочется узнать, понять и объяснить себе и другим: джаз - что же это за диво и чудо, чем оно нас к себе так привлекает и в чем его смысл, откуда оно пришло, куда идет и к чему призвано. Размышлять о том в отвлеченных категориях - занятие пустое. Отыскивать, сортировать, отбирать и связывать конкретные сведения по крупицам - дело бесконечно долгое, и часто за деревьями теряется лес. К счастью для таких любопытствующих - нам дан Эллингтон. Начиная с его биографии, написанной Барри Улановым в середине сороковых, Дюку посвящено не меньше десятка солидных монографий; в их числе - изданная и по русски книга Джеймса Коллиера. Незачем поэтому приводить сейчас об Эллингтоне какие-либо анкетные данные. Но стоит подчеркнуть его исключительное значение именно для лиц, собравшихся здесь сегодня.
Собирательная модель
Обратившись к Эллингтону, важнейшее в джазе схватываешь сразу: оно собрано, скомпоновано и подано будто специально для одномоментного, всеохватного, синоптического восприятия. Слышно и видно все сразу и целиком, как бы на огромной многоярусной театральной сцене с поворотным кругом, подъемниками, лазерами и гигантскими полиэкранами мультимедиа. Причем сам Дюк в этом театре - и автор спектакля, и режиссер, и декоратор, и осветитель, и актер на первых ролях, и предводитель импровизирующего хора. Вместе с Эллингтоном мы входим сразу и в духовность, и в телесность музыки, постигаем универсальность джазового присутствия в мире, приобщаемся ко множественной полноте существования джаза, к живой его экзистенции. Входим и сразу же останавливаемся, ошеломленные и растерянные. Куда тут ни повернись, откуда ни взгляни на это присутствие, на эту множественную полноту, на эту экзистенцию - повсюду и на каждом шагу упираешься в бесчисленные и по виду неразрешимые парадоксы, противоречия, коллизии, энигмы, конфликты и проблемы. Джаз вместе с Эллингтоном, или Эллингтон вместе с джазом уже по самой своей природе неизбывно парадоксален, противоречив, загадочен и проблематичен. Как, впрочем, и вся Музыка. Маленькое личное отступление. Лет пятьдесят назад гитарист Эдди Кондон произнес (и сделал заглавием своей автобиографической книги) крылатую фразу: "Вы называете это джазом, а мы зовем это Музыкой". Примерно в те же годы у меня сложилось убеждение в необходимости перевернуть для себя эти слова так, чтобы они выражали позицию, занимаемую мною и по сей день. Позвольте мне повторить их сейчас с единственной целью снизить объем неизбежных недоразумений: "Вы называете это Музыкой, а я зову это Джазом". Разумеется, тут всего лишь моя маленькая персональная идиосинкразия, решительно ни на что не претендующая, и просящая только о снисхождении. Безотносительно к терминологическим спорам берусь обосновать тезис о том, что в Эллингтоне и джазе мы находим собирательную модель наиболее острой музыкальной проблематики не только двадцатого, но и двадцать первого века.
Симптоматичное повторение
Лично меня, естественно, очень занимала и продолжает занимать роль джаза в жизни моего поколения. И едва ли не в первую очередь - задача его оправдания перед лицом множества выдвигавшихся против него (и против нас, его приверженцев) обвинений. Большинство последних, вызывавших некогда у нас невероятно горькую обиду, возмущение, ярость, ненависть и боль, сегодня выглядит смехотворно и в глазах молодых не заслуживает никакого внимания. Я и не буду о них говорить. Но вот что бросается в глаза: кое-какие прежние обвинения почти дословно повторяются ныне в адрес теперешней "молодежной" музыки. Они, правда, никого уже не ранят, ибо современная молодежь, куда более умная, чем мы, их попросту игнорирует. Кроме того, приверженцы этой музыки составляют ныне подавляющее большинство, тогда как мы были в крошечном меньшинстве. Вместе с тем, дабы лучше понять самое музыку молодых, ее природу и ее значение в нынешней жизни, небезынтересно было бы прояснить основные причины, факторы и мотивы, заставляющие стариков моего возраста испытывать к ней столь острую антипатию, приписывать ей какие-то злокозненные свойства и даже активно на нее ополчаться. Вынесем за скобки чисто возрастные: неизбежное с годами угасание тяги к новизне, потерю общей художественной чувствительности, усиливающийся вкусовой консерватизм, короче - исконное противостояние "отцов и детей". Нет ли за этим и еще чего-то, лежащего совсем в иной плоскости? Например, того, что определяется "духом времени" и общей сменой культурных ориентиров (они же - "стереотипы")? Или же персональных особенностей психического (или даже психосоматического) склада, заставляющих их носителей искать музыкальных переживаний диаметрально противоположного свойства? Не отсюда ли так часто рождается "эмоциональная несовместимость", эстетический антагонизм и взаимное отчуждение людей даже внутри одного поколения? Возможно, впрочем, сочетание в той или иной пропорции всех трех моментов. Как бы то ни было: наблюдая встречу различных индивидов с эллингтоновским джазом и характер вызываемых им реакций, мы получаем обильную пищу для построения ряда нетривиальных гипотез на сей счет, а заодно и очень удобную среду для опытной их проверки. О чем, собственно, я толкую? А вот о чем. Эдвард Кеннеди Эллингтон, по прозвищу Дюк - это огромная кухня-лаборатория, ремесленная мастерская, импровизационная студия и целый научно-художественно-исследовательский институт. Это широчайший полигон, на котором можно испытывать эффективность любых теорий, эстетических концепций и аналитических методов, стремящихся подойти к джазу с любой из его граней и сторон, на практике необозримых и неисчислимых. Мне хочется поделиться с вами кое-какими относящимися сюда размышлениями. Никаких готовых ответов, неоспоримых выводов или прогнозов у меня не имеется. Нет и претензий на какую-либо систематичность. Хочу лишь напомнить (с небольшим добавлением от себя) ряд известных фактов, мнений и высказываний, могущих пробудить у вас желание их дополнить, уточнить, опровергнуть, вступить с ними в спор или как-то иначе на них откликнуться. Начну с вопроса, периодически становящегося предметом дискуссии примерно раз в десятилетие. Умирает ли джаз? Лет восемьдесят тому назад, когда едва родившемуся джазу удалось выйти на мировую арену и произвести там довольно большой шум, многие говорили: ну, это мимолетная мода, она скоро угаснет сама собой, пройдет без следа, и никто о ней больше не вспомнит, будто ее и не было. Мода действительно прошла, но джазу как-то удалось удерживаться на плаву еще два-три десятилетия, хотя потом наступила действительно тяжкая пора. Не где-нибудь, а в Америке, на родине джаза, с середины пятидесятых и особенно шестидесятых годов все громче кричали: джаз отжил свой век, джаз не для молодых, а для престарелых, джаз - это вчерашний, даже позавчерашний день. Или еще жестче: джаз обречен, он умирает, а то и умер уже; в лучшем случае - стал каким-то окаменевшим музейным экспонатом. К счастью, слухи оказались преувеличенными. Какая-то часть юного поколения на рубеже второго тысячелетия выбирает, наряду с Пепси и другими замечательными вещами, также и джаз. Тем самым джазу выпадает шанс перебраться с молодежью и в двадцать первый век. Меня занимает вопрос: что именно из джаза туда переберется? Что слышит, чувствует, ищет, находит, узнает в джазе сегодняшняя молодежь? Что из джазового наследия она захочет по настоящему глубоко себе усвоить и взять, как свое собственное, в будущее? Мне, например, очень хочется, чтобы молодые взяли с собою джаз Дюка Эллингтона. То есть, конечно же, было бы чудесно, чтобы в компании с ним оказались и Армстронг, и Бэйси, и Паркер, и Гиллеспи, и Телониус Монк, и Майлз Дэйвис, и Джон Колтрейн, и Чарли Мингус, и еще множество не менее блистательных мастеров. Но, предположим, взять их всех сразу почему-то никак нельзя, и есть место лишь для одного. И коли у меня спросят: кто же этот один, кого в подобной ситуации следовало бы выбрать по наибольшему числу оснований и критериев, то я не колеблясь отвечу: это Дюк Эллингтон. И объясню почему.
Вершина, с которой видится далеко вокруг
Никому из других великих джазменов не довелось вместить в себя и отразить в своем творчестве столь широкое многообразие различных форм, стилей, сторон, граней, аспектов и измерений джаза. Например, пробуждать танцевальный зуд в посетителях ночных клубов, а наутро силами тех же оркестрантов и церковного хора исполнять по просьбе священнослужителей "Отче наш" и "Хвалите Господа" на собственный джазовый распев под сводами кафедральных соборов различных деноминаций. И при том столь искусно и непринужденно приводить эти (как принято считать, абсолютно антагонистические и взаимоисключающие) жанры к парадоксальному художественному единству. Никому иному не удавалось на протяжении столь долгих лет столь последовательно идти (или быть ведомым свыше?) по избранному пути, неустанно развивая свой талант, совершенствуя мастерство, экспериментируя с новыми средствами и открывая для себя (и для нас) все более широкие горизонты и вершины музыки, называемой джазом. Конечно, и у Эллингтона были слабости: случались просчеты, что-то совсем не выходило, что-то получалось не так, как задумывалось; иногда наступали периоды застоя, неизменно сменявшиеся, впрочем, очередным взлетом творческой активности. И уж в двух главных своих ипостасях - как джазовый композитор и как оркестровый импровизатор - Дюк, по общему признанию, не имел и до сих пор не имеет себе равных. Короче никакой иной отдельный музыкант не представляет собою столь ярко и полно как индивидуальное, так и коллективное лицо джаза в целом. К нему очень подходит девиз Великой Печати Соединенных Штатов (воспроизведенный на обратной стороне долларовых купюр и потому известный ныне, по крайней мере зрительно, каждому пост-советскому человеку): E PLURIBUS UNUM - Из множества единый. Познакомиться с Эллингтоном - значит познакомиться если и не со всем джазом, то с такой из его вершин, откуда гораздо легче обозревать и постигать все остальные.
Ellington Sound
Как всякий великий художник, Эллингтон задал нам о себе много загадок. Например, он отказывался публиковать свои партитуры (да и далеко не все они были зафиксированы им на бумаге сколько-нибудь подробно). К счастью, почти все им сочиненное и тут же исполненное сохранилось в звукозаписи, но неизвестно, удастся ли когда-либо расшифровать фонограммы его произведений с такой точностью, чтобы какие-либо не-эллингтоновские инструменталисты смогли сыграть их неотличимо на слух от оригинала. Европейская нотация, схватывающая лишь грубые очертания звуковысотного и ритмического контуров, для этого непригодна. В исследовании художественных секретов Эллингтона как практикующим джазменам, так и музыковедам двадцать первого века большую пользу окажет компьютер: он позволяет буквально вглядываться в мельчайшие клеточки, ячейки и узлы сонорно-интонационных структур джаза. Первый шаг к тому еще в 1955 году сделал Алан Скотт, британский поклонник Дюка и по профессии физик. Он осциллографировал соло Джо Нэнтона в "C Jam Blues" и обнаружил: в наиболее выразительных, в предельно горячих своих импровизациях знаменитый тромбонист изменяет способы звукоизвлечения и создает непрерывно перемещающиеся ритмические акценты внутри одной ноты! То есть невероятно тонко варьирует амплитуду, характер переходных процессов и спектральный состав (тембр) звука с периодом в одну пятидесятую секунды. Позже Гюнтер Шуллер (уже с помощью компьютерного анализа) указал на аналогичные акценты и в игре Армстронга, о котором говорили, что у него "и одна нота свингует". Оркестру достаточно было взять одну ноту tutty - и вы безошибочно узнавали (и теперь узнаете на его дисках) ни с чем несравнимый и неподражаемый Ellington Sound, Эллингтоновский Звук.
Разносторонний талант
Эллингтон оставил также замечательную книгу воспоминаний, дневниковых заметок и размышлений о своей музыке и о людях, вместе с ним ее создававших. Он озаглавил ее Music is My Mistress, что можно перевести как "Музыка, моя возлюбленная-подруга-владычица". В ней совсем нет аналитики, зато из нее можно узнать немало о мотивах, эстетических критериях, идеалах и духовных ценностях, вдохновлявших и направлявших творчество Дюка. Артист до мозга костей, он предстает на ее страницах поэтом и философом собственного искусства, равно как и джаза вообще. Я настойчиво рекомендую эту книгу всякому, кто хочет по настоящему понять джаз Эллингтона, а с ним и джаз как таковой. Хотя никогда нельзя забывать и о том, что маэстро умел, когда хотел, быть весьма находчивым (но при том никогда никого не обижающим) мистификатором. Во всем, что бы ему ни приходилось делать в музыке (да и в жизни), Эллингтон проявлял себя талантливым драматургом - пусть только любителем, как он сам не уставал подчеркивать, зато необыкновенно органичным и остроумным, точно выбиравшим цель и попадавшим в нее без промаха. Помимо тех, что сочинялись им специально для музыкального театра, немалое число эллингтоновских произведений являет собой настоящие звуковые поэмы: они "программны" и "сценичны"; у многих имеется либретто, написанное самим композитором или заимствованное им у других авторов. Впечатляющим свидетельством того, сколь широко и далеко простирались театрально-литературные интересы Дюка, служат "Благостный Четверг", сюита, вдохновленная романами Стейнбека, и две шекспировские сюиты: "Тимон Афинский" и "Столь нежный гром". Особо подчеркну, что всем сочинениям Эллингтон в равной степени свойственна прирожденная вокальность: десятки инструментальных номеров, впоследствии снабженные лирическими текстами, получили новую жизнь уже в облике популярных песен, широко известных и любимых далеко за пределами джазовых кругов. В юности Эллингтон хорошо рисовал, мечтал стать художником и дизайнером, показал блестящие успехи, учась на отделении прикладных искусств в Институте Пратта, писал театральные декорации и даже получил приз на всеамериканском студенческом конкурсе плаката. Вскоре, правда, он навсегда отложил кисть, чтобы целиком отдаться музыке, но нет никакого сомнения, что его изобразительный дар ярко проявился и в джазе. Прежде всего - в постоянном стремлении передать звуковыми средствами чувство цвета, о чем говорит большое количество "колористических" названий, которые он давал своим сочинениям. Об этом вам специально расскажет Арнольд Волынцев (на конференции, для которой предназначался и публикуемый доклад - ред.). Некоторые расширенные композиции Эллингтона воспринимаются как грандиозные полотна или фрески; другие - как полихромные мозаики или гобелены, сотканные из множества прелестных виньеток. Впрочем, и каждую из более чем тысячи его трехминутных танцевальных пьес, некогда значившихся в каталогах под рубрикой "фокстрот" или "свинг", легко мысленно визуализировать: увидеть в них всякий раз какую-то мгновенную зарисовку, импрессионистический этюд, жанровую картинку на определенный сюжет, подчас с виду банально-бытовой, но скрывающий в себе неисчерпаемую глубину мифа. В этом убеждаешься, когда смотришь первые, технически примитивные и художественно-наивные, еще не видео-, а кино-клипы начала тридцатых годов, запечатлевшие оркестр Эллингтона и выступавших с ним певцов и танцоров. А позже Дюк специально создает целую серию звуковых "Портретов" своих коллег-музыкантов и выдающихся негритянских артистов. Ему принадлежит также первый, до сих пор непревзойденный (да, кажется, и единственный) опыт синтетической, свето-цвето-хореографической телевизионно-джазовой постановки-феерии "A Drum Is A Woman", "Барабан - это женщина".
Стиль джунглей
Даже чисто номинативное перечисление уникальных особенностей, присущих Эллингтону и его оркестру во всех предпринятых ими начинаниях, заняло бы все время моего доклада. Выделю чуть подробнее только одну. Бывают (правда, редко) художники, чей дебют являет мощь и самобытность их таланта сразу и во всей его полноте. Так было с Армстронгом: пластинки Hot Five и Hot Seven, записанные во второй половине двадцатых годов, придали мощнейший импульс тогдашнему джазу, не переставая активно влиять на его развитие вплоть до Второй мировой войны. И, как считает ряд критиков, за всю свою дальнейшую, неизменно успешную карьеру и растущую популярность, величайший джазовый трубач и вокалист уже никогда не достигал столь вдохновенного импровизационно-творческого взлета. Эллингтон продвигался постепенно, шаг за шагом завоевывая и осваивая все новые и новые рубежи художественного пространства. Первые записи группы The Washingtonians, сделанные в те же годы, что и Hot Five, лишь намекали на мощный бросок, совершенный оркестром и музыкой Эллингтона на протяжении последующего десятилетия. Но кое-что уже тогда решительно и бесповоротно выделяло коллектив Дюка из числа других ансамблей того времени. Его "торговой маркой" и безошибочным опознавательным знаком явился "стиль джунглей" - ошеломляюще гротескные звучания особым образом сурдинируемых медных духовых. Изобретателями-основоположниками и непревзойденными виртуозами этого стиля были тромбонисты Чарли Эрвис и Джо Нэнтон и трубачи Баббер Майли и Кути Уильямс. Искусно манипулируя фетровыми шляпами, бутылками-затычками, жестяными чашками и резиновым вантузом для прочистки водослива кухонной раковины, они производили на своих инструментах поразительные музыкально-акустические эффекты. Тромбон и труба издавали ворчание, мычание, блеяние, ржание и рычание, бормотание и даже некое подобие членораздельной речи; карканье хищных птиц и вопли диких зверей, мучительные стоны и всхлипы, рев, уханье, пуканье, кряканье, неутешный плач и сатанинский хохот одновременно. Публика (включая утонченных интеллектуалов) не сомневалась, что слышит "подлинную Африку", однако курьезный парадокс в том, что о настоящей музыке Черного континента ни публика, ни Эллингтон, ни его оркестранты не ведали в ту пору ровным счетом ничего. Но поскольку литературно-салонный и мьюзикхолльный "африканизм" был тогда в большой моде, они на скорую руку изготовили свой доморощенный "стиль джунглей", вполне отвечавший требованиям момента. Нуждались же они в нем прежде всего для того, чтобы обеспечить себе устойчивый ангажемент. То есть постоянную работу в тех фешенебельных ночных клубах и кабаре, где требовалось аккомпанировать роскошно поставленным шоу-балетам о дикарях-людоедах, злокозненных колдунах, разнузданных оргиях и похищениях белых девственниц сластолюбивыми черными чудовищами. А далее произошло следующее. Увлечение африканской экзотикой и связанные с ним ангажементы исчезли в одночасье вместе с прочими поветриями, иллюзиями и запойным разгулом бурных двадцатых. Стиль же джунглей остался и более того: освободившись от своих прикладных, иллюстративно-аккомпанирующих функций, он продолжал развиваться Дюком уже независимо от них, то есть как нечто художественно-самоценное. Впечатляющие результаты такого развития известны всякому, кто знаком с такими эллингтоновскими шедеврами, как East St.Louis Toddle-Oo, The Mooch, Creol Love Call, и Black and Tan Fantasy. И, под конец, самое знаменательное в этой истории. Во второй половине двадцатого века было сделано множество этнографических записей традиционной, стопроцентно подлинной племенной музыки из лесных районов Конго, Габона, Ганы и других стран Экваториальной Африки. На этих записях немало примеров, когда туземные исполнители, с одной стороны, имитируют голос говорящего человека на рогах, дудках, раковинах и других примитивных аэрофонах, а с другой - вокально представляют голоса духов и богов в звучаниях, одинаково и поразительно схожих с эллингтоновским стилем джунглей. У меня на сей счет есть две объяснительные гипотезы. Первая в том, что афро-американцы все-таки сохраняли память о такой традиции в течении нескольких поколений, причем лишь посредством вокальной практики (преимущественно в рабочих песнях и полевых выкриках), ибо никаких духовых инструментов во времена рабства на плантациях у них не было. Второе объяснение чисто умозрительное. Оно предполагает наличие неких глубинных архетипов вокально-инструментального музицирования, генетически врожденных всем человеческим существам и могущих пробуждаться и выходить наружу в тех случаях, когда их к тому провоцируют и поощряют какие-то экстраординарные внешние обстоятельства.
Запутанная ситуация
Так или иначе, казус со стилем джунглей у Эллингтона крайне симптоматичен. Он вынуждает нас констатировать: не только modus operandi, но и modus vivendi, сам способ существования джаза (даже наиболее совершенного художественно) в ряде важнейших аспектов резко расходится, а то и активно конфликтует с поэтикой, эстетикой и общим духовным статусом той европейской музыки, которую именуют "классической", "ученой", "академически-профессиональной", "высокой" и "серьезной". Расхождения эти сейчас стараются не замечать, их пытаются замазать, преуменьшить, сблизить наведением каких-то мостов, как-то нивелировать и якобы примирить, но до сих пор ничего сколько-нибудь убедительного здесь не получалось. Означенные противоречия остаются такими же острыми и взывающими если не к немедленному разрешению, то хотя бы к ясному осознанию факта их наличия и более тщательному анализу их природы. В конце концов все искусства, как и жизнь, сотканы из бесчисленных противоречий, и задача не в том, чтобы разрешить их одним сокрушительным ударом, сплавить в какой-то монолит или перемешать для получения мутной суспензии. Куда перспективнее искать формы равноправного диалога и способы сопряжения динамических сил, не взаимоисключающих, но дополняющих и плодотворно взаимодействующих друг с другом, не теряя своей идентичности. Не забудем и о совсем иных силах, такому сопряжению отчаянно препятствующих. Взять хотя бы давний, еще в тридцатых годах начавшийся раскол внутри самого джаза, начатый отнюдь не модернистами, но консерваторами-фундаменталистами. Кстати, Дюк стал первой мишенью их ожесточенных инвектив. Руди Блеш, необыкновенно эрудированный и самоотверженно преданный своей миссии джазовый историк, писал: "Эллингтон не изменил джазу, ибо никогда к нему и не принадлежал". Курьезно, что маэстро и сам неоднократно заявлял о своей неприязни к термину "джаз", чересчур скомпрометированному сомнительными связями и ложными отождествлениями. Все это дополнительно отягчает ситуацию, и без того чрезвычайно сложную и запутанную. Дабы не заблудиться в ее эмпирической пестроте, необходимо нащупать какие-то устойчивые отправные точки. Причем нам нужно достаточно уверенно ориентироваться как минимум в трех общепринятых (но все менее оперативных) категориях музыки - "серьезной", "легкой" и "народной", в свою очередь весьма подвижных и каждый раз требующих исторической и социокультурной конкретизации. Напомню, что ни джаз, ни Эллингтон не укладываются целиком ни в одну из названных категорий (и менее всего - в первую), как бы их не пытались туда втиснуть из самых благих побуждений. В порядке прояснения данного вопроса полезно обратиться не только к музыковедческим трактатам, но также к наблюдениям и свидетельствам больших художников-европейцев, которым доводилось иметь дело джазом на уровне лично-экзистенциального опыта - если и не прямо их собственного, то пережитого их любимыми персонажами.
Взгляд из Европы
Есть по крайней мере два замечательных "германоязычных" произведения двадцатых годов - опера Эрнста Крженека Johnny Spielt Auf (не очень верно переводимая на русский как "Джонни Наигрывает") и роман Германа Гессе "Степной Волк" - где встреча и столкновение джаза с высокой европейской музыкой выступает главным сюжетно-смысловым и драматургическим стержнем. Эллингтон, впрочем, нигде там не присутствует и вряд ли был известен их авторам хотя бы по имени. Но те, кому знаком джаз Дюка, несомненно воспримут и оценят оба названных произведения несравненно полнее и адекватнее тех, кто к джазу равнодушен. И у Крженека, и у Гессе действует по сути одна и та же пара протагонистов. Один из них - европейски образованный, утонченный, художественно чуткий и рефлексирующий интеллектуал, центрированный на музыке (в опере композитор), полностью разочарованный в своей былой вере и прежних ценностях, духовно и эмоционально опустошенный, готовый окончательно и невозвратно сорваться в бездну отчаяния. Другой протагонист - джазмен (в опере - негр, в романе - креол), во всех отношениях диаметрально противоположный европейцу: воплощение стихийности, животной интуиции и витальных инстинктов. В обоих произведениях джазмен после ряда драматических перипетий мистически преображается в спасительную фигуру великого и одухотворенного мастера-учителя. Приходя на помощь раздавленному историей интеллектуалу, он возвращает ему чувство подлинной реальности и вкус к жизни, излечивает от мировой тоски, освобождает от ложных иллюзий и открывает перед ним новые творческие просторы. Хотя в целом общеисторический кризис европейского искусства двадцатого века так и не был преодолен ни этим, ни каким-либо иным путем, и подобная трактовка джаза вскоре была несколько смущенно отброшена, нам важно отметить скрытую в ней интенцию. Лет двадцать спустя и в несколько иных преломлениях мы вновь найдем ее отголоски в поэзии и прозе Бориса Виана и Хулио Кортасара, пишущих по-французски (ой ли? Не нам, конечно.подвергать сомнению слова Л.Б., но сдается, что Кортасар хоть и жил во Франции, а писал все же по-испански - ред. -- Кирилл, Вы совершенно правы, а я ошибся - ЛП); у Марселя Марешаля в работах по эстетике театра; и у британца Джона Осборна. Герой последнего в пьесе "Оглянись во гневе" ("рассерженный молодой человек" и трубач-любитель) категорически декларирует: "Кто не любит джаз - тот не любит людей и не любит музыку". И вот что пишет в крошечном, но пронзительном автобиографическом скетче фламандец Луи-Поль Боон, вспоминая годы гитлеровской оккупации и тайные часы, проводимые у радиоприемника, настроенного на Би-Би-Си: "Если бы я был великим поэтом, я бы, наверное, пропел хвалу Баху или Бетховену, в музыке которых, как говорят, слышны море, лесная чаща и Бог... Если бы я был еще более великим поэтом, я бы пропел хвалу джазу - душе нашего исковерканного века, века отчаянья, гнева и тоски, в котором мы, каждый по-своему, не чувствуем себя дома, но которого не могло бы выдержать ни одно поколение, кроме нашего - о великий Армстронг и его труба!" Задав приведенными ссылками некоторую общую историко-художественную перспективу, возьму сейчас вещь среднего масштаба, более близкую к нам по времени. Эллингтон, правда, упоминается в ней лишь дважды и предельно лаконично, однако в таком контексте, который дает немало прямых стимулов для весьма разнообразных размышлений на обсуждаемую нами тему.
Конец истории
Рассказ Милана Кундеры "Смерть Тамины" построен в двух планах. Один, нас сейчас не касающийся, принадлежит к жанру "магического" или "мифологического реализма". Другой же, приоткрывающий жизнь и духовную агонию рассказчика на фоне документальных сведений о смертоносно-удушливой культурно-политической атмосфере Чехословакии начала семидесятых годов, содержит важную "музыкальную" линию. Я приведу из нее (в моем подстрочном переводе и с моими подзаголовками) довольно большую выдержку и уверен, что вы найдете ее того заслуживающей. Кроме того, позволю себе и далее несколько раз возвратиться к рассуждениям этого значимого для нашей проблематики автора. "Вот что отец (музыколог-теоретик - Л.П.) некогда рассказал мне, пятилетнему: тональность - это королевский двор в миниатюре. Им правит король (первая ступень) и два его главных помощника (ступени пятая и четвертая). У них под началом есть еще четыре вельможи, у каждого из которых свои особые отношения с королем и его помощниками. При дворе состоят еще пять дополнительных ступеней, именуемых хроматическими. Им приходится играть важную роль в других тональностях, но в данной они просто гости. Поскольку каждая ступень имеет свою должность, титул и функции, любая слышимая нами пьеса есть нечто большее, нежели просто череда звуков: перед нами всегда развертывается некое действо. Иногда происходят ужасно запутанные события (как у Малера, и еще более - у Бартока и Стравинского): вторгаются принцы из других дворов, и вскоре уже не скажешь, к какому двору принадлежит данный тон, да и нет уверенности, что он не работает тайно двойным или тройным агентом. Но и тогда даже самый наивный слушатель все-таки сохраняет возможность как-то следить за тем, что происходит. Наиболее сложная музыка по-прежнему представляет собой некий язык. Так говорил отец. Далее идет мое (Милана Кундеры - Л.П.) собственное. Однажды великий человек провозгласил: за тысячу лет язык музыки настолько износился, что способен лишь пересказывать одно и то же старое послание. Этот великий своим революционным декретом ликвидировал иерархию тонов, сделал их одинаково бесправными и подчинил строжайшей дисциплине: ни одному не разрешалось появляться в пьесе чаще, чем другим, так что никто не мог претендовать на прежние феодальные привилегии. Все королевские дворы были навсегда уничтожены, и на их месте возникла унитарная империя, основанная на равенстве ступеней и названная двенадцатитоновой системой. Пожалуй, сонорности стали интересней, чем раньше, но аудитории, привыкшей в течении тысячи лет следить за придворными интригами тональностей, уже нечего было с ними делать. Смысл исчез. Империя двенадцатитоновой системы вскоре распалась. После Шенберга пришел Варез и упразднил ноты (тона человеческого голоса и музыкальных инструментов) вместе с тональностями, заменив их крайне тонкой игрой звуков, хотя и волнующей, но знаменовавшей начало истории чего-то отличного от музыки, чего-то, основанного на иных принципах и другом языке. Когда в моей пражской квартире Милан Хюбл обсуждал возможность того, что чешская нация исчезнет, растворившись в русской империи, мы оба знали, что эта идея, хотя логически и допустимая, в уме у нас не укладывается, и потому мы говорим о немыслимом. Даже если человек смертен, он не в силах помыслить конец пространства или времени, истории или нации: он живет в иллюзорной бесконечности. Люди, зачарованные идеей прогресса, никогда не подозревают, что каждый шаг вперед есть также шаг на пути к концу, и что за всеми радостными лозунгами "вперед и выше" прячется похотливый голос смерти, призывающий нас поспешить. (Если одержимость словом "вперед" стала ныне универсальной, то не потому ли, что смерть говорит с нами с такого близкого расстояния?) В те дни, когда Арнольд Шенберг основал свою двенадцатитоновую империю, музыка была богаче, чем когда-либо в прошлом, и опьянена своей свободой. Никому и не снилось, что конец был так близок. Никакой усталости. Никаких сумерек. Шенберг был таким нагло-смелым, каким может быть только бесшабашный юнец. Он законно гордился тем, что выбрал единственно правильную дорогу, ведущую "вперед". История музыки пришла к своему концу в бурном порыве отваги и желания."
Идиотизм гитары
"Если правда, что история музыки окончилась, то что осталось от музыки? Тишина? Ни к коем случае. Вокруг становится все больше и больше музыки, во много раз больше, нежели в самые славные ее дни. Она изливается из громкоговорителей на столбах, из жалких аудиосистем в квартирах и ресторанах, из транзисторов, носимых людьми на улицах. Шенберг мертв, Эллингтон мертв, но гитара бессмертна. Стереотипные гармонии, затасканные мелодии и бит, чем глупее, тем оглушительнее - вот что осталось от музыки, от вечности музыки. Каждый может сойтись с каждым на базе этих простых звукосочетаний. Они суть сама жизнь, триумфально возглашающая "Вот я здесь!". Нет чувства сопричастия более резонирующего, более единодушного, нежели простое чувство единения с жизнью. Оно сводит вместе арабов и евреев, чехов и русских. Тела пульсируют в общем бите, пьяные от одного сознания того, что они существуют. Ни одно из сочинений Бетховена никогда не исторгало большей коллективной страсти, чем неумолчные судороги гитары. Как-то за год до смерти отца (когда болезнь уже совсем лишила его дара речи) мы вышли на улицу прогуляться и эта музыка преследовала нас повсюду. Чем печальней было вокруг, тем громче вопили динамики. Они старались заставить оккупированную страну забыть горечь истории и посвятить всю свою энергию радостям повседневной жизни. Отец приостановился и посмотрел на изрыгавшее этот шум устройство, и я понял, что он хочет сообщить мне нечто крайне важное. Он собрал все силы, чтобы облечь свою мысль в слова и, наконец, произнес: "идиотизм музыки". Что он имел в виду? Могло ли ему прийти в голову оскорбить музыку, любовь всей его жизни? Нет, я думаю, он хотел мне сказать, что имеется некое первичное, довременное, примордиальное состояние музыки, состояние, предшествующее истории, состояние, при котором вопрос о значении еще не поднимался, состояние, когда об игре мотивов и выборе темы не было не только заботы, но и помышления. Элементарное состояние музыки (музыка минус мысль) отражает имманентный идиотизм человеческой жизни. Потребовались монументальные усилия сердца и ума, чтобы музыка возвысилась над этим врожденным идиотизмом, и этот лучезарно-величественный свод, простершийся над веками европейской истории, скончался в апогее своей траектории, как ракета на праздничном фейерверке. История музыки смертна, но идиотизм гитары вечен. Музыка наших дней вернулась к примордиальному состоянию, тому, что наступило вслед за тем, как последний вопрос был поставлен и последняя тема заявлена - состояние, которое наступает после истории. Когда Карел Готт, чешский поп-певец, уехал за границу в 1972 году, Гусак перепугался. Он сел и написал ему личное письмо. (Шел август, и Готт был во Франкфурте.) Цитирую дословно, ничего не изобретаю. Дорогой Карел, мы на тебя не сердимся. Пожалуйста, возвращайся. Сделаем все, как просишь. Мы поможем тебе, ты поможешь нам... Подумайте только. Не моргнув глазом, Гусак позволил врачам, ученым, астрономам, атлетам, режиссерам, операторам, рабочим, инженерам, архитекторам, историкам, журналистам, писателям и художникам отправиться в эмиграцию (предварительно уволив их с работы), но не мог перенести мысли о том, что Карел Готт покинул страну. Потому что Карел Готт представлял музыку минус память, музыку, в которой были бесследно погребены кости Бетховена и Эллингтона, прах Палестрины и Шенберга. Президент беспамятства и идиот музыки стоили друг друга. Оба действовали заодно. "Мы поможем тебе, если ты поможешь нам". Одному не обойтись без другого." Конец цитаты.
Тень надежды
Четверть столетия прошла после событий в Чехословакии, обозначенных в рассказе Милана Кундеры "Смерть Тамины". Мир с тех пор заметно изменился. Нет больше Чехословакии, и сгинул СССР. Есть независимая демократическая Чехия, есть и Россия, где (пока) нет тоталитарной диктатуры и арестов инакомыслящих. Происходит, правда, нечто непостижимо-ужасное и раскалывающее весь мир в Югославии, от чего и сердца, и душа, и разум просто разрывается. Но тем важнее внести кое-какие поправки в беспросветно мрачную картину, нарисованную Кундерой. История музыки (как и человечества), вопреки тогдашнему убеждению рассказчика, еще не кончилась. Идиотизма, в том числе музыкального, вокруг более чем предостаточно, однако творческий дух отнюдь им не побежден. Наследие Эллингтона, как и других великих из того же ряда, продолжает жить. Не без его влияния даже в "музыке беспамятства" происходят кое-какие обнадеживающие сдвиги. Сейчас, например, в Соединенных Штатах опять входит в моду свинг (во избежание путаницы назовем его нео-свингом) - причем не только как стиль вокально-инструментально-танцевальной музыки, но и как характерная субкультура: ее приверженцы стараются тщательно (как им кажется) воспроизводить фасон одежды, сленг и манеры, отличавшие прадедушек и прабабушек теперешних свинг-фэнов. В истории джаза, кстати, нечто похожее (хотя и куда скромнее по размаху) уже бывало: в конце тридцатых (как раз в пику торжествующему тогда свингу) возродился "культово-сектантский" интерес к раннему нью-орлеанскому джазу; в конце восьмидесятых (контрастно и к снобистскому авангарду, и ко всеядному фьюжн) Уинтон Марсалис, затем Джимми Картер принялись реабилитировать би-боп. В прошлом, однако, такие "реставрационно-консервационистские" течения возникали исключительно в замкнутых рамках джазового сообщества, то есть оставались чисто "семейной" коллизией между различными его фракциями. Ныне дело совсем иное. Нео-свинг и возник вне джаза и противостоит он не чему-либо, находящемуся внутри последнего, но тому, что расположено за его границами (насколько мы вообще можем их уверенно очертить). Я подразумеваю то мощное и широкое музыкальное (и экстрамузыкальное) движение, которое в пятидесятых годах возникло сперва в качестве альтернативы джазу того времени, а затем очень быстро и фактически полностью вытеснило его из сферы "массовой", "популярной" или "молодежной" музыки. Имя этому движению - рок. Бессмысленно и бесполезно обсуждать, возьмут ли молодые джаз в двадцать первый век, если мы будем игнорировать и замалчивать рок как действительно эпохальный и совсем не поверхностный феномен. Или же только радоваться тому, что за полвека своей триумфальной экспансии и аннексии все более обширных территорий этот глобальный агрессор впервые вынужден хоть на дюйм отступить перед джазом, пусть и в уморительно-курьезном облике нео-свинга. Тему джаза и рока в свете творчества Эллингтона конкретно, подробно и несравнимо лучше, чем мог бы я, раскрыл бы вам Алексей Козлов. Мне сейчас хочется лишь подчеркнуть необыкновенную актуальность данного вопроса и для общего музыковедения двадцать первого века. Так что еще пару слов о "музыке идиотов". Согласно Милану Кундере, она манифестирует животную радость существования, самодовлеющую экзистенцию, стихийный драйв жизни. Она предшествовала историческому пути развитию музыкальной культуры, теперь она торжествует и после крушения последней; ergo - она бессмертна и вечна. (В центре Белграда каждый день устраиваются рок-концерты в знак протеста против натовских бомбардировок и для поддержания общей бодрости духа: слова там звучат сербские, даже русские, однако музыка в своей ритмической и мелодико-гармонической основе отчетливо американская!). Допустим на минуту, что Кундера прав во всем. Но и тогда резонно спросить: полностью ли исключена вероятность того, что на обломках империй и руинах цивилизаций всемогущее Бытие пожелает еще раз породить историю, и та вновь начнет свой подвиг музыкально-культурного строительства?
Шанс на возвращение памяти
Если у нас остается хоть тень надежды, то музыка идиотов, несомненно, есть та единственная - ибо никакой другой просто нет - почва духа, которой предстоит принять семена будущего, дать им взойти и подвергнуться культивации. А тем самым - не только обрести способность запоминать и учиться, но и произвести анамнез, припоминание всего, в чем дух уже имел случай исторически воплотиться. Потому что лишь тогда перед выходящей из идиотизма музыкой откроется возможность свободно и осознанно выбирать по собственному желанию, с кем и с чем ей захочется со-звучать - то ли в унисон, то ли в партесной гармонии, антифонно, респонсорно, в полифоническом контрапункте или в иных модусах, нам пока неведомых. Я убежден, что эта возникающая и становящаяся молодая музыка немало выиграет, если прежде всего припомнит опыт и траекторию творческого пути Дюка Эллингтона. В самом деле, ведь ему вместе со своим оркестром довелось на собственной практике пройти путь исторического становления джаза от его начальной, по Кундере - идиотической фазы, до почетнейшего места в кундеровском же музыкальном пантеоне. А заодно и преодолеть на этом пути беспросветное уныние и отчаяние разочаровавшегося в культуре индивида, изолированного от других и от самого себя - будь то репрессивным режимом или же собственным пессимизмом, вытекающим из безверия и неблагодарно-враждебного презрения к жизни. Более того, Эллингтону удалось сознательно и намеренно отобразить и художественно рефлексировать подобного рода путь в своих крупнейших композициях. Сперва Дюк замышлял их как звуковую параллель социальной и культурной истории негритянского народа: таковы мьюзикл "Jump For Joy" (1941), монументальная сюита "Black, Brown and Beige" (1943) и синтетический спектакль "My People" (1963). С течением же времени его все более занимала проблема возрастания личности, вступающей посредством своей работы (в частности - музыкального ремесла) в полноту общения со всеми другими людьми, к какой бы нации, расе и вере они не принадлежали, а через них - с необъятным космосом и его Творцом. Последние годы жизни Эллингтон отдал в основном Концертам Священной Музыки, в которых, по его словам, он постарался подытожить и публично высказать то, что с раннего детства говорил про себя, стоя на коленях. Композиционную структуру и особенности исполнения Концертов, вызвавших, надо сказать, очень разноречивые отклики, проанализирует Дмитрий Петрович Ухов. Я же пока лишь постулирую, что религиозная интенция присуща всему творчеству Эллингтона, равно как и ядру джаза в целом. Защищать данный постулат у меня уже нет времени, тут требуется развернутая аргументация, и она, надеюсь, будет мною доложена отдельно на предстоящей эллингтоновской конференции в Санкт-Петербурге. (см. "Приди, Воскресенье" ред.)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Миска с горячим супом
Сегодня же мне хочется уделить некоторое время проблеме, относительно которой историки и теоретики джаза и Эллингтона уже очень давно ведут себя "как голодные коты вокруг миски с горячим супом". Возможно, вы помните, что такими словами венгерско-американский дирижер Уолтер Дэмрош характеризовал академических композиторов, пытавшихся подступиться к джазу до того, как им занялся Гершвин. Тот, не отягощенный консерваторской выучкой, присел к фортепиано, смело сочинил Rhapsody in Blue и "синтезировал", как тогда казалось, "джаз и симфонию". Эллингтон, которому Бог дал прожить и плодотворно трудиться на пятьдесят с лишним лет дольше Гершвина, был бы в праве претендовать на ничуть не меньший вклад в дело сближения двух этих музыкально-художественных сфер. Я, однако, имею в виду не пресловутый "симфо-джаз", но невероятно сложный, трудный и очень запутанный вопрос о том, как само понятие джаза соотносится с понятием европейской "классической", "ученой", или "серьезной" музыки. Лично для меня, должен признаться, это узловой момент теоретического осознания музыки в целом, и в моем представлении он неотделим от понятий импровизации и композиции, сопряженных нераздельно и неслиянно. Мне довелось когда-то специально написать по данному вопросу довольно пространную статью, частью опубликованную год назад в "Музыкальной Академии", где Эллингтону места не хватило, так что позвольте сказать о нем в этой связи сейчас. Как уже говорилось, Эллингтон не раз отказывался называть сочиняемые и исполняемые им произведения джазом, предпочитая именовать их то афро-американской, то просто музыкой, входящей на равных в круг любой иной хорошей, или настоящей музыки. Но проблема этим ничуть не снимается. Любая настоящая музыка, будучи искусством, имеет свои основополагающие принципы, правила, приемы, нормы и способы сочинения, исполнения и восприятия, а также эталоны мастерства и критерии совершенства. Их совокупность, кодифицированная в писаной школьной теории или сохраняемая действенной практикой и устным преданием, образует музыкальную культуру того сообщества, внутри которого она сложились. Культура же воспитывает у его членов восприимчивость прежде всего, а иногда исключительно к одной лишь своей музыке, заставляя считать ее высшим, а то и единственным образцом и мерилом при восприятии и оценке музыки других сообществ и других культур. В умозрительном идеале музыка едина, однако эмпирически на Земле много музык, столь разительно отличных, что члены одного музыкально-культурного круга не только "эстетически глухи" к музыке остальных, но подчас вообще не считают за таковую доносящиеся оттуда звуки. Так европейцы долго называли "варварской" и невежественно игнорировали утонченнейшую классическую музыку арабских стран и Средней Азии, Индии, Индонезии и Китая, Кореи и Японии. "Академические" музыканты Запада и теперь не в силах взаимодействовать с нею напрямую: равномерно темперированный звукоряд западной музыки принципиально исключает важнейшие ступени, на которых базируются макам, рага, патет и другие семейства и системы восточных ладов. Джаз стал первым успешным шагом к преодолению этого барьера, казавшегося непреодолимым. Речь идет, разумеется, о "блюзовых нотах", или "зонах", то есть о множестве потенциально допустимых микро-интервалов, лежащих в основном между большой и малой терцией и большой и малой септимой диатонической гаммы. Они составляют основу основ и уникальную художественную специфику языка джаза, лишаясь которой он тут же перестает быть джазом. Необыкновенная выразительность джазовой речи зиждется на контрасте между строго выдерживаемой диатоникой аккордовой структуры и свободно варьируемыми "блюзовыми нотами": в результате мелодия как бы непрестанно и невероятно прихотливым образом колеблется между устоями мажора и минора. Искусство блюзового интонирования, исходно присущее сольным партиям негритянских исполнителей - певцов и инструменталистов - Эллингтон впервые вложил в ладо-гармоническую ткань всего оркестрового звучания. Спешу добавить: в звучание своего, а не какого-либо иного оркестра.
От транскрипции к партитуре (мысленный эксперимент)
Давайте вообразим себе умозрительный эксперимент, опираясь на результаты тех, что за прошедшие полвека уже несколько раз осуществлялись реально. Сравним звукозапись "эталонной" джазовой пьесы, исполненной первоклассными мастерами джаза, с исполнением нотной транскрипции той же звукозаписи первоклассным "академическим" музыкантом. Впервые такой опыт был поставлен еще в сороковых годах: классический пианист Хосе Итурби сыграл буги-вуги по транскрипту с пластинки Пайнтоп Смита. В пятидесятых Леонард Бернстайн совершил сходный эсперимент с блюзом Бесси Смит на глазах у телевизионной аудитории в своей знаменитой лекции "Что есть джаз". В восьмидесятых Гюнтер Шуллер проделал то же самое с фонограммами Армстронга и контрабасиста Рэя Брауна, осуществив затем сравнительный компьютерный анализ джазового и "академического" исполнения. Я же попробую мысленно приложить аналогичную методологию к музыке Эллингтона, чтобы по возможности наглядней подчеркнуть важность и остроту соответствующей исследовательской проблематики. То есть я собираюсь выдвинуть сейчас некую гипотезу, пока недоказуемую. Но, может быть, кто-нибудь из вас захочет и сумеет поставить в двадцать первом веке "натурно-лабораторный" эксперимент для ее проверки, и коли она подтвердится, то это даст толчок дальнейшим попыткам проникнуть в тайны творческой кухни Дюка. А благодаря им, глядишь, кто-то и в самом себе откроет новые силы и горизонты музыкально-художественной мысли и ее актуального выражения. Предположим, что мы держим перед собой точные, насколько это практически достижимо, нотные транскрипции лучших фонограмм лучших эллингтоновских произведений и считаем их как бы партитурами. Говорю "как бы", потому что партитура симфонической или камерной пьесы сочиняется "серьезным" композитором (в голове или за фортепиано) и наносится со всей возможной детализированностью на нотную бумагу до того, как эта пьеса будет исполнена, а не после, и притом именно в расчете на то, чтобы ее когда-нибудь кто-нибудь исполнил. Технологически партитура есть инструкция, или рабочая программа: она предписывает будущему исполнителю определенные операции и процедуры звукоизвлечения, которые ему надлежит совершить посредством своего инструмента или вокального аппарата для достижения задуманного композитором эстетического эффекта. Дюк тоже фиксировал кое-что на бумаге - нередко в такси или в вагоне поезда, на обороте почтового конверта или ресторанного меню - за полчаса, а то и за минуту до сеанса звукозаписи, но называть такие наброски партитурами в строгом смысле было бы слишком сильным преувеличением. В лучшем случае то был общий план и контур предстоящего исполнения, все остальное додумывалось и уточнялось на словах прямо на месте и при участии ведущих солистов. Итак, предположим, что у нас есть транскрипция гениальной работы Эллингтона, (скажем, "Ko-Ko", записанной 6 марта 1940 года в Чикаго), и мы хотим, чтобы ее исполнил в наши дни оркестр из самых квалифицированных, но не джазовых (и с эллингтоновскими вещами незнакомых), а "серьезных" академических инструменталистов-виртуозов во главе с опытным, но также не-джазовым дирижером (или без оного, заменяемого концертмейстером). Все, разумеется, прочитывают "партитуру" в высшей степени профессионально. Каждый играет свою партию точно, как написано. То есть берет звуки заданной высоты, интенсивности и продолжительности; акцентирует их, как указано; придает им ту тембровую окраску и артикуляцию, которые соответствует принятым стандартам академического инструментализма и достигаются теми техническими приемами, которыми эти музыканты в совершенстве овладели за годы учебы в консерватории. Концертмейстером, естественно, выступает скрипач. Если исполнением руководит дирижер, то он привносит и какую-то собственную трактовку, интерпретацию, исходя, опять-таки, из эстетических представлений европейской, а не джазовой музыки (транскрипция ведь не ничего не сообщает о том, как Эллингтон управляет оркестром с помощью фортепиано, а также взглядом, кивком головы или еле заметным поднятием левого мизинца). Что получается в результате? Нечто, отличное от эллингтоновской фонограммы как небо от земли. Именно такая - буквально понимаемая - антитеза здесь более всего уместна.
Итог мысленного эксперимента
В первое же мгновение нам ясно: в прочтении академических оркестрантов музыка Дюка утрачивает прежде всего горячее звучание. Ведь оно вытекает из трактовки самих инструментов как продолжения и расширения вокально-экспрессивного начала музыки. Европейская академическая традиция, напротив, де-вокализирует инструментальные партии и потому сочиненное Эллингтоном теперь сразу теряет свою, так сказать, осязаемую слухом телесность. В следующую секунду мы обнаружим, что в академической трактовке отсутствует также всякий свинг и нет ни одной блюзовой ноты. То есть нет ни ритмики джаза, ни его мелодики. Иначе говоря - ни одной джазовой интонации. Нет также ни кусочка и тембро-гармонической ткани, той сонорности, которую мы столь же мгновенно опознаем, как эллингтоновский саунд. Не путать его с тем, что зрительно выглядит на бумаге как аккордовая вертикаль! На глаз в транскрипте и на слух в не-джазовом исполнении мы таких уж свежих гармоний не обнаружим. Немножко от Дебюсси, немножко от Равеля, немножко от Делиуса, немножко от Стравинского, да и то пришедших к Дюку не прямо, а из вторых и третих рук - через Билла Водери, арранжировавшего бродвейские мюзик-холльные шоу двадцатых годов, а позже - через Билли Стрейхорна. Гармоническая оригинальность Эллингтона, поражающая нас на фонограмме (и отсутствующая при академическом прочтении транскрипции), вытекает из уникальных конфигураций уникальных способов и особенностей звукоизвлечения (общего тембра, крутизны атаки, вибрато, портаменто, кривой затухания и т.д.), отличавшим его инструменталистов. В частности, из того, сколь оригинально Дюк комбинировал и располагал свои неподражаемые инструментальные голоса внутри аккордовых вертикалей. В значительной мере это совпадало с общей тенденцией расширения гармонического языка европейской музыки, ее движения к би- и политональности, но исходило прежде всего из вокально-мелодической - существенно афро-американской - природы джаза. Подробный анализ композиционно-исполнительской самобытности эллингтоновских творений вы найдете у Гюнтера Шуллера. Результаты же нашего мысленного эксперимента позволяют сделать как минимум один бесспорный вывод: транскрипция-партитура любого оркестрового произведения Эллингтона будет отличаться от партитур сочинений "академической" музыки одной внешне третьестепенной, но для нас крайне важной особенностью. На ее полях мы должны для каждого голоса проставить слева от нотного стана не только названия инструмента: кларнет, альт-, тенор- и баритон-саксофон; первая, вторая, третья труба; первый, второй, третий тромбон и так далее. Нам абсолютно необходимо указать имена тех, кто на них тогда играл; чью уникальную и уже неповторимую импровизационно-исполнительскую трактовку запечатлела в тот момент транскрибированная нами фонограмма. Потому что кларнет, рядом с которым написано "Барни Бигард" - принципиально отличен в музыке Эллингтона от кларнета под именем "Джимми Хэмилтон"; альт "Отто Хардвик" - это не альт "Джонни Ходжес"; тенор "Бен Уэбстер" - не тенор "Пол Гонзалвес"; труба "Арт Уэтсол" - не труба "Кути Уильямс" и не труба "Кларк Терри", и не труба "Рекс Стюарт", и не труба "Кэт Андерсон"; тромбон "Джо Нэнтон" - не тромбон "Лоренс Браун"; вентильный же тромбон не просто вентильный тромбон, но непременно "Хуан Тизол"; контрабас "Уэллман Брод" не контрабас "Джимми Блэнтон", барабан "Сонни Грир" - не барабан "Луи Беллсон"; сопрано "Аделейд Холл" - это не сопрано "Кэй Дэйвис"... Повторю еще раз: не исключено, что в недалеком будущем возникнут такие теории, методы и школы подготовки молодых инструменталистов, где желающие (и достаточно одаренные), пройдя курс игры по Нэнтону, Уильямсу, Ходжесу или Лоренсу Брауну, смогут на практике постичь секреты их звукоизвлечения, интонирования и артикуляции. Зачем и кому это может быть нужно? Тем, кому это интересно, нужно и важно ради разностороннего развития своих творческо-исполнительских способностей. Ясно, что не для того, чтобы копировать на эстраде эллингтоновские пластинки уже не только нота в ноту, но и звук в звук. Важно понять и практически освоить этот богатейший арсенал художественно-технических средств. Те, кто им овладеют, получат шанс проникнуть в более глубокие слои той поэтики и эстетики Эллингтона и джаза, которая сегодня доступна нам лишь поверхностно. И значительно полнее постичь истинное значение как одного, так и другого. В том числе - сравнение джаза то с "машиной", в которой нет ничего от живого чувства, то наоборот, уподобление его "чистой физиологии", причем подчас в нем парадоксальным образом обнаруживают сразу оба этих свойства.
Механика и органика
Примем (опять на минуту) метафору революционной, тоталитарно-социалистической диктатуры Шенберга с ее намеренной, сознательной и насильственно насаждаемой безотцовщиной. Если так, то в Эллингтоне допустимо увидеть нечто вроде "народного царя", - всеобщего любимца, эдакого негритянского дэнди-Берендея, еще в юности возведенного на трон свободным волеизъявлением большинства и всю жизнь не покладая рук трудившегося в поте лица над тем, чтобы успешно превратить самодержавный строй в процветающую конституционную монархию со всеми гражданскими свободами и правами человека. Конечно, оба сравнения очень сильно хромают. Прежде всего потому, что общественно-политические формы не только, да и не столько детерминируют музыкальные, но и во многих существенных чертах отражают собою то, что ранее было "спроектировано" музыкой. Отчетливее всего эта двухсторонняя взаимозависимость видна на примере развития симфонизма и того инструментария, посредством которого оно реализовалось в звуке - симфонического оркестра. Льюис Мамфорд, один из крупнейших историков культуры (понимаемой им как совокупность искусства, науки, техники, философии и религии), отмечал, что уже на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого столетий "вместе с созданием нового оркестра музыка с ее расширяющимся кругозором, мощью и динамичностью новых симфоний стала единственным в своем роде идеальным представителем индустриального общества. Барочный оркестр формировался исходя из сонорности и уровня громкости струнных инструментов. Вскоре механические изобретения дали возможность в громадной степени повысить амплитуду и тембральную насыщенность их голосов: это пробудило слуховую восприимчивость к новым звучаниям и новым ритмам. Тоненький маленький клавесин стал большущей машиной, именуемой фортепиано, с огромной резонаторной декой и расширенной клавиатурой: тогда же Адольф Сакс, изобретатель саксофона, ввел новое семейство инструментов, расположившихся между деревянными и старыми медными духовыми. Все инструменты теперь технически калибровались: производство звука стало, в установленных пределах, стандартизованным и предсказуемым. И с повышением их числа разделение труда внутри оркестра соответствовало тому, что происходило на фабрике: разделение самого процесса стало заметно и в новых симфониях. Дирижер был главным надзирателем, контролером и руководителем производства, ответственным за изготовление и сборку изделия, а именно - звучащей музыкальной пьесы, тогда как композитор соответствовал изобретателю, инженеру и дизайнеру, калькулирующему на бумаге с помощью фортепиано замысел и чертеж конечного продукта - отрабатывавшему все до мельчайшей детали прежде чем передавать тех-документацию исполнителям в заводской цех. Для композиций, трудных для исполнения, иногда изобретались новые инструменты или восстанавливались старые; в самом же оркестре коллективная слаженность, коллективная гармония, функциональное разделение труда, тесное и добросовестное сотрудничество между руководителями и руководимыми, создавало всеобщий унисон куда более стройный, чем тот, что при каких бы то не было условиях мог бы быть достигнут на какой-либо фабрике. Во всяком случае, тончайший ритм и временная размеренность последовательных операций были до предела усовершенствованы в симфоническом оркестре задолго до того, как аналогичная производственная дисциплина стала рутинным делом в промышленности. Так становление оркестра являло собой идеальный образец возникающего нового общества. Этот образец был получен сперва в искусстве и лишь затем в технике". (Technics and Civilization, 1934, 2-nd Ed.1962, p.202-3) Однако подобного рода техническое совершенство, сделавшее возможным создание величайших шедевров европейской музыки, с течением времени очевидно взяло верх над ее эмоциональным, прежде всего вокальным аспектом. Вот как Пауль Беккер, немецкий скрипач и видный музыкальный критик, озаглавил заключительную часть своей книги "Оркестр", опубликованной в 1936 году: "МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Шенберга, Стравинского, и других современников". (Paul Becker, The Orchestra. 1936, 1964) Дюк Эллингтон сочинил и записал в тот год "Echoes of Harlem", "Clarinet Lament" и "Caravan" (с Хуаном Тизолом). Из всех известных джазовых коллективов его оркестр меньше всего заслуживал название механистического, а по сравнению с любым симфоническим составом он был просто воплощенной органикой. Я, однако, ничуть не хочу истолковывать элллингтоновский (и всякий) джаз как исконно органическое начало, отрицающее сонатно-симфонический механицизм.
Импровизация versus Композиция
Чтобы сделать себя чуть более понятным, сошлюсь на главные положения моей статьи "Импровизация versus Композиция", напечатанной (не целиком) недавно в "Музыкальной Академии" (1998, _1). Вслед за рядом крупнейших авторитетов музыковедения я провожу там следующие тезисы. В основе всякой музыки находятся два начала. Их можно называть разными именами: вокальное и инструментальное; естественное и искусственное; органическое и механическое; импровизационное и композиционное. Или, если угодно, внутреннее и внешнее. Все виды, формы и жанры музыки происходят, становятся и развиваются в нескончаемом борении, взаимодействии, взаимопроникновении двух этих начал. Одно из них есть спонтанный порыв: поток энергии, который вздымается из природных глубин человеческого существа. Другое - стремление внести в него идущий свыше строй, закон и порядок. Первое начало связано преимущественно с устной и диалогической (двухсторонней), а второе - с письменной и монологической (односторонней) коммуникацией. Их конфликт, разрешается разными способами и с различной полнотой в каждом конкретном акте музыкального творчества. В истории музыки можно наблюдать то динамическое равновесие, то преобладание одного начала над другим. И каждый раз характер их соотношения коррелирует с определенными тенденциями социо-культурной динамики. Особенно же ярко - с процессами профессионализации и де-профессионализации (ре-фольклоризации) исполнительско-композиторской деятельности. В Европе Нового Времени решающее значение имело появление нотной письменности, затем - равномерной темперации и функциональной гармонии, а также камертона и метронома. Все эти "инструментальные" изобретения последовательно и настойчиво снижали роль и значение вокально-органического, спонтанно-импровизационного начала. Вот что пишет Михаил Александрович Сапонов, профессор Московской Консерватории: "Европейская музыкальная культура стала в полном смысле единственной письменной культурой в мире... Письменный способ существования музыкальной традиции - это не просто альтернатива устному, он несет в себе совершенно новую концепцию музыкального искусства, иные эстетические критерии, другую творческую психологию, свою слуховую настройку" и т.д. "В недрах великой письменной культуры импровизаторские привычки неуклонно изживались. К концу ХIХ века европейские музыканты, казалось, превосходно научились полностью обходиться без импровизации... Не только на импровизацию, но даже на мельчайшие исполнительские вольности в передаче текста композиторы рубежа XIX - XX веков смотрели особенно недоброжелательно". [Сапонов. Искусство импровизации. с. 4-5] После первой мировой войны тенденция эта достигла апогея в эстетике нововенской школы и неоклассицизма: и Шенберг, и Стравинский и Хиндемит отрицали за исполнителями какое бы то ни было право на творческую интерпретацию своих произведений. От оркестрантов требовали только одного: механически точно воспроизводить партитуры. Тогда же стали (и до шестидесятых годов нашего века продолжали) громко говорить и о том, как хорошо было бы заменить живых музыкантов машиною. Очень симптоматично, что джаз, - а с ним и Эллингтон - вышел на мировую сцену именно в те годы.
Север и Юг
Артисты джаза - частью сознательно, частью - того до конца не осознавая, стремились уравновешивать в своей музыке импровизационный и композиционный моменты. Композиционность в раннем джазе проявлялась не столько в том, что исполнитель что-либо специально заранее сочинял и записывал, сколько в том, что придерживался уже готовой аккордовой и тактовой схемы, внутри которой импровизировалась мелодия. По крайней мере, так было в блюзе. Если за основу брали популярную песню, то придерживались уже и общего мелодического контура. И вот что для нас сейчас кардинально важно отметить: как показывает история джаза, импровизационная сложность, богатство интонаций, даже свобода тембровой экспресии возрастали по мере того, как джазмены осваивали все более сложные и многообразные мелодико-гармонические структуры европейской музыки. На заре джаза наиболее продвинутыми в собственно-композиционном плане были авторы-исполнители рэгтаймов (показательно, что у них был очень слаб импровизационно-блюзовый момент). Эллингтон с детства воспитывался в атмосфере северного рэгтайма. Он неоднократно называл тех, кому он поклонялся и подражал, у кого брал первые уроки. Все они - рэгтайм-пианисты. Это Стикки Мак и Луи Браун, Джеймс Пи Джонсон, выдающийся композитор и автор рэгтайм-оперы, оцененной лишь в наши дни, и яростный Уилли Лайон Смит. Юг, южный блюз и блюзовая импровизация пришли к Эллингтону лишь ко второй половине двадцатых годов: их принесли с собой Сидней Беше и Барни Бигард, Чарли Ирвис и Баббер Майли. Дюк сначала инкорпорировал их в рэгтайм, из чего родился Стиль Джунглей, а далее уже нельзя было сказать: вот здесь северный элемент, а здесь - южный. Север и Юг встретились и проникли друг в друга, однако дали вовсе не усредненную смесь, но трансмутировали в нечто третье, нераздельно-неслиянное, "Эллингтоновский Эффект". Нераздельно-неслиянными оказались в музыке Дюка южное и северное, африканское и европейское, импровизационное и композиционное, вокальное и инструментальное, сольное и ансамблевое, "механическое" и "органическое" начала. Говоря так, я никоим образом не утверждаю, что Эллингтон разрешил и преодолел те эстетические противоречия, дисбалансы, коллизии, узлы, кризисы и тупики музыкального искусства Европы, о которых сами европейцы стали все громче говорить и спорить после Вагнера, Дебюсси, Скрябина, Шенберга и Стравинского. Пока еще у нас нет способа сравнивать джазовую и европейскую музыку по каким-то достаточно объемным (широким) критериям, равно приложимым и к той, и другой. Они обитают в различных сферах, даже в различных мирах. Разумеется, границы этих миров и сфер сегодня все теснее сближаются и даже пересекаются. Но их сердцевины, их "командные пункты", их алтари, их души по-прежнему удалены друга на такое расстояние, что по настоящему глубокого общения и сколько-нибудь плодотворного взаимодействия между ними пока не наблюдается. Их происхождение, историческое прошлое и ценностные ориентиры, их социальные роли и культурные статусы несопоставимо различны. Их экзистенции слишком уж несхожи по своему типу и характеру. Подчас они даже антагонистичны. Почти все серьезные исследователи джаза молчаливо признавали данный факт, избегая вдаваться в более глубокое его продумывание. Кое-какие попытки проводить между двумя этими мирами известные параллели все-таки делались.
Стадиальные параллели
В середине пятидесятых Леонард Фэзер отмечал: джаз за несколько (тогда еще не более четырех) десятилетий его жизни прошел ряд стадий формально-художественного развития, примерно эквивалентных (по возрастанию степеней их относительной сложности) тому, что европейская музыка прошла за тысячу с лишним лет - от грегорианского хорала до сериализма и неоклассицизма. Отсюда не следует, конечно, что в результате джаз в чем-либо сравнялся с европейской музыкой и стал ее полноправной, или хотя бы небольшой, малозначительной и периферийной, но все же принадлежащей ей частью. Однако допустимо трактовать джаз как зеркало, линзу или модель, позволяющую не только фокусировать и наредкость наглядно эксплицировать наиболее актуальные, острые и болезненные проблемы музыкального развития нашего времени, но и рассматривать возможные пути и средства их решения. Из всех моделей такого рода, уже предложенных джазом, Эллингтон со своим оркестром оказывается наиболее яркой, наиболее широкой по своему охвату, и, так сказать, наиболее отрефлексированной моделью. Причем как со стороны джазовой историографии и критики (об Эллингтоне написано и сказано намного больше слов, чем о каком-либо ином джазмене или оркестре), так и силами самого Дюка. Вслушиваясь, вглядываясь, вдумываясь в такую модель мы приходим к выводу: не все, но многие из внутренних и внешних разрывов и проблем, мучающих европейскую музыку (может быть, острожнее сказать - музыкознание?) Эллингтону удалось весьма успешно разрешить на уровне их модельного отображения в джазе. То есть для самого Эллингтона то, что мы сейчас называли моделью, было самой что ни на есть доподлинной реальностью его жизни. В своей работе он исходил не из каких-либо отвлеченных эстетических концепций. Он также не принадлежал к академической корпорации, законно требующей от своих членов верности кодифицированным правилам, образцам и эталонам художественной деятельности. Дюк жил и творил в Соединенных Штатах, где правят деньги, царствуют законы рынка и торжествует массовая культура и где, по его словам, сказанным совсем незадолго до смерти, "никому не запрещено сочинять и играть любую музыку, как плохую, так и хорошую". Обстоятельство первостепенного значения! Доведись этому сыну негритянского народа быть членом союза советских композиторов при Сталине, Хрущеве и Брежневе, он вряд ли смог бы реализовать даже тысячную долю своего таланта, погребенного под горой ценных указаний и партийных постановлений.
Анти-революционер
Импульсы к исполнению и сочинению музыки Эллингтону давали его собственные верования и фантазии, материальные интересы и эмоциональные влечения; его вкусы, аппетиты, плотские страсти и духовные чаяния; его стремление к совершенству, его страхи и надежды. Вместе со своим оркестром он претворил свой экзистенциальный опыт в музыку, построенную буквально из всего, что им непосредственно переживалось, попадалось в поле его восприятия и оказывалось под рукой. Понятно, что он пользовался теми средствами, которые предоставлял ему случай, которые были ему доступны в меру полученного им образования и которые позволяли успешно добиваться поставленных им целей. Мне кажется поучительным в этой связи еще раз вернуться к метафоре Милана Кундеры. Как вы помните, он уподобляет тональные основы музыкального классицизма королевскому двору с его пирамидальной иерархией, строгим этикетом, наследственными титулами и привилегиями, внутренним соперничеством, внешнеполитическими интригами и т.д. Восставший против "старого режима" Шенберг совершает революцию во имя демократии, но она оборачивается тоталитарной двенадцатитоновой диктатурой (вроде ленинского военного коммунизма и сталинского Гулаг-социализма), после чего музыкальная история прекращает течение свое и наступает гитарный идиотизм. Что за позиция и что за роль здесь отводится Кундерой Эллингтону, какое участие он во всем этом принимал (или не принимал) - прямо не сказано, но у меня есть на сей счет некоторые соображения, и я хочу ими под занавес с вами поделиться. В критических ситуациях Эллингтон всегда выбирал эволюционный путь. В этом смысле его можно назвать не контр-, но анти-революционером, а проще музыкально-художественным оппортунистом. Он нуждался в опоре на европейскую гармонию и овладел ею в том объеме, в каком она содержалась в бродвейских мьюзиклах начала двадцатых годов. Ему и в голову не приходило отбросить идею тональности и заменить ее серией, или же отказаться от равномерной темперации и партитуры, перейти на кластеры, алеаторику, сонористику, препарированное фортепиано и прочее. Все оригинальные выразительные эффекты, достигаемые ученой музыкой посредством рационально скалькулированных технических приемов, возникали у Дюка вполне естественно, как бы "фольклорно". Они рождались не в борьбе с обветшавшей традицией, а в диалоге и сотрудничестве с ней, нередко путем пробуждения и возрождения неких спящих, латентных качеств, активно проявляемых ею в прошлом, но потом было почему-то отвергнутых и незаслуженно забытых. Добрая старая диатоника и тактово-метрическое членение были для него абсолютно необходимы: ведь без них были бы принципиально невозможны ни импровизационно-мелодическое движение в блюзовых (т.е. микро-интервальных) ладах, ни освобождающая невесомость свинга. Шенберг (продолжая кундеровскую метафору) расправился с "монархическим" строем тональности "революционно" - и оказался в безжизненной пустыне. Дюк же никогда не помышлял что-либо сокрушать и ликвидировать. Он не отменял иерархии ступеней, но дал среди них место и блюзовым нотам. Когда-то их считали просто огрехами, музыкальной неграмотностью или неспособностью негритянских исполнителей играть чисто. В эллингтоновских произведениях их статус уже совсем иной: они - не презираемые бастарды и пришлые чужаки, но полноправные, уважаемые и любимые члены расширившейся ладо-тональной семьи. Сказать по чести - не так уж и плохо сравнение с конституционной монархией, если бы только реальные монархии были так же благородны, талантливы и музыкальны. Пожалуй, при сравнении с европейской ученой музыкой (даже с учетом всех вышеприведенных оговорок) джаз несомненно проигрывает - и весьма существенно - со стороны композиционной драматургии.
Из личных воспоминаний (попытка ответа через полвека)
В молодости у меня были добрые друзья-консерваторцы. Встречаясь с ними, я при всяком удобном случае терзал их джазовыми записями - чаще всего, конечно, эллингтоновскими. Они внимательно в них вслушивались и с несомненной искренностью старались понять мои крайне сумбурные рассуждения о "сущности" джаза. (Тогда многие верили, вслед за Андрэ Одэром, что его "сущность" можно как-то выявить и постичь. Позже мне стало очевидно, что говорить можно лишь о его "существовании".) Мои консерваторские друзья невероятно тонко и точно схватывали оригинальность политональных аккордовых наложений, гетерофонического голосоведения, сонористических эффектов, похожих на шенберговские Klangfarben, полиритмии и прочего. Но в какое-либо целое все эти интересные детали для них как-то не складывались. Как-то я завел им The New Black and Tan Fantasy (rec.March 5, 1937), и один из слушателей, не выдержав, спросил, полуизвиняясь и с тихим, безнадежным отчаянием: "это очень выразительная и красивая вещь, и она была бы совершенно замечательна, вот только зачем там в басу все время идет это невыносимое бум-бум-бум-бум?" В другой раз мы слушали только что скопированную мною на ленту "расширенную" (с диска пятидесятого года) версию Mood Indigo. После трио и вокала Ивонн Ланоз там вступает Тайри Гленн с буквально душераздирающим соло тромбона, который я до сих пор даже вспоминать не могу без дрожи. И тут одна из слушательниц, пожав плечами, заметила: "уже целых десять минут буквально повторяется одна и та же тема, сплошное остинато, никакого развития". Мне не удалось сколько-нибудь вразумительно ответить моим друзьям на их реплики. Но я от всего сердца благодарен им за то, что они подвигли меня на поиски ответа. Запоздав на полвека, пытаюсь кое-что сказать по данному поводу сейчас.
Выбор в пользу блюза
В джазе не возникло ничего, сколько-нибудь близкого по духу к сонатной форме. Правда, у истоков джаза, в рэгтайме, мы находим подчас довольно сложный политематизм, который было бы допустимо счесть за ее начатки. Но осевым направлением и главным эволюционным путем джаза стал блюз (и блюзовая баллада), где ничему подобному уже не нашлось места - если не считать Эллингтона (и до него Джелли Ролл Мортона, а после него Чарли Мингуса), на что мне и хотелось бы обратить ваше внимание. И если еще немного продлить наше сравнение, то резонно вспомнить: в свое время европейская ученая музыка так же стояла перед выбором: какую из двух возможностей дальнейшего развития ей избрать. Речь шла о выборе между сюитой или сонатой.
Сюита и соната
Как пишет В.Д.Конен, "В рамках венской классической симфонии наметилось два ясно определившихся направления, одно из которых более непосредственно связано с сюитными, другое - с увертюрными традициями.(...) Различия в интонационном складе между двумя видами... ясно выявлены. В сонатах-симфониях сюитного типа тематизм более непосредственно восходит к мелодическим оборотам народной и бытовой музыки". Что же касается "увертюрной" традиции, то "характерное мелодическое содержание сонатно-симфонических тем складывалось на протяжении двухвекового периода, предшествовавшего кристаллизации классической симфонии... и этот процесс осуществлялся в неразрывной связи с конкретными сценическими образами музыкальной драмы". По ряду исторических причин "венская классическая симфония, вытеснив или оттеснив на задний план все другие виды инструментального творчества XVIIXVIII столетий, заняла наряду с оперой господствующее положение в музыкальной культуре века Просвещения". (Театр и Симфония, 1974, с.94-5) Главный тип музыкального движения, характерный для "вытесненной" сюитной формы - вариации на тему. Причем на тему существенно танцевальную. Вы, конечно, сразу раскусили, куда я клоню. Но прежде, чем переходить к джазу и Эллингтону, замечу, что выводы Конен - по крайней мере относительно венской симфонии - весьма проницательно корректирует, уточняет и дополняет Евгений Рубаха. Он специально подчеркивает: "танцевальность, то есть в широком смысле активность действия, переживаемая и ощущаемая как мускульная активность, играет в образности симфонии классиков не меньшую роль, чем драматически-театральные коллизии музыкального "сюжета". Объединяясь даже в рамках одной лишь музыкальной темы, танцевальность и театральность могут придать ей новое качество, в результате чего чистая жанровость поднимается до уровня трагедии или философского обобщения. Но это выше, чем трагедия или философия, как таковая: именно танцевальность, ясно или подспудно ощущаемая, придает театральным и философским образам и идеям остроту и интенсивность переживания и, в то же время, вводит их в строгие рамки рациональной упорядоченности и расчлененности". (Музыкальная Академия, 1998, _1, с.138). Е.Рубаха в цитируемой статье прямо не говорит о снижении роли танцевальности в симфонизме девятнадцатого века, равно как и об ослаблении чуткости к ней при интерпретации произведений предшествующих столетий. Но косвенно на это намекает, упоминая вскользь о том, что "лишний такт" и вызываемая им "ритмическая сшибка" в конце первой части Пятой симфонии Бетховена "в течение столетия многих музыкантов приводила в смятение, а знаменитый дирижер Артур Никиш в 1914 году даже опустил этот такт!" Вышеизложенные соображения отнюдь не уводят меня от Эллингтона. Более того, они, по моему твердому убеждению, помогают нам понять и осознать многое в нем, что до сих пор мы лишь чувствовали, но были не в силах осмысленно артикулировать. Поэтому в завершение моего доклада позвольте в последний раз вернутся к тем метафорам Милана Кундеры, где Дюк поставлен рядом с такими фигурами, как Бетховен и Палестрина.
О вариационной форме
В пассаже о Бетховене (мною еще не цитированном) Кундера рассуждает о вариациях в сонате op.111, привлекая необычайно значимую для нас аналогию. "Симфония - это музыкальный эпос. Можно сравнить ее с путешествием сквозь безграничные богатства внешнего мира, все вперед и вперед, все дальше и дальше. Вариации также есть путешествие, но не во внешем мире. Вспомните pensee Паскаля о том, как человек живет между безднами бесконечно огромного и бесконечно малого. Путешествие вариационной формы ведет нас ко второй бесконечности, бесконечности внутреннего многообразия, сокрытого во всех вещах. То, что Бетховен открыл в своих вариациях, оказалось иным пространством и другим направлением. В этом смысле они зовут нас предпринять путешествие, посылают нам новое invitation au voyage. Вариационная форма есть форма максимальной концентрации. Она позволяет композитору ограничиться тем, что уже имеется под рукой, и двигаться прямо к его сердцевине. Исходным материалом служит тема, часто не длиннее шестнадцатитактовой фразы. Бетховен проникает столько же глубоко в эти шестнадцать тактов, как если бы он прорыл шахту в самое чрево Земли. Путешествие в эту вторую бесконечность заключает в себе не меньше приключений, чем путешествие эпическое, и очень схоже с путешествием физика в недра атома. С каждой вариацией Бетховен уходит все дальше и дальше от первоначальной темы, которая на последнюю вариацию похожа не более, чем цветок на то изображение, которое мы видим в окуляре, разглядывая его под микроскопом. Человек знает, что не в силах объять вселенную со всеми ее солнцами и звездами. Но он находит невыносимой мысль о своей обреченности утратить так же и вторую бесконечность, столь близкую, находящуюся совсем рядом, почти в пределах досягаемого. Тамина потеряла свою любовь, я потерял моего отца, мы все проигрываем во всем, что бы мы ни предпринимали, ибо если мы стремимся к совершенству, мы должны идти до самой сути вещей, а мы никогда не можем ее достичь. То, что внешняя бесконечность от нас ускользает, мы принимаем в общем спокойно; чувство вины за то, что мы позволили внутренней бесконечности ускользнуть от нас, сопровождает нас до могилы. Размышляя о бесконечности звезд мы пренебрегаем бесконечностью нашего отца. Не удивительно, таким образом, что вариационная форма стала страстью позднего Бетховена, ибо он (как Тамина и я) слишком хорошо знал, что нет ничего более невыносимого как потерять того, кого мы любили - те шестнадцать тактов и внутреннюю вселенную из бесконечных возможностей". Конец цитаты из Милана Кундеры. Сопоставьте сказанное с фактом безусловного преобладания вариационной формы в джазе. И послушайте расширенные версии Mood Indigo, Solitude и Sophisticated Lady, записанные Эллингтоном в 1950-м году.
Мостик между безднами
Все, предшествующее этой строчке, я закончил набирать к середине Великой Субботы, 10 апреля 99-го. И остановился, абсолютно не представляя себе, как закончить этот невероятно разбухший текст, который первоначально задумывался как доклад на "теоретическом собрании" по случаю чествования памяти Эллингтона, а вылился - прямо и не знаю во что. Сейчас уже утро Светлого Христова Воскресенья, и надо срочно придумать хоть какую-нибудь, по возможности краткую концовку. Вернусь в самое начало и еще раз подчеркну: я не знаю, что слышит и что находит в джазе - а значит, и в Эллингтоне - современная молодежь. Может быть - ничего; возможно, он ей вообще не нужен и она его не замечает. На что, разумеется, у молодежи есть полное и неоспоримое право. Мне же приходится подводить итог моих попыток воздать должное Дюку, - а в его лице и джазу - от лица симпатизирующего слушателя моего поколения. При этом мне не избежать ссылок на взгляды и мнения тех, кто был старше нас и чье отношение к джазу отличалось от нашего подчас радикально. Если слушать и рассматривать джаз (в том числе Эллингтоновский) не мудрствуя и без затей - это музыка шумная, энергичная, забавная, веселящая, подчас хмельная, иногда сентиментальная и даже трогательная, не требующая для восприятия никаких интеллектуальных усилий; под нее было хорошо танцевать и соблазнять девушек, но так же и уютно сидеть с друзьями за столиком в коктейль-холле и вести какой-нибудь не очень обязывающий, но остроумный разговор (Дюк, кстати, вначале играл как раз такую, "разговорную музыку", служившую, по словам Барри Уланова, не столько телесной, сколько "ментальной афродизией"). Если расспрашивать о джазе (особенно об Эллингтоновском) тех, кто годами (десятилетиями) собирали его пластинки (как Стэнли Дэнс или Дерек Джуэл) и старались не пропустить ни одной премьеры его новых произведений и даже постоянно сопровождали Дюка в его гастролях, то они могут поведать вам все то, что я уже сообщил вам в пересказе или в прямых цитатах, и еще сверх того еще многое, чего хватило бы на несколько томов. Внимательный "объективный наблюдатель" с традиционно-консерваторским образованием, проанализировавший слова первых и вторых, а так же и музыку, о которой шла речь, сперва стал бы в тупик. Все услышанное заставило бы его заключить, что джаз (и Эллингтон) есть нечто, сплошь сотканное из вопиющих контрастов и не лезущих ни в какие ворота нелепостей. Приложив чуть большие аналитические усилия, этот наблюдатель был бы вынужден заключить, что на свете нет никакой другой музыки, которая вызывала бы такие яростные споры и содержала бы в себе столько антитез и прямых антагонизмов, неразрешимых противоречий, взаимоисключающих утверждений, непримиримых оппозиций, диаметрально противоположных суждений и абсолютно несовместимых сущностей. О том, что джаз, родившийся в двадцатом веке, сразу же сделался знаменем "потерянного поколения" и символом крушения всех ценностей предшествующей ему христианской культуры, равно как и безбожного "гуманизма", говорилось неоднократно. Разумеется, той же катастрофой была захвачена и ученая европейская музыка, отразившая это крушение в "идеальном", художественно-философском и безоговорочно трагедийном плане. Первенство, однако, остается за джазом. Никакая иная музыка не засвидетельствовала катастрофическую ситуацию человека двадцатого века с такой экзистенциальной прямотой и полнотой. А благодаря Эллингтону это свидетельство представлено нам настолько цельно и вместе с тем подробно, что незачем еще как-то интерпретировать, расшифровывать или как-то иначе "прочитывать" его смысл. В джазе Эллингтона этот смысл не нуждается в каком-либо истолковании: он дается прямо, как активное сопричастие, как непосредственное личное переживание. И становится для нас тоненьким веревочным мостиком, протянутым меж двумя безднами (каждый волен решить для себя - какими именно). Ибо в Эллингтоне джаз свидетельствует не только о неизбывном трагизме существования. Или, лучше сказать, им и в нем преодолевается бесконечность разочарования, мрачность пессимизма, и леденящий ужас отчаяния художника-интеллигента, столь масштабно переданные, скажем, гением Шостаковича. Человеку, живущему в предчувствии еще более страшных испытаний и глобальных катастроф, музыка Эллингтона - пусть хоть на несколько минут, позволяет пережить равно внутри и вокруг себя несомненную реальность любви, надежды и веры. А дальше уж наше дело, захотим ли и сумеем ли мы распорядиться этим даром ко благу.


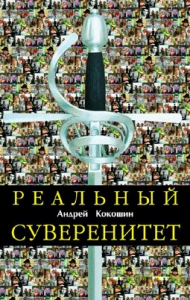

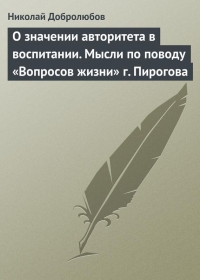

Комментарии к книге «What Am I Here For - для чего я здесь, Дюк Эллингтон как экзистенция джаза», Леонид Борисович Переверзев
Всего 0 комментариев