НЕЕВРОПЕЙСКИЙ АРШИН
Когда Тютчев писал "умом Россию не понять", он имел в виду европейский ум и европейский аршин. Но не менее отличаются от Запада и другие незападные страны. Все эти страны европеизируются (или, как сейчас говорят, вестернизируются), и некоторые "русские" (послепетровские) черты распространились по всему земному шару. Они довольно хорошо изучены "социологией развития". Беспочвенность, поиски "почвы" и т. п. суть следствия перехода от слабо дифференцированного традиционного общества к сильно дифференцированному, индивидуалистическому, плюралистическому, "рыночному". Глубочайших страниц Достоевского и Толстого мы таким образом заново не прочтем, но кое-что станет яснее.
В рамках социологии развития втягивание в отношения, сложившиеся в Европе в XVII-XIX веках, называется модернизацией. Содержание модернизации примерно совпадает с тем, что Маркс и Энгельс называли буржуазным развитием. Но социология развития выносит за скобки различия частнокапиталистических, государственнокапиталистических и "социалистических" форм. Подчеркивается общее: высвобождение науки, искусства, школы из-под контроля религии, рост разделения труда, рост удельного веса промышленности. Можно заметить, что подобные сдвиги происходили с древнейших времен. Однако до XVII века эти сдвига были прерывистыми, местными и не сливались воедино. То, что подразумевается, когда говорят о модернизации, это ускоренный и непрерывный процесс рационализации человеческих отношений с природой (или, выражаясь более привычным языком, – развития производительных сил).
Переход к Новому времени, таким образом, жестко фиксируется во времени (отсекая Возрождение) и в пространстве: очагом модернизации признается только небольшая группа стран – Англия, Голландия, Скандинавия, Франция. Страны, захваченные рефеодализацией – Германия, Италия, так же как Испания, – трактуются в качестве "Незапада". Условность такого деления очевидна. Но для тех целей, для которых определение создано, оно хорошо работает. Испанская и португальская колонизации действительно распространяли феодальные, средневековые европейские порядки. Цивилизация Нового времени стала всемирной только с началом голландской, английской, французской экспансия. Наконец, история Германии и Италии действительно перекликалась временами скорее с развитием России или Японии, чем Англии или Голландии. Можно заметить, что с этой точки зрения и Франция не всегда ведет себя "по-западному". Но ни одну границу нельзя провести безупречно. По совокупности признаков Францию от Запада невозможно отделить.
Жестко очертив ядро модернизации, мы подчеркиваем контраст между инициаторами процесса и странами, в данное время (каким бы ни было их прошлое) воспринимающими импульс модернизации извне, странами, для которых секуляризация сознания, разрушение святынь, распад архаических связей между людьми выступают как вторжение чуждой идеологии. Разумеется, это не снимает различия между зонами модернизации (Центральная Европа, Восточная Европа, отдельные области Азии, Африки) и отдельными странами внутри каждой зоны. Но прежде чем подойти к особенному, попытаемся рассмотреть общее.
СКОМКАННОЕ РАЗВИТИЕ
Одна из особенностей запоздалой модернизация – ускоренное и скомканное развитие. Скомканным я называю такое развитие, при котором этапы не следуют друг за другом спокойной чередой, а налезают друг на друга. От этого острее становятся противоречия прогресса, его болезненные черты.
Что такое прогресс? Если отбросить оценки, то основное содержание прогресса – дифференциация. Была амеба, дифференцировалась, возник многоклеточный организм. Но вместе с дифференциацией пришла смерть… Таким образом, прогресс связан с некоторыми утратами. То же самое в обществе. Примитивные коллективы удивительно устойчивы, а цивилизации разваливались одна за другой… Всякая дифференциация, всякий прогресс расшатывает старые интеграторы (объединяющие воспоминания, идеи, образы, учреждения). Если их не обновлять, происходит то, что в древности называли падением нравов. Возникает полуобразованность, обрисованная еще в образе библейского Хама. Хам – человек, несколько хвативший просвещения. Настолько, чтобы не бояться нарушить табу. Но не настолько, чтобы своим умом и опытом дойти до нравственных истин. Рост хамства ставит под угрозу целостность общества и заставляет искать – чем заново его объединить, цивилизовать.
После всех больших внешних перемен, великих строек и великих ломок приходит оскомина ко всему внешнему, движение внутрь, в глубину. Впервые это отчетливо прослеживается в Китае, после краха династии Цинь (III век до Р. X.). И в Средиземноморье, после стремительного расширения Римской империи, центральными проблемами становятся догматы о единосущности Сына Отцу и о неслиянном и нераздельном единстве Бога и человека во второй ипостаси. Вечные смены ориентиров китайцы осознали в терминах "инь" и "ян", В западной культуре таких категорий нет. Французский философ Габриэль Марсель воспользовался двумя вспомогательными глаголами – "иметь" и "быть". Впоследствии те же термины подхватил американский психолог Эрих Фромм, книги которого переводились на русский язык. "Иметь" рационально: можно сосчитать, сколько ты имеешь. "Быть" иррационально, не делится на части, не поддается подсчету. Чрезмерная сосредоточенность на "иметь" приводит к кризису бытия, к духовному кризису, к моральному кризису. Чрезмерный упор на "быть" делает человечество беззащитным перед голодом и болезнями.
Пока прогресс шел медленно, поворот в сторону "иметь" или "быть" захватывал несколько веков. Классическая древность с ее философией (и софистикой) расшатала архаическую устойчивость бытия. Чувство целостности восстановила христианская мистика. Но крен в сторону иррационализма не давал человечеству выйти из грязи и нищеты; на Западе начался новый поворот к рациональным, позитивным задачам. Развитие пошло скорее, и зигзаги сделались мельче. За ренессансом сразу пошло барокко. Его иррационализм преодолен классицизмом и Просвещением. Сентиментализм и романтизм опять развенчивают разум, позитивизм возвращает его на трон, декаданс и модернизм – снова свергают. Это нормальный ход развития, невозможного без перекосов и кризисов. Покойный социолог Сергей Маслов проверил мою схему на истории архитектуры. Вышло, что во Франции классические периоды длинные, романтические – короткие: в Германии – наоборот. А в России зигзаг временами полностью смят и уступает место застойному, прошедшему через весь XIX век противостоянию позитивистского западничества и романтического почвенничества.
В результате ускоренного и скомканного развития вся русская литература XIX века оказывается и синхронной, и асинхронной европейскому развитию. Поверхностные, подражательные слои ее синхронны Европе, глубочайшие развиваются по своей внутренней логике, сжато повторяющей логику европейского развития нескольких веков в своеобразной для всего Незапада "смещенной и уплотненной" форме. "Тарас Бульба" – романтическая повесть, вызванная к жизни Вальтер Скоттом; но нельзя свести к влиянию Гофмана "Нос" и "Шинель". Гофмановский человек прошел через классицизм и Просвещение, отталкивается от них – гоголевский "маеор" Ковалев о них просто не знает. Гофман любил гротеск XVII века, а Гоголь непосредственно близок XVII веку, скорее "барочен", чем романтичен. Константин Аксаков увлекся, сравнивая Гоголя с Гомером, но какая-то первозданность, какая-то дорационалистичность, допросвещенность в Гоголе действительно есть. Когда Достоевский написал "Бедных людей" и заставил Макара Девушкина обидеться за Акакия Акакиевича и критиковать "Шинель", обнаружилась по крайней мере одна вещь: то, что в гоголевском мире никому не приходили в голову права человека и гражданина. С точки зрения европейских темпов развития третьего сословия в Макаре Девушкине сделан шаг от смешных буржуа Мольера к достойному маленькому человеку Голдсмита и Ричардсона, то есть примерно в сто лет. Отсюда восторг Белинского, прочитавшего "Бедных людей", и отсюда его недоумение, а потом негодование. когда Достоевский не захотел продолжить начатое и занялся какими-то диковинными экспериментами.
Между тем Достоевский, автор "Бедных людей", был в то же время переводчиком "Евгении Гранде" и, по-видимому, чувствовал, что его роман, так новаторски выглядевший в России, по западному счету стоит рядом с "Клариссой Гарлоу" – и по духу, и по своей эпистолярной форме. Русский европеец, Достоевский, как и весь его круг, был втянут в жизнь Запада, заглянул в двойственность души "маленького человека", ставшего угнетателем, деспотом. Не находя "реальных" бытовых персонажей и ситуаций, отвечавших его интересам, он шаг за шагом все больше изменял реализму XVIII века, с которого начал, и создавал фантастические характеры, действовавшие в фантастических обстоятельствах.
Белинский этого не понял и не мог понять. Возвращение к романтизму, только что изжитому, казалось ему бесплодным эпигонством, и великий критик приписал фантастику "Хозяйки" полному упадку таланта, на который он когда-то возлагал большие надежды.
Однако ускоренное и скомканное развитие характерно не только для России. В начале XX века лучшие японские писатели причисляли себя к направлению "сидзэнсюги", то есть натурализму. Но под европейским натурализмом японцы понимали очень широкий и пестрый круг явлений XVIII-XIX веков. В их глазах все европейское и "верное природе" сливалось, как спицы в быстро движущемся колесе.
Развитие китайской литературы Нового времени совсем "неправильно". Литературная и идеологическая модернизация захватывает Китай очень поздно и как-то внезапно. Европа открывается китайскому сознанию вдруг, от классицизма до символизма. Возникает духовный хаос, настолько невыносимый, что спасением могла показаться простота "мыслей Мао Цзэдуна". Этот путь никак не напоминает классические европейские переходы от Просвещения к романтизму, от романтизма к реализму и т. п., с развертыванием каждого "стиля", успевшего стать стилем жизни по крайней мере в течение целого поколения, а иногда двух-трех поколений. И некоторые эксцессы "смещенного и уплотненного" развития нельзя приписывать глупости русских или китайцев. Это историческое несчастье.
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Западные страны модернизировались в целом, всей системой переходя от эпохи к эпохе, успевая "просветиться" до низов, и поэтому не было надобности повторять пройденное. И действительно, второго Просвещения во Франции не было. Сама идея такого повторения представляется нелепой: рядом с Гюго для Вольтера нет места. Напротив, в России было дворянское Просвещение (Радищев и декабристы), потом разночинное ("два социалистических Лессинга") и на рубеже XX века – нечто вроде третьего Просвещения, захватившего национальные окраины и городские низы: в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" оно пародийно представлено фигурами Берлиоза и Бездомного. Каждый раз новое Просвещение сталкивалось со старой интеллигенцией, успевшей отойти от прямолинейной идеологии модернизации к более глубоким идеям, и возникали своеобразные конфликты, которых не знал Запад, – например, спор Достоевского с Добролюбовым и Чернышевским, споры вокруг "Вех" и т. п.
В модернизированном анклаве происходит процесс развития, параллельный европейскому, но он сталкивается не просто со старым косным обществом, а еще как бы и со своим собственным прошлым, с волнами движений, возникших среди неофитов прогресса и повторяющих заново то, что в центре уже было пройдено. Эта фантастическая для Запада картина – реальность для России. Романтизм Достоевского возмущал Белинского, как тень Банко, пришедшая в редакцию "Отечественных записок", а нигилисты шестидесятых годов казались Достоевскому дьявольским кошмаром именно потому, что он сам прошел через нечто подобное.
Япония в этом отношении более западная страна, чем Россия. После переворота Мэйдзи модернизация не задержалась здесь на одном слое (подобно реформам Петра), захватила все общество и развивалась чрезвычайно успешно. По-видимому, это объясняется особенностью самой японской традиции, постепенным накоплением элементов социальной динамики еще в эпоху феодализма.
РОМАНТИКА КРОВИ И ПОЧВЫ
Третья черта процесса модернизации – почвенный характер незападной романтической реакции на Просвещение. В Англии и Франции романтическое движение сохраняет универсализм Просвещения. Оно углубляется в средневековье, но не обязательно собственное. Романтический идеал может быть найден на чужбине, на Востоке. Просвещение не было для англичан и французов чем-то чужим, от которого бегут к своему, родному. Скорее наоборот: западный романтик склонен бежать с просвещенной родины. И только к востоку от Рейна положение меняется. Для большинства немцев Просвещение пришло извне, вторглось в Германию вместе с армиями Наполеона и его кодексом, противоречащим германскому праву; оно силой расчищало авгиевы конюшни немецкого феодализма. И в результате возник особый немецкий романтизм, со своеобразным почвенным привкусом. Слово "почвенничество" изобретено в России, но впервые именно в Германии возникло острое чувство беспочвенности, разрушения национальных основ, и поиски собственной традиции выступили в романтизме на первое место, оттеснив Восток, экзотику, романтическую даль.
Гейне говорил, что французский патриотизм расширяет сердце, а немецкий его сужает. То же хочется сказать о романтизме. Вместо знамени борьбы за свободу чужого народа, под которым умер Байрон, незападные романтики подняли каждый свое знамя, и это знамя легко становится знаменем ксенофобии, "Французоедский" стереотип, созданный немцами, с очень небольшими вариациями повторяется – или изобретается заново – почвенными движениями Востока.
Особенно неизменен набор обвинений, впервые выдвинутых против Франции. Он просто переносится на Западную Европу в целом, включая Германию, на белую расу в целом, включая русских, и т. д.
В начале шестидесятых годов в Южной Африке демонстранты несли хоругвь с надписью: "Белые распяли Иисуса Христа", Это, к сожалению, неоспоримо. Кто бы ни был главным виновником – еврейский первосвященник или римский наместник, – грех богоубийства лежит на белой расе. Правда, к ней принадлежал также Иисус. Но последнее для африканцев не очевидно. Некоторые идеологи африканизма настаивают, что Моисей и Иисус – африканцы. В африканской народной иконографии белые распинают черного Христа.
Несколько более вариативна похвала собственным добродетелям, но и в ней можно проследить общепочвеннический стандарт. Запад всегда безнравственный, порочный, гнилой, растленный. Ему противостоит этически полноценный немец, "верный росс" и т. п. Иногда почвенничество признает возможным заимствование западной техники, но так, чтобы не повредить нравы. Отсюда китайский (и японский) лозунг: "Восточная этика, западная техника".
Если этическое превосходство сомнительно, его дополняет превосходство религиозное. Достоевский, например, признавал, что мужики пьянствуют, лгут, воруют, но зато у них есть сознание греха, способность к покаянию и очищению. Поэтому они в конечном счете и нравственнее, чем интеллигенты, потерявшие веру в Бога.
Отдаленным предшественником Достоевского был Кальдерон, любимый писатель немецких романтиков. В "Поклонении Кресту" Кальдерон сталкивает два характера: разбойника, который грабит, убивает, насилует, но никогда не забывает перекреститься: и ученого монаха, своего рода протоинтеллигента средних веков, который мухи не обидел, но усомнился в символах веры. Разбойник после некоторых перипетий попадает в рай, монах – в ад. При этом Кальдерон не считает нужным доказывать, что сомнение в символе веры может привести к убийству, или по крайней мере создать идейную атмосферу убийства (как в "Братьях Карамазовых"). Это для него просто аксиома, очевидность.
Несмотря на вое отличия, творчество Кальдерона и Достоевского вдохновляет одна и та же идея, возникшая в ответ на обезбоженное научное миросозерцание. С точки зрения социологии развития, Испания – такой же Незапад, как Россия. На Западе научное мировоззрение, развиваясь рядом с религиозными движениями и реформами, практически сживается с христианской по происхождению этикой. На Незападе внезапно появившаяся наука сталкивается с религией, совершенно не готовой к диалогу. Ситуация обостряется, и возникает выбор: либо окаменевшая традиция с заповедями, либо свобода научной мысли без всяких заповедей. "Если Бога нет, то все позволено". В этой обстановке всякая интеллигентность, всякая затронутость западным свободомыслием воспринимается как пагуба и бесовщина. Это не индивидуальное, а всемирно-историческое заблуждение, ставшее почвой трагических коллизий в жизни и в искусстве.
Иногда индивидуальное этическое превосходство незападного человека дополняется превосходством незападных социальных систем, основанных на соборности (Россия), или всеобщем долге перед императором (Япония), или на сельской общине (Россия, Африка). Джулиус Ньерере, лидер Танзании, вероятно, не читал Бакунина и Герцена, но он обосновывал африканский социализм примерно так же, как они обосновывали русский социализм.
Наконец, сухой рассудочности Запада противопоставляется эмоциональное богатство Незапада: немецкая задушевность, русская широта, японское "чувство чая" или то, что "негр думает, танцуя".
В наиболее резких и вульгарных формах почвенничества представление о Западе доводится до уровня бесед странницы Феклуши (из "Грозы" Островского): "Все-все неправедно", – и в некотором духовном и душевном вакууме развиваются наука и техника. Просвещенное почвенничество, напротив, понимает достоинства европейской культуры и недостатки собственной "почвы". Идея "борьбы с Западом" уступает тогда идее синтеза европейского рационализма и незападной душевности. В просвещенном почвенничестве обнаруживается рациональное зерно почвенничества вообще. По сути дела, почвенничество – своеобразная форма протеста против отчуждения, которое несет с собой Новое время, против бесчеловечных сторон общественного развития; если воспользоваться выражением современного почвенника В. Солоухина, – против отрыва людей друг от друга и от неба. Почвенничество, как всякий романтизм, фантастично и часто реакционно; оно пытается остановить развитие, которое остановить невозможно, и предлагает для этого негодные средства. Но оно должно быть понято в своей истинности.
Сила почвенничества прежде всего в критике современной цивилизации как законченного и безусловного идеала. Достоевский сделал это с необычайной глубиной, потому что он глядел на Европу одновременно изнутри, как европеец, и извне, как неевропеец, чужак. Этот двойной взгляд глубже проникал в действительность, чем воззрения чистоевропейские. Тема противоречий прогресса – одна из самых плодотворных в искусстве. Задача искусства – защищать человека, которого давит машина прогресса, а не подталкивать эту машину.
Почвенничество рационально и в критике методов распространения современной цивилизации. Западничество сеет прогрессивные идеи, принципы, учреждения, убежденное в том, что они должны привиться, а почвенничество ставит вопрос о том, что в данных условиях может привиться. Опыт парламентских учреждений в Пакистане, Нигерии, Гане показывает, что это далеко не праздный вопрос.
В почвенничестве есть ощущение внутренней логики культуры, которая нелегко меняется, и если меняется, то не всегда так, как это было намечено, вырастая из новых учреждений, в строгом соответствии с планом. Из почвеннических тенденций историографии выросла культурология Шпенглера и Тойнби. Один из предшественников их – Данилевский. Культурология Шпенглера дает подступ к пониманию краха социально-экономических реформ в Иране. Наши энтузиасты рынка, кажется, совершенно не изучили этот феномен.
Наконец, сила почвенничества в установке на внутренний мир человека, на его полусознательные и бессознательные привязанности. Западничество как бы предлагает переехать на новую квартиру, а почвенничество отвечает эмоционально, по-обломовски: "Мне нравится старая, я к ней привык и не знаю, привыкну ли к новой!" Западничество предлагает "капитальный дом по контракту на тысячу лет и с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске" (Достоевский), а почвенничество ретроградно отказывается. Западничество толкает вперед, в царство крупнопанельных и крупноблочных удобств, а почвенничество тоскует по рябине, которая смотрелась в перекошенное старое окно перекошенного старого дома. Западническая точка зрения, очевидно, плодотворнее для плановика, вынужденного решать вопрос о переселении миллиона людей из подвалов или из районов экологических катастроф. Но для писателя важнее всего как раз то, от чего плановик отвлекся. И величайшие русские писатели, Толстой и Достоевский, не случайно были критиками Запада, прогресса, науки и т. п. Художественный талант толкал к тому из двух альтернативных миросозерцаний, которое прямо вело к главному писательскому делу – раскрытию "тайны о душе человеческой" (Достоевский). Разумеется, было бы лучше без связанных с этим крайностей. Но история без них не обошлась.
В 1939 году, когда я впервые об этом написал, меня очень дружно осудили. Господствовало убеждение, что взгляды радикальных западников плодотворны во всех отношениях – и в политической практике, и в практике художественной. Но потом жизнь показала, что почвенные идеи понадобились не только классической литературе, а и современной, что мне, признаться, в 1939 году не приходило в голову. Проза В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина и других, связанная с поисками забытых архаических слоев народной культуры, дала больше нового, чем рассказы и повести, показывающие, по совету Белинского, то, что социолог мог бы доказать. Эта альтернатива не обязательная, но на какое-то время – в связи с политикой, разрешавшей Распутина и запрещавшей Гроссмана, – она господствовала в нашей литературе.
Однако отказ от рационального подхода к общественной жизни мстит за себя торжеством бредовых представлений, овладевших умом В. Белова и В. Распутина. И рядом с отличной деревенской прозой – шумная спекуляция почвенническими идеями, не всегда грамотная и не всегда честная.
Поэтому хочется повторить мысль, высказанную в 1939 году, с противоположным акцентом: идеи, плодотворные в искусстве, – где романтизм вообще обнаруживает свои сильные стороны, а Просвещение свою слабость, – могут быть неплодотворными и опасными в общественной практике. Взлеты и падения по ту сторону здравого смысла привлекают и захватывают в духовной жизни и в литературе, идущей по следам этой жизни, но в общественной практике осторожный и трезвый реализм сохраняет свои преимущества.
Парадокс почвенничества в том, что современное всемирно-историческое содержание выступает в нем в локальной и архаической форме, что против всемирного дьявола прогресса почвенники взывают каждый к своему старому местному богу. В таком споре дьявол всегда будет сильнее. Нечто сходное уже было в Древней Римской империи. Бездушное политико-административное единство накладывалось на локальные культы, вокруг которых лепился теплый человеческий мир. Римское владычество постепенно сглаживало, стирало местные культуры, не предлагая человеку ничего взамен, кроме еще более стертого культа принцепсов. Местные боги казались обреченными. Но бездушное единство тоже было обречено, оно не могло удержаться. И выход был найден в христианстве. Из иудаизма, привязанного к жизни племени, родилась религия, связывающая всех и каждому давшая икону общего теплого культа. В христианстве почвенничество стало "беспочвенным", вселенским, и в этой вселенской, беспочвенной форме оно победило. Хочется напомнить слова христианского апологета III века, а потом Августина: "Для христианина всякое отечество – чужбина и всякая чужбина – отечество". Вопреки нынешним представлениям новая, глубочайшая духовность была вселенской, "космополитической".
Современный мир также требует духовного синтеза, подобного синтезу местных традиций вокруг евангельского стержня, требует общего языка культуры, такого же универсального, как универсальны наука, экономика, транспорт, связь XX века – и каким больше не являются "языки" (символы) "мировых" религий, разных в каждом крупном регионе. Пока невозможно сказать, как это все случится. Ясно одно: необходимо глубокое взаимное понимание культур, прислушивание друг к другу, до которого еще очень далеко. Легче указать движения, рвущие мир на части, чем то, что ведет к духовному синтезу.
Постмодернистская Европа освобождается от "бремени белого человека", смотрит на Новое время со стороны, видит его ограниченность и готова учиться у примитивных и архаических культур, шедших другим путем. Запад хочет остановиться и оглянуться, использовать досуг, который ему дало развитие, для поисков духовных ценностей, которые буржуазное развитие скорее отымало. А в это время Восток, расшевеленный, вступивший на путь модернизации, корчится в муках социальных и национальных конфликтов, не дающих покоя ни ему, ни остальному миру. Волны ксенофобии бегут назад, к рубежам, у которых они некогда родились, вызывая и здесь отклики – воспоминания полумертвых антагонизмов: фламандско-валлонского, шотландско-английского. Католики Ольстера вспомнили поражение, понесенное в XVII веке, и пытаются взять реванш с помощью террора. Ожили старые болячки и в нашей стране. В этой обстановке всякая прямолинейность опасна. И прямолинейное западничество с его недооценкой местных традиций, и прямолинейное почвенничество, посыпающее солью раны народив, полученные в недавнем и давнем прошлом.
ЧУЖАКИ
Чужаки вообще играли большую роль в развитии, начиная с древности. Об этом написал большую интересную статью немецкий социолог Г. Айзерман. Он выводит из психологии эмигранта, беспочвенного человека, многие интересные явления и на Западе, например. Соединенные Штаты – страна эмигрантов, порвавших со старым порядком и рассчитывающих только на себя, на свои собственные руки и ум. "Чужой, – цитирует Айзерман Георга Зиммеля, – по самой своей природе не владеет землей, причем землю надо понимать не только в физическом смысле, но также в переносном смысле жизненной субстанции, фиксированной… в идеальном пространстве общественного окружения". Таким образом, "земля" Зиммеля – примерно то, что Достоевский назвал "почвой".
Поиски безопасности, обеспеченности вызывают у "беспочвенного" эмигранта повышенное стремление к успеху, к личным достижениям. "Чужак становится проводником идеологии успеха, необходимой для экономического развития… Будет ли он торговцем или производителем, все равно, чуждость своему окружению, во многом тяжелая, одновременно открывает ему (как оборотная сторона медали) и такие возможности, которых лишены люди окружающего общества, подчиненные господствующим традициям и нормам…"
Чужаки приспосабливаются к новому окружению, не подчиняясь ему, а развивая способности, которых на новой родине не хватает, дополняя сложившееся разделение труда. У себя, на старой родине, они могли бы быть не очень предприимчивы, могли безоговорочно подчиняться традиции. На новой родине они ведут себя иначе. В результате из китайских кули, привезенных для работы на плантациях и на рудниках Малайи, вырос целый слой миллионеров.
Одновременно (хотя Айзерман об этом не упоминает) выдвинулся слой малайских интеллигентов китайского происхождения. Таким образом, возникли социальные группы, подобные евреям-купцам и евреям-интеллигентам в России начала XX века. В Малайе и в Индонезии, на Филиппинах, в Камбодже и Таиланде, в странах Африки – повсюду возникает энергичная диаспора, подталкивающая развитие. Возникает почти что из ничего, из нищих и безграмотных кули, вывезенных для работы на плантациях, и из полунищих эмигрантов, приехавших попытать счастья. Это один из самых поразительных фактов в истории модернизации Африки и Азии.
Именно потому, что в слаборазвитых странах не хватает технических знаний и способностей, быстрого использования экономических возможностей, административных талантов и упорства, – эти черты становятся характерными для чужаков. И в ходе социальных сдвигов некоторые группы чужаков стремительно выдвигаются вперед.
В Африке наряду с этим процессом происходит еще один, параллельный: облачко диаспоры выделяют местные народности, оказавшиеся более динамичными, чем их соседи. Судьба этих пионеров модернизации оказывается иногда довольно тяжелой.
Айзерман считает выдвижение чужаков выгодным для развития. Однако коренное население страны обычно рассуждает иначе. Успехи чужаков ассоциируются в его сознании прежде всего с негативными сторонами социальных сдвигов, с разрушением привычных ценностей и отношений. Традиционное отвращение к чужому, тысячелетиями воспитывавшееся в племенных и застойных крестьянских обществах, неоднократно вспыхивало и в Европе. Однако в современной Африке и Азии ксенофобия горит особенно ярким пламенем. Чем быстрее темпы экономического развития, чем меньше крестьянские общества умеют своевременно приспособиться к нему, тем выгоднее условия для выдвижения чужаков и тем больше ненависть к ним. Ненависть к "азиатским чужакам" даже превосходит ненависть к колонизаторам. И правительства недавно освободившихся стран охотно идут навстречу народным чувствам.
В этих условиях "три главнейших требования, которые сегодня выдвигаются в слаборазвитых странах, – требование национального достоинства, экономического развития и социального обеспечения, – в первую очередь заострены против чужаков" (Айзерман). Экономически и интеллектуально целесообразное разделение труда разрушается, и развитие терпит серьезный ущерб.
Почему же в Англии все было иначе? И там зачинщиком научно-технического и экономического развития выступили меньшинства, правда, на первый взгляд религиозные меньшинства, течения и секты, порвавшие с англиканской церковью. Но если присмотреться, окажется, что религиозное деление в какой-то мере совпадало с этническим: среди сектантов преобладали шотландцы. Почему же выдвижение шотландцев не вызвало ничего похожего на страсти, сопутствовавшие выдвижению китайцев в Индонезии и Малайзии, индийцев в Кении, народности ибо в Нигерии?
Ссылку на уровень цивилизации следует отвести. Немцы – народ, стоящий на очень высоком уровне цивилизации, но во второй четверти XX века они вели себя скорее как хауса, громившие мелких торговцев ибо, чем как англичане, Решили какие-то другие обстоятельства.
Одно из этих обстоятельств – то, что особую ненависть английской черни вызывало меньшинство, не имевшее ничего общего с модернизацией, – католики, паписты, которых и правительство беспощадно преследовало по различным политическим соображениям. Католики воспринимались как вредные чужаки и иногда вынуждены были эмигрировать. Напротив, сектанты, еще более решительные противники папизма, чем англикане, воспринимались как свои чужаки, как члены единой британской нации. Такими же членами единой британской нации были шотландцы. Сами шотландцы могли временами остро переживать свою этническую особенность, но с точки зрения англичанина они почти свои (примерно как украинцы для русского). И выдвижение шотландцев так же мало раздражало, как, скажем, выдвижение графа Безбородко – коренных русских дворян.
Ксенофобия вообще резко различает своих чужаков (с которыми она готова побрататься) и чужих чужаков. Можно это подтвердить любопытным примером из современной американской жизни. Статистика показывает, что высшее образование в США активнее всего стремятся приобрести евреи, шотландцы и итальянцы. Примерно 80 процентов американских евреев и 50 процентов итальянцев дают своим детям высшее образование. Это гораздо больше, чем в Израиле или в Италии. Но у себя на родине есть много возможностей занять уважаемое место и без диплома, а в США диплом – самое надежное средство превратиться из грязного еврейчика или грязного итальяшки в почтенного доктора наук. Шотландцы стоят на втором месте – впереди итальянцев, но чернь замечает только евреев и итальянцев.
Остается, однако, проблема еврейского меньшинства в Англии. Почему, когда Дизраэли стал министром, это взволновало только Достоевского, а когда министром стал Вальтер Ратенау, известная часть германского офицерства приняла это как пощечину и Ратенау застрелили?
Можно заметить, что евреев в Англии было несколько меньше, чем в Германии; однако папистов в Англии тоже было мало – что не мешало их ненавидеть. Можно заметить, что процесс развития в Англии был более плавным, менее болезненным, чем в Германии; однако совсем безболезненным он все же не был; массы и в Англии, доведенные до отчаяния, иногда подымались на бунт, на погром, но погромы не имели этнического характера. Разбивали машины, а не витрины еврейских лавок.
Мне кажется, что одной из причин такого различия между западной Англией и незападной (в нашей схеме) Германией была литературно-идеологическая традиция. Она окрашивала поведение если не самих люмпенов, то, во всяком случае, тех, кто мог стать во главе их и создать "движение". Политический антисемитизм существует в Германии с 1815 года, то есть появляется почти одновременно с немецким почвенным романтизмом и, конечно, в связи с ним. Две формы ксенофобии – шовинизм, направленный против другой страны. Другой земли, и диаспорофобство, направленное против активных национальных меньшинств, – психологически тесно связаны и легко переходят одна в другую. Поэтому французоедский штамп, господствовавший в воспитании немцев со времен наполеоновских войн, подготовил почву для жидоедского штампа, получившего приоритет, когда понадобилось найти внутренних виновников поражения 1918 года, тягот "рационализации" и других язв. Таким же образом ненависть, вызванная империализмом и колониализмом, создает почву для экспроприации индийцев в Кении, резни китайцев в Индонезии и других печальных явлений.
Там, где есть почвенничество, всегда возможен взрыв погромной активности. Почвенничество нельзя примитивно истолковывать как идеологию погрома, но нельзя закрывать глаза на то, что погром – одно из возможных следствий почвенного романтизма так же, как террор – одно из возможных следствий Просвещения, Например, террор Великой французской революции:
Это все революции плод,
Это ее доктрина.
Во всем виноват Жан Жак Руссо,
Вольтер и гильотина.
(Г. Гейне, перевод Ю. Тынянова).Что касается цивилизации, то она не мешает ни террору, ни погрому. Скорее напротив: школа и книга сыграли большую роль в распространении патриотических и других идей, "сужающих сердце", и в подготовке цивилизованного варварства, – как в реакционной Германии, так и в прогрессивном афро-азиатском мире. Носителями крайних форм ксенофобии являются не феллахи, а интеллигенты, люди грамотные, умеющие читать и даже писать книги. Советский исследователь Б. Б. Парникель изучил 400 малайских рассказов и выделил сцены, в которых действовали китайцы. Образ китайца в малайской литературе поразительно близок к образам евреев в "Молодой гвардии". И так как реально евреи и китайцы совсем не похожи, то можно только удивляться стандартности представлений, созданных ненавистью.
Стоит обратить внимание еще на одно обстоятельство. В психологии погрома всегда есть комплекс неполноценности, который компенсируется агрессией. У англичан комплекса неполноценности не было, скорее был комплекс сверхполноценности. Поэтому лидер английских фашистов Мосли не мог найти в душах своих соотечественников той болезненной жилки, которая с трепетом откликалась у немцев на речи Гитлера. Англичане, пришедшие на митинг, возмущались и били – не евреев, а Мосли и его немногочисленных сторонников. Это, конечно, не прирожденная, а исторически воспитанная черта, следствие многих веков, прошедших без национальных и социальных унижений, без иностранных завоеваний (с XI века) и крепостного права.
Подводя итоги, хочется поставить вопрос: почему в XIX веке прогрессивными называли страны, в которых не было диаспорофобства (Англия, например) или где диаспорофобство, вспыхнув, встречало массовое же сопротивление, – например, борьбу за оправдание Дрейфуса во Франции? Почему, напротив, в XX веке прогрессивными считаются страны, в которых национальные меньшинства подвергаются законодательным ограничениям и становятся жертвами погромов?
Прежде всего установим фанты. Китайцев сравнительно мало притесняют на Филиппинах – и режут при всех режимах и всех сменах режима в динамической Индонезии, индийские лавочники продолжали свой бизнес в ЮАР под защитой апартеида, который их ограничивал и унижал, но не экспроприировал, как класс, а из освободившейся Кении их высылают. В умеренном когда-то Тунисе попытка еврейского погрома, предпринятая в июне 1967 года, была сурово подавлена, а в левобаасистском Ираке введены были специальные антиеврейские законы, и казни евреев превращались во всенародный карнавал (нетрудно заметить связь этой диаспорофобии с внешнеполитической агрессивностью).
Разумеется, обязательной связи прогрессивных движений с диаспорофобством нет, но она достаточно часто встречается. Как это можно объяснить?
В XIX веке прогресс захватывал западные нации в целом и ассимилировал меньшинства в едином, быстро развивающемся национальном коллективе. В XX веке прогресс создает в незападных странах этнические анклавы и сталкивает их с медленно развивающейся крестьянской и ремесленной массой – это создает конфликты. Важно и то, что афро-азиатские страны хранят живую память перенесенных национальных унижений. Их европейская аналогия – скорее Германия, старые раны которой были растравлены Версалем, чем Англия. Но даже самые крайние европейские примеры не идут в сравнение с тем глубоким и недавним оскорблением национального достоинства, которое нес с собой колониализм. Как ни возмущали немцев союзники, как ни раздражало итальянцев австрийское господство, они никогда не наталкивались на надписи: "Собакам и немцам (или итальянцам) вход воспрещен". Все это в прошлом, но прошлое, если растравлять его, очень живуче. Во время мусульманских погромов в Гуджарате некоторые образованные индийцы, читавшие книжки по истории, говорили о реванше за проигранную тысячу лет назад войну с тюркскими завоевателями. Реванш заключался в том, что хамски оскверняли мечети и могилы мусульманских святых и около тысячи человек вырезали.
В социальном отношении афро-азиатские массы едва вышли – и часто не совсем еще вышли – из положения, близкого к рабскому. А рабство, как говорил еще Гомер, отнимает у человека лучшую часть его доблестей. Нужны десятки, а может быть, и сотни лет уважения к гражданским правам, чтобы воспитать чувство неприкосновенности человеческой личности.
Наконец, последнее по счету, но не по важности: стремясь сплотить нацию, многие правительства и партии афро-азиатских стран прямо поощряют ксенофобию. Особенно этим злоупотребляют диктаторские режимы. Сталинская политика "борьбы с космополитизмом" – отнюдь не исключение. Игроки, видящие на один ход вперед, не предполагают, что отдаленные последствия политики "козла отпущения" могут обрушиться на тот народ, который таким образом сплачивают. Три года тому назад писали об осквернении еврейского кладбища. Сегодня уже оскверняют русские кладбища и русские бегут от погромов.
БЕСПОЧВЕННЫЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ
Характерная особенность незападных стран – своеобразный общественный слой, получивший в Россия название интеллигенции. Термин "интеллигенция", войдя в быт, получил новые значения, соответствующие положению работников умственного труда в советские десятилетия. Однако первоначально интеллигент – это не всякий работник умственного труда, а специфический тип, возникающий где-то на полдороге между книжником древних и средневековых цивилизаций у. интеллектуалом Нового времени.
Некоторые западные словари определяют интеллигенцию так: "русские интеллектуалы, обычно в оппозиции к правительству". Несколько подробнее ту же модель развил царский министр внутренних дел Плеве в письме к Победоносцеву: "Интеллигенция – это тот слой нашего образованного общества, который с восхищением подхватывает всякую новость, и даже слух, клонящиеся к дискредитированию правительственной или духовно-православной власти, ко всему же остальному относится с равнодушием".
В таких определениях есть доля истины, но, разумеется, невозможно ограничиться чисто политической и отчасти даже полицейской характеристикой интеллигенции.
Интеллигенция трагически противостоит не только правительству, но и народу, во имя которого пытается выступать, и трудно сказать, от кого она дальше. Народ часто не умеет отличать интеллигенцию от режима, отечественного или иностранного, с которым она борется. Это проявлялось, например, во время холерных бунтов. А интеллигенция колеблется между презрением к невежественному народу и обожествлением его (начиная с русской концепции народа-богоносца, кончая китайским лозунгом: учиться у рабочих, крестьян, солдат).
Так же противоречива интеллигенция и во многих других отношениях. Она складывается в странах, где сравнительно быстро принялась европейская образованность и возник европейски образованный слой, а социальная "почва", социальная структура развивалась сравнительно медленнее. Интеллигент, вставший "в просвещеньи с веком наравне", вынужден действовать в "непросвещенной" обстановке, полуазиатской, или, если воспользоваться другим термином, – полуфеодальной. Отсюда трагическая расколотость в отношении к практике. Чернышевский высмеял ее в "Русском человеке на rendez-vous", а Добролюбов – в статье про Обломова, думая, что говорят только о дворянах. Но Герцен был прав, ответив им: "Все мы Онегины, если не предпочитаем быть чиновниками или помещиками". Замечательный русский мыслитель Г. П. Федотов считал характерным для интеллигенции "идейность задач и беспочвенность идей". Иначе, по-видимому, и не могло быть у европейски образованного слоя в неевропейской стране, народ которой сопротивлялся европеизации. Становясь революционером, интеллигент либо рассуждает о насилии, терроре, революционной диктатуре и проч., как Иван Карамазов, но действовать предоставляет Смердякову, либо сам берется за топор, как Раскольников, но тут же отшатывается от сделанного. Образы, созданные Достоевским, – вернее многих научных моделей исторического процесса. В жизни русской интеллигенции постоянно нарастают две тенденции: одна к действию во что бы то ни стало ("К топору зовите Русь"), другая, напротив, окрашена непреодолимым отвращением к грязи и крови истории (Лев Толстой и толстовцы). Один поэт пишет:
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника -
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.
Другой отвечает:
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первозданной красе…
Отсюда, с одной стороны, постоянное этическое горение русской литературы, "бунт" Ивана Карамазова ("Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу… Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка…"), отсюда "Не могу молчать" Льва Толстого и проч. За это Томас Манн назвал русскую литературу святой, а Короленко, имевший возможность выбирать между украинской, польской и русской национальностью, выбрал русскую за гуманность (см. "Историю моего современника").
С другой стороны, все проблемы "больной совести" решительно отвергались деятельной, практически настроенной частью интеллигенции. В пьесе Билль-Белоцерковского герой стремительной походкой проходит мимо девушки, ждущей поезда на каком-то сибирском полустанке. "Что вы читаете?" – спрашивает он вполоборота. "Преступление и наказание", – кротко отвечает девушка. Герой пожимает плечами: "Одну старушку убили, а разговору сколько!"
На аналогичном контрасте построен роман Тагора "Дом и мир". Никхил, человек глубокий, чистый, гармоничный, двойник самого Тагора, хочет решить все вопросы жизни в духе любви. Шондип не верит в это и рвется к насилию. В нем есть что-то захватывающее, есть обаяние энергии. Бимола, в которой можно видеть воплощение народной души, на какое-то время увлекается Шондипом, но разочаровывается в нем и остается с Никхилом. В жизни не всегда так гладко кончалось.
С этим противопоставлением отчасти совпадает другое, имеющее, однако, самостоятельное значение. Интеллигенция одновременно порождает глубоко религиозный тип, ищущий обновления и очищения традиционной веры, и столь же убежденных атеистов, стремящихся разрушить веру во все трансцендентное до основания и утвердить на месте ее, в качестве предмета веры, научную теорию. Первый тип больше проявил себя в Индии – классической стране религиозных движений, второй – в Китае. В России обе тенденции были, кажется, одинаково сильны. Отсюда крутые переходы от богоискательства к атеизму – или от атеизма к религии: С. Булгаков, Н. Бердяев, Г. Федотов, С. Франк и др. Для западных интеллектуалов не характерно ни то, ни другое: Бог их как-то не мучил, по крайней мере в классический западный XIX век. Где-то в Дании писал свои дневники Кьеркегор, но его извлекли из забвения сто лет спустя.
Религиозные проблемы становятся, однако, основными литературными проблемами Запада в XX веке – в романах Ф.Мориака, Гр. Грина, Г. Белля, Д.Сэлинджера. Современная постмодернистская Европа находит для интеллигентского сознания какое-то место в своей духовной структуре. Это можно показать на судьбе русских интеллигентов-веховцев. Попав на Запад, они были там приняты как экзистенциалисты, то есть как чисто западное ("посленовое") явление. Следовательно, мы имеем право сказать, что "посленовый" Запад – не совсем Запад. Или пойти в другом направлении и определить понятие интеллигентности несколько более широко.
Подход к такому определению интеллигентности можно найти в философской антропологии, в учении об эпохах неуверенности человека в основах своего собственного и космического бытия. Коротко говоря, Аристотель "постигал только человека в мире, а не мир в человеке" (М. Бубер). Человеческое бытие само по себе становится проблематичным впервые для Августина, снова теряет свою проблематичность для Аквината – и снова, еще остр ее, становится проблематичным для Паскаля. Августина можно рассматривать как отдаленного предшественника веховской интеллигенции, с Паскалем у русской интеллигенции есть прямые духовные связи (от Тютчева до Пастернака).
Когда чувство проблематичности бытия становится эпидемическим, в эпоху большой культурной ломки, известная часть специалистов умственного труда становится интеллигентской. Если эпидемия ликвидируется и побеждает идеология, для которой сознание проблематичности неполноценно и недостойно, то интеллигент на время стушевывается и уступает первое место специалистам, интеллектуалам, функционерам, инженерам человеческих душ, и проблематический человек высмеивается, как Вассисуалий Лоханкин и Кавалеров. В такую эпоху Кавалеров испытывает жестокую зависть к Бабичеву. (См. "Зависть" Ю. Олеши). Этот сдвиг захватил в нашей стране несколько десятилетий. Началом конца его можно считать 1956 год, когда был реабилитирован Ф. М Достоевский, самый проблематичный писатель в мировой литературе, эталон и лакмусовая бумажка проблематичности человеческого бытия. Опала Достоевского, несмотря на пропаганду русской национальной традиции, – показатель крайней степени разрыва с интеллигентностью (после войны и до 1956 года Достоевский был изъят из школьных программ).
В такой стране, как Япония, сталкиваются два процесса. С одной стороны, проблематичность незаконченной модернизации сходит на нет: с другой, вместе со всеми развитыми странами, Япония делается проблематичной по-новому, не зная, как и все не знают, куда ведет современное развитие и оставит ли оно человеку хоть немного места на земле. Таким образом, почва для интеллигентности то исчезает, то возникает вновь.
Кавалеров и Бабичев – два типа, идущие рядом, – а не друг за другом. История только попеременно даст им, так сказать, преимущественные условия развития.
В странах Африки, насколько я могу судить, условия не дают интеллигенции развернуться. Здесь можно пока говорить об интеллигентности скорее как о возрастной фазе, как о мироощущении студенчества. Вернувшись на родину. человек с дипломом довольно быстро становится ответственным работником, иногда прямо министром и поглощается "административной буржуазией", или "бюрократической буржуазией" (употребляются оба термина). По-видимому, интеллигентность может сложиться и сохраниться только в стороне от власти, от распоряжения государственным аппаратом, во всяком случае, ядро интеллигенции и в России, и в Индии состояло из людей, духовно независимых от государства, хотя иногда и вынужденных зарабатывать деньг и службой на каких-либо второстепенных должностях.
Группа интеллигенции, пришедшая к власти, может некоторое время сохранять интеллигентность, во-первых, под влиянием традиций (если они успели сложиться), во-вторых, под влиянием ядра интеллигенции, оставшегося вне государственного аппарата. Но в конце концов она оказывается перед дилеммой: либо выпустить руль из рук, отойти от политической деятельности, либо стать такой, которой власть требует, то есть превратиться в группу функционеров. Этот процесс может быть острым и плавным, быстрым и медленным, но избежать его, по-видимому, нельзя. Этическое горение Индийского Национального конгресса было очень ярким, однако переход к независимости и здесь не обошелся без трагических провалов и разочарований. Погиб Ганди, столкнувшись с народом, который он учил сатьяграхе (ненасильственному сопротивлению) и который, пробудившись, стал резать мусульман. Постепенно отошли от политики Д. Пр. Нараян и другие. Развитие в целом не было таким катастрофическим, как в Китае, но ядро интеллигенции шаг за шагом отделяется от правящей партии и от политики вообще, уступает первое место специалистам и функционерам.
Судьба интеллектуального анклава модернизации в чем-то подобна судьбе этнических анклавов. Иногда эти явления накладываются одно на другое. Нации диаспоры исстари несли по свету не только произведения рук человеческих, но и произведения человеческого ума и духа. Еврея завозили в Европу – и переводили на латынь – арабские рукописи, а в Турцию завезли из Европы печатный станок. Несториане – тоже своего рода диаспора – сыграли огромную роль в распространении начатков цивилизации по степям Азии и, возможно, подготовили триумф ислама, почти полностью истребившего их. Индийцы в ЮАР не только торговали с банту, они еще создали свой Национальный конгресс, по образцу которого банту организовали впоследствии Африканский Национальный конгресс, с той же самой гандистской идеологией. Но индийцев банту не любят, и были случаи индийских погромов.
Такие совпадения, разумеется, не обязательны. "Революционная интеллигенция" и "компрадорская буржуазия" могут быть этнически разными группами. Например, в Индии интеллигенция, в том числе и революционная, формировалась в основном из брахманов, а буржуазия складывалась из парсов, джайнов, сикхов и некоторых небрахманских каст. В России "жиды" и "студенты" сблизились в сознании охотнорядцев только в XX веке, под впечатлением массового наплыва евреев, расконсервированных реформой, из черты оседлости – в революционное подполье. Однако традиции революционного подполья сложились гораздо раньше, их создавали Рылеев и Пестель, Желябов и Перовская.
Отношения анклавов модернизации с медленно и болезненно перестраивающейся, главным образом крестьянской массой составляют, как мне кажется, основу трагедии, которая разыгрывается в незападных странах. Империалисты в известный момент стушевываются, сохраняя сдержанное, достойное и довольно безопасное присутствие (как французское присутствие, presense, в Западной Африке, английское в Индии и т.п.). А местные чужаки и отчужденная от народа интеллигенция остаются и попеременно играют роль палача и жертвы. В этой трагедии, которая, кажется, еще не дошла до последнего акта, ситуация может перемениться за какие-нибудь 10 дней (которые потрясли мир), даже за 6 дней, иногда за одну ночь (как в Индонезия). Орудие торопящейся интеллигенции – террор; орудие взбаламученной массы – погром. Жертвы погрома становятся яростными сторонниками революционной диктатуры, а жертвы террора становятся, в следующем действии, яростными погромщиками. Так именно шло дело в Индонезии во время и после событий 30 сентября 1965 года. В более сложных формах то же можно проследить в других странах. Например, Сталин использовал еврейские кадры для коллективизации, а выходцев из деревни – для "борьбы с космополитизмом".
Поэтому, мне кажется, неверно, что "главная трагедия нашего времени – это трагедия крестьянина" (Солженицын). Нельзя закрывать глаза на то, что индонезийские крестьяне вырезали за короткое время полмиллиона безбожных космополитов (в данном случае – китайцев и коммунистов) сплошь и рядом вместе с семьями, с женами и детьми. Но так же неверен и противоположный тезис, который я, увлекшись полемикой, защищал в шестидесятые годы, – что (если перефразировать А. И. Солженицына, хотя у меня это выражалось другими словами) "решающая трагедия нашего времени – это трагедия интеллигента". Можно сказать, что пока на земном шаре большинство людей – крестьяне; но на это можно возразить, что интеллигенция – предшественница завтрашнего большинства, или что трагедия вообще не меряется массовостью. Однако все это этически несущественно, а существенно другое: если один из протагонистов – главная жертва, то другой – главный палач. А палачей нечего жалеть. "Снисходительность к тиранам – это, – как сказал Сен-Жюст, – безжалостность к их жертвам". Из сен-жюстовской точки зрения вытекают все попытки окончательной ликвидации какого-то класса или окончательного решения какого-то национального вопроса. "Но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей" (Н. Коржавин).
Сейчас мне кажется правильной только та точка зрения, на которой стоит Ф. Абрамов в произведении "Две зимы и три лета", очень последовательно, продуманно. нигде не противореча себе. Абрамов всегда на стороне жертвы сегодняшнего дня. Он не удивляется и не возмущается, если завтра она становится палачом, принимает это, как смену зимы летом и лета зимой, но принимает, не присоединяясь. Не присоединяясь ни к сегодняшней ненависти и к сегодняшней жестокости, ни к ненависти, которую она вызывает, и всегда готов опять принять в свое сердце кающегося грешника. Самая потрясающая сцена – та, где бригадир Михаил везет на дровнях из больницы мертвого Тимофея и в полую воду обнимает (чтобы не смыла река) труп человека, которого вчера отдавал под суд за саботаж, а сегодня во что бы то ни стало хочет похоронить на родном кладбище. Мне кажется, что никакой другой подход к трагедии этически немыслим. И на политическом уровне нет другого выхода из половодья взаимной ненависти.
БЛЕСК И НИЩЕТА АНАЛОГИЙ
Можно указать еще на несколько интересных аналогий между Россией и афро-азиатскими странами. Например, явление "беспочвенности" (разрыв между петербургской и народной культурой) не выдумка Достоевского и не специфически русская болезнь. Общество, подобное лучу в момент преломления, довольно долго не находит нового устойчивого состояния; над ним десятки лет висит угроза распада. Достоевскому как-то причудилось в туманный петербургский день, что вдруг, вместе с туманом, рассеется и город, и на месте Санкт-Петербурга останется пустое финское болото. Это, конечно, сон, видение. Дома остались на месте. Но петербургский период русской истории действительно исчез. Целая двухсотлетняя традиция, начиная с указа о вольности дворянства, кончая Государственной думой, рассеялась, как дым, как туман. И в этом отношении Достоевский оказался пророком. Более того. Его пророчество оказалось действительным не только для России. "Вестминстерские модели" (учреждения, созданные по образцу Англии) почти всюду разлетались как дым. В социологии раз вития это получило название "провала модернизации".
Советский Союз долго рассматривался социологами как пример успешной модернизации. Это отчасти верно; советскую школу, например, так же невозможно сравнивать с индийской, как советские фильмы – с китайскими времен Мао. Но сравнительно с хорошей западной школой и хорошим западным фильмом можно заметить противоположные черты – черты незавершенной модернизации.
В нашей стране сохраняется огромный, сравнительно с Западом, слой сельских жителей и огромный разрыв между уровнем жизни этого слоя и городским уровнем, между провинцией и столицей, между элитой и массой. Элита беспочвенна по-новому, от переразвитости; массы беспочвенны по-старому, от незавершенности модернизации. Деревня и провинция более не патриархальны, но они и не модернизированы. Страна напоминает дом, в котором десятки лет продолжается капитальный ремонт, и люди живут среди строительных лесов, стремянок у щебня, как герои "Котлована" Платонова, в глубокой тоске, не в силах вернуться назад, не умея пройти вперед, и это чувство тоски по-своему выражает новое почвенничество. Оно хватается за уцелевшие обломки патриархальности в деревенском и провинциальном быту, – но это обломки, они рассыпаются под руками. Действительно почва – только в углублении бытия, только в более остром и повседневном переживании вечного, оставшегося реальным в любом историческом разломе. Но искорки понимания этого лишь мелькают, не превращаясь в устойчивый свет.
Наконец, все еще не выработано такое отношение к труду, которого требует современная научно-техническая цивилизация. Степень разболтанности за последние десятилетия еще выросла, и это чрезвычайно грозный призрак. Недобросовестность компенсировалась нажимом, а избыток нажима поддерживал этику лукавого. нерадивого и вороватого раба. Инерция барщинных и тягловых отношений, идущая со времен крепостного права, не вполне изжитая русским капитализмом, резко усилена сталинской политикой принудительного труда и до сих пор определяет нашу экономику, бросок в утопию дал – на волне энтузиазма – наращивание военного производства, но энтузиазм выдохся, а искаженные отношения остались. И вряд ли положение изменится на чисто экономическом уровне даже при самых либеральных экономических реформах. Рабы, ленивые и лука вые, жгли и будут жечь арендаторов и фермеров. В этом пункте экономика, от которой столь многое зависит, сама зависит от духа, от самосознания личности, от вдохновения и воли. Свобода и ответственность, ответственность и человеческое достоинство нераздельны. Надо менять весь стиль жизни, начиная с детского сада. Убежден: школа здесь значит не меньше, чем фабрика и ферма…
Впрочем, оставаясь в рамках выбранной модели, особые трудности, вызванные прыжком в утопию, надо вынести за скобки. Мы еще вернемся к этому вопросу. Заметим пока, что трудности развития всех незападных стран связаны с неподготовленностью стартовой площадки, с очень мощной совокупностью элементов традиции, блокирующих развитие или направляющих его в тупик. Социальные структуры почти всех незападных стран ведут себя, как мужики, старающиеся переупрямить барина, перетерпеть, пережить барские затеи и остаться при своем. Результат поединка до сих пор неясен.
Маркс не считал способ производства в Индии или Китае феодальным. Исходя из концепции "азиатских способов производства" или "азиатчины" (как упростил эту идею Ленин), можно ближе подойти к фактам, чем опираясь на квазимарксистскую схему универсальных законов эволюции. Первобытный строй порождал то рабовладение, то феодализм, то что-то совсем непонятное для европейца, "азиатское" . Рабовладение, доведенное до логической завершенности, породило катастрофу и хаос, – как всякая идея, доведенная до абсурда. Феодализм Европы вырос из новых, варварских социальных структур. Этот феодализм породил капитализм. Но отсюда вовсе не следует, что всякий феодализм порождает капитализм.
Если очень широко определить термин "феодализм", можно приложить его к любым допромышленным, добуржуазным цивилизациям. Но такое крещение порося в карася не меняет вкус мяса. Волк, с точки зрения Линнея, – разновидность собаки, canis lupus. Но как его ни корми, он все в лес смотрит,
Абстрактная маска феодализма скрывает парадоксальную роль государства в подготовке импульсов развития. Известный американский социолог С. Н. Эйзенштадт показал, по-моему, убедительно, что неразвитость государства в средневековой Европе – одно из условий формирования социальных предпосылок буржуазного общества. "Нормальное" развитие азиатского государства блокирует социальную дифференциацию: развитие городов, меньшинств, науки. Подготовка условий капитализма в Европе – результат аномалии европейского средневекового общества.
Новаторские меньшинства веками складывались в Европе в условиях феодальной анархии и конфликта между светским и духовным авторитетом. Маневрируя между церковью и королями, европейские города добились свободы. Маневрируя между церковью и королями, стали независимыми университеты. Ничего подобного не было в Китае или Тибете, в Византии или в странах ислама. И в России этого не было. Русская полития расколота на Обломова, который не хочет переезжать, и ретивого начальника, который гонит его в шею.
Известная аналогия западного раскола авторитетов может быть прослежена в Японии. Императоры здесь не правили, только царствовали и передавали подданным небесную благодать. Правили советники из рода Фудзивара, правили сегуны разных династий. Это создавало возможность второго стержня, которым при случае можно было воспользоваться, – как в средние века император Годайго, попытавшийся сбросить власть сегуна, и в 1868 году император Мэйдзи. Самодержавие таких лазеек не оставляет. То, что японский самурай инициативнее, чем русский дворянин, – это не расовая черта. Это воспитано японской и русской историей. Япония здесь – Запад. Россия – Восток.
ЧУЖОЕ И НОВОЕ
Быстрота, с которой Япония из отсталой средневековой страны превратилась в современную высокоразвитую державу, до сих пор удовлетворительно не объяснена. Легко заметить, что Япония не знала колониального ярма. Но независимость сохранилась и в Таиланде, и в Иране. Между тем темпы развития экономики и культуры Ирана и Таиланда ничуть не выше, чем в Индии, испытавшей колониальный гнет. Япония достаточно хорошо познакомилась с "дипломатией канонерок" и неравноправными договорами; Япония не располагала и до сих пор не располагает многими важными видами промышленного сырья – нефтью, например. Если тем не менее Япония чрезвычайно быстро совершила промышленную революцию, то приходится искать разгадку этого не в независимости, а в чем-то ином. Отсюда внимание к японской традиции.
Исследование истории Японии позволяет вскрыть динамику ее развития задолго до периода Мэйдзи. Книгу "Источники японской традиции", изданную под редакцией видного американского ученого В. де Бари, пронизывает мысль (нигде, впрочем, резко не выраженная) о едином процессе аккультурации, начавшемся еще в VII веке, и социальных сдвигах, вызванных этим процессом. Напрашивается вывод: специфика Нового времени только в том, что в средние века Япония усваивает и приспосабливает к местным условиям элементы китайской цивилизации, а затем – элементы европейской цивилизации.
Близость высокой китайской цивилизации постепенно приучила японцев к мысли, что нельзя обходиться только собственной, доморощенной мудростью, что достойно, а совсем не стыдно, учиться у чужестранцев. В то же время независимость характера народности, основавшей японскую империю, постоянно препятствовала слепым заимствованиям. Японский императорский дом, усвоив окитаившийся буддизм, а вместе с ним известный запас конфуцианских традиций, продолжал гордиться своим происхождением от местных богов. Аристократия вела себя так же. Никогда не было попыток, подобных обычным попыткам в странах, окружавших Индию (Яве, Камбодже), вывести свою генеалогию от какого-либо индийского кшатрия. Японские аристократы не испытывали соблазна стать потомками китайского принца. Это может показаться мелким, незначительным фактом, но он чрезвычайно показателен для времен, когда религиозные и генеалогические символы играли огромную роль. Местная религия синто никогда не деградировала (так, как это случилось с местными верованиями в других странах) до уровня крестьянских суеверий, более или менее презираемых верхами. Она сохранялась и развивалась как национальная религия, временами споря с буддизмом, сохранялась, как символ святости социальной иерархии, – и вместе с тем святости национального своеобразия, национальной традиции наряду с "новозаветным", космополитическим, вселенским буддизмом. Японцы питали глубокое уважение к китайской культуре, но, как правило, не хотели раствориться в ней, перестать быть самими собой. Их отношение к культуре, шедшей с континента, приобретало характер соревнования, диалога.
Диалог стал внутренним структурным принципом японской культуры. В верхнем слое общества, располагавшем возможностью читать книги, всегда были группы, поддерживавшие местные традиции, и группы более синизированные (окитаившиеся). Отдельные формы культуры синизировались (философия), другие, напротив, хранились в строгой национальной чистоте (например, в некоторых формах лирики строго запрещалось употребление китайских слов, даже давно вошедших в живой язык: иногда становилось модным писать стихи по-китайски, но рядом бытовала японская проза). "Синизация" шла волнами, то усиливаясь, то спадая, но в конце концов впитывалось только то, чего явно не хватало, и этот аспект китайской культуры становился частью японской традиции и при всех дальнейших изменениях ее сохранялся (хотя бы отодвинутым вглубь), а не отбрасывался, словно старое платье, как верхами общества на Яве отброшен был буддизм – ради индуизма и индуизм – ради ислама. История высокой яванской культуры может быть описана как ряд страстных монологов, сменяющих друг друга: монолог буддизма, индуизма, ислама. История японской культуры – расширяющийся диалог, число участников которого постоянно возрастает. Яванская культура в каждую данную эпоху монологичнее, качественно беднее индийской; японская, напротив, усваивает новое, не отбрасывая старое, и постепенно превосходит китайскую по своей широте. Можно охарактеризовать Японию как устойчивую и в то же время "открытую" культурную систему, в противоположность странам типа Явы ("открытый", неуравновешенный тип) и типа Индии, Китая (устойчивый и "закрытый" тип, чрезвычайно неохотно уступающий "варварским" влияниям). Это, разумеется, "идеальная модель", в которую вмещаются не все факты. Но о на подчеркивает решающий факт: совмещение любви к традиции – с любовью к чужому и новому. Конфуцианская традиция, постепенно проникая в Японию, решительно осуждала чужое и новое. Это поддерживало местный консерватизм. Но само конфуцианство было для японцев чем-то чужим и новым, и таким образом интерес к китайской культуре вызвал к жизни – или по крайней мере укрепил – характерную установку на иностранное, совершенно несходную с традиционной синтоистской и китайской.
Стремительное развитие Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура в последние десятилетия лишило Японию ее исключительности, подчеркнув важность общерегиональных особенностей дальневосточных окраин. В дальневосточном регионе бросается в глаза совершенно иное чувство времени, чем в Индии к ее окружении. Китайское время не тождественно смерти, не сливается с образом бога-разрушителя, оно привязано к ощутимым знакам: начало и конец царствования, династии, появление кометы и т. п. Оно не теряется в фантастическом нагромождении гигантских эпох и не тонет в вечности. Это исторически конкретное, а не метафизически-мифологическое время. В Индии до сих пор нет вкуса к датам и никогда не велись летописи; в Китае они ведутся с древности. Записки китайского паломника, посетившего святые места буддизма, – одна из немногих точных дат в истории Индии. Постоянный счет времени – одно из важнейших условий модернизации. Дух ее грубо выразила американская поговорка "Время – деньги". Однако импульсы модернизации были перекрыты китайским чувством культурной исключительности, нежеланием, почти невозможностью учиться у варваров, фаней. В дочерних культурах тормоз действовал несравненно слабее и в конце концов вовсе перестал действовать. Примерно то же произошло в маленьких государствах, созданных китайцами-эмигрантами: человек, оторванный от почвы, легче усваивает новое.
Можно предположить, что на окраинах Дальнего Востока сложится новая коалиция культур, которая окажет влияние на Китай так же, как Западное Средиземноморье повлекло за собой Восточное Средиземноморье в древности.
Ничего подобного нет на окраинах индийского мира. Шри-Ланка, Таиланд, Бирма, Кампучия остаются в порочном кругу слаборазвитости. Динамические возможности некоторых этнических групп Индии блокированы общим характером индийской культуры. В ней есть способность принять новое, но оно тут же тонет в вечном. Это плюрализм особого рода, несходный с европейским и иначе функционирующий в ходе развития. Модернизаторские возможности индийского плюрализма перекрыты так же, как возможности китайского чувства конкретного времени.
Еще труднее переход к современному плюрализму в мире ислама. Рационализм ислама тот же, который лег в основу европейской философии и науки. Европа получила логику Аристотеля из арабских рук. Почему же серию успехов модернизации на Дальнем Востоке сопровождает серия провалов модернизации на Ближнем Востоке? Чего не хватило в Ливии или в Иране? Допустим, в песках Ливии не хватало очень многого, но в Иране срыв наступил после замечательного подъема экономики. Иран начинал соперничать с Дальним Востоком. И вдруг все сорвалось.
Причина срыва, как известно, лежала вне "базиса". Мусульманское мировоззрение в целом оказалось травмировано развитием. Мусульманский рабочий и инженер вполне усваивали требования современного производства, но западная культура, врывавшаяся в жизнь вместе с западной экономикой и техникой, разрушала тождество иранца с самим собой. Народ почувствовал себя как подпольный человек Достоевского в хрустальном дворце и дал модернизации пинка.
Непосредственным поводом к бунту был шок от американского сексуального фильма, но можно говорить о более общей несовместимости западной свободы выбора и мусульманского знания единой и единственной истины. Традиционный китаец, кореец или японец, связанный обычаем в быту, свободно выбирал свой духовный путь. Внутри консервативной традиции дремала способность к личной ориентации, к ответственному личному выбору. Напротив, ислам был жесткой. раз навсегда установленной духовной системой. Для средних веков эта система была великим синтезом, на основе которого возникла замечательная культура; но с Новым временем догматика ислама очень плохо ладится, и резкий выход в Новое время вызвал своего рода агорафобию, страх открытого пространства. Этот синдром свойствен и многим православным.
"ПРЕОДОЛЕНИЕ НОВОГО"
Традиционному обществу – и отдельному человеку этого общества – мучительно трудно включиться в пространство и время современности. Арабскому, индийскому и китайскому кино это по большей части не удается. Японское кино подтверждает, что Япония вошла в западный темп жизни. Другая лакмусовая бумажка – шестидневная война. Г. А. Насер не мог понять, почему в воздухе израильских самолетов больше, чем подсчитано было на аэродромах. Недоразумение быстро разъяснилось: египетские самолеты делали за день два боевых вылета, израильские – восемь,
Еще острее – неспособность удерживаться на ногах в расширяющемся культурном пространстве. Ислам средних веков был достаточно дифференцирован, но он дифференцирован раз и навсегда, с объединяющей точкой в Коране. А в современной культуре объединяющей точки нет и дифференциация постоянно нарастает. Устойчивую опору личность может найти только в самой себе. Один из способов строить внутренний мир указал Николай Кузанский: docta ignorantia, ученое незнание (или: ученое невежество). Личность, уверенная в интуиции "своего", духовно близкого, выносит за скобки то, что ей далеко, что может быть хорошо, но для другого. Европейская культура накапливала эту способность несколько веков.
Для миллионов людей такое поведение совершенно недоступно. Им необходим "чин", обычай, внешняя идентификация (с этносом, с вероисповеданием). Нужна уверенность, что путь, на который ты стал, это единственный путь, а все другие ведут прямиком в ад. Само сомнение – ад для непривычного, не закаленного в сомнениях ума.
Тонкий наблюдатель, Роберт Белла, заметил, что даже в Японии модернизация не совсем завершена. Экономический рост не может быть "автоматическим показателем успешного преобразования социального строя… Напротив, там, где экономический рост стремителен, а структурные перемены блокированы или, как в коммунистических странах, искажены, возникает социальная неустойчивость, которая при современном положении в мире может иметь роковые последствия для всех".
Чувство утраты смысла может быть таким острым, что становится популярным лозунг "преодоления нового" или "использования нового, чтобы преодолеть новое", как это было в Японии тридцатых и сороковых годов. "Вторая мировая война рассматривалась как почти эсхатологический конфликт, в котором японский дух должен был преодолеть новый дух". "Преодоление нового сжато передает идеологию правых сил, но в конце пятидесятых о том же заговорили и левые. Чувство кризиса, опасности "духовного развала" (как выразился Нацумэ Сосэки) сближает правых и левых, ангажированных и неангажированных интеллигентов, экономически передовую Японию с экономически отсталыми странами Востока. В воспоминаниях Хасана аль Банны, основателя "мусульманского братства", рассказывается, как он был потрясен растущим духовным и идеологическим распадом во имя интеллектуальной свободы. Индонезийский интеллигент Суджатмоко также говорит о потере тождества с самим собой.
В этой перспективе можно понять и стремление Солженицына увести Россию на Северо-Восток, подальше от всемирной истории, – и отвращение к плюрализму. Солженицынская критика плюрализма опирается не столько на философские аргументы, сколько на психологию раскрестьяненных и беспочвенных миллионов. В публицистике великого писателя они находят зеркало своей заброшенности.
ЧЕРЕДОВАНИЕ РАЗУМА И АБСУРДА
В странах Незапада, вступивших на путь развития, инициатива заменяется подтягиванием отстающих до уровня передовых (ударников, стахановцев). Русский опыт повторялся от Китая до Африки не потому, что он хорош, а потому, что другое не выходило. Но психология подтягивания быстро выветривается.
Существуют попытки описать нашу командно-административную систему как "диктатуру развития". Однако эта модель скорее подходит к Петру, чем к Сталину (любившему сравнения с Петром). Оба рубил и сплеча, пробивали широкую дорогу, а не узкую тропинку, которая зарастала бы за плечами. Но куда вела дорога? Петр втолкнул Россию в Европу. Он бросил семена европейской культуры, и они проросли. После Петра был Ломоносов. После Сталина – только лауреаты сталинских премий. Семена утопии не дают всходов.
Образ Петра в русской историографии и литературе двоится: мощный властелин судьбы и медный всадник, промыслитель и самодур… Я думаю, что наследие Петра действительно двойственно так же, как наследие Екатерины… Впрочем, всякая традиция не однозначна, и от нас самих зависит ее истолкование. Внутри необходимости живет свобода. Не от Петра, а от нас самих зависит, как мы сегодня живем. Обстоятельства сужают выбор, но выбор всегда есть.
Диктатура развития ставит своей целью разрубить Гордиев узел слаборазвитости. Она оправдывает себя тем, что насилие – повивальная бабка истории. Лошадь, подхлестнутая кнутом, тащит воз рысью. Но еще один удар кнута – и лошадь падает, и насилие оказывается палачом истории.
И вот здесь аналогии начинают скользить и терять смысл. Можно ли назвать диктатурой развития военный коммунизм? Или сталинскую коллективизацию? Да и всю нашу систему, которую Гензель (сотрудник управления кожевенной промышленности гитлеровских времен, разработавший общую теорию таких систем) назвал "центрально-административной", а Г. X. Попов – "командно-административной"? Исторически центрально-административная экономика возникла в Германии 1914-1918 годов и была военной экономикой, мобилизацией хозяйства для тотальной войны. В условиях такой войны она оправдана и хорошо действовала. Но Ленин ошибся, предположив, что так можно строить мирную жизнь. Наша экономика была эффективной только в 1941-1945 годах, когда ставились простые хозяйственные цели (миллионы одинаковых шинелей, сапог и т. д.), а материальную заинтересованность заменили патриотизм и террор. Впоследствии эту модель использовали многие афро-азиатские страны для индустриализации. У них не было буржуазии, и строить заводы могло только государство. Но ведь в России 1913 года бурно развивалась частная промышленность…
Так же обстоит дело с однопартийной системой, которую американский африканист Фридланд изящно назвал "фокусированным плюрализмом" (создание дифференцированной системы под единым управлением). В условиях Африки эта система рациональна, потому что многопартийность предполагает детрибализацию, – иначе партии становятся прикрытием племенной розни. В Либерии воюют не партии, не идейные течения, а племена. Единая партия с единой идеологией становится здесь необходимым инструментом модернизации. Африканский социализм оправдывает шутку М. Тэтчер: это "очень длинный путь к капитализму". Но зачем он нужен был нам? Или Китаю?
В конце тридцатых в Москву неожиданно завезли (кажется, из Испании) партию бананов. "Живем, как в Африке, – шутили москвичи, – ходим голые, едим бананы…" А некоторые тихо добавляли: "И имеем вождя".
Внешне сходные совокупности действий, в одном случае разумные, в другом становились абсурдными. И наоборот, система, которую мы готовы безоговорочно оценить как абсурдную, разумно действует во время войны и – с грехом пополам – в очень слабо развитых странах, выбравших (не от хорошей жизни) "социалистический" путь, то есть путь государственного хозяйства, украшенный социалистическим и лозунгами.
ВЫХОД ЗА РАМКИ КОНЦЕПЦИИ
Теория модернизации основана на некоторых ценностных предпочтениях. Рост производительных сил, рационализация сознания, дифференциация общества рассматриваются как чистое благо, а современный Запад – как безусловный идеал. Это не относится к мыслителям, подобным Роберту Белле, но если взять нашумевшие в шестидесятые годы "Ступени роста" У. Ростоу (и десятки подобных книг), то кажется, что они написаны не после О. Шпенглера, а где-то на Луне, откуда кризис Запада еще не заметил и. "Модернизаторы" сосредоточены на "иметь" и слабо воспринимают кризисы "бытия" – чувства целого, чувства тождества с собой и с миром, – вызванные "прогрессом". Они не сомневаются в идее прогресса. Между тем это по сути ложная идея. Развитие от простого к сложному не хорошо и не плохо , оно просто неизбежно. Его нельзя остановить, и Шафаревичу вместе с Беловым не удастся вернуть нас назад в Тимониху. Но оно несет с собой много зла, и "провалы модернизации" – реакция на недооценку этого зла, на неумение уравновесить его.
В конце шестидесятых годов мне бросилась в глаза статья (кажется, Левицкого) в журнале "Остойропа". Автор, печатающийся в антисоветском журнале и, видимо, недруг коммунизма, попытался оценить ленинскую культурную революцию в терминах социологии развития. Вышло, что культурная революция была полезна для индустриализации. Мне понравилась беспристрастность публициста, способность отвлечься от личных симпатий. Но по сути я с ним не был согласен и решил повернуть модель обратной стороной. Напечатать статью здесь не удалось, цитирую по моей книге "Неопубликованное" (Мюнхен, 1972): "Борьба против суеверий и магического мышления проложила дорогу технической революции… однако пропаганда двадцатых годов была очень топорной. Она разрушила религиозные праздники, разрушила (или нарушила) систему поэтических символов, тесно связанных с нравственными представлениями…" Эти мои возражения относятся не к отдельной статье, а ко всей социологии развития.
Теория модернизации знает только две позиции: традиционное и современное общество. Воплощенная утопия, как особый тип, не рассматривается. И не случайно: это, собственно, и не специфическая проблема слаборазвитых стран. То, что Россию и Германию можно, с известной точки зрения, рассматривать как слаборазвитые страны – парадоксальное открытие, пришедшее одновременно в голову Роберту Белле и мне около 1970 года, на основе уже сложившейся теории, разработанной на афро-азиатском материале. Но аналогия между Россией и Азией не объясняет, почему прыжок в утопию был совершен в России, и уже из России, опираясь на ее опыт, повторен в Китае. И почему именно в Китае, а не в Индии. Занявшись историей Азии, мы с удивлением заметим, что в Китае уже 2000 лет создаются утопии и совершаются прыжки в утопию, а в Индии ничего подобного не было и нет. Так что это вовсе не уникальная проблема модернизации, не проблема одной лишь современности, а устойчивая черта культуры некоторых стран. В том числе, пожалуй, и России, если понять замысел Ивана Грозного. Царство-монастырь во главе с царем-игуменом – это ведь тоже утопия, несбыточный идеал окончательного общественного устройства. То, что опричнина выродилась в пьяное безобразие и разбой, – один из вариантов общей судьбы всех утопий. Они все, так или иначе, вырождаются…
Утопия не может быть понята как движение от одного этапа истории к другому; это попытка выпрыгнуть из истории, осуществить абсолют. Чтобы выпрыгнуть в абсолют, нужна зачарованность верой, идеей, теорией. Но то, что может сыграть решающую роль в поведении отдельного человека, группы людей, совершенно не объясняет поведения народа. Народ не состоит из теоретиков. 24 процента россиян, голосовавших за большевиков (и свыше 40 процентов немцев – за Гитлера), не были фанатиками идеи. Скорее, это растерявшиеся обыватели, выбитые из привычных условий жизни, охваченные чувством беспомощности, затерянности, страха. Германию в 1933 году лишил рассудка один клубок причин (Версаль, репарации, экономический кризис), Россию в 1917 году – перенапряжение сил на войне и потеря доверия к царю. Иран – столкновение американской эротики с мусульманским фундаментализмом. А в обстановке нарастающей истерики возникает социальный СПИД – отсутствие иммунитета к лжепророкам. Там, где иммунитет сохранился, идеи критически оцениваются, лидеров критически выслушивают – и развитие продолжается по проторенной колее.
Следующее условие катастрофы – "харизматический лидер" (термин М. Вебера), "пассионарий" (термин Л. Н. Гумилева), человек, который "знает, как надо" (А. Галич). Знает абсолютное средство от мирового зла. Знает – и убежден, что ему "все позволено". Настолько убежден, что заражает своей верой группу сторонников (консорцию, как выражался Л. Н. Гумилев, – подобие брака по страстной любви), – группу, способную повести за собой народ.
Вождь увлекает народ к утопии, во имя которой необходима война. Ибо на пути к утопии всегда стоит Враг (этнический или социальный) и его надо уничтожить. Эту цель предлагает любая антимодернизаторская идеология (романтического национализма или радикального социализма). Сейчас есть тенденция переоценивать роль одной идеи (радикального социализма). Например, А. Латынина ставит рядом имена Сталина, Мао, Пол Пота – и на этом останавливается. Надо бы прибавить Гитлера, Хомейни. Группа риска идей принципиально открыта, Опыт Ирана включил в нее мусульманский фундаментализм. Возможно использование лозунгов экологического равновесия, спасения народа от наркомании и алкоголизма, от аэробики и т. п.
Валить все на Маркса, как это делает А. Ципко в опубликованной журналом "Новый мир" статье "Хороши ли наши принципы?", сегодня очень соблазнительно. Но соблазн несет две опасности. Во-первых, становятся менее виновными те, кто выбрал именно эту теорию и именно так интерпретировал. Можно подумать, что их опоили марксизмом, что выбор не был ответственным и сознательным. Во-вторых , возникает ложное чувство нашей собственной чистоты: освободились от марксизма – и дело в шляпе . Между тем свобода от марксизма не дает иммунитета к другим штаммам той же хворобы – к расизму, религиозному фундаментализму и т. д.
Утопии не страшны, пока остаются интеллектуальной игрой или романтическим мечтанием. Страшно другое: брак утопической идеи с традицией "административного восторга" (Щедрин). Этого еще один раз да не даст нам Бог! И мы поможем Богу, если будем помнить, что в нашей стране условия социального СПИДа еще не изжиты. И задача не в том, чтобы построже осудить поколение 1917 года (мы ничуть не лучше его), или идею революции, или идею коммунизма. Истинная трудность в том, чтобы не попасть из Сциллы в Харибду. Самыми яростными критиками коммунизма были национал-социалисты…
Мы стоим перед задачей, которую никто никогда не решал: как своими силами, без иностранной оккупации, выбраться из тупика утопии на долгую дорогу истории. Понадобится, может быть, двадцать или тридцать трудных лет, чтобы усвоить мировой опыт XX века и подогнать его по себе. И вместе с другими цивилизованными странами искать поворота из Нового времени в неведомое После-новое. Которое принесет новые кризисы и новые задачи.
Опубликовано в журнале "Знамя" N11, 1991 г.




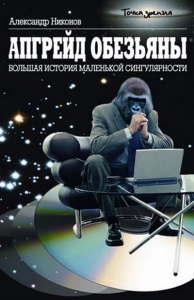

Комментарии к книге «Долгая дорога истории», Григорий Соломонович Померанц
Всего 0 комментариев