Георгий Адамович (1892-1972) Литературные заметки Книга 2. («Последние новости 1932-1933)
1932
МЫСЛИ И СОМНЕНИЯ: О ЛИТЕРАТУРЕ В ЭМИГРАЦИИ
Прошлой весной в Париже устроен был одним эмигрантским журналом вечер поэзии. Участвовали поэты заслуженные и поэты юные, читали стихи нараспев, меланхолическими и негромкими голосами, бледной рукой поправляли «непокорную» прядь на лбу, в искусных и размеренных строфах говорили о любви, одиночестве, смерти, надежде, тоске… Было скучновато. Публика позевывала, но аплодировала.
При выходе, в толпе, я услышал замечательный диалог:
– Представьте себе, — говорил кто-то, — здесь, на этой эстраде, Маяковского! С его глоткой, с его пафосом, с его стихами. Какой бы это был триумф! После них всех…
– Да, конечно, триумф был бы… Да.
Отвечавший соглашался неохотно. Помолчав, добавил:
– И, все-таки, его стихи были бы самыми плохими из всего, что сегодня было прочитано.
Дело не в Маяковском, конечно. Дело шире. Маяковский лично не интересен, при всем его таланте. О нем, собственно говоря, и спорить нечего. О нем невозможно задуматься: все ясно, как дважды два.
Но и тот « вечер поэзии » отошел на задний план. Говоривший обобщил вопрос, освободив его элементов случайности. С ним хотелось согласиться потому именно, что он в своем общем противопоставлении литературы эмигрантской литературе советской эту эмигрантскую литературу мыслил «идеально». Он обогащал ее тем, чего в ней нет. Он сам всем своим обликом казался тем ее героем, о котором она, в сущности, ничего еще не рассказала.
Когда думаешь на эти темы, множество «за» и множество «против» встает в сознании. Но человеческий ум плохо мирится с неурядицей и путаницей противоречивых доводов. Он стремится к ясным положениям. Он жертвует одними доводами ради других, — или осмотрительно обходит все то, что покой его может смутить.
* * *
Недавно это и произошло.
М. Слоним написал статью о литературе в эмиграции. Б. Зайцев ему ответил. По Слониму получалось, что в эмиграции не только ничего нет, но ничего и быть не может: все его надежды обращены к Советской России. По Зайцеву, наоборот, литературы в России не существует: русская литература сейчас вся за рубежом.
Не будем решать, кто из спорящих прав. Решить это было бы и трудно, ибо и тот и другой, в желании во что бы то ни стало «выпрямить свою линию», рассуждают порой, действительно, слишком прямолинейно. Не правы оба. Преимущество мысли, пожалуй, все-таки, на стороне Слонима. Но у Зайцева есть преимущество чувства, очень достойного, сдержанно-мужественного. У Слонима непонятно его радостное оживление, его бодрый и приподнятый тон: говорит он вещи, в большинстве случаев, верные, однако чрезвычайно печальные, – а говорит, торжествуя. Похоже на то, что для него полемический успех дороже всего: предвидя свою победу в полемике, он и радуется, – и забывает при этом, что говорит о живых людях, которым тяжело ведь и без него, что эмигрант ведь и он сам, что эмиграция вообще есть ужасное несчастье, и если даже никакой «миссии» у здешней литературы нет, то все-таки вбивать ей «осиновый кол» в ее воображаемую могилу нельзя, не за что, и не может быть это оправдано ни историей, ни подлинным положением дела, и никогда не будет оправдано.
* * *
Она сейчас не на высоте эпохи, — кто спорит. Упреки она заслужила. Основными своими мотивами она никак не обращена к тому, что сейчас происходит в мире. В этом отношении кое-что из написанного за последние годы в Советской России, несомненно, значительнее и, при всей своей сыроватости, все же отмечено острым зрением, чутким слухом к времени. Настоящая же Европа, «заграница» (особенно Франция и Англия) в книгах своих зрелее, тоньше, наконец, просто-напросто интереснее: два-три наших писателя такое сравнение выдержат, а для остальных оно было бы крайне опасно… Здесь, в эмиграции, раздается барабанный бой «хранения заветов» и «стояния на славном посту», с твердой надеждой, что заветы и посты в недалеком будущем полностью восстановятся, или культивируются воспоминания, или рассказываются историйки, более и менее невинные. Вдохновения, пафоса в эмигрантской литературе мало. К ней уменьшается внимание, но не сама ли она в этом виновата?
Удивительнее всего то, что она здесь, в условиях полной свободы, ничего не отвечает, ничего не возражает теперешней новой России. Будучи частью России и всячески отстаивая свое право быть ею, она как будто не видит, не знает, не хочет знать, что в России создается… Она отделывается усмешками или проклятиями, в лучшем случае. Дело дошло до того даже, что она уступает некоторым советским писателям (Олеше, например) защиту, отстаивание и развитие своих убеждений и ценностей, — защиту идеи личности, прежде всего. Но в советских условиях подобная «миссия» обречена на двусмысленные уловки, отступления, хитрости, на недоговоренность вообще. Казалось бы, здесь и договорить все… Но здесь литература об этом молчит. Молчание может быть красноречивым, может быть полным смысла и значения, — когда оно вынуждено: молчание некоторых писателей там, в России, именно так нами и воспринимается. Но ведь здесь-то, в эмиграции, говорить позволено все: молчание здешней литературы заставляет думать, что ей нечего России сказать. При подлинном и пристальном своем внимании к внутренней жизни, к «психологии» (у некоторых молодых в особенности) она не знает, что с этим материалом делать, и только переносит пресловутое «описательство» извне вовнутрь, с картин природы или быта на «переживания», ничего не изменяя по существу… Она слабеет, мельчает.
Но хоронить ее все-таки рано. Иногда в стихах какого-нибудь маленького поэта слышится то, что может здесь «вдохновение» зажечь, иногда в беседах возникает то самое. И, вероятно, именно об этом думал после литературного вечера, о котором я рассказывал, тот умный, «принципиальный» эмигрант.
Повременим с похоронами. Это верно, что земли нет, общества нет, отклика нет, обновления нет, движения нет, — и теоретически как будто бы все беспросветно. Но здешняя наша литература должна, все-таки, жить, как тень от той советской, как недоумение, обращенное к ее непонятной, если только не притворной, уверенности, как вопрос, как отказ от огрубения, хотя бы даже и общественно-спасительного. Душа мира не хочет впасть в детство, которого требует коммунизм, — или фашизм, и все вообще, что этим течениям родственно. О, как много могла бы сказать русская литература здесь в ответ на то, что сказано там , если бы только она нашла в себе силы говорить! До сих пор она лишь высокомерно морщилась или вносила в спор запальчивость личных обид, неубедительную и даже вызывающую смущение. А люди так ждут ее подлинного голоса, что даже слабые намеки принимают за слова. «Лучше Маяковского». Стихи, пожалуй, в большинстве случаев были хуже Маяковского. Но в намеках их можно было, все-таки, расслышать то, что Маяковский и его товарищи растеряли. В их нежности, в их лиризме могло бы, по теперешним временам, быть больше творческой смелости, чем в рабском и плоском «динамизме» современных советских од. Могло бы… если бы только голос этих стихов был голосом воли, а не усталости.
* * *
Литература не творится в торжествах и успехах. Не питается ими, во всяком случае.
И вот порой приходит в голову: были ли когда-нибудь для литературы условия такой чистоты, такой ответственности, как наши теперешние, – и неужели же мы их пропустим, ничего в них не поняв и не заметив?
Грустнее нынешнего положения эмигрантской литературы нельзя ничего себе и представить. Чего ей только не приходится слышать о себе — и молча сносить? «Гордыня» ее — ведь это миф: давно уже ничего от былой гордыни не осталось. Потеряно влияние, рассеяны все иллюзии, исчез последний след возможности «арривизма» путем словесного творчества. Все предоставлено самому себе, — и вот выясняется, что литература «сама по себе» — предмет роскоши, вызывающий своей праздностью скорее всего разочарование. Не так давно состоялся в Париже диспут на тему: «конец эмигрантской литературы», — и многие отметили это название с удовлетворением. «Так ей и надо!» Неужели же она не примет всего этого, как высокий и тягостный дар, и не сумеет найти слова о человеке, которому — как бы это сказать? — жизнь и мир делают больно? О человеке, который не хуже, чем он был прежде, не глупее, не пустее, — и, все-таки, стал никому не нужен только потому, что за ним нет опоры, силы, никакой власти вообще, ни над чем. Какие страшные выводы из факта этой внезапной ненужности, из самой возможности такого факта! Ну, допустим, «умирающий класс», допустим, — что же из этого? Одного такого объяснения, по чудовищной его грубости, достаточно, чтобы навсегда внушить отвращение ко всем будущим «строительствам», если основаны они на подобной звериной логике. Неужели здешняя литература ничего не скажет о человеке, который слишком уж развит, слишком многое помнит, чтобы сливаться и соединяться с другими людьми на почве «наибольших удобств», «наилучшего распределения материальных благ» и прочих дикарских приманок, — и который бережет не только книжное и сомнительное понятие «духовности», но и скромную уединенную «душевность», сейчас исчезающую, сейчас презираемую, почти уже совсем развенчанную, напрасно и легкомысленно, пожалуй… Люди всегда примыкают к победителям, по угодливости своей, всегда «толкают падающего». Теперь в России — проблемы, завоевания, достижения, новые горизонты, массовые расцветы. Иностранная, а отчасти и эмигрантская, критика все это комментирует, с разной степенью почтительности. Здесь — «запустение». И на самом деле — запустение. Комментировать — будем откровенны, — почти нечего. Но неужели же это так и будет дальше? И неужели здесь, в оскудении и одиночестве, в оставленной судьбой и людьми, все-таки, единственно-свободной и честной русской литературе никто не найдет слов, которые на веки веков станут «поперек горла» всем небрезгливым победителям и устроителям, останутся вечным упреком и отравой всех будущих коллективных спокойствий?
Есть в эмиграции замечательные писатели, замечательные люди. Не много, – но есть. Икс, например… Ему, кажется, жизнь сейчас открыла глаза на все. Но чем он занят? И как может быть, что никто не обратится к нему, как когда-то Тургенев к Толстому:
– Друг мой, великий писатель земли русской! Неужели же вы все-таки никогда обо всем этом ничего не напишете? Обо всем этом… вам-то, теперь-то уж ведь не надо объяснять, о чем!
СТИХИ В. СМОЛЕНСКОГО
Имя Владимир Смоленского еще два-три года тому назад никому не было известно. Сейчас его знают все те эмигрантские писатели, которые следят за развитием и жизнью здешней поэзии.
Смоленский выдвинулся быстро и занял место в первом ряду наших молодых поэтов по праву. Он, несомненно, даровит. Помимо этого, стихи его обладают особым свойством «нравиться»: иногда видишь даже их слабости, замечаешь недостатки, — но стихи все-таки кажутся хорошими, удачными, благодаря пронизывающей их музыкальной прелести. О поэтах принято говорить, что они «поют». К Смоленскому это выражение применимо без натяжек: текст его стихов, сам по себе довольно бледный и однообразный, оживает сразу, как только на помощь ему приходит ритм или мелодия, улавливаемая в звуках слов. «Голос мой негромок», — мог бы повторить Смоленский вслед за Баратынским. Негромок, да, — едва ли сам поэт на этот счет обольщается. Но голос у него чистый, свой. Процитирую Баратынского дальше:
…Я живу, и на земле мое Кому-нибудь любезно бытие.У Смоленского есть основания отнести и эти слова к себе.
Содержание и характер его стихов определяются названием книги — «Закат». Оговорюсь, что мне не особенно по вкусу это название: образ, пожалуй, слишком уж потрепанный, стертый, — притом это все-таки образ, следовательно, не просто слово, в котором стираться и линять нечему. Так ведь можно переутончиться до того, что назовешь книгу «Зори» или «Волны»… Но не буду придираться к мелочам. Все знают, что найти для книги стихов название — дело чрезвычайно трудное, почти всегда кончающееся неудачей. У «Заката» есть хоть достоинство точности.
Стихи Смоленского до крайности меланхоличны. Они, действительно, «закатны». Поэт не живет, поэт «перманентно» умирает, и если даже заговорит иногда о своей любви, или о своих страстях, то сейчас же переносится мыслью в потусторонний мир… Лучшие его слова — для потустороннего мира: там витают ангелы, там пребывают блаженные тени, там и он, поэт, найдет свое последнее, вечное счастье. Правда, все это похоже на какие-то искусные, романтически-померкшие, театральные декорации… Тема смерти, составляющая как будто бы основу поэзии Смоленского, на самом деле в ней и «не ночевала». Тема эта не убаюкивает и пленяет, а жжет все насквозь, дотла… То, о чем Смоленский пишет, правильнее было бы определить, как прозябание, скуку, жалость к самому себе. В особенности это последнее: жалость к самому себе. Я думаю, что Смоленскому, действительно, жить очень скучно и чуть-чуть страшно. Романтическими видениями он себя утешает, сознавая в глубине души, что носится «без руля и без ветрил».
Разумеется, можно было бы эти соображения о поэзии одного из «эмигрантских молодых людей» обобщить. У Смоленского есть талант, у других его нет. Но не случайно же такая лирика возникла именно здесь. Оставлю, однако, беседу об этом до другого раза. Приведу, в заключение, для образца, одно из самых удачных, по-моему, стихотворений из «Заката»:
Какое дело мне, что ты живешь. Какое дело мне, что ты умрешь. И мне тебя совсем не жаль – совсем! Ты для меня невидим, глух и нем, И как тебя зовут, и как ты жил Не знал я никогда или забыл, И если мимо провезут твой гроб, Моя рука не перекрестит лоб. Но страшно мне подумать, что и я Вот так же безразличен для тебя, Что жизнь моя, и смерть моя, и сны Тебе совсем не нужны и скучны, Что я везде – о, это видит Бог! – Так навсегда, так страшно одинок.Здесь Смоленскому сквозь обычную для него «дымку» удалось добиться подлинной энергии выражения. Это не только прельщает — это запоминается.
< «ОГНИ В ТУМАНЕ» ВС. Н. ИВАНОВА >
Немало появилось за последние годы книг, где в той или иной форме предлагается нам «философия» русской революции и всех вообще событий и явлений нашей эпохи. Большей частью авторы этих книг не принадлежат ни к какой отчетливой политической группировке и ни в литературе, нив общественной жизни неизвестны. Нередко случается также, что на издании подобной книжки деятельность авторов и прекращается. К ним — к этим произведениям, — естественно, относишься недоверчиво… Огромная самонадеянность нужна, чтобы отважиться на обнародование целого тома своих будто бы оригинальных мыслей по вопросу такой сложности, такой противоречивости, а главное — такой еще «болезненности»! Человек, выпускающий книгу своих «дум» о революции, полагает, значит, что все думы, высказанные до него, — неверны или несущественны. Он рассчитывает осчастливить мир: недоверие, повторяю, естественно. И почти всегда оно оказывается оправдано. Совсем недавно еще мне пришлось убедиться в этом, читая изданную в Белграде книжку проф. Краинского «Без будущего» — «очерки по психологии революции и эмиграции». Удивляет в ней не столько несомненный вздор, преподносимый в качестве мыслей, сколько развязно-величественный, учительный, вещий тон… В этом роде писал когда-то покойный Карабичевский: «Да тяготеет же над Россией мое проклятие!» Автор не почувствовал, в какое смешное положение попал он: Россия и его проклятие!
Книга Всеволода Иванова (харбинского, а не советского, разумеется) «Огни в тумане» относится к тому же разряду «философических» произведений. Ей дан многозначительный подзаголовок «думы о русском опыте». Однако автор вводит нас в заблуждение: никаких дум в его книге нет, и если уж что-нибудь в ней отсутствует целиком, то именно мысль.
«Живя в Петербурге, мы отрицали Петербург. Живя в нации, мы отрицали нацию. По паспорту православные, мы глумились над верой и над попами. Мудрено ли, что, гонясь за народом, мы истребили свою народную государственную мысль?»
Я выбрал цитату почти что наудачу. Однако содержание ее характерно для всей книги. Лейтмотив Всев. Иванова, на протяжении трехсот страниц «Огней в тумане»: что имеем — не храним, потерявши — плачем. Из всей нашей истории за последние десятилетия он в состоянии сделать один только вывод: прежде все было лучше, чем теперь, следовательно, напрасно прежнее было разрушено; если бы злые люди не поусердствовали, все до сих пор стояло бы на своем месте… Всякий согласится, что к сверхобывательщине этих «дум» то, что даже с натяжкой можно было бы назвать разумом или рассудком, не имеет никакого отношения. Мысль ведь всегда производит какую-то работу. Здесь же дано ощущение в сыром виде.
Но ощущения эти встречают сейчас сочувствие, встречают отклики, — люди ленятся думать, и Всев. Иванов это знает. Он храбро идет «по линии наименьшего сопротивления». Долой всех, долой все! Нужны новые деятели, способные понять ошибку и грех прежних поколений. Где, однако, найти их? Автор горестно оглядывается вокруг:
— Нет сейчас усовершенствованных, в смысле национализма, Герценов, нет православных Писаревых, нет монархических Катковых и Аксаковых, нет церковных Добролюбовых, нет плачущих гражданскими слезами Некрасовых, нет поэтов крестьянства Столыпиных, нет поэтов фабрики Морозовых и Прохоровых. А главное — нет пророка стиля Достоевского.
Он призывает соотечественников: «Идеям Маркса и прочим глупостям и пошлостям противопоставьте свои идеи». Однако труд этот читатели должны проделать сами. Назвать Маркса дураком Иванов умеет, но на что-либо большее сил у него не хватает.
Книга составлена из статей, печатавшихся в дальневосточных газетах. «Стороннее» замечание: как устарела форма «фельетона», казавшаяся еще недавно столь новой… Короткий рассказ вначале, потом переход к делу, чем-то со вступительным рассказиком связанному, потом несколько «хлестких штрихов», короткие фразы, точки и какая-нибудь фиоритура в конце. Невозможно читать, невыносимо. Еще, пожалуй, об «отцах города», которые что–то там недосмотрели насчет освещения Дворянской улицы, так подходило писать. Но о России и судьбе ее — невозможно.
< «ХУДОЖНИК НЕИЗВЕСТЕН» В. КАВЕРИНА >
Это одна из тех пяти-шести, самое большое – десяти советских книг, которые за год, действительно, стоило прочесть. Повторю то, что мне уже не раз приходилось говорить: кто хочет знать, что в советской литературе делается, должен, разумеется, читать все приходящие к нам из Москвы книги, или, по крайней мере, все журналы… Однако труд этот, необходимый для того, чтобы быть «в курсе дела», по существу, оказывается в огромной своей части напрасным (притом, это именно труд, а никак не удовольствие). Книги выходят сейчас в России лживые, пустые или донельзя наивные. Конечно, кое-что в них, или, вернее, сквозь них, светится, — кое о чем догадываешься, перелистывая их. Но даже информацию они дают сбивчивую и жалкую. Того, на что способна подлинная литература, — глубокой и творческой переработки случайного, сырого жизненного материала и его обобщения — в них нет и помину. И лишь очень редко попадаются книги, которые оправдывают поиски и вознаграждают за потраченное время.
Именно потому что они все-таки попадаются, у нас есть основание утверждать, что литература в России жива. Десять книг в год. Если вдуматься, — это вовсе не так мало. В лучшие времена у нас выходило за год книг «настоящих», — т. е. таких, о которых можно было сказать, что их стоит прочесть, не многим больше. Если сейчас, даже в самое последнее время, при беспримерно-бдительном жестоком правительственном надзоре, еще появляются книги, где есть смысл, талант и авторская ответственность за каждое слово, это доказывает силу сопротивления литературы, неистощимость ее жизненной энергии. Литература подавлена, но не убита. И под грудами бездарных или безграмотных «ударнических» упражнений, под ворохами резолюций, постановлений и лозунгов, она еще дышит. Нет-нет, да и послышится рядом с казенными барабанами и трещотками ее голос.
В. Каверин, автор повести «Художник неизвестен», — писатель еще молодой, но уже довольно известный и опытный. Это — один из младших «Серапионовых братьев». В первое время, когда «серапионы» гремели и выступали, — печатно или устно, почти всегда совместно, — Каверин был как бы на вторых ролях. Казалось, это беллетрист поверхностный, увлеченный формалистикой, способный только на ухищрения и более или менее остроумные словесные фокусы. О Никитине, например, писателе старательном, но мало оригинальном и не особенно даровитом, спорили без конца. Много было толков о Зощенко, о Всеволоде Иванове, которые, по крайней мере, внимания оба заслуживали. Каверин же оставался в тени. Лишь в последние годы он стал выдвигаться, лишь в последнее время стало наконец ясно, что в его душе и сознании есть кроме формализма и кое-что другое. О повести «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове » у нас не так давно шла речь. После нее Каверин издал две книги: «Пролог» – нечто вроде записок обследователя «совхозов» и рассказы «Черновик человека». Обе были встречены советской критикой недоброжелательно, однако, без ярости. «Художник» же вызвал ярость… «Литературная газета» в особой редакционной статье выделила месяц тому назад три произведения, которым следует дать «беспощадный отпор» как «буржуазным вылазкам»: эти три произведения — «Охранная грамота» Пастернака, «Сумасшедший корабль» Форш и «Художник неизвестен» Каверина. Отпор уже и дается… Надо сказать, однако, что к Пастернаку в России сохраняется «пиетет», и тронуть его почти никто не решается. Пастернака побаиваются, имя его окружено ореолом какой-то необычайности, и Пастернаку сходит с рук то, что другим не прощается. Недавно сам поэт об этом говорил с недоумением:
— Я не понимаю, что здесь делается. Других освистывают, а когда я выступаю с такими же заявлениями, мне аплодируют… (Прения по докладу Асеева «О поэзии», 13 декабря пр. г.)
Поэтому об «Охранной грамоте» пишут сравнительно уклончиво. Конечно, «буржуазно», конечно, «индивидуалистично», но… тут каждый критик находит свое «но», для смягчения обстоятельств в преступлениях Пастернака. С Ольгой Форш и, тем более, с Кавериным не стесняются. Ближайший товарищ Каверина, Никитина, писала на днях, что «Каверину надо в лоб указать его ошибки». А перепуганная редакция журнала «Звезда», напечатавшая каверинского «Художника» до того, как он вышел отдельной книгой, объявляет даже, что в ближайшее время она в порядке самокритики даст объяснение, как, почему и отчего с нею такой грех случился.
Не знаю, каковы будут объяснения «Звезды» Похоже на то, что редакция понадеялась на внешнюю, фабульную сложность повести Каверина. «Не поймут!» — как бы решила она, думая о цензуре. Там, «в сферах», вероятно, и на самом деле не все поняли, но обостренным ухом почувствовали неполную благонамеренность и забили тревогу.
При первом чтении «Художник неизвестен» кажется вещью крайне причудливой и неясной. Ум, дарование и умение автора чувствуются сразу, но раздражает «литературщина» в повести: умышленная путаница в изложении, щеголяние недоговоренностью, остатки фокусничанья вообще… Но повесть заинтересовывает, и ее перечитываешь. Тогда обнаруживается стройность замысла, и все в «Художнике» становится внутренне-оправданным, — все до малейших деталей. Это не только интересная и местами даже глубокая книга, это редкая литературная удача, т. е. произведение, где, по Чехову, «каждое ружье стреляет». Приемы автора могут не нравиться, но они достигают цели, они убедительны, так как подчинены единой логике всей вещи… Может быть, найдутся читатели, которым все это покажется очевидным сразу… Не знаю. Я рассказываю только о своих впечатлениях и откровенно признаюсь, что мне ценность и прелесть «Художника» открылась вполне лишь при вторичном чтении.
Два человека живут, действуют и размышляют в повести: Архимедов и Шпекторов… С первой же главы «Художника» начинается их диалог, тянущийся, с отступлениями и вариантами, через всю вещь, — тот напряженный, страстный, единственный диалог, который ведет, в сущности, вся советская литература, у разных авторов, поскольку они находятся на известном идейном уровне. «Как будем жить?» – будто спрашивается в этом бесконечно-длящемся, единственном разговоре. Коммунизм, личность, общество, свобода, творчество, труд… как все это примирить? Архимедов — мечтатель, сумасброд, «идеалист». Шпекторов — практик. Архимедов думает о морали. Мораль отстала от техники. «Личное достоинство должно быть существенным компонентом социализма».
У Шпекторова заботы иные.
— Мораль? У меня нет времени, чтобы задуматься над этим словом. Я занят. Я строю социализм. Но если бы мне пришлось выбирать между моралью и штанами, я выбрал бы штаны.
У Архимедова есть семья: жена, ребенок… Ребенок, впрочем, может быть, и не его, но Архимедов об этом и не догадывается. Жена Архимедова, Эсфирь, любит Шпекторова, но уйти от мужа не хочет, жалея его и чувствуя вину перед ним. Ребенок назван Фердинандом — в честь Лассаля, которого Архимедов чтит, как своего учителя. В тот же вечер, когда начинается диалог о морали, полусумасшедший Архимедов уносит ребенка из дома… «Потому что это единственное, что еще можно исправить». Он уносит своего сына от «лицемерия, бесчестия, подлости и скуки». Ночь. На Невском, под Думой, со спящим ребенком на руках, чудак разговаривает сам с собою, обращаясь к памятнику Лассаля:
— Распорядитель людей, погибший от случайной пули, ветер дует тебе в глаза во время наших наводнений. Осенью на тебя падает дождь. Зимой на твоем лице проступает иней. Ты видишь скольжение и смену людей, и история ночует рядом с твоим пьедесталом. Скажи мне, кто из нас прав? За кого ты голосуешь, учитель?
Лассаль молчит. (Любопытная мелочь. Один из главных упреков советской критики Каверину: отчего герой его ищет ответа на свои сомнения у Лассаля, а не у Маркса? В памятниках Марксу недостатка, ведь, нет.) Но жизнь, по-видимому, голосует за Шпекторова. Шпекторов побеждает. Архимедов уходит в свои мечты или свой бред. Эсфирь, жена его, кончает самоубийством, выбросившись из окна. Архимедов тщетно ищет «морали» в окружающем его бездушном, лицемерном мире.
Есть у Архимедова область, в которой никто и ничто не угнетает его, — искусство. Он — художник, тайный, непризнанный. Здесь, в искусстве, царит свобода, здесь человек не подчиняется «ни законам, ни запрещениям». В повести Каверина говорится об искусстве и природе его очень много. Многое из сказанного интересно. Но остается, все-таки, впечатление, что «выход в искусство» был для автора выходом вынужденным, ибо только здесь, в этой сравнительно нейтральной сфере он мог предоставить своему Архимедову, а заодно и себе, свободу. Вольнолюбивые порывы Архимедова суживаются в своем значении из-за того, что он обращает их к живописи, а не к жизни, но иначе в советской книге быть не может. Это слишком понятно, чтобы требовать какие-либо объяснения. Понятно и то, что Архимедов представлен человеком, у которого «не все дома». Автор не мог бы поручить лицу здравомыслящему и положительному сказать все то, что он сказать хочет.
Эсфирь выбросилась из окна. Мысль о том, чтобы «перестроить мир», Архимедову не удалась. Веселый и трезвый Шпекторов растолковывает ему:
— Есть один только выбор — выиграть или проиграть… Или запишись на бирже труда, ты ведь когда-то служил в аптеке. Пользуйся выходными днями, учись рисовать. Может быть, придет время, когда мы позовем тебя раскрашивать наши знамена.
Кстати, Шпекторов отбирает у Архимедова сына. Ребенку будет лучше у него. Лучше «и со стороны семейно-бытовых условий, и в отношении социальной среды». Архимедов покорно на все и со всем соглашается. Последняя глава занимает полстранички. Эпиграф из Хлебникова:
— Это сквозь живопись прошла буря. «Она лежит, сломав руки, полная теней… Час сумеречный. Снег синий, голубой, белый».
Описывается картина. Изображена на полотне мертвая Эсфирь, конечно.
«Это могло удаться лишь тому, кто со своей свободой гениального дарования перешагнул через осторожность и нечестность современной живописи, которая так отдалилась от людей… Нужно было разбиться насмерть, чтобы написать эту вещь.
Цвета такие-то. Фигуры такие-то. Картон. Масло: 80x120. Художник неизвестен».
Нужно было разбиться насмерть, чтобы написать эту вещь. Разбилась Эсфирь. Но фраза-то ведь относится к Архимедову. Значит, как-то победу он, все-таки, одержал! Значит, победа Шпекторова не так уже полна и прочна! Значит… впрочем, всего не скажешь. Каверин коснулся старой, великой темы о «мнимом неудачнике», темы, которая всю жизнь волновала и мучила Ибсена, например, – до его «Эпилога» включительно. Неудивительно, что эта тревожная тема в ее современном «оформлении», с отзвуками на современность вообще, пришлась в России не ко двору.
Пересказ не может дать понятия о вещи. Пересказ всегда схематичен, ибо разлагает живое создание на фабулу, замысел, стиль и другие элементы. «Художник неизвестен» хорош тем, что в нем все слито и сплетено, в нем нет отдельно слова и отдельно идеи, а одно стало другим, как бывает у подлинных писателей.
Два слова в заключение. В советской печати скажут, может быть, что «Художник неизвестен» нам нравится из-за своей «буржуазности», и будут, пожалуй, этим Каверина попрекать. Какой вздор! Кто этому поверит! Хвалить a priori то, что в Москве бранят, у нас нет ни желания, ни основания. Книге Каверина мы радуемся, как всякой русской книге, – если она умна, жива и талантлива. А бывает это не так часто.
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». КНИГА 48-я. Часть литературная
Если бы спросить читателей «Современных записок» насчет того, что предпочтительнее: печатать в каждой книжке журнала лишь одно-два беллетристических произведения, но зато целиком, или, наоборот, давать место нескольким авторам, но с неизбежными пометками «продолжение следует», «окончание следует», «конец первой части», «отрывок из второй части» и т.д., — читатели несомненно высказались бы за печатание повестей и романов целиком. Упрек в «отрывочности» приходится слышать в беседах о «Современных записках» постоянно. Действительно, следить за какой-нибудь вещью, растянутой на год, а то и на полтора, и все в ней помнить, так чтобы авторский замысел с каждой новой главой становился все яснее, — почти невозможно. Над очередным отрывком читатели, большею частью, восстанавливают в памяти то, что из нее наполовину уже исчезло. «Да, да, припоминаю, он ведь влюблен в эту Соню…» Или: «кажется, последняя глава кончилась на том, что он во всем сознался и заснул…» Восстанавливается, в лучшем случае, фабула. Внутреннее же действие и движение, то есть самое существенное в творчестве — искажается или даже остается вовсе не замеченным.
При том методе составления номера, которого держится редакция «Современных записок», оглавление получается, бесспорно, очень содержательным и привлекательным. Но только оглавление. Чтение самой книжки вызывает досаду, как бы ни был хорош помещенный в ней материал — из-за обилия «продолжений» и «окончаний». Пожалуй, лучше было бы пожертвовать эффектным разнообразием содержания ради законченности и полноты читательских впечатлений.
Бывают, разумеется, произведения, которые иначе как в нескольких номерах поместить невозможно… Но не всегда у редакции «Современных записок» есть это оправдание. Например, в последней книжке — повесть Георгия Пескова «Злая вечность»: тридцать пять страничек и — «окончание следует». Повесть умная, интересная: неужели в толстом, увесистом томе не нашлось еще нескольких десятков страниц для нее? Или беллетристика в журнале — только придаток, приманка, а главное в нем — статьи и публицистика, на которые вся редакторская заботливость и обращена? Не думаю, чтобы это было так. Но, несомненно, редакции «Современных записок», стремящейся каждую беллетристическую вещь разрезать на несколько частей, случается порой ту или иную повесть этим и «зарезать».
Роман Осоргина «Свидетель истории», печатаемый маленькими порциями, выйдет, по-видимому, живым из испытания. Объясняется это тем, что в нем нет текучести и непрерывности развития. Роман легко разбивается на отдельные эпизоды. Каждый эпизод до известной степени самостоятелен. Очень возможно, что позднее, когда мы «Свидетеля истории» прочтем целиком, обнаружится в нем то, что теперь от внимания еще ускользает. Но и «Олень», помещенный в прошлом номере журнала, и «Побег», напечатанный в новом, представляют собой законченные рассказы. Признаюсь, мне больше по душе «Олень»… В нем больше было напряжения, больше убедительности. Даже если и не разделять всецело отношения Осоргина к тем людям и событиям, о которых он говорит, нельзя было все таки не почувствовать в «Олене» искренности и какого-то отстоявшегося, проверенного, проясненного пафоса. Здесь, в «Побеге» — все мельче. Это просто «случай». Случай необыкновенный, и рассказывает о нем Осоргин занимательно. Но обращается он главным образом к нашему любопытству. Того длительного отзвука, который оставлял в сознании «Олень», «Побег» не дает. Заключительные «буддийские» строки слишком туманны и беспредметны, чтобы его вызвать.
Закончен «Подвиг». Позволю себе отложить отзыв об этом романе до общей статьи о его авторе — Сирине. Несколькими беглыми словами здесь отделаться нельзя. Бесспорно, Сирин — замечательное явление в нашей новой литературе. Замечательное — и по характеру своему довольно сложное. Он соединяет в себе исключительную словесную одаренность с редкой способностью писать, собственно говоря, «ни о чем». Когда-то Лев Шестов сказал о Чехове, что его писания — это «творчество из ничего». О Сирине можно было бы повторить эти слова, придав им смысл и оттенок, которые к Чехову относиться не могут, — оттенок несравненно большей «опустошенности», большей механичности и странной, при этом, беспечности. У нас есть многочисленные любители выискивать всюду скрытый смысл и улавливать особые «ритмы современности» в самых простых вещах. Вероятно, уловят они что-нибудь таинственно-глубокое и в «Подвиге». Между тем, этот роман, — бесспорно талантливый, — представляет собою апофеоз и предел «описательства», за которым зияет пустота. Ни страстей, ни мыслей… Мартын едет в Советскую Россию, но мог бы с тем же основанием отправиться и на Полинезийские острова: в логике романа ничего не было бы нарушено. Соня Зиланова могла бы за Мартына выйти замуж: ничего не изменилось бы. Как в витрине куклы могут быть расставлены в любом порядке, в любых сочетаниях: нужен для того, чтобы это было удачно, только вкус и «глаз», нужно чутье — органической же связи все равно не добиться. А чутья у Сирина много. Еще больше — умения писать так, как будто все у него льется само собой, с мастерской непринужденностью, с редким блеском… Не буду, однако, касаться темы о «Сирине вообще», оставлю ее для отдельной статьи. Тема заслуживает статьи: это, во всяком случае, — вне сомнений. О «Подвиге» скажу только, что в этом романе, — по сравнению с «Защитой Лужина» и, в особенности, более ранними вещами, — видна работа автора над стилем: реже сделались метафоры, точнее и скромнее стали сравнения, уменьшилось вообще количество эффектов… Осталось только пристрастие к особо «кряжистым» словечкам, которым, очевидно, надлежит придать языку некую черноземную сочность и полнокровность. Надо надеяться, что рано или поздно Сирин разлюбит и их.
«Злая вечность» Георгия Пескова помещена в одной книжке с «Подвигом» как будто для контраста. Действительно, контраст разительный… Даже странным кажется, что в одно время и в приблизительно однородной среде появляются вещи настолько во всем противоположные. Песков и его повесть — полностью еще в старых русских проклятых вопросах: о Боге, о вечности, о грехе, о смерти… Влияние Достоевского заметно даже в интонациях некоторых фраз (например: «с мыслью о смерти примириться нельзя, князь!» — так и кажется, что в ответ «тихо улыбается» князь Мышкин). Нельзя назвать «Злую вечность» выдающимся художественным произведением: герои повести больше разговаривают, чем живут… Но зато разговоры они ведут живые. Все это, конечно, уже было сказано. И не раз. Но важно ведь не то, чтобы человек непременно думал о чем-либо новом, а чтобы он о старом и неразрешенном думал так, как будто оно, это старое и неразрешенное, впервые именно ему и представилось. Кто упрекнет Георгия Пескова в элементарности размышлений, должен бы иметь в виду, что его герои бродят вокруг да около таких вопросов, которые в ответ только две-три простейшие догадки и допускают.
«Гремучий родник» Скобцова-Кондратьева, может быть, и представляет ценность с точки зрения бытовой или этнографической. Не знаю. Но к литературе это произведение имеет отношение более чем отдаленное. Надо полагать, что в качестве бытового документа ему и дано место в «Современных записках». Иное объяснению помещению «Гремучего родника» в журнале разборчивом и труднодоступном для писателей, не обладающих «именем», — найти трудно.
О «Воспоминаниях» А.Л. Толстой мне уже приходилось высказываться. Они по-прежнему в высшей степени интересны. После появления первых глав этих мемуаров многие сомневались: стоило ли, следовало ли все это извлекать на белый свет? Не лучше ли было бы подождать? Думаю, что мало-помалу эти сомнения рассеиваются: то, что Александра Львовна пишет, слишком важно для понимания ее отца и атмосферы, в которой он жил. Это, конечно, только свидетельство — не более. Пожалуй, это даже чуть-чуть одностороннее свидетельство. Но уж если дело о Льве Толстом и его жене привлекло к себе внимание всего мира, если в деле этом каждый считает нужным сказать свое мнение, — иногда совершенно вздорное, — надо было выслушать и Александру Львовну.
Есть замечательные вещи в отделе статей. В частности, — «Назаретские будни» Мережковского. Судя по этой главе, «Иисус Неизвестный» будет лучшей книгой писателя. Едва ли и могло быть иначе: к этой книге Мережковский, в сущности, шел всю жизнь, всю жизнь готовился к ней. В «Назаретских буднях» есть в каждой строчке радость и волнение: «наконец-то дошел». И есть лиризм, рожденный близостью к словам, образам и лицам, после долголетнего ожидания, наконец, будто бы обретенным. Книга, наверное, многим покажется еретической, если не хуже… Впрочем, она обращена к людям внецерковных настроений. Надо только сказать, что даже и «Назаретские будни» осторожнее не читать людям, которые свой религиозный покой боятся смутить.
Выделю статью П. Бицилли «Параллели», — написанную с глубокой и сдержанной, чисто умственной страстью. Автор проводит «параллели» между судьбой Маркса, Толстого, Фрейда и Пруста. Больше всего страсти в словах о Марксе. И как в них все верно, как «злободневно»! Невольно думаешь: если бы эти несколько страничек распространить по России, кое-что в них предварительно растолковав и разъяснив, — хорошее было бы это дело. Чрезвычайно тонко и все о Прусте. Приходится только пожалеть, что человек, так много знающий и, в особенности, так много понимающий, как Бицилли, редко пишет о литературе. Достаточно прочесть его рецензию на книгу о Тургеневе, чтобы убедиться, что он в нашей современной критике мог бы занять одно из первых, — если даже не первое, — мест. (Да, впрочем, критики случайные всегда были интереснее профессионалов. Шестов, например, о котором сегодня мне пришлось вспомнить по поводу его статьи о Чехове: в вопросах литературы он проницателен необычайно. Статья о Чехове есть, в сущности, единственно-цельное, что у нас на эту тему написано. Статья о Ибсене, глубокомысленная и пленительная — тоже. Но спускается со своих высот к литературе Шестов не часто.)
С интересом все прочтут воспоминания Шаляпина и отрывок из книги о «Декабристах» — Цетлина. Стихов много, и попадаются среди них прекрасные. Обращаю особенное внимание на стихи Георгия Иванова, а из более молодых — Довида Кнута; затем — на небольшие стихотворения Смоленского и Софиева, у которого довольно бедна словесная изобретательность, но есть все-таки свой тон и свой голос.
< «СТИХОТВОРЕНИЯ» В. РОПШИНА (САВИНКОВА). – «ЭТА ЖИЗНЬ» А. ШТЕЙГЕРА >
Едва ли кому-нибудь придет в голову подойти к сборнику стихов покойного Савинкова с оценкой узко литературной или эстетической. Невозможность такого подхода настолько ясна, что о ней не стоит предупреждать и ее нет смысла растолковывать: поистине, это значило бы «ломиться в открытую дверь».
Но искусство есть все-таки искусство, стихи все–таки стихи. Как бы мы ни пытались внушить себе, что данная книга является, в сущности своей, только «человеческим документом», в ней мы имеем дело с элементами умышленности и условности. Только через них мы узнаем что-то об авторе, о Савинкове. Исключить полностью литературный подход к поэзии нельзя. Если нужен «человеческий документ» в чистом виде, лучше обратиться к дневникам, письмам, рассказам современников. В частности, может оказаться, что эти свидетельства о личности Савинкова будут интереснее и ценнее его попыток творчества. Это даже больше чем вероятно.
В стихах Савинкова — надо признаться — не видно таланта. Нет в них никакой свободы, никакого взлета, ничего вообще, что в характеристике поэта нередко определяется эпитетом «Божьей милостью»… Это замечание относится и к внутренней сущности стихов Савинкова. Но скажу сначала два слова о их наружном облике.
Попадаются стихи неплохие. Но если они не плохи, то почти всегда подражательны – до откровенных заимствований даже:
Ярмо постыдное уныло я влачу, И горько жалуюсь, и…Я невольно продолжил, читая: «и горько слезы лью», но тут же вспомнил: это не Савинков, это Пушкин.
Как нежны Ниццы очертанья, И как лазурны берега, В каком торжественном молчаньи Горят альпийские снега.Эта строфа в точности воспроизводит интонацию Тютчева (дело не в Ницце, разумеется, которая хоть и связана навсегда с лирикой Тютчева, но не составляет все-таки его неотъемлемой собственности, а в восклицательном обороте «как», «в каком» – типично тютчевском). Стихи поздние нередко напоминают З. Гиппиус… Стремление быть самостоятельным — стремление, которое у Савинкова, несомненно, было очень сильно, — приводит его большей частью не к овладению мастерством, а к отказу от мастерства. Савинков чувствовал, вероятно, что подлинным поэтом ему не стать. «Техника» давила, угнетала его и заставляла быть внешне похожим то на одного, то на другого поэта. Он ее откинул и предпочел писать вещицы, предназначенные будто для мелодекламации: короткие, примитивно-выразительные по смыслу, но без всякой выразительности самого слова — капризные, приперченные, обманчиво-оригинальные… З. Гиппиус в предисловии к сборнику спрашивает себя: «нашел ли Савинков свою манеру?» и тут же отвечает: «во всяком случае до совершенства не довел». Думается, что З. Гиппиус преувеличивает значение литературных опытов Савинкова. О каком совершенстве в применении к ним можно говорить? В этих стихах отчетливее всего виден испуг творчески слабого сознания, которое отбрасывает общий язык, общие формы выражения, ибо оно не может в них проявить себя. Бывают люди, которые всегда, во всех случаях одеваются «по-своему»: иначе их не заметят… Вот приблизительно впечатление от стихов Савинкова. Для них характерно не преодоление общности (с чего только и начинается всякая «своя манера»), а беспомощное отступление перед ней.
Теперь о том, что сквозь эти стихи светится: о «душе» их и о душе их автора. Постараюсь передать впечатления так, как будто вам о Савинкове почти ничего не было известно.
Бесспорно, писал эти стихи человек не обыкновенный, правильнее — не обычный. Но в нем, как в творчестве его, отсутствует та благодать, то внутреннее сияние, тот свет, которые возбуждают к человеку любовь. Вероятно, Савинкова мало любили: разумеется, я говорю только о любви-дружбе, не касаясь других областей… Поздний, обмельчавший байронизм чувствуется в нем. «Жизнь — пустая и глупая шутка», — он повторяет это неизменно, на все лады. Он по-настоящему несчастен. Но в самое свое несчастье, в свое подлинное непоправимое одиночество он вносит усмешку, которая уничтожает возможность сочувствия. Иногда он вносит туда же и кокетство, позу: как бы «посмотрите, какой я!» Должен сказать, что те противоречивые строки, где Савинков упоминает о грехе убийства и посещающих его кошмарах, принадлежат к самым тяжелым и в каком-то смысле даже отталкивающим во всей книге. Не то чтобы об этом нельзя было писать. Обо всем можно писать, обо всем решительно, без исключения. Но здесь Савинков охлажденным чувством, охлажденным условно-красивым словом касается глубочайшей и трагической темы… Получается нечто трудновыносимое. Если даже знать биографию автора, если вспомнить, что эти строки не только «слова, слова, слова», что за ними есть реальность, — впечатление остается то же.
Индивидуализм у Савинкова развит болезненно. Я, я, я, — кроме этого, он ничего не видит и не знает. Пожалуй, именно в этом разгадка того привкуса «мучительности», который придает все-таки его книге значение, несмотря на дилетантизм ее и постоянно чувствующуюся фальшь: несчастен Савинков из-за отсутствия «выхода» к миру, из-за обреченности своей остаться в себе, как несчастен всякий прирожденный индивидуалист, сознающий свое состояние. У Савинкова ум был прозорлив, но бессилен исправить или заменить что-либо. И даже самая жизнь его, где, несомненно, жертвенность была, — даже самая жизнь его, по-видимому, двигалась в значительной мере гордостью, надменным и холодным расчетом, увлечением опасностью:
Мне душу тешили кровавые забавы.Вот признание более искреннее, пожалуй, чем «кошмары»… Нередко только эта душа ощущала свое окаменение, ужасаясь ему, – и тогда вырывались стихи, похожие на крик:
Прости меня, Дай мне забвенья, Прости меня, Я так устал…Одна из книг Розанова кончается фразой, которую часто вспоминаешь, думая о людях. Здесь она, кажется, будет уместнее, чем где бы то ни было:
– Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости.
* * *
«Пишите прозу, господа!»
Каждый раз, когда перелистываешь новый сборник стихов одного из наших здешних молодых поэтов, хочется повторить давний призыв Брюсова: «Пишите прозу, господа!» Не в том беда, что стихи сейчас мало кто читает, ценит и понимает: это не должно бы поэта смущать, не должно бы его сбивать с пути. Но есть ли, действительно, «путь» у авторов выходящих сейчас в довольно большом количестве маленьких, белых, чистеньких книжечек? Едва ли. Они пишут стихи главным образом потому, что до них стихи писали другие, повторяют чужие слова и приемы, и если даже у них есть свои мысли и чувства, то сквозь чужую, заимствованную оболочку этого «своего» не видно. Заняты они не творчеством, а лишь приятной, но пустоватой «игрой в творчество». Одни из них талантливы, другие бездарны. О бездарных говорить не стоит, но талантливых жаль, потому что их губит форма, если можно так выразиться. Проза — честная, требовательная и сухая проза — заставила бы их быть строже к себе, убедила бы, что говорить следует только тогда, когда есть что сказать. Стихи же позволяют бесконечные перестановки слов и строчек, мнимой важностью и мнимой глубиной которых автор обманывает, прежде всего, самого себя. Автор возразит, может быть, что он «поэт», что иначе как в размеренных строфах, он высказаться не может. Полно! Поэты подлинные, врожденные, только в ритме и музыке слов оживающие, — величайшая редкость. Во всей современной русской литературе поэтов — в этом смысле — всего два-три. Наши же молодые стихотворцы в огромном большинстве случаев держатся стихов или по «инстинкту самосохранения», т. е. из безотчетной боязни обнаружить свою творческую несостоятельность, или по какой-то странной умственно-душевной лени, мешающей им понять и почувствовать свою основную ошибку, — и, поняв, сделать вывод.
Анатолий Штейгер, автор сборника «Эта жизнь», — бесспорно талантлив. Он пишет стихи внешне изящные и внутренне тонкие. Кое над чем в его книге хочется задуматься, кое-что тянет перечесть и даже запомнить. Но все же общее впечатление остается расплывчатым. Похоже на то, что стихи не помогают автору высказаться, а препятствуют ему сделать это. Рифмы аккуратно и наивно возникают в конце строчек, ямбы и хореи придают мертвенную гладкость фразам, которые нередко требуют совсем другой интонации… Получаются стихи, не лишенные прелести, но чуть-чуть игрушечные, будто написанные не совсем «всерьез». Между тем, вчитываясь в сборник Штейгера, видишь, что он мог бы писать иначе. Стихи умаляют его. Как человек литературно одаренный он «владеет формой» неплохо, но необходимости писать именно стихи, кажется мне, не ощущает. Все то, что в стихах условно, у него именно как условность и выступает наружу. И форма не сливается с содержанием, а лишь надевается на него будто футляр.
На обложке «Этой жизни» объявлено о выходе в свет прозы Штейгера. Очень будет интересно прочесть ее. Она может оказаться гораздо значительнее его стихов.
О чем говорит Штейгер? На подобный вопрос, к какому бы автору он ни относился, всегда трудно ответить коротко. Замечу все-таки: Штейгер выражает мысли и чувства тех людей, которые как бы боятся жизни.
Сейчас, особенно среди нашей здешней молодежи, это распространенный и любопытный «случай». Все в книге Штейгера происходит только «на пороге», из-за черты он на все и глядит. Иногда он восклицает:
О, этот бедный мир совсем не плох! О, эта жизнь — совсем не наказанье!Но это — «восклицание зрителя», не более… Штейгер еще совсем юн. Есть основания верить, что он когда-нибудь найдет в себе силы жить по-настоящему. Тогда, надо думать, и в писаниях его появится та убедительность и та правдивость, которых им недостает теперь.
ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
С полгода назад в «Новом мире» была напечатана повесть Я. Рыкачева «Величие и падение Андрея Полозова» – произведение настолько незаурядное, что нельзя было не запомнить имени его автора, писателя совсем еще малоизвестного. О повести этой была уже речь в нашей газете. Напомню, что в ней чрезвычайно тонко и метко был очерчен тип «приспособленца», доходящего в своем сложном и трудном искусстве до подлинной виртуозности. Андрея Полозова, провинциального честолюбивого журналиста, которого «ребята выдвинули на работу в Москву», все принимают за убежденнейшего большевика. «Глубоко свой парень», как принято теперь выражаться в России, Андрей Полозов делает головокружительную карьеру и только по какой-то несчастливой роковой случайности оказывается разоблаченным. Автор подчеркивает, что «падение» его именно случайно: вполне было бы возможно для Полозова блистать на советском литературном небосклоне и до сих пор.
Я. Рыкачева, как водится, за его повесть ожесточенно бранили. Критика указывала, что он в выполнении ленинского завета о «срывании всех и всяческих масок» зашел слишком далеко и не удержался от клеветы. Но нашлись у Рыкачева и защитники – Лидия Сейфуллина, например (кстати: довольно смелый и честный человек, — если судить по ее выступлениям на различных теперешних «дискуссиях») Из-за «Величия и падения Андрея Полозова» разгорелись страсти.
Подпись Рыкачева с тех пор останавливает на себе внимание. И не напрасно. Интересно и своеобразно все, что Рыкачев пишет. В скором времени должна выйти его книга: «Идеологические портреты». Некоторые отрывки из этой книги появились в московской периодической печати. В одном из последних номеров «Литературной газеты» помещен любопытнейший «портрет» попутчика Каширина.
Каширин — лицо воображаемое. Автор предупреждает, что «искать оригинал этого портрета было бы бесплодным делом». Надо думать, что это действительно так. Рыкачев склонен к обобщениям, не к фотографической передаче неповторимых черт той или иной индивидуальности.
Писатель Каширин относится к революции не с ненавистью, а с печалью. Именно поэтому он и числится в «попутчиках»: звание, которое Каширин ценит, которым он даже гордится. Печаль Каширина внушает читателям уважение. Они, читатели, не замечают, что Каширин «ощущает величие эпохи более всего со стороны причиняемых ею душевных неудобств». Они видят лишь, что Каширин «несет свою печаль как высокую болезнь, как горький отстой тысячелетней культуры».
Каширин пишет:
«Предо мной — одно из великих свершений человеческой воли. Вот он — путь: от римского водопровода до этого гиганта социалистической индустрии. Вдали угасает заря. На тревожном фоне заревого неба, словно мифические гиганты, шагают в неизвестность телеграфные столбы. В закатном Пламени быстро дотлевают последние лоскутья дня. Скоро сойдет на землю ночь — беззвездная и безлунная. Запомним ли мы когда-нибудь эту бездомную, черную пустоту!»
Дальше идет речь о промфинплане, о прорывах, о соцсоревновании, об ударничестве… Не к чему придраться. Но в элегическом тоне каширинских строк звучит: «Все суета сует и томление духа, бесплодны труды человека и нет в них пользы под солнцем». И как бы ни восхищался Каширин «гигантами социалистической индустрии», он с меланхолическим лиризмом своим не расстается. Какой-нибудь красный директор у него непременно «печальный, изможденный человек, с большими недоуменными глазами, как бы вопрошающими: ну, как, правильно я делаю свое дело? »
Попутчик ли Каширин? Рыкачев в этом сильно сомневается. Он восклицает: «Избави нас, Боже, от печали, а с ненавистью мы сами справимся». Для него эта печаль — «явление сложное и ядовитое».
Ибо в СССР, по убеждению Рыкачева, — печаль отменена. «Разумеется, — говорит Рыкачев уже от имени пролетариата и революции, — каждый писатель имеет право на свое собственное восприятие. Иначе было бы с лихвой достаточно одного писателя. Но и действительность имеет кое-какие права. Мы требуем, чтобы писатель уважал права этой действительности».
Кто в СССР не согласен с тем, что все в мире прекрасно и с каждым днем становится еще прекраснее, — должен молчать.
Таков единственный вывод, который можно сделать из рыкачевского очерка. Автор едко иронизирует над Кашириным, которого изображает пошляком и плутом. Портрет, несомненно, актуален и меток. Остается только неясным, как отнесся бы Рыкачев к печали своего героя, будь она не напускной и лживой, а искренней и подлинной.
* * *
Как он отнесся к тому, что теперь пишет Юрий Олеша, например? Если искать печали, то ни у кого из признанных и официально одобряемых советских писателей более острой печали не найти. Пожалуй, только у Шкловского в его последних книгах. Но Шкловскому в России очень тяжело живется. К Олеше отношение иное. С ним, правда, много спорят, но спорят еще и до сих пор весьма почтительно. Рта ему не зажимают. Настроения его, по-видимому, объясняются причинами внутренними, и поэтому и вызывают в советской критике тревожное недоумение. «Что ему надо?» — как бы говорит эта критика, привыкшая к покорному, счастливому и тупому спокойствию тех, кому при ее содействии удалось выйти в люди.
Олеша в маленьком и довольно «желтом» журнальчике «30 дней» поместил свои отрывочные заметки и записки. Почему именно он выбрал для обнародования их место столь мало подходящее, объяснять не берусь. Может быть, для того, чтобы придать им вид мелочей, пустяков, второстепенного, завалявшегося материала. Заметки названы: «Кое-что из секретных записей попутчика Занда».
Как будто бы и не Олеша пишет, а какой-то вымышленный, несуществующий Занд. Но никого эти хитрости в заблуждение не введут. Каждое слово в «секретных записках» проникнуто личным неподдельным чувством, личной болезненно-взволнованной мыслью, — и некий тов. Бачелис, тут же в послесловии читающий Олеше нотации, твердо знает, что обращается он по правильному адресу.
Невозможно определить, о чем именно грустит или тоскует Занд-Олеша. Обо всем — и ни о чем. Он сам ищет нужных, точных слов и не находит их. «Когда начинаешь проверять себя, осматриваться, взвешивать то, что сделал, становится ясным, что твоя деятельность, которая в иные минуты кажется тебе такой значительной, на самом деле чрезвычайно ничтожна…» Это — чувство «суеты сует», то именно, над чем посмеивается Рыкачев. Но рыкачевский герой действительно смешон, а об Олеше этого не скажешь…
Занд вспоминает людей, которым он за что-либо благодарен, или которые его удивили. Джек Лондон, Бальзак, Пушкин, Толстой. О Толстом он говорит остроумно:
«Этот человек был так велик и такое сознавал в себе превосходство, что не мог мириться с тем, что в мире и в жизни могут существовать другие великие люди или идеи, с которыми он не мог бы померяться силами. Он выбрал себе самых могущественных противников, и только тех, перед которыми все человечество простиралось ниц: Наполеон, Смерть, Христианство, Искусство и самое Жизнь, потому что написал “Крейцерову сонату”, где призывал людей к отказу от размножения, то есть от самой жизни…»
Занд завидует Толстому, завидует многим другим. Он «страстно мечтает о силе» и не чувствует ее в себе.
Наиболее плодотворное – и для советского писателя неожиданное – замечание сделано как бы вскользь:
«Так вот в чем дело! — говорит Занд после долгих и не совсем ясных размышлений о себе, о своей жизни, о своем ремесле, — так вот в чем дело! Возврат внимания в себя, в мир внутренний! Сама профессия моя, профессия писателя, такова, что внимание не может принадлежать только внешнему миру».
Занд рассказывает, что он поделился своими думами с каким-то «большевиком-редактором». Тот ответил:
– Вы должны включиться в жизнь масс.
Такой же совет дает Олеше тов. Бачелис.
– Вам нужно слиться с массой.
Эти поучения в советской России каждый слышал, конечно, не раз. Едва ли они покажутся Олеше и его Занду убедительными.
* * *
Б. Левин — писатель новый и, кажется, совсем еще молодой. В последнее время его небольшие повести и рассказы мелькают в журналах часто.
Б. Левина так охотно печатают не потому, чтобы он был беллетристом особенно благонамеренным и нужным с партийной точки зрения или обладал выдающимся художественным талантом… Нет, ни в том, ни в другом отношении Б. Левин ничего исключительного собой не представляет. Но у него есть дар, редкий в новейшей словесности: дар легкости, дар увлекательности, нечто родственное тому, что от всех или почти всех современных повествователей отличает Алексея Толстого.
Конечно, все это — «для среднего читателя». Конечно, это не глубоко… Но в своем роде это замечательные образцы умения из самых, казалось бы, неподходящих элементов составить смесь, где всего в меру: и любви, и политики, и юмора, и различных художественных «блесток», — всего вообще, что должно удовлетворять и критику, и простых смертных.
О романе Б. Левина «Жили два товарища» я расскажу в ближайшее время более подробно. С бытовой точки зрения, роман этот достоин пристального внимания. Но любопытны и мелкие вещи Левина: рассказ «Одна радость», например, напечатанный в ноябрьской книжке «Красной нови».
Завязка — самая наивная. Большевик-энтузиаст, Сморода, работает по уборке льна. Далеко, за шесть тысяч верст, на Онекстрое работает редактором местной газеты его жена Наташа, тоже большевичка, и тоже энтузиастка. Наташа любит Смороду, Сморода любит Наташу. Но счастье их нарушает инженер Эун, к которому Наташа уходит. Сморода взбешен, потрясен, но… он читает об успехах Онекского строительства и забывает личные обиды. «Радость!» – восклицает он. Автор добавляет от себя: «Товарищи вас ждут десятки, сотни, тысячи радостей!»
Эту незамысловатую историю Левин рассказывает очень живо и искусно. Более чем вероятно, что он скоро станет одним из популярнейших в России беллетристов: у него есть для этого данные; и, по-видимому, единственным побуждением к творчеству является для него желание заинтересовать читателя. Цели своей он достигает.
О КНИГЕ ЛОРЕНСА
Название статьи могло бы вызвать недоумение… Могло бы. Но едва ли его вызовет. Книг у Лоренса – английского романиста, скончавшегося два года тому назад на юге Франции от чахотки, – много. Есть среди них произведения замечательные, есть — сравнительно слабые. О какой книге Лоренса в данном случае идет речь? Вопрос, так сказать, «риторический». Всякий, кто более или менее внимательно следит за течением литературной жизни, поймет сразу, что речь идет о «Любовнике леди Чаттерлей». Не то чтобы это была лучшая вещь Лоренса. Но ее распространение настолько велико, о ней так много повсюду говорят, что в общем представлении имя Лоренса неразрывно связано именно с «Любовником леди Чаттерлей». Недавно один крупный парижский книготорговец в беседе с писателями жаловался на застой в делах. Книги «не идут». Издательства еле-еле сводят концы с концами. Рекламные издательские сообщения о многотысячных тиражах того или иного романа — бесстыдная ложь. Нет спроса ни на кого из современных
беллетристов.
– Одна только книга идет… Около тысячи экземпляров ежедневно.
– Какая?
— «Любовник леди Чаттерлей».
Успех последнего, предсмертного, романа Лоренса объясняется особыми причинами. Действие в нем вялое, фабула довольно бедная. Для широкой публики, казалось бы, ничего увлекательного в нем нет. Но необычайная, неслыханная откровенность некоторых описаний «широкую публику», по-видимому, поразила. Вокруг «Любовника леди Чаттерлей» создалась атмосфера того любопытства, которое обыкновенно определяется как «нездоровое». Очень жаль, что это так. Книга достойна лучшей участи. Сколько бы ни было в ней технических промахов или погрешностей против доброго вкуса, это все же книга редкая по глубине вдохновения, по ровному, чистому, какому-то подвижническому, — несмотря на все ее «язычество», — пафосу.
О «Любовнике леди Чаттерлей» рассказывал уже в нашей газете А. Ладинский. На днях вышел русский перевод романа Лоренса, что и дает мне повод поговорить о нем вторично.
В душе Лоренса жила одна мечта, которая оставила след во всех его сочинениях. В «Любовнике леди Чаттерлей» она выражена со страстной, напряженнейшей, болезненной настойчивостью, и недаром Лоренс называл эту книгу своим завещанием. Чужая мечта трудно поддается краткому изложению или истолкованию, — поэтому есть опасность исказить ее, когда пытаешься ее объяснить. Приведу слова самого Лоренса, очень для него характерные. «Наша жизнь загрязнена в источнике своем» — сказал Лоренс как-то. Очистить источник жизни он и пытался и вместе с этим хотел очистить и самую жизнь. Отвлеченное, чисто умственное построение его, теоретические его взгляды не были ни оригинальны, сложны: есть вообще основание думать, что Лоренс не был очень умным человеком, и если судить по разговорам, которые ведут его герои, то это несомненно. Разговоры у Лоренса тяжеловатые, больные, долго и упорно вращающиеся вокруг того, что иногда могло бы быть выяснено или разрешено в двух словах. Но чутьем, сердцем, всей кровью своей Лоренс догадывался о многом и мучительно ощущал глубокий внутренний разлад современного человека. Он хотел вернуть телу его права, хотел восстановить целостность, «душе-телесность» всякой личности, и все свое остро-встревоженное внимание к этой теме обратил именно на то действие, то состояние, где душа с телом полнее всего должна бы слиться: на акт любви. «Жизнь загрязнена в источнике своем…» Лоренс ничего не пытается оправдать. Он только показывает, что здесь, в этой области, все безгрешно, если только не вмешивается сюда уродливая, ненавистная ему «машинная цивилизация», принижающая человека, внушающая человеку искаженное представление о самом себе, заставляющая его иссушенный рассудок искать каких-то сомнительных, недолгих и жалких наслаждений, вместо единой и чистой радости подлинной, «освещенной изнутри» любви. Как это ни странно, в книге Лоренса местами есть сурово-проповеднический тон, пуританский, хотелось бы сказать, — если бы только противоречие между пуританством и тем, чего хочет Лоренс, не было столь зияющим. Это пуританство как бы вывернутое наизнанку. «Будьте цельными, действительно живыми, — учит Лоренс, — любите, как подсказывает вам вся ваша душе-телесная сущность, не ищите грязи там, где ее нет, не клевещите на природу, не оскорбляйте жизни сказками о первородном грехе!» Психологически крайне любопытно, что «Любовник леди Чаттерлей», – книга, которая по смелости картин превосходит пожалуй, все, что появилось в европейской литературе со времени Рабле, — задуман и создан умирающим, бессильным человеком, одиноким, молчаливым и грустным. Подлинного Рабле, человека со здоровенной глоткой, со звериным смехом, аппетитно и многословно смакующего всевозможные анекдоты и истории, подлинного «язычника» мы сейчас, пожалуй, уже не приняли бы. Мир все-таки изменился, — хочет или не хочет этого Лоренс. Если бы в «Любовнике леди Чаттерлей» сквозила грубая, мощная, плотоядная чувственность, книга показалась бы нам, вероятно, нестерпимой, отвратительной… А книга очаровательна, потому что безнадежна, потому что замысел в ней вытеснен мечтой, и кропотливый реализм ее одарен каким-то слабым райским, первобытно-блаженным светом. Это ведь вовсе не роман «с тенденцией». Лоренс-то, может быть, и хотел этого: предисловие, по крайней мере, на такую мысль наводит. Предисловие педантично, наставительно. Лоренс заявляет, что «выпускает в свет честную, хорошую, здоровую книгу, нужную нам в настоящее время», затем критикует новейшую культуру, затем полемизирует с воображаемыми противниками, обличающими его в непристойности или ребяческом интересе к тому, что для взрослых не так-то уж и интересно. Проповедник виден в каждом слове. Но вот начинаешь читать самую книгу – и возникает поэт, правда, поэт моралистической складки, но увлеченный своим видением и мало-помалу все забывающий ради него. Некоторые страницы, посвященные лесничему Мэллэрсу и влюбленной в него леди, проникнуты таким острым ощущением счастья, что подробности рассказа бледнеют и теряют значение. Лоренсу подробности нужны, — или они кажутся ему нужны, — он ставит все точки над всеми i, все договаривает, все называет своими именами, с трудом, вероятно, заставляя себя делать это, будто совершая подвиг, «нужный нам в настоящее время», но главное у него — это два человека, два существа, свободных от всякой лжи и как бы впервые увидевшие, впервые познавшие жизнь на лоне свободной, вечно живой, безгрешной и свободной матери-природы. Лоренс верил, что роман его произведет переворот в умах. Но серьезно и искренно рассчитывать на возвращение современного человечества к эдемски-невинному состоянию он все-таки не мог, как бы ни обольщался порой в своих диагнозах и надеждах. Сомнение дает порой себя знать. Когда Лоренсу изменяет художественный такт или чувство меры, его роман становится комичен, как, например, комична и нелепа вся пресловутая сцена с цветами. Что таить, сцене этой позавидовала бы сама Вербицкая! Здесь автор переусердствовал и уж слишком легко и легкомысленно подставил на место своих героев, — все-таки же современных людей, с современным чувством условностей, — каких-то опереточных аркадских пастушков. Но таких сцен немного. Лоренса выручает почти везде и всегда его необычайная внутренняя правдивость, то «чувство корней», которое ценит Гамсун и которое Лоренса с Гамсуном роднит. Если вглядеться, ни у Гамсуна, ни у Лоренса в романе ничего не происходит, не движется: все застыло, все как бы заполнено самой сущностью жизни, которой ни до каких идей, ни до каких человеческих мелких столкновений нет дела. Герои у Лоренса рассуждают, в противоположность гамсуновским: но это или пустая салонная болтовня, не имеющая прямой связи с содержанием романа, или какой-то восторженный лепет, от полноты чувств, от изумления перед бытием, от благодарности, переполняющей сердца любовников. Все застыло… Мне кажется, что «разгадка» романа Лоренса, «ключ» к нему — смертельная болезнь автора. Жизнь уходила от него. Он страстно удерживал ее в мыслях своих, цеплялся за нее, тосковал и, в сущности, рассказал свой последний «золотой сон» о ней. Все чувствуют в «Любовнике леди Чаттерлей» привкус глубокой горечи. Автор книги не участвует в том, о чем он рассказывает: блаженство Мэллэрса и леди Чаттерлей — не для него, он только «завещает» это блаженство людям, как лучшее, самое полное и самое бесспорное, что им от природы или от Бога дано.
Имя Бога Лоренс иногда произносит. Но он обрушивается на христианство, на аскетизм и защищает все то, что в течение долгих веков было взято под подозрение. Он продолжает дело Ренессанса. Он хочет освобождения человека. Он считает, что «тело человека не дьяволом создано». Точка зрения Розанова, розановский противоцерковный пафос… Только не во имя Библии, а во славу какого-то нового, просветленного эллинства. Кстати, Розанову, наверное, понравился бы «Любовник леди Чаттерлей»: этот роман — все-таки вода на его мельницу. Он согласился бы, что это книга, действительно, «честная и хорошая». Согласится с этим, впрочем, и всякий. Можно, пожалуй, спорить о литературных достоинствах романа Лоренса, — скажу мимоходом, что, на мой взгляд, это, при всех недостатках, роман замечательный, очень талантливый, достойный первого английского писателя, как отозвался о Лоренсе Поль Моран. В этой литературе хорошо именно отсутствие литературы, т. е. «литературщины»: черта редкая… Но о чем спорить нельзя, — это насчет намерений автора: они безупречны. Давать или не давать эту книгу в руки юным девушкам, — вопрос особый, но нет сомнения, что «Любовник леди Чаттерлей» написан поэтом, которому самое понятие «порнография» было совершенно чуждо.
<«ПАРИЖСКИЕ НОЧИ» ДОВИДА КНУТА. – «ВЕРНОСТЬ» Ю. МАНДЕЛЬШТАМА. – «ГОРЬКИЙ ЦВЕТ» Ю. КАРЕЛИНА>
Брюсов говорил, что у каждого поэта есть стихотворение, с которого он «рождается». Все написанное до того — только поиск, блуждания, черновая работа; эти поиски могут длиться долго… Но, наконец, настает момент, когда будто пелена спадает с глаз пишущего, рассеивается туман — и поэт находит свою тему, свои слова, свой тон: все то, что от него было скрыто раньше.
Когда «родился» Довид Кнут? Имя его было известно тем, кто интересуется судьбами и развитием русской поэзии, довольно давно, лет восемь тому назад, по крайней мере. На Кнута сразу, после появления в печати первых его стихотворений, обратили внимание. Талант был несомненен. Но несомненно было и то, что талант этот еще совсем незрелый: все слова у Кнута были «приблизительные», заимствованные то там, то здесь и поэтому искажавшие, притуплявшие его личную мысль или чувство… Был в стихах Кнута и буйный темперамент: это как будто выделяло его из толпы молодых меланхоликов и неврастеников. Но при внимательном рассмотрении выяснилось, что Кнут лишь нагромождает один «вакхический» выкрик на другой, механически подбирает самые яркие, самые резкие эпитеты. Увлечение отсутствовало — и поэтому не было выразительности. Напев стиха склонялся к чему-то совсем иному, далекому от того, о чем рассказывал поэт. Поиски затягивались, время шло, терпение мало-помалу истощалось, интерес к Кнуту слабел. Начинали поговаривать, что ему оказали доверие напрасно и что к ряду обманувших надежды прибавился еще один.
Но Кнут надежд не обманул. Года четыре тому назад в «Современных записках» было напечатано одно его удивительное стихотворение. Если держаться брюсовской теории, то именно с этой даты и начинается жизнь Кнута как поэта. Нельзя забыть этого стихотворения, величавого и простого, мужественного и печального. Не будь оно так длинно, я привел бы его здесь целиком: нечего было бы тогда объяснять и доказывать, не в чем было бы убеждать — «подлинность» Кнута стала бы ясна сама собой… Поэт вспоминает «тусклый кишиневский вечер» и похороны какого-то еврея.
…За печальным черным грузом Шла женщина, и в пыльном полумраке Не видно было нам ее лицо. Но как прекрасен был высокий голос! Под стук шагов, под слабое шуршанье Опавших листьев, мусора, под кашель Лилась еще неслыханная песнь. В ней были слезы сладкого смиренья, И преданность предвечной воле Божьей. В ней был восторг покорности и страха… О, как прекрасен был высокий голос! Не о худом еврее, на носилках Подпрыгивавшем, пел он — обо мне, О нас, о всех, о суете, о прахе, О старости, о горести, о страхе, О жалости, тщете недоуменной, О глазках умирающих детей…Вспоминающему самому неясно, что волнует его в этом видении.
Что было? Вечер, тишь, забор, звезда. Большая пыль… Мои стихи в «Курьере». Доверчивая гимназистка Оля, Простой обряд еврейских похорон И женщина из Книги Бытия. Но никогда не передам словами Того, что реяло над Азиатской, Над фонарями городских окраин, Над смехом затаенным в подворотнях, Над удалью неведомой гитары, Бог знает, где рокочущей, над лаем Тоскующих рышкановских собак. Особенный, еврейско-русский воздух. Блажен, кто им когда-либо дышал.Как здесь все хорошо! Как много внутренней музыки в этих белых стихах, лишенных всякой декоративности и обычных словесных клише. Это уже не черновик, не «проба пера», это, действительно, поэзия… Все, что Кнут писал и печатал после «Похорон», лишь подтверждало, что он нашел себя.
Новый, только что вышедший сборник Кнута «Парижские ночи» — книга небольшая. Но, бесспорно, это один из самых ценных сборников появившихся за время эмиграции, — один из самых чистых, честных и глубоких. В нем рядом с «Похоронами» помещено другое стихотворение, такого же склада и тона, ни в чем ему не уступающее, и целый ряд мелких вещей.
Те, кто прежде покровительственно одобрял Кнута за оптимизм или «радостное утверждение жизни», должны быть разочарованы. От «радостного утверждения» не осталось ничего. Не осталось ничего от прежнего пафоса. Поэт больше не принимает на веру ни одного слова. Сомнение гложет его… Характерно, что это состояние приводит его почти что к невозможности писать. Не силы изменили ему, но так повысилась требовательность, что все написанное кажется пустым, лживым или ненужным. Молчание, паузы, остановки входят сейчас в поэзию Кнута как ее необходимые элементы. «Все ясно и так», как бы говорит Кнут. «О чем сказать?», «О чем спросить? », «Мне не о чем сказать», «О многом знали мы, о многом мы молчали», — это повторяется чуть ли не на каждой странице. Былому своему красноречию поэт «сломал шею» по совету Верлена. Он раздал все, что имел, и остался наг и нищ, но теперь уже, наверное, он мишуры не примет за золото: не обманет себя, не обманет и других.
Хотелось бы возразить поэту в его теперешних настроениях, нет, пожалуй, не то слово, не возразить, а как-то намекнуть, убедить его, что мир не так уж страшен, как это представляется ему. Одиночество человека, может быть, не так уж безысходно, и жизнь не так уж нелепа. «Сказать» друг другу у людей все-таки есть о чем. Но я думаю, что Кнут сам рано или поздно поймет это, почувствует это всем своим существом, — и теперешний его горестный опыт будет ему на пользу. На этом медленном, тихом огне сгорит все то дешевое, легкое, «бумажное», что должно было сгореть, а другое – укрепится и закалится.
Если в это верится, то потому отчасти, что стихи Кнута – менее всего стихи декадентские. В них нет ни эгоистической позы, ни самолюбования. Они в самой основе своей серьезны и как бы «социальны». Оттого тема одиночества и звучит в них трагически: разъединение людей поэт воспринимает как нечто в высшей степени тягостное. Он не знает, как от этого несчастия уйти, но его влечет к миру, и он ищет связи с ним. Есть в стихах Кнута какая-то скрытая, неистощимая лучистая энергия… Старинный критик сказал бы: «душевная теплота» – и, в сущности, был бы прав.
* * *
Юрий Мандельштам – стихотворец еще совсем юный. Ему следовало бы выбрать себе какой-либо псевдоним, и это, право, еще не поздно сделать. Иначе всегда, при всяком упоминании о «стихах Мандельштама», будут – как это теперь бывает – добавлять: «только, знаете, не того Мандельштама», или даже: «не настоящего Мандельштама». Я вовсе не хочу обижать автора недавно вышедшей книжки «Верность», но тот Мандельштам, Осип, автор «Камня» и «Tristia», поэт слишком замечательный, чтобы даже случайное, мимолетное сравнение с ним не было для Юрия подавляюще-невыгодным. (Кстати: один литератор, недавно приехавший из Москвы, рассказывал, что встретил с месяц тому назад Мандельштама на улице, оборванного, в калошах на босу ногу грязного, опустившегося, но, как всегда, с какими-то необычайными идеями и планами в голове, как всегда, бормочущего какие-то стихи… В советских журналах его подпись — величайшая редкость. Он не «контрреволюционен», но не нужен: чересчур сложен, чересчур своеобразен и прихотлив. О колхозах он писать не умеет, поэтому он — «вчерашний день» в словесности, обломок умершей эпохи. Только в самых тесных, замкнутых кругах знают ему цену.)
Юрий Мандельштам не лишен литературных способностей. По совести, это единственное, что о нем пока можно сказать. Отложим более обстоятельный разговор до того момента, когда он «родится» как поэт, и будем надеяться, что это когда-либо случится.
В «Верности» попадаются неплохие стихи. Но нужен был бы огромный дар и очень изощренное мастерство, чтобы из одних жалоб на неразделенную страсть создать поэзию. Читая же «Верность », мы видим только юношу, который, к сожалению, не пользуется взаимностью в любви и довольно складно умеет о своих неудачах рассказать в довольно гладких и «приятных» строфах. Больше ничего. Редко-редко мелькнет острое, живое выражение или послышится убедительная интонация. Слова настолько все бледные и общие, что радуешься самым скромным находкам:
Ты прячешь руки, ты закрыла шею Стюартовским большим воротником.Этот «стюартовский воротник» — не Бог весть что. Но он кажется чем-то необычайно свежим и зорко подмеченным рядом с мечтами, ангелами, звездами, крыльями, вечерами, вздохами, томлениями, снами, волнами, устами, лобзаниями и прочими обычными предметами поэтического обихода.
Все же острые выражения и убедительные интонации в «Верности» попадаются. Поэтому будем надеяться…
* * *
Не приходится, по-видимому, связывать надежд с именем Ю. Карелина, автора сборника стихов «Горький цвет». Не потому, чтобы у него не было дарования, а, по собственному авторскому признанию, что для него уже «отшумел весенний ураган», и ему остается лишь «слагать гимн иному поколению».
«Горький цвет» — книга бледноватая. Известности и признания Ю.Карелину она, разумеется, не принесет. Много в ней промахов, много срывов. Не могло бы, кажется мне, быть иначе.
Челнок, привязанный случайно К корме чужого корабля…— правильно говорит автор о себе. Произошла какая-то ошибка, какая-то непоправимая «случайность» в его развитии. Если бы не это, он, вероятно, мог бы стать поэтом, — скорее всего, поэтом зрительного типа, больше склонным к внешней образности, чем к отвлеченной лирике. Однако теперь об этом приходится лишь догадываться.
< «ОХРАНННАЯ ГРАМОТА» Б. ПАСТЕРНАКА >
На обложке новой книги Бориса Пастернака «Охранная грамота» нет никакого подзаголовка. Это не роман, не повесть, не сборник очерков или статей. Это – нечто, не поддающееся обычной литературной классификации: рассказа о самом себе, полный всевозможных отступлений, то лирических, то философских, проникнутый смутно-уловимым внутренним единством, но внешне – бескостный и бесформенный… Автор предупреждает: «Я не пишу своей биографии». С этим заявлением, как и со многими, вскользь брошенными, ничем не объяснимыми и не подтвержденными заявлениями Пастернака согласиться невозможно.
«Охранная грамота» – вещь откровенно автобиографическая. В этом – замечу сразу – ее главный интерес. Пастернак ведь бесспорно – одно из крупнейших имен в нашей литературе. Имя это окружено ореолом необычайной даровитости и какого-то загадочного своеобразия. Безразличного отношения к Пастернаку нет почти ни у кого. Он тревожит даже тех, кто его совершенно не любит, даже тех, кто его не читает, – одним своим присутствием в литературе, и еще больше, пожалуй, теми особыми токами внимания и ожидания, которые на него отовсюду обращены. В «Охранной грамоте» перед нами не только художник, но и человек. Он говорит большей частью не уклончивым и двусмысленным языком образов, а прямо обращаясь к рассудку. Он то излагает свои идеи и взгляды, то исповедуется, то вспоминает… загадочность рассеивается. Человек становится яснее, чем был.
Книга посвящена памяти Рильке. С него же, с Рильке, она и начинается: когда-то в детстве на Курском вокзале в Москве и затем в поезде Пастернак видел немецкого поэта, ехавшего к Толстому. Видение мимолетное, незначительное. Однако о Рильке в «Охранной грамоте» почти не говорится.
Три человека дают рассказу направление, тон и окраску. Ко всем трем Пастернак относится восторженно, хотя и по-разному. Первый – Скрябин. Он посещал семью Пастернаков еще в те времена, когда был сравнительно мало известен, до «Поэмы экстаза», положившей начало настоящей славе. (Очень метко и остроумно Пастернак пишет об этой поэме, которую «без слез не мог слышать: «как бы мне хотелось заменить теперь это название, отдающее тугой мыльной оберткой, каким-нибудь более подходящим»). Пастернак готовился к музыкальной карьере. Еще будучи гимназистом, он Скрябина «обожал». Позднее Пастернак отправился к Скрябину с тем, чтобы показать ему свои первые музыкальные опыты. Скрябин отнесся к нему благосклонно. «Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово… Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне. Что-то рвалось и освобождалось. Что-то плакало, что-то ликовало».
Но музыкантом Пастернак не сделался. Увлечение музыкой сменилось увлечением философией. Это было перед войной. Пастернак уже был студентом. Московский университет удовлетворить его мог. «Курс предметов, читавшихся по нашей группе, был так же далек от идеала, как и способ их преподавания. Это была странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещенства. История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология же вырождалась в ветреную пустяковщину брошюрного пошиба». Большинство студентов-философов увлекалось в то время Бергсоном. Но Пастернака тянуло в Марбург, к строгому и суровому неокантианцу Когену.
О Марбурге, где будущий поэт готовится к профессиональной философской деятельности, и о Когене, у которого он занимался, рассказано во второй части «Охранной грамоты». В этих главах много хорошего и даже прелестного. Пастернаку удалось передать ту легендарно-вдохновенную атмосферу, которой окутаны маленькие германские университетские города, — окутаны в нашем представлении только или, может быть, в действительности. «Он из Германии туманной привез учености плоды», — невольно вспоминаешь эти строки, читая «Охранную грамоту». «Дух пылкий и довольно странный, всегда восторженная речь», — все это в «Охранной грамоте» нашло отражение. Отлично удался и Коген — гений, по мнению Пастернака. Много раз Пастернак, как влюбленный, принимается писать его портрет: «Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятии бессмертия, и поведет рукой по воздуху в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских Полей. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво подъехав к докантовой метафизике, разворкуется он, ферлякурничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатит ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утонченно и миролюбиво: «Und nun, mel ne Herrn…» И это будет значить, что выговор веку сделан, представление кончилось и можно перейти к предмету курса».
Однако и эти юношеские мечты о философии не сбылись. Третью часть книги занимает Маяковский. Пастернак в Москве, наконец, нашел свое истинное призвание, он водит знакомство с футуристами, он бредит Маяковским — «первым поэтом поколения».
Здесь не место, конечно, вступать с Пастернаком в спор. Ни к чему вновь поднимать вопрос о Маяковском. Поделюсь только своим удивлением: Маяковский у Пастернака — крупнее, глубже и вообще как-то привлекательнее, чем был на самом деле, или, по крайней мере, отразился в своих стихах. Не то, чтобы Пастернак наделил покойного поэта какими-либо особенными чертами. Нет. Но он рассказывает о нем с таким волнением и трепетом, каких ни Скрябин, ни даже Коген у него не вызвали. А подлинная духовная требовательность Пастернака, его свободное представление о человеке — вне сомнений для читающего «Охранную грамоту». И вам хочется спросить, что же, собственно, в Маяковском его так пленило? Не талант же только, а нечто иное, большее. Что же? Вопрос остается без ответа. Но замечу, что если кто-нибудь за эти годы, действительно возложил «венок на могиле Маяковского», то именно Пастернак в заключительных главах своей книги.
«Охранная грамота» обрывается на самоубийстве Маяковского. Некоторые страницы незабываемы по яркости и какой-то странной смеси трагизма с нелепостью:
«Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво от всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом еще упорно куда-то упорно куда-то порывался и уходил. Лицо возвращало ко временам, когда он назвал себя красивым, двадцатидвухлетним…
В сенях произошло движение. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно горевавших среди собравшихся на квартиру, явилась младшая сестра покойного, Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещение вплыл ее голос. Подымаясь по лестнице, она с кем-то разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. "Володя!" — крикнула она на весь дом. Прошло мгновение. "Молчит!" — закричала она еще пуще. "Молчит. Не отвечает. Володя! Какой ужас!"
Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она резко двинулась к телу и снова в ногах торопливо возобновила свой неутоленный диалог… " 'Баню' им!" — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. "Чтоб посмешнее. Хохотали. Вызывали. А с ним вот что делалось. Что же ты к нам не пришел, Володя? Помнишь, помнишь, Володенька?” – почти как живому напомнила она и стала декламировать:
Мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, – Ему уже некуда деться».Эта сцена последняя в книге. После нее следует только еще несколько невразумительных и неожиданных слов о «нашем навсегда принятом в века, небывалом государстве». Слова обязательные для каждой советской книги. Нельзя было без этой благонамеренной и почтительной фиоритуры обойтись, очевидно, и Пастернаку.
Такова «Охранная грамота». Попытавшись дать понятие о внешнем ходе пастернаковского повествования, я не мог, конечно, передать ее содержания.
Книга очень трудна. Ошибочно было бы судить о ней по тем описательным цитатам, которые я привел. В большей своей части «Охранная грамота» состоит из размышлений или записей о внутреннем мире человека. И вот тут-то трудность и возникает — та же трудность, которая многих смущает и в пастернаковских стихах.
Бывают «трудные» мысли, необычайно новые, редкие или необычайно спорные, которые остаются малодоступными и таинственными, как бы мыслитель ни бился, чтобы их нам растолковать. (Очень часто у Гете.) Но бывает и другое: трудная манера думать или излагать свои мысли, ни в какой связи с уровнем этих мыслей не находящаяся… Кто внимательно прочитает «Охранную грамоту», найдет в ней и то, и другое, но другого, второго, т. е. трудной манеры, в книге несравненно больше. Пастернак презрительно отзывается о той формальной логике, которая учит, «как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей». Логику он устанавливает свою. «Не все люди смертны, Кай – человек»… и т.д., и нечто такое, где связь посылок и вывода остается видимой только ему. Остается видимой только Пастернаку и ассоциация представлений в его речи. Читателю, слушателю предоставляется полное право догадываться: т. е. восстанавливать пропуски, строить воображаемые мосты при скачках с темы на тему, будто с островка на островок… При некоторой «конгениальности» Пастернаку это легко. При отсутствии умственного родства это очень трудно и, добавлю, труд этот плохо вознаграждается. Игра далеко не всегда стоит свеч. Косноязычие разума Пастернака далеко не всегда «высокое», по формулировке Гумилева. Высоким у него всегда бывает только общее его настроение: стремительность, романтический дух, искренность, постоянная готовность отступить на второй план и даже пожертвовать собою… Однако все это — не область мысли.
Другой особенностью Пастернака — не столько «трудной», правда, сколько досадной — является его безудержное влечение к метафоре. Это, конечно, дело вкуса. У нас вообще считают, что метафора есть основа поэзии, — хотя вся история поэзии этот взгляд и опровергает. Пастернак утверждает даже, что «искусство не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело». Где в природе метафора — тайна автора «Охранной грамоты» (кстати это заявление — типичный образец того мнимого глубокомыслия, которому он охотно предается) Не будем, однако, вдаваться в теоретические распри. Приведу примеры: «ночь, выбившись из сил, в угаре усталости свесилась над землей». Или зарево, свернув трубой лучинный переплет, кувырком ныряло «в кулебячные пары серо-малинового дыма». По совести, может ли кто-нибудь сказать, что подобная «изобразительность» нужна, ценна и дает хоть что-нибудь новое по сравнению с самой бедной, самой скромной прозаической речью. На мой взгляд, это скорее мусор, засоряющий текст, чем украшение его.
В целом — и со всеми оговорками — книга все–таки занимательная. Я сказал в начале статьи, что «Охранная грамота» открывает, «приоткрывает» нам Пастернака. Действительно, это так. И вот впечатление от личности автора, заполняющей собой все повествование: это чрезвычайно талантливый писатель, но это писатель не очень значительный по качеству того материала, который питает его творчество, по его стойкости, музыке и чистоте. Поясню примером: это новый Андрей Белый, но не Блок. Белый ведь, может быть, был от природы одареннее Блока, во всяком случае, — шире, отзывчивее, вдохновеннее. Но у него вместо ума и души — какой-то проходной двор по сравнению с Блоком. Все летит, все пролетает без задержки, без следа, — и после удивления не остается ничего. Остаются, пожалуй, только какие–то гениальные черновики, «слова, слова, слова», и только. Пастернак как будто в этом роде. Все летит, все пролетает в «Охранной грамоте»: впечатления, образы, картины, воспоминания, идеи, вся жизнь одним словом, но чего хочет от жизни автор, мы не знаем. Не знает он этого, кажется, и сам.
«СУМАСШЕДШИЙ КОРАБЛЬ»
Буржуазное реставраторство… Авторам трех книг, вышедших за последние месяцы, предъявлено в России это обвинение. Речь идет о реставраторстве в области искусства. Все три автора делают, по мнению коммунистической критики, попытку опорочить новое пролетарское понятие о творчестве и внушают читателям представление старое, «идеалистическое»: о том, что искусство создается свободной личностью, что для этой личности никакие законы не писаны, что одно дело — творчество, а другое — обслуживание непосредственных, практических нужд эпохи.
На многочисленных, или, вернее, даже бесчисленных, литературных «дискуссиях», происходивших этой зимой в Москве и в провинции, ставился вопрос о совместимости искусства с социализмом. Разумеется, ставился только риторически. Заранее было известно, что ораторы поспорить могут по какому угодно поводу, но насчет кровной, неразрывной связи искусства с социализмом окажутся в полнейшем единомыслии. Это, действительно, так и было. Но требовалось же спорщикам на кого-нибудь нападать, кого-нибудь обличать и громить! Надо же было иметь под рукой материал, на разборе которого удалось бы продемонстрировать собственную благонамеренность! Три книги послужили для этого: «Художник неизвестен» Каверина, «Охранная грамота» Пастернака и «Сумасшедший корабль» Ольги Форш.
Больше всего было разговоров о «Сумасшедшем корабле». В художественном отношении это самое слабое из трех названных произведений: едва ли кто-нибудь станет это отрицать. Но зато книга Ольги Форш проще и доступнее книг Каверина и Пастернака. Она легче поддается анализу. Поэтому-то, вероятно, ей и придали в советской критике значение, которого она не имеет.
Если у Каверина и Пастернака чувствуется пафос, который при желании может быть истолкован как «боевой» или «нам враждебный», то у Ольги Форш ничего такого нет. Книга грустная, ироническая, мечтательная и кроткая. Ни в какие битвы Ольга Форш вступать не собирается. Победителям, мнимым или подлинным, она вежливо уступает дорогу. Себе только оставляет право рассказать о замечательных и чудаковатых людях, застигнутых революционной бурей и, каждый по своему, оберегавших от этой бури свой хрупкий, сложный, причудливый внутренний мир. Форш рассказывает о них с сочувствием. Но в сочувствие вкрадывается жалость, и на всей повести как бы лежит та
…улыбка увяданья, Что в существе разумном мы зовем Возвышенной стыдливостью страданья.Сумасшедший корабль — это петербургский «Дом искусства» на Мойке, в гостеприимных, безвкусно-роскошных елисеевских палатах: последнее пристанище писателей и художников перед окончательным «рассеянием», последний островок утонченнейшей петербургской художественной культуры, уже заливаемый волнами варварства (кстати, Ольга Форш делит свою повесть на «волны» вместо глав — рассчитывая, очевидно, что так читателю будет легче вообразить себя в океане). Не раз уже были описаны и это время, и эта среда. Кто их видел и помнит, для того, пожалуй, во всех рассказах недостает «чего-то»: трагизма, высоты и чистоты тогдашнего воздуха и тогдашних настроений. Георгий Иванов из-за своей гоголевской странной страсти к «кувшинным рылам» это в «Петербургских зимах» не совсем отчетливо передал. Не передала этого в своем суетливом, нервном, сбивчивом, пестром повествовании и Ольга Форш.
Она рассказывает:
«В Сумасшедшем корабле сдавался в архив истории последний период русской словесности. Впрочем, не только он, а весь старорусский лад и быт. Точнее сказать, для быстрейшей замены России четырьмя буквами СССР ампутировались еще не изжитые временем старые формы… Все жили, как на краю гибели… И вместе с тем именно в эти годы, как на краю вулкана богатейшие виноградники, — цвели люди своим лучшим цветом». Один за другим проходят перед нами обитатели Дома, — и те, кто с ними дружил или общался. Как водится, автор в предисловии утверждает, что портретов в его книге нет. На самом деле, — портреты всюду, на каждой странице, и они настолько похожи, что сразу ясно, о ком Форш говорит.
Вот Шкловский, вот Чуковский, вот Блок, уже умирающий, молчащий, окаменевший. Вот Аким Волынский с его фантастическими и пламенными монологами о балете, античности и Леонардо да-Винчи… Он ищет слушателей, и даже утром в умывальной, чистя зубы, кричит кому-то:
– Эй, послушайте, подойдите. Поговорим о Логосе.
Дальше — Сологуб, Гумилев, Щеголев, Клюев и многие другие. В повествовании нет ни последовательности, ни развития. Витиеватая речь Ольги Форш вьется прихотливейшими узорами, стилизуясь под то, как действительно человек может вспоминать и рассказывать о происходившем десять-двенадцать лет тому назад.
Грех автора «Сумасшедшего корабля», с точки зрения советских добровольных цензоров, очевидно, в том, что он героев своей книги не «заклеймил презрением». Надо было показать, что они обречены историей на гибель и делают жалкие попытки с историей бороться. Надо было от них «отмежеваться». Форш рассказала о них без ненависти. Она их представила еще людьми, а не отбросами и хламом. Это и оценено как «вылазка классового врага».
< «CEBEPHOE СЕРДЦЕ» АНТ ЛАДИНСКОГО. – «ПОИСКИ ОПТИМИЗМА» В. ШКЛОВСКОГО>
Перелистывая второй или третий раз книгу и собираясь о ней – как обычно пишут – «побеседовать с читателем», критик большей частью испытывает затруднение… Опытные, благоразумные люди рекомендуют о своих затруднениях не рассказывать: до них-де никому нет дела. Это, вероятно, так. Читатель любит, чтобы ему предлагали суждения отчетливые, твердые, как бы уже кристаллизовавшиеся, и вводить его против воли в «кухню творчества» не следует.
Да… но ведь затруднение или, вернее, ситуация возникает вовсе не от колебаний в оценке книги, как читатель может предположить. Достоинства, срывы, общий творческий и культурный уровень — все это бывает ясно сразу. Смущение — только от осознания своего бессилия: как о книге рассказать? В особенности, если это книга стихов. Нельзя же ее «критиковать», не дав понять и почувствовать, в чем ее сущность. А попытка эту сущность передать превращается обыкновенно в жидкое и вялое стихотворение в прозе, в плохое изложение того, что у поэта изложено хорошо. Или в одно из тех безобидных, но бессмысленных упражнений, которым с важным видом предавались в свое время составители наших учебников словесности. Цитата в две-три строчки и тут же замечание вроде: «однако поэт любит природу»; еще цитата, и опять комментарий: «таким образом созерцание заката создает светлое настроение в душе поэта». И так далее. Предполагается, что все, вместе взятое, дает полную и стройную картину мироощущения разбираемого автора. Творчество рассматривается как программное, систематическое изложение взглядов. Комментатору, делающему свое нехитрое дело, не приходит и в голову, что при желании можно было бы данному поэту навязать совсем другую программу, подобрав другие цитаты.
Как писать о стихах? Пушкин и в особенности Баратынский оставили нам классические образцы «рецензий». Они разбирали стихи технически, — как мастера. По их пути шел Брюсов, за ним Гумилев. При обращении поэта к поэту это и до сих пор лучший способ разбора, — лучший не только внешне, но и внутренне: самый целомудренный, вернее всего удерживающий от дешевой профанации того, что техникой не исчерпывается и что, по Блоку, «несказанно». Но этот вид критики не подходит к общей печати. Приходится разные способы комбинировать: давать и лирически туманный отчет о своих общих впечатлениях, и два-три технических замечания, и даже какую-нибудь цитату с комментарием. Основное же и самое важное в такой заметке — это все-таки тон, которым она проникнута: отдаленный, ослабленный отзвук музыки, которая слышится в книге. По этому тону читатель судит, стоит ли книгу читать, — если только он критику хоть сколько-нибудь верит, конечно.
Передо мной сборник стихов Ант. Ладинского «Северное сердце». Мне очень хотелось бы, чтобы эту небольшую книжку прочли все те, кто любит стихи. Не знаю, найду ли я «тон», чтобы обыкновенным, прозаическим и сухим языком достойно рассказать о ней.
Книга удачно названа. Слово «северный» верно передает то, что для нее, может быть, наиболее характерно: чистый, снежно-белый колорит, льдистая хрупкость образов… Бывает поэзия, которая как бы идет в жизнь, чего-то от жизни ждет и требует: такова, например, поэзия Блока; и в этой глубокой «человечности» — вся ценность блоковских стихов. Из книг, о которых мне недавно довелось писать, к этой категории относятся «Парижские ночи» Д. Кнута. Но бывает и другая поэзия: уклоняющаяся от жизни, ускользающая, скорее очаровывающая, чем волнующая, скорее «прелестная», чем «прекрасная». Мне кажется, такова поэзия Ладинского. Она никогда не переступает той черты, которую сама себе определила. Она никогда не перестает быть искусством, «только искусством», — и этой областью она довольствуется. Первое впечатление — стихи слегка игрушечные: не говоря уже о намеренной, пасторальной наивности выражений, они даже по внешнему виду таковы. Узкие-узкие, высокие колонки печати с равномерной аккуратностью красуются на страницах. Ни одной строчки длиннее другой, ни одного переноса, ни одного лишнего движения… Все подчищено, подлажено.
Но первое, беглое, впечатление не совсем правильно. В размер, будто бы монотонный, врываются прихотливейшие ритмические перебои. В ткань слов и звуков входят пронзительно-жалобные ноты — острые, как иглы, короткие и звенящие. У Бенедиктова есть где-то выражение «замороженный восторг». О Ладинском можно было бы сказать «замороженная грусть». Созданный им мир совсем похож на живой, — только в последнюю минуту как будто какой-то леденящий ветерок дохнул на него и заворожил, остановил. Поэт тоскует, ахает, мечтает, поет, рассказывает — все по-настоящему, но мы не столько внимаем и верим ему, сколько любуемся им. Это — театр, искусный и изящнейший, и не случайно Ладинский так часто о театре, в частности о балете, пишет. Он возвращает нашей современной поэзии элементы волшебства, сказочности, ею утраченные. Оттого ли, что другие элементы, более суровые, более мужественные и горькие, ему недоступны? Не знаю. Об этом не думаешь, читая «Северное сердце». Перевертываешь страницу за страницей, — и только удивляешься легкому и почти всегда безошибочному мастерству поэта, его пленительному и печальному, «холодному» вдохновению:
– Пусти меня в сердце, снегурка! – Царевич, там холодно, лед. Прелестная, белая шкурка Не греет, тепла не дает. Но сердце растаяло. Розы Непрочны в стране ледяной, И крупные женские слезы Катились одна за другой. И как в Мариинском театре, Средь белых деревьев зимы, Вдруг нежная музыка смерти И розовый снег… Это — мы.Что сказать еще? Пожалуй, лучше вместо многословных рассуждений повторить совет: кто любит стихи, пусть прочтет книгу Ладинского.
* * *
От Виктора Шкловского лет пятнадцать-восемнадцать тому назад ждали очень многого.
Я помню, как на каком-то из раннефутуристических вечеров в Тенишевском зале Маяковский вывел его на эстраду и, представляя публике, произнес несколько раз слово «гениальный». Футуристы щедро раздавали друг другу такие титулы. Но Шкловский не был среди них вполне «своим». Маяковский говорил не совсем так, как обычно: серьезно, убежденно. И никто из тех, кто в то время знал Шкловского, особенно удивлен не был: действительно, он производил впечатление человека, одаренного совершенно исключительно… Поэт — не поэт, критик — не критик, ученый — не ученый. Ни он сам, ни друзья его не знали, чем ему следует заняться в литературе. Но достаточно было с ним поговорить полчаса, чтобы счесть чуть ли не все области ему доступными.
Гениален Виктор Шкловский, по-видимому, все-таки не был. Но ему внушили, что он гений, и он в это без колебаний поверил. Получилось в результате после долгих блужданий нечто жалкое и невыносимое: гениальничанье.
Теперь от Шкловского никто больше ничего уже не ждет. Формализм, созданный им, кончен, да он и сам от него отрекся. Битвы с символистами отошли в область предания. Исчез былой задор, да и не на кого было обратить его. «Облетели цветы, догорели огни», одним словом… Но гениальничанье осталось. Осталась и необычайная самоуверенность, вечное желание обратить на себя внимание, устало-ироническая, всезнающая усмешка, обращенная на весь мир. (Будто: «что вы все там, дурачье, что-то думаете, пишете, толкуете! Бросьте! Вот я посмеиваюсь, острю, рассказываю анекдоты, а все-таки все знаю и понимаю лучше вас всех».)
Шкловский, бесспорно, очень умен. Удивительно, что он не видит — он, искуснейший теоретик! — какая дурная литература его теперешние писания.
Последняя книга Шкловского называется «Поиски оптимизма». В ней он от литературы как будто окончательно отказывается: простота крайняя, непосредственность предельная. Пишет он обо всем, что взбредет в голову… Но вглядимся в эту непосредственность. Первая часть книги названа, например, так; — «Часть первая. У нее название "Все, как у людей"».
Третья — « Часть третья. Это середина книги или около того».
Никого такими «штучками» не обманешь. Это явное манерничанье, явное жеманство, а не простота. Это «воняет литературой» за версту.
В «Поисках оптимизма» рассказывается о самых различных людях, делах и случаях. Предисловие меланхолично и расплывчато. Шкловский говорит: «Мы ведь знаем, что жизнь негодная, мы не знаем, как построить дома… Ничего не решено, путь не найден». Дальше он бойко передает несколько бытовых сценок из теперешней московской жизни. Затем описывает Кавказ. Затем подробно излагает сиамского принца Чакробона. После Чакробоно наступает черед Марко Поло. После Марко Поло следуют воспоминания о Маяковском. Затем – картина съезда каких-то колхозниц. Затем – стратегические размышления и параллель между описанием Бородина у Толстого и Загоскина. Наконец, несколько слов о сердце, которое писатель несет, как птицу, в руках, и о жизни, которая «такая тяжелая, такая большая». Точка, конец.
Все это изложено короткими, будто задыхающимися фразами.
«Писатель несет живую птицу — сердце в руках.
Не голубя, может быть. Может быть, курицу. Но оно живое.
Едет он трамваем. Толкаются.
Он защищает сердце локтями.
Толкаются все, даже старухи.
Очень трудно…»
Все пересыпано мрачными шутками. Все преподнесено как откровение. За автора чуть-чуть неловко.
Дурная литература. Но… перворазрядный человеческий документ.
Нельзя сомневаться, что жить Шкловскому сейчас, действительно, тяжело. В советской печати его травят или еще хуже: о нем молчат. Болезненный индивидуализм его там решительно не ко двору. Надежды не сбылись. «У меня нет сил на создание романа который был бы равен мне по силе». Юность прошла. «О, молодость, футуризм! О, улетевшая, не взлетевшая молодость», — горестно вспоминает Шкловский теперь былые свои развеянные, исчезнувшие иллюзии. Он ищет «оптимизм», но находит в себе только жажду покоя. «Во имя нашего великого времени будем беречь друг друга. Нужно спокойствие, как на войне, или как в инкубаторе». Книга глубоко истерична. Каждую минуту, за каждой фразой ее возможен крик и плач. Ее содержание можно было бы передать давними стихами Андрея Белого о самом себе:
Пожалейте, придите! ………………………………………….. Я, быть может, не умер, быть может, вернусь. Проснусь!О «ПАФОСЕ МОСКВЫ»
Начну с Лоренса. На первый взгляд, трудно связать его с какой бы то ни было беседой на московские, т. е. советские, темы. Однако именно он, Лоренс, и толки, возникшие вокруг его последнего романа, навели меня на мысль об этой статье.
Месяца полтора тому назад в связи с выходом русского перевода «Любовника леди Чаттерлей» я дал об этой книге сочувственный отзыв. Конечно, я предвидел и догадывался, что она вызовет у многих читателей недоумение и изумление, — особенно у тех, которые мало знакомы с европейской литературой последних двух-трех десятилетий. Оплошностью моей было то, что я об этом не сказал и, выделив «Любовника» как самостоятельное явление, не попытался объяснить, почему такая книга теперь могла быть написана и почему она на Западе почти никого не отталкивает. Эту вину я признаю: нельзя было просто восхищаться прелестью лоренсовского замысла, надо было о многом предупредить и много доводов в оправдание Лоренса привести. Для русского читательского сознания откровенность «Любовника леди Чаттерлей» ошеломляюще нова и поэтому нелегко приемлема (притом, пожалуй, для лучших русских сознаний, с нормами, с традициями и своим духовным стилем, с готовностью слушать и учиться, однако не вслепую, с желанием понять и принять, однако не на веру, – не для тех, конечно, которые все боятся, как бы их не заподозрили в отсталости, и поэтому все свои литературные мнения черпают из передовых парижских или лондонских журналов).
Не ждал я только того, что книга может показаться вздорной и вредной. А именно это и произошло. В ответ на статью о романе Лоренса я получил довольно много писем — больше, чем получал их после какой бы то ни было статьи за последнее время. Письма почти все — с упреками. Некоторые из них серьезны и несомненно искренни. Их бы стоило привести и разобрать, если бы это не заняло столько места. Авторы их нашли у Лоренса непристойность, но не почувствовали ничего другого… Ни глубокого его снисхождения к человеку, ни ужаса перед давящей, как крышка гроба, «механической» цивилизации, ни, наконец, — и это самое главное — добра и света, которыми для Лоренса проникнуто все, что создается и направляется природой. Но не буду с этими моими корреспондентами спорить — они до известной степени правы в своем возмущении: как Винкельман говорил, что «мы не настолько нравственны и не настолько безнравственны, чтобы ходить голыми», так и современный читатель, очевидно, уже не настолько чист и еще не настолько порочен, чтобы отнестись к книгам вроде той, которую написал Лоренс, без протеста.
Приведу одно письмо:
«Милостивый государь г. критик. Прочел любезного вашему сердцу “Любовника леди Чаттерлей“ и оного весьма не одобрил. Уж лучше бы подобные, с позволения сказать, сочинения выходили в советской России, где им и место. Не сомневаюсь, что это произведение будет с полным восторгом там переведено и издано в назидание скучающим ком сомольцам и комсомолкам. Оно там весьма понравится и если только заменить благородную леди обыкновенной совдамой, то в чистом виде получит ся образчик того "пафоса Москвы", о котором любят болтать поклонники советской культуры, познаю щие ее мерзости. Привет. К.»
Здесь в основе этого странного письма — глубочайшее недоразумение. Недоразумение это сильно распространено и о нем поэтому есть смысл поговорить. Вопрос, по-моему, очень интересный и для понимания того, что делается в России, важный.
Дело касается «пафоса Москвы».
Нельзя, конечно, ручаться, что книга Лоренса не будет издана в советской России. Кто знает, — может быть, и будет. Но с уверенностью можно утверждать одно: если бы это случилось, книга была бы принята критикой крайне отрицательно и, по всей вероятности, вскоре оказалась бы запрещена. О совпадении ее духа и темы со стремлениями советской культуры не может быть и речи: достаточно в эти стремления хоть сколько-нибудь внимательно вглядеться, чтобы пропасть увидеть. Я думаю, что письмо внушено лишь желанием или привычкой всякую «мерзость» — мнимую или действительную — относить на советскую сторону. Привычка понятная сама по себе, но обезоруживающая и ослабляющая тех, кто с советской культурой хотел бы бороться, — как ослабляет всякое заблуждение.
У Лоренса — коснусь в последний раз «Любовника леди Чаттерлей» — все построено на доверии к природе, на вере в нее и понимании человека как сложнейшего и тончайшего организма, который бесчисленным количеством нитей связан со всем вечно живым — и в смерти вечно обновляющимся — миром. Лоренс страшится, что эти нити порвутся: именно по ним, как по невидимым проводникам, входит в его творчество пленительная, земная, живая свежесть — то, что нельзя никакими лабораторными химическими опытами заменить; то, что из современных писателей больше всех других доступно Гамсуну. У Лоренса человек во всех ступенях своего развития остается животным — без всякого унизительного или обидного оттенка в этом слове. Вне «животности» человек медленно умирает. Чего же хочет советская культура, на что обращен «пафос Москвы»? Легкомыслием и «упрощенством» была бы попытка разрешить этот вопрос одной короткой, тут же импровизированной формулой. Эффектную, лапидарную формулу по любому из готовых теперешних рецептов придумать нетрудно — только не к чему это делать. Отвечу иначе. У всякого, кто много уже лет подряд читает советские книги и журналы, кто просматривает даже московские речи и резолюции, — с виду пустые, но все-таки показательные, — кто следит, одним словом, за тамошними идеями и настроениями, у всякого мало-помалу возникает уверенность: в Москве ненавидят природу… Ненавидят ее, не доверяют ей и, как врага, боятся ее. Это сказывается решительно во всем. Марксизм ведь в природе не дан. Возводя его в предельную и последнюю человеческую мудрость, советская культура с тревогой оглядывается: что за ним? Прочен ли фундамент? Она глубоко презирает биологию и отрицает за ней право считаться наукой о жизни, ибо в биологии ничего не говорится о классовой борьбе.
Эта основная, отправная точка «московского пафоса» приводит иногда к интересным и неожиданным явлениям. У нас, например, в так называемой «большой публике» распространено мнение, будто советская литература — как и советская среда — побила все рекорды распутства. О среде говорить сейчас не будем: среда не подчиняется партийным директивам и не отражает их. Но литература им в России покорна. И вот что характерно: советская словесность не только не распутна (в обычном смысле слова), она больна какой-то прямо-таки институтской щепетильностью в этом отношении, какой-то странной жертвенной нетерпимостью. Исключения бывают, но они лишь подтверждают правила. Бывает, что по грубости быта добросовестный и кропотливый бытописатель воспроизводит какую-либо «грубую» сцену. Но я сейчас говорю совсем не об этом, а об общем направлении литературы. Не надо делать себе иллюзий: советские идеологи вовсе не институтки и приличиями, как таковыми, нисколько не озабочены. Если бы кому-нибудь скопческое целомудрие советской словесности пришлось по душе, тот должен бы понять, что это лишь частный, случайный вывод из основного положения: недоверие к природе. В Москве боятся инстинктов и чувств, в Москве обращаются только к разуму, притом разуму одинокому, уединенному, забывшему о своем назначении освещать темные начала организма, бросившему их на произвол судьбы. Любовные отношения – частный случай. Не всякое внимание к человеку, воспринятому как разум и воля плюс нечто другое, в Москве осуждается как контрреволюционное. Была, например, у Всеволода Иванова замечательная книга: «Тайное тайных», сборник подлинно поэтических, прелестных и глубоких рассказов. Придраться в ней с узко-политической точки зрения было не к чему. Но зоркие блюстители порядка в советской литературе сразу отметили ее как опасную и преступную: они почувствовали у автора тяготение к стихии, т. е. к тому, в чем может раствориться и потонуть искусственно созданное, искусственно поддерживаемое представление о жизни. По-своему они были правы. Да и двухлетний спор вокруг пресловутой теории «живого человека», по существу, основан на том же, и показательно, что противники этой теории, в конце концов, одержали верх, несмотря на нелепость их доводов, поскольку спор ограничен был только литературой. Нельзя пускать «живого человека» в словесное творчество, надо создать образ человека условного, только строителя, только «партийца» — иначе клубок личных, психофизиологических переживаний окажется слишком запутанным и увлечет туда, где внезапно обнаружится шаткость всего дела революции и коммунизма. Литература без «живого человека» чахнет и зачахнет, но велика ли беда? Обойдемся! Вероятно, в Кремле рассуждают именно так, а если какие-нибудь особо ретивые дурачки в порыве восторга уверяют, что при новых влияниях литература как раз и расцветет, то ведь с дурачков нечего взять. Литература становится скудной, сухой, бесплодной. Решительнее всего она разрывает Толстым и лишь по недомыслию все еще нет-нет да и ссылается на Толстого. Было бы с ее стороны честнее и проницательнее, если бы она толстовские романы отвергла за их «бессмыслицу», или по тем же мотивам вообще, которые побудили еще Салтыкова-Щедрина презрительно отвергнуть «Анну Каренину».
Тема вражды к природе, конечно, шире вопросов литературы. В последнее время она начала открыто проникать в сознание некоторых московских писателей и рядом с темой личности и общества становится второй «осью вращения» советских споров, стоящих на более или менее значительной идейной высоте. Пожалуй, вернее будет охарактеризовать ее как тему «противоречия марксизма природе», несоответствия одного другому: вражда вытекает только как следствие. Если Горький сейчас так популярен, то отчасти потому, что необходимость борьбы со злой и косной стихией была всегда одним из лейтмотивов его творчества, уже подсушенного, обеспложенного и рационалистического. Укажу на два произведения, где тема затронута отчетливо: повесть Митрофанова «Июнь-июль» и драму Афиногенова «Страх». У Митрофанова разработка двусмысленна: он или боится говорить, или нетвердо знает, что сказать. Одна только фраза у него действительно достойна внимания, и неслучайно она обошла всю советскую печать, вызывая возмущение и удивление. Митрофанов говорит о своем герое:
«Он не Герта, ему надоело переводить великолепное косноязычие жизни на плохое марксистское наречие…»
Надо знать, что Герта — тип идеальной, стойкой коммунистки, забронированной от всех уклонов
Драма Афиногенова много зрелее. Это вещь умная и замечательная. Но автор решительно осуждает героя, профессора Бородина, который трагически противопоставляет естествознание марксизму и даже шире — революции. Кстати, любопытно, что речи профессора Бородина вызвали нападки на Павлова, который будто бы их невольно инспирировал. Павлов якобы утверждает первенство биологии перед идеологией, Павлов говорит о «позоре межлюдских отношений», имея в виду не только войны, но и борьбу классов. Это резко противоречит всему тому, на что обращен «пафос Москвы».
Пора подвести итоги сказанному. Это нелегко, потому что одна мысль вызывает другую: вопрос так сложен и еще так неясен, что никогда и не кончить бы, если попробовать разобрать его целиком. Похоже на то, что в Москве совершается самое «умышленное» дело, которое когда-либо было совершено, — в том смысле, как Достоевский говорил о Петербурге, что это «самый умышленный город». О содружестве и сотрудничестве с жизнью, хотя бы и подчиненном рассудку, там не хотят и слышать, там ведут войну якобы «до победного конца». Воюют хитро, осторожно. Недавно чествовали Гете, например… Между тем, тот, кому была «звездная книга ясна и с кем говорила морская волна», непримиримо враждебен всему советскому мироощущению. Гете входит в мир не как его завоеватель, а как устроитель, друг и брат. Но нельзя же все точки ставить над i; чествуют. Знаменитый писатель все-таки, гордость Европы, — неудобно же прослыть варварами. И так чуть ли во всем. Осторожность пока необходима… Но борьба идет жесточайшая, и в Москве хорошо знают, что природа и вообще естественные органические начала бытия могут, как океан, поглотить в один прекрасный день все построения рассудка, с которыми они окажутся «не согласны». Вот почему в Москве хотят природу остановить, парализовать. И вот почему там, пожалуй, никогда не будет издана книга бедного мечтателя, одинокого и больного защитника природы — Лоренса.
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». КНИГА. 49-я. Часть литературная
Беллетристический отдел новой книжки «Современных записок» составлен не совсем обычно: ни одного громкого, заслуженного, общепризнанного «довоенного» имени, если не считать Шаляпина, который, впрочем, не литературе обязан своей славой. Четыре писателя: Сирин, Берберова, Георгий Песков и Газданов. Трое из них — «дети эмиграции». Берберова, если не ошибаюсь, напечатала несколько стихотворений еще в советской России, но только здесь развилась и достигла решительных успехов, так что и ее можно отнести к той же группе… По-видимому, редакция «Современных записок» озабочена сейчас созданием так называемой литературной смены. Ее давно уже упрекают в стремлении только охранять и беречь старое в отсутствии забот о будущем. Редакция уступила, изменила свою линию и, продолжая высокое и нужное дело «охраны старого» — в чем, несомненно, главное назначение такого журнала, как «Современные записки», — ищет те молодые дарования и силы, с которыми можно было бы связать наибольшие надежды. Выбор ее не плох. Конечно, при более остром внимании к здешней молодой литературе и большой смелости в оценке ее внутренних достоинств, — вне связи с той формальной традицией, которую в здешних условиях не так-то легко поддерживать, — список можно было пополнить. Но не будем чрезмерно требовательными. Надо благодарить и за то, что сделано.
В. Сирин принадлежит к явным любимцам журнала. Из номера в номер печатаются в «Современных записках» его произведения, — всегда талантливые, всегда своеобразные, интересные и легкие. Плодовитость этого беллетриста удивительна: он пишет роман за романом, и в сравнительно короткий срок выпустил 5 или 6 книг. При свойствах и особенностях сиринского дара, это — черта довольно опасная. Склонность к «скольжению», увлечение внешней стороной фабулы неизменно были и прежде заметны в романах Сирина, — и, на мой взгляд, делали их менее значительными, чем они по замыслу могли бы стать. Многописание и многопечатание может привести к усилению поверхностного блеска за счет иных качеств… Было бы неосторожно и, во всяком случае, преждевременно утверждать, что это и произошло в «Camera obscura», новом романе Сирина. Вероятно, лишь случайно это произведение, — насколько можно судить о нем по первым главам, — оказалось более авантюрно и кинематографично, чем «Подвиг» или «Защита Лужина»: трудно предположить, чтобы в занимательном и бойком рассказе о всякого рода курьезных происшествиях Сирин видел свой истинный «путь». «Camera obscura» — забава мастера, отдых, игра. Игра увлекательная… Кто читает книги только для того, чтобы узнать, «что случится дальше», кто вообще требует от повествования быстрой, ловкой и неожиданной смены фактов, будет романом вполне удовлетворен. Можно, конечно, искать в чтении и чего-то совсем иного… Тогда лучше «Камеру» вовсе не раскрывать. А уж если раскроет такой читатель роман Сирина, то обратит он в нем внимание не на «интригу», а на отдельные, как бы мимолетные, случайные описания и образы, полные прелести, точности и силы. Обратит внимание и пожалеет, что все это тратится, в сущности, попусту, без следа и цели, — как фейерверк.
О «Повелительнице» Н. Берберовой тоже нельзя высказаться отчетливо и решительно по той простой причине, что роман этот только начат. Первые главы его — едва ли не лучшее, что нам до сих пор приходилось за подписью Берберовой читать. В них меньше сырой «достоевщины», в них больше внутренней стройности и внутренней скромности. В них есть, наконец, та суровая логика в развитии фабулы, которая, действительно, внушена жизнью и поэтому отвергает всякую постороннюю выдумку, хотя бы и внешне эффектную. Берберова с трудом пробивается к свету, еще смутно и тускло брезжущему в ее писаниях, — как трудно живут, трудно думают, говорят, любят и умирают ее герои. Ей еще мешает толща обычных слов, приемов, готовых положений и фраз, она еще бредет ощупью. Но свет перед ней подлинный, и она идет именно к нему… Я употребляю здесь выражение «свет» вовсе не в каком-либо метафизически мистическом смысле, а как одно из условных, общепонятных обозначений того творческого налета, который дает писателю возможность увидеть за своим личным уголком весь мир и связать свое, личное со всеобщим. Выход в открытое море, одним словом, — или, по-старинному, нахождение «своей правды». Берберова, вероятно, ее найдет. Она отличается от большинства здешних молодых беллетристов еще и тем, что упорно продолжает писать о русских людях. Это характерно и для общих настроений ее, и для ее беллетристического чутья. Кто спорит? Одну-две-три повести можно по-русски написать и о шведах, и о японцах, и, если угодно, даже о папуасах. Но наивно и нелепо думать, что раз навсегда, безболезненно и беспрепятственно можно перейти к русской разработке французских или немецких жизненных тем: будто язык дан народу свыше, а не создан им самим, в соответствии его духовному укладу и быту, будто русский язык не проник во все особенности нашей жизни, как в щели, как в складки, не заполнил их, но облек, — и будто все-таки при всем своем богатстве не кажется он груб и беспомощен перед лицом жизни чужеземной, с ее особенностями, на которых создался, на которые ответил ее язык! Здесь вопрос касается как бы платья, готового или сшитого по мерке, на заказ: та же возможность, те же пределы в этих возможностях. Если развить положение до конца, абсурдность его станет внешне ясна: никому не придет в голову писать роман на эсперанто — на языке вообще пригодном только для нигде не существующего «человека вообще».
Г. Газданов пишет о французах. Это очень способный беллетрист, по блеску и какой-то постоянно удачливости письма стоящий рядом с Сириным или непосредственно после него. Его рассказ «Счастье» местами очарователен. Но… налет «эсперантизма» все-таки чувствуется. Андрэ Дерэн, его отец, Мадлен — все они чуть-чуть тронуты той схематичностью, которую никаким искусством скрыть нельзя. Характерно, между прочим, что в диалог Газданов то и дело вводит французские фразы. Зачем? — казалось бы. Ведь его герои французы, они только по-французски и говорят, следовательно, все их беседы даны, как переведенные. Это ведь не то что салонный разговор наших соотечественников, по привычке пересыпающих свою речь французскими словами! Зачем Газданов пишет:
– Я не имею удовольствия вас знать, молодой человек.
– Alles vous en, — тихо сказал он.
Это ничем не оправдано. Надо было бы написать в русском рассказе: «уходите» или «убирайтесь вон».
Но дело, по-видимому, в том, что автор ощущает «приблизительность» своей передачи, бессознательно воспринимает ее как фальшь и кое-где, большею частью даже невпопад, старается эту легчайшую, тончайшую, но неустранимую фальшь исправить и вернуть Дерэна с Мадлен той стихии, откуда они вышли.
Мне показался слегка надуманным в рассказе Газданова его конец. Жизнерадостный французский делец теряет зрение и в слепоте находит новое, облегченное и чистое счастье. Мысль сама по себе глубокая и даже такая, которую можно причислить к «вечным». Но в разных видах и вариантах она была столько раз высказана, что уже не оценивается нами как мысль: обновить ее можно, только пережив, прочувствовав, проведя сквозь свой духовный опыт. Иначе это нестерпимая банальщина. У Газданова в «Счастье» следов личного опыта не заметно. «Стиль — это человек», а стиль Газданова — как и стиль Сирина — крайне далек от всяких перебоев, отражающих какие-либо внутренние катастрофы или преображения.
…Чтобы по бледным заревам искусства Узнали жизни гибельный пожар!– писал когда-то Блок об этом. Газданов спокойно рассказывает о спокойных людях. Поэтому идея его «Счастья» похожа скорее на умышленную «тенденцию», чем истинную основу замысла.
Мне уже приходилось говорить о «Злой вечности» Георгия Пескова. Заключительная часть этой полуфантастической повести производит то же впечатление, что и первые главы. Вещь его интересная, страстная, витающая вокруг подлинно серьезных вопросов и тем — и, несмотря на некоторую аляповатость в их разрешении, нисколько не оскорбительная. Вещь в целом, конечно, неудачная, проигранная, но автор рискнул — и уже одно это хорошо! Какой-нибудь ювелирный «этюдик» читаешь с удовольствием и тут же сразу забываешь. «Злую вечность» трудно читать, не морщась, но сознание ею задето, и не напрасно.
В отделе стихов один поэт «довоенный» и знаменитый — З. Гиппиус, три новых, эмигрантских — Терапиано, Поплавский и Эйснер.
У З. Гиппиус очень хорошо «Над забвением» — одно из самых совершенных стихотворений, когда-либо ею написанных. Как почти все лучшие стихи русского символизма, оно напоминает Тютчева — в простом, типично тютчевском выражении изощреннейших догадок и чувств. Эти шестнадцать строк достойны были бы включения в самую строгую антологию русской поэзии за последние десятилетия. Тем более удивительно и тягостно прочесть рядом с ними странное произведение, озаглавленное «Большевицкий сон».
Ю. Терапиано в стихах о России менее ровен, пышен и пластичен, чем обычно, — но зато и как-то «человечнее», чем был в своих стихах до сих пор. Перелом произошел совсем недавно — в этом году. Некоторые давние стихи Терапиано в газетах были проникнуты личной тревожной музыкой, отмечены смутными, неожиданными образами. В «Современных записках» — то же самое. Поэт как будто изменяет культу формы «как таковой» и, кажется, даже изменяет своему учителю, Гумилеву. Измена, вероятно, будет толчком к его полному творческому расцвету.
Стихотворение Поплавского, как всегда, прелестно по звуку. «Какой Страдивариус у вас в руках!» — сказал однажды какой-то критик Фету. Каждый раз, читая Поплавского, я вспоминаю эти слова, — даже и тогда, когда он повторяет и перепевает самого себя.
А. Эйснер — поэт, редко появляющийся в печати. Его стихи в «Современных записках» заставляют об этом пожалеть. Они талантливы и широки по дыханию. В них слышен некрасовский, «пронзительно-унылый», раскатистый голос, не похожий на голоса других наших стихотворцев.
«Воспоминания» Шаляпина чрезвычайно увлекательны и ярки. Если бы даже мы и не знали, что такое Шаляпин, то необычайная щедрость и одаренность его натуры открылась бы в каждой странице его записок. Ум, зоркость и меткость слова Шаляпина таковы, что многие прославленные писатели могли бы у него поучиться искусству видеть жизнь и о ней рассказывать.
По-прежнему интересны мемуары А.Л. Толстой, о которых не раз уже была речь. Отлично написано «14-е декабря» М. Цетлина. Из статей и заметок о литературе выделю «К юбилею Гете» Алданова и статью П. Бицилли.
Юбилей Гете дал повод Алданову высказать ряд тонких мыслей. Несомненно, он и не хотел дать ничего большего и со своей задачей справился блестяще. Все-таки жаль, что «Современные записки» не нашли желательным откликнуться на столетие Гете иначе и рядом с отрывочной статьей Алданова высказаться о величайшем явлении европейской культуры «по существу», во всем объеме и значении этой темы. Время теперь такое, что многие прошлые ценности переоцениваются. У России, в лице ее самых характерных и глубоких представителей, всегда были с Гете тайные счеты, молчаливый и коренной раздор. Нельзя было найти лучшего случая обо всем этом поговорить и дать выход всему тому, о чем многие сейчас по мере сил своих думают.
Стихи
I.
«На стихотворном фронте неблагополучно», – воскликнул недавно один советский критик.
Этой фразы мы, конечно, не повторим, – из-за формы ее: претит нелепый стиль, претят «фронты», которые всюду мерещатся миролюбивым советским критикам и публицистам. (В «Новом мире» с полгода тому назад была помещена заметка о пчеловодстве. Она начиналась так: «Давно пора уже сигнализировать о прорыве на пчелином фронте…»). Но по существу, – о том, что со стихами «неблагополучно», – мы сказать могли бы. И могли бы даже добавить, что об этом «давно пора сигнализировать»… Только по другим причинам, чем в советской России.
Там сетуют на «отставание» поэзии от повседневности, на слабость ее политической «зарядки», на препятствия, мешающие создать «большое искусство большевизма»… У нас здесь такие вопросы мало кого смущают и занимают, даже если бы придано им было противоположное «классовое содержание». У нас сохранилось иное отношение к искусству, – отношение более свободное и в то же время более требовательное (т.е. большего, неизмеримо большего от него ожидающее). Но давно уже требования и ожидания в области поэзии остаются неудовлетворенными, и с каждым годом уменьшается надежда, что стихотворная речь может вновь занять прежнее положение в литературе. По шаблону хотелось бы написать: «появляются прекрасные стихи, но…», – и дальше распространиться на знакомую тему, что прекрасные стихи не всегда еще составляют поэзию. Но нет, не будем себя обманывать: прекрасных стихов появляется мало, очень мало… Поневоле мы сделались снисходительны и довольно легко теперь относим к числу первоклассных стихи среднего вдохновения, среднего мастерства и средней культуры. На них, надо сознаться, никакого «неблагополучия» не заметно. Но те редкие стихотворения, которые, действительно, по составу своему «прекрасны», те написаны с каким-то непонятным, небывалым трудом, не «пропеты», нет, а будто процежены сквозь зубы, не навеяны ласковой и щедрой Музой, а отвоеваны у нас ценой огромных усилий… Настоящие наши поэты не знают больше, как писать стихи. Рассказывают, что когда-то Тургенев жаловался Боборыкину:
– Я разучился писать… не знаю, как, не знаю, о чем.
Боборыкин удивленно на него взглянул, встал, хлопнул себя по ляжкам и ответил:
– А я пишу много и хорошо.
Некоторые стихотворцы готовы были бы сейчас дать ответ вроде боборыкинского. Но он неубедителен.
Что же случилось? Предположение самое простое: исчезли подлинные таланты… Отчасти это, может быть, и так, но только отчасти, – как только наполовину верны в данном случае и общие рассуждения об оскудении в эмиграции всякого творчества, а, следовательно, и поэзии. Бесспорно, у нас сейчас нет такого поэта, как Блок. Но не менее бесспорно, что у нас есть несколько замечательных мастеров слова, для которых стихотворная форма речи была до сих пор наиболее естественной. И все-таки они бессильны вернуть поэзии ее роль, и ни сами в своих писаниях не находят, ни другим не дают того увлечения, того подъема, того восторга, которые обычно с представлением о поэтическом творчестве связывают. Не беда, что они «грустно настроены» или говорят все больше о смерти, – когда же поэты не бывали грустно настроены, когда же они о смерти не вспоминали? Плохо то, что они как будто скованы каким-то холодом, – и таковы же их стихи: медленно, тяжело, болезненно рождаются эти коротенькие поэмки, отточенные, рассудочные. Почти всегда иронические. Не несущие в себе никакой радости… И притом это лучшие современные стихи. Авторы их, повторяю, больше не знают и не понимают, как надо писать. Но как писать не надо, – о! это они знают, чувствуют и понимают отлично, и отсюда их обеспложивающая, иссушающая осторожность в выборе каждого слова, отсюда вообще драматизм их положения: они не могут найти путь, но безвыходность всевозможных тропинок, принимаемых за путь, они видят с совершенной ясностью и блуждать по ним не хотят. Случается, им указывают, с упреком и укором: «Вот Марина Цветаева, например, вот поэт Божьею милостью! Сила, страсть, напор, новизна!» Они глядят на Марину Цветаеву, но остаются при прежнем своем недоумении: нет, так нельзя писать, это-то уже ни в каком случае не путь… Поклонники Цветаевой, конечно, немедленно спрашивают, с заранее торжествующей запальчивостью: скажите, а как же «надо»? – «Не знаем. Но, наверно, не так: это не выход. Лучше молчание». И какого бы из голосистых, подлинно или «мнимоширококрылых» современных поэтов ни назвать, ответ остается таким же, – назовут ли Бальмонта или Маяковского, Пастернака или Игоря Северянина.
По-видимому, дело в том, что сейчас исчерпаны возможности того поэтического стиля, который, в самых общих чертах, может быть определен как «пушкинский». Не иссякли таланты. Не оскудели силы. Но нет больше воздуха в «стране поэзии», нечем дышать, и никакие подушки с кислородом тут не помогут. Нет света за стеклом, свет ушел, отклонился в сторону, – прошу прощения за эти метафоры, при помощи которых я лишь приблизительно пытаюсь передать общее ощущение… По-видимому, настает сейчас пора прозы, и разные, совсем разные люди это в наши годы чувствуют, и к прозе из поэзии тянутся, как бы по инстинкту творческого самосохранения. Ничего страшного в этом нет. Знала же французская поэзия полтора века измельчания и растерянности, пока на смену расиновскому классицизму не пришел новый стиль, – романтический, – появление которого совпало с чудесным расцветом созидательных сил. Восемнадцатое столетие во Франции не было веком упадка, оно, конечно, достойно было по общему творческому напряжению великих предшествующих веков. (Есть у Мишле замечательная фраза: «Le grand siиcle, je veux dire, le dixhuitiиme», – но это было время странного исчезновения поэзии. Нельзя же без оговорок считать достойным этого имени всевозможные рифмованные послания и размышления, мадригалы и эпиграммы, невозможно согласиться и с юным Пушкиным, утверждавшим, что Вольтер – «поэт в поэтах первый». Вольтер, этот удивительнейший писатель, – кажется, самый блестящий из всех, которые когда-либо были в Европе, – не сочинил на своем долгом веку и десяти стихов, достойных быть поставленными рядом со стихами Расина или Гюго. Он все «умел», поэтому писал и стихи, но отсутствие подлинного расположения к ним скрыть был все же не в силах. Да и как все плоско в его поэзии!.. Один Шенье, «райская птица в пустыне», чудо, неизвестно откуда возникшее! Но его одиночество лишь отчетливее оттеняет пустоту за ним и после него… И все-таки французская поэзия возродилась и последние сто лет жила полной, великолепной жизнью. Сейчас она как будто опять иссякает, – до нового, далекого расцвета, надо надеяться. Очень вероятно, что нечто подобное суждено и нам. Одни наши поэты, как ни в чем не бывало, повторяют или беспечно развивают классические образцы, нисколько не тревожась, мертвы они или нет. Другие мучительно бьются над тем, чтобы гальванизировать иссохшую оболочку, и иногда, как подлинные волшебники, достигают в этом деле непрочных, но все же несомненных побед. Третьи – импровизируют: создают «стиль» за свой страх и риск, полагаясь только на себя, только себе веря… – И все вместе, и те, и другие, и третьи влекутся к прозе, дающей сейчас возможность свободного творческого выражения, в противоположность стихам, обрекающим поэта на изнурительную и безнадежную борьбу с материалом. Боюсь, что читатель, по моей вине, не совсем ясно понимает, о чем я говорю, что он упрекнет меня в хождении «вокруг да около» вопроса и темы. Постараюсь в нескольких словах высказаться отчетливее и конкретнее.
Когда в книге или журнале видишь двенадцать-шестнадцать аккуратно-размеренных строчек, – почти всегда мелькает мысль, догадка, ощущение: это не серьезно. Это – «пустяки». И почти никогда не обманываешься. Не серьезно, – т.е. не имеет подлинной связи с жизнью, не идет из нее, не возвращается к ней, не участвует вообще в едином, единственном бытии… Слова более или менее искусно связаны между собой. Иногда приятно, иногда – нет. Но чувствуется, что самый процесс составления строчек и строф уже механизирован и лишен того привкуса или отзвука «взрывания» косной материи, которое и есть, собственно говоря, творчество. «Не светит и не греет». Лишь в самых редких случаях вспыхнет огонь, да и то не надолго: все вокруг уже перегорело, нечем огню питаться. Такими слабоозаряемыми стихами и приходится теперь утешаться… Можно было бы выдумать новое направление, разжечь страсти вокруг какого-нибудь нового «изма». Но мир очень поумнел за эти годы. «Измы» сильно скомпрометированы. Всем своим опытом мы знаем, что «направление» – т.е., в сущности, стиль, – только тогда и плодотворно, и долговечно, когда не выдумано наспех, от нечего делать или по чьему-либо самонадеянному капризу, а как бы внушено временем и ему соответствует. Стиль нельзя импровизировать. Именно это я имел в виду, говоря, что сейчас наиболее «взыскательные» знают только то, как не следует писать: они безошибочно ощущают внутреннюю порочность индивидуальных импровизаций, ничем, кроме личной прихоти, не ограниченных… А общего канона нет, и сейчас даже невозможно предвидеть, каков он будет, если когда-нибудь и возникнет.
По любви к поэзии и преданности ей, поэты теперь должны были бы подумать, не лучше ли до поры до времени оставить стихи, дать поэзии отстояться и отдохнуть, и, может быть, позволить ей настроиться на неведомо новый лад в действительном, глубоком, а не злободневном «созвучии» с эпохой. Не для всех, конечно, такой отказ возможен. Есть стихотворцы «одержимые», не способные жить вне размеренного напева: им нельзя советовать отказаться от самих себя. Но большинство людей, по привычке пишущих стихами, не таковы, и если их к прозе сейчас влечет, то это не случайно: они хорошо сделали бы, если бы своего внутреннего голоса послушались. Оказалось бы, что они способны создать не одни только «пустяки» (или оказалось бы, что только на пустяки они и были годны… Но таких не жаль. Чем скорей «за ушко, да на солнышко», тем лучше). И, может быть, в черновой работе прозы, в условиях ее неумолимой словесной честности мало-помалу выяснились бы элементы, – и психологические, и чисто-литературные, – из которых впоследствии сложится новая, по-настоящему живая поэзия… Мнимая измена предстанет тогда, как нужнейшая жертва.
Все это – затянувшееся предисловие. Я собрался было писать о новых явлениях в нашей поэзии, – в частности, о берлинском сборнике «Роща» и некоторых стихотворениях, помещенных в последней книжке «Чисел». Но о стихах у нас редко и мало говорят, а «на стихотворном фронте неблагополучно». Поэтому невольно начинаешь с общих размышлений, а начав их, не знаешь, где и кончить, вернее, оборвать… И в «Числах», и в сборниках наших молодых поэтов интересны упорство, настойчивость, уверенность, с которыми отстаиваются за современными стихами «право на существование», – притом существование как бы внешнего порядка, отнюдь не прозябание. Кое-что из напечатанного побуждает этому упорству сочувствовать: победителей, как известно, не судят… Многое – вызывает горькое недоумение.
Однако, – до другого раза. Надеюсь, кстати, что в этот «другой раз» в разборе отдельных образцов мне удастся сделать более убедительными те общие соображения, которые сегодня могли показаться голословными и отвлеченными.
II.
Берлинские стихотворцы, выпустившие сборник «Роща», не называют себя «молодыми». Они – просто «поэты».
В Париже, на обложке сборников такого рода, указание на возраст стало обычаем. По-моему, берлинцы поступают правильнее. Эпитет «молодые» не только не во всех случаях соответствует действительности, но и содержит в себе что-то похожее на просьбу о снисхождении: будто ученический журнал… Критика в ответ снисходительно треплет «молодых» по плечу: дети, мол, – что с них спрашивать? Отношения получаются не совсем достойные, и недаром один из тех, кому снисхождение надоело, воскликнул, наконец:
– Не хочу быть молодым поэтом!
Дело касается, ведь, не какой-либо возрастной группы, а лишь людей, начавших печатать свои стихи уже в эмиграции. Естественно, что среди них стариков нет. Но они и не дети, далеко не дети, – и некоторые из них лишь случайно не имеют дореволюционного «стажа». По составу участников, по их общекультурному уровню, по месту, которое они занимают в нашей литературной жизни, берлинский сборник «просто поэтов» вполне аналогичен парижским сборникам «молодых».
Трудно сравнивать, где стихи лучше, да и не к чему это делать… Безболезненно можно было бы многих авторов пересадить с одной почвы на другую и никто этой пересадки не заметил бы. В Берлине, пожалуй, нет таких уже развившихся индивидуальностей, как Поплавский или Кнут, Ладинский или Смоленский, но, в общем, там пишут с тем же средним умением и ограниченной успешностью, что и здесь. Подобно Чичикову, стихи – «не так, чтобы слишком толстые, но и не то, чтобы чересчур тонкие». Читаешь их без каких-либо эмоций, отрицательных или положительных. Изредка только хочется улыбнуться, – когда, например, один поэт рассказывает, как ему «за пазуху ветер лазает», или другая поэтесса сообщает, что в душе ее
…Блаженство выше каланчи.Но это – мелочи. В целом, стихи, как говорится, – гладкие. С внешней стороны они очень характерны для эмигрантского периода русской словесности: в советской России поэзия имеет совсем другой облик. В последние предреволюционные годы, в Петербурге и Москве тоже заметно было «беспокойство о новом»… Эмиграция принесла с собой культ былых прочных традиций и противостояния советскому развалу: как ни почтенны сами по себе эти стремления, они, увы, нередко приводят к эпигонству. Это и случилось в области стихов. Оправданием наших поэтов может служить только то, что сейчас, – как я уже говорил, – в общей «переоценке» всех ценностей, в общем мировом смятении и путанице всех понятий, совершенно не видно даже самых общих, самых смутных очертаний какого-либо возможного будущего поэтического стиля, – если только не обманываться и не принимать за стиль отдельные шаткие, ни на чем не основанные, личные настроения. Кто хочет писать стихи, – тот, пожалуй, на эпигонство в наши дни обречен. Но, сознавая это, стоит ли упорствовать?
Мне хотелось бы спросить берлинских поэтов, участников «Рощи», а заодно и «молодых парижан», и других: неужели вы полагаете, честно, «положа руку на сердце», что эти три-четыре строфы с аккуратно пригнанными рифмами, с вялой раскачкой ритма и все теми же, все теми же словами в почти том же самом сочетании, – неужели вы полагаете, что они выражают ваше творческое «усилие», а не лень и самоубаюкивание, принимаемое за творчество? Мы – читатели, – право, лучшего о вас мнения. Мы верим, что в ваших душах, в ваших сознаниях есть мысль и страсть, и отчаяние, и восторг, есть вообще все то, что составляет человека. И мы убеждены, что все это «подлинно-творческое» осталось где-то за пределами ваших стихов, что вы увлечены пустоватой игрой, которая тешит иногда самолюбие, но ни вам, ни кому-либо другому настоящего удовлетворения не дает, что вообще к миру, к жизни, к вам самим эти красивенькие, однообразные создания имеют лишь самое отдаленное отношение… Искусство? Бросьте! Это – старые, глупые сказки: будто искусство в стороне от бытия, будто ничто современное, тревожащее, задевающее, в него входить не должно и даже касаться его не вправе. Это – вы сами себя успокаиваете, ищете в своей слабости на что опереться! Искусство, конечно, не прямо, не непосредственно, но выражает или отражает все то, что проносится в сознании, не чисто оно, и не чистотой брезгливой чистюльки-недотроги, которая всего сторонится. В нем все плавится, все перегорает: черный уголь преображается в белое пламя, – но уголь-то пламени нужен, без угля пламени нет… Едва ли наши берлинские или парижские стихотворцы настолько наивны, чтобы об этом не догадываться или просто не подумать, хотя бы и стоя на иной точке зрения. Но их парализуют стихи, канон, привычная и сейчас уже совсем условная оболочка. Стихи помогают им существовать в литературе призрачным существованием, без риска и почти без затрат… «Кто вы? Я поэт». О чем его поэзия, чего он сам хочет, что он делает в мире, – на это «поэт» отвечать не обязан. Если бы, все-таки, он попробовал писать прозой! Свобода прозы, отсутствие в ней всяких перил, многому его научила бы, многого с него потребовав.
Позволю себе короткое «pro domo sua», – позволю себе его лишь в уверенности, что эти мои ощущения многим знакомы: я очень люблю стихи… Вопреки распространенным сейчас мнениям, я продолжаю верить, что это высшая форма словесного творчества, поистине, «божественная», поистине, «вечная». Всякие соображения о «перерастании» поэзии жизнью представляются мне ребяческим вздором. Все можно сказать в стихах, – и как сказать! Тютчев, например… Разве тоненькая книжка его стихов не «стоит» всего Достоевского, – стоит не в том смысле, конечно, что он «выше» или «ниже» его, или сводит Достоевского «на ноль», а только в том, что она представляет собой нечто равноценное, настолько же глубокое, единственное и незабываемое. Конечно, Тютчев никогда не получит в Европе такого влияния и признания, как Достоевский, – но это ведь оттого, что он непереводим. Мы-то знаем цену ему. И знаем, чем он и как Россию обогатил. (Кстати, о Тютчеве и Достоевском. Не удавалось ли порой Тютчеву с чудесной прелестью, с чудесным лаконизмом создать как будто целую главу «психологического» романа, – в нескольких словах?.. Например, «Весь день она лежала в забытьи» или «Она сидела на полу»). А Бодлер! О нем тоже можно было бы сказать, что его «книжка небольшая томов премногих тяжелей». Не только «премногих», но и всего, вероятно, что во французской литературе за последние полвека появилось. Когда Гюго покровительственно сказал, что Бодлер создал «un nouveau frisson», он не предвидел, вероятно, что из этого «нового трепета» выйдет все позднейшее искусство. Но не будем говорить о Тютчеве и Бодлере. Если говорить коротко, поневоле придется ограничиться одними только восклицаниями. А раз увлечешься такой темой, – то никогда и не кончишь… Скажу только снова: я очень люблю стихи… Но, читая современные сборники их, я то и дело начинаю в своей любви сомневаться, и не раз ловлю себя на мысли: если мне над этой книжкой скучно, то не во мне ли самом вина? Сомнение рассеивается, как только вспоминаешь иные стихи – даже и не такого уровня и не такой силы, как те, которые я только что упомянул, а бледнее, скромнее. Но сейчас даже и так никто не пишет, никто не может писать. Одни, поумнее, дописывают; скупо и редко, – боясь всего похожего на красноречие и десятки раз проверяя, – взвешивая каждое слово и как бы обескровливая себя. Другие… но анекдот о Боборыкине я уже рассказал. Земля оскудела под стихами. Надо перейти на другую полосу, чтобы дать той набраться новых соков и сил, – да и для того тоже, чтобы самим на иссохшей почве не работать бесплодно.
В берлинском сборнике есть стихи, посвященные России. Они сами по себе не плохи… Но характерно, что мы к ним заранее, а priori относимся с недоверием, безошибочно предчувствуя какую-то пропасть между нашим теперешним «чувством России» и тем, что в стихах может быть передано. Я пишу «безошибочно» потому, что предчувствие, действительно, никогда не обманывает: в стихотворных мотивах о России, во всех обращениях к ней, или воспоминаниях, – фальшь и нестерпимая слащавость ощущаются неизменно. Мы инстинктивно знаем, что сейчас стихов о России не может быть. Но не это ли убедительнее всего свидетельствует о летаргическом сне, охватившем поэзию? Не в России же дело. Уж о чем бы, кажется, и «пропеть» современному поэту, как не о России, что, кроме нее и нашей памяти о ней, дало бы ему возможность «ударить по сердцам с неведомою силой»? Но нет слов и нет ритма. Нет стиля. Любители покушений с негодными средствами упражняются время от времени в своем любимом занятии, а другие молчат.
Выделю, все-таки, вне связи с общей темой этой статьи, из числа берлинских поэтов одного – Н. Белоцветова. В его стихах слышится музыка, отсутствующая у других авторов «Рощи», может быть, и более искусных. Со всеми оговорками, это, все-таки, какое-то дополнение и добавление к настоящей русской поэзии («вклад в сокровищницу», как принято выражаться, – хоть и крошечный вклад), а не просто строфы, в ней бесследно и бесцельно растворяющиеся.
Стихотворный отдел «Чисел» более полон, да и составлен более тщательно, чем в каком-либо другом журнале за время существования эмиграции. Приверженность к стихам отчасти дает «Числам» их своеобразный облик… Поэзию здесь не только допускают, как во всех или почти всех иных изданиях, – ее поощряют, ценят, насаждают. К ней в «Числах» крайне внимательны. Поэтому, особенно интересно прочесть стихи, помещенные в журнале: это не случайное собрание случайных авторов, а процеженный отбор их, без пристрастия к «именам».
Как ни интересно чтение, оно на радостные, оптимистические мысли тоже не настраивает.
Один старший «дореволюционный» поэт в новом номере «Чисел» – Н.Оцуп. Его шесть стихотворений были, кажется, сразу всеми признаны прекрасными, – и я это мнение вполне разделяю, особенно относительно последнего стихотворения. Но какие это «трудные» стихи! Как, по-видимому, мучительно было их возникновение! Вот уж где все обескровлено, вот где критическое ясновидение мастера все разъело, как серная кислота… Нечего продолжать, нечему радоваться: слишком много ясности. Все слова – будто последние, «поздне-римские», стерилизованные. Поэт доводит откровенность до того, что сознается, – у него одно только желание:
в кровать И спать, и спать, подольше спать.Ищут «новых путей» те, кто литературно моложе Оцупа: Бакунина с убедительностью скорее жизненной, нежели словесной, Поплавский, всегда талантливый, но слишком словоохотливый для того, чтобы дать своему таланту отстояться и окрепнуть, Холчев, не совсем отчетливо понимающий разницу между великим «народным» искусством и лубком, наконец, Червинская, остроумно перекладывающая в рифмованные строчки какие-то свои полусны, получувства, полудогадки.
Все это, повторяю, очень интересно (точнее, может быть, любопытно). «Числа» хорошо делают, что отстаивают поэзию от равнодушия или нападок. Хорошо вообще плыть «против течения», – а здесь, в прошлом, такие «вершины, такое сияние!»
Но есть, все-таки, разница между культом былого и творчеством. Невольно вспоминается: «предоставьте мертвым»… Только здесь, в области слова, отказ не так страшен, выбор не так резок: поэзия не умерла, она спит. Не нужно лишь тормошить ее во время отдыха – надо уметь ждать. Она проснется.
<«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» М.ГОРЬКОГО >
Странная судьба у нового, огромного романа Максима Горького — «Жизнь Клима Самгина». По единодушному признанию всех пишущих в советских газетах, начиная с Луначарского и кончая каким-нибудь «кружковцем-колхозником», — это одно из величайших произведений мировой литературы. Его долго сравнивали с «Войной и миром». Но этого показалось недостаточно: недавно «Жизнь Клима Самгина» назвали «нашей Илиадой»… Автор — новый Гомер — на вершине славы. Критики перед ним раболепствуют. Казалось бы, десятки и сотни статей о «Климе Самгине» должны заполнить московские журналы. Но, к явному смущению самих московских литераторов, статей нет почти совсем. Попадаются только восторженные восклицания и ахания с обещанием дать в ближайшее время разбор горьковского шедевра. Но обещания остаются обещаниями.
На одном из последних литературных совещаний в Москве было сделано предположение, что, очевидно, «Клим Самгин» нашим критикам «не по зубам». Слишком, мол, глубоко, слишком величественно и необыкновенно. Критики нашли, что лучше оставить эту обидную для них догадку без ответа, чем пускаться в рискованную авантюру истолкования гениальной, сложной эпопеи. Осторожнее промолчать, подождать пока выскажутся другие. В результате, появляются подробные и кропотливые статьи о всех третьестепенных беллетристах, а о Горьком и «Климе Самгине», кроме коротких однообразных комментариев, – ни полслова.
Не думаю, чтобы комплименты были вполне искренни. Не думаю, чтобы комплименты были вполне искренни. «Жизнь Клима Самгина», несомненно, крупнейшее произведение Максима Горького, — но крупнейшее только по размерам, а не по достоинствам. Роман прежде всего необычайно тяжел, монотонен, сбивчив и… скучен. Оценка может показаться излишне субъективной: что одному скучно, то другому интересно! Но в данном случае мнения едва ли разойдутся. «Жизнь Клима Самгина» скучна не столько по материалу или теме, сколько по манере изложения: бесконечный, медленный поток лиц, разговоров, событий и картин, без всякого развития и, в сущности, даже без фабулы… Такой поток — «le roman fleuve» — мог бы оказаться увлекателен, если бы передавал и отражал величавое, широкое, бездумное течение жизни. Но, увы, Горький не Толстой, не Бальзак, даже не Золя. Дыхания у него на «роман-реку» не хватает. В «Климе Самгине» встречается множество удачнейших, живых и очень ярких эпизодов, но в целое они будто «вкраплены» для развлечения читателя и тягучую ткань романа лишь иллюстрируют, как вставные картинки, с ней не сливаясь. Да и количество персонажей в романе таково, что их под конец становится трудновато помнить. Очерчены они, большей частью, искусно… однако все же не так метко, не так своеобразно и неповторимо, чтобы в нескольких строчках дан был весь человек. Не так, как в «Войне и мире», одним словом! И по мере того как появляются все новые и новые люди, каждый образ заслоняется другим, — и приблизительно к третьему тому остается в памяти лишь толпа призраков, то возникающих из небытия, то вновь в него возвращающихся. Горький — не романист, он мастер коротких, беглых зарисовок, перворазрядный «очеркист», если воспользоваться модным сейчас советским словечком. Никогда это не было так ясно, как при чтении «Жизни Клима Самгина».
Повествование начинается с рождения героя, в середине семидесятых годов. Автор сразу вводит нас вереду революционной интеллигенции — и чем далее «Жизнь» читаешь, тем больше убеждаешься, что книга эта и есть, по замыслу автора, некая «история русского интеллигента». В центре — образ Клима. Но тип этот вовсе не так значителен или характерен, чтобы возбудить чисто психологический интерес к себе… Горького он интересует, по-видимому, исторически, и так как один тип не может исчерпать всей сложности понятия «интеллигент», то Горький окружает его несметным количеством образов дополнительных.
К Климу автор относится отрицательно. Иногда отношение авторов к героям бывает не ясно, но здесь сомнений быть не может: Горький судит Клима Самгина и судит его сурово. Поскольку суд этот ограничен лично Климом, — т.е. его индивидуальным, а не собирательным образом, — точка зрения автора будет разделена всяким беспристрастным читателем. Клим — человек отталкивающий. Он не глуп, не бездарен, не имеет особо заметных пороков, — но это какой-то слизняк, а не человек. С детства он думает только о себе, за каждой мыслью своей следит, каждое ощущение взвешивает и проверяет. Всему, что как-либо его касается или от него исходит, Клим придает необычайное значение. Он боится жить, потому что жизнь требует страсти, смелости, а порой и жертвы. Он склонен был бы только иронически и высокомерно наблюдать за людьми и их борьбой, — но его затягивает «водоворот», а сил из водоворота выбраться у Клима Самгина нет. Поэтому он оказывается революционером без всякой охоты к тому. В качестве марксиста он ведет споры с народниками, — впрочем, не столько спорит, сколько «отделывается» презрительными замечаниями вроде «старо!» или «плоско!», — принимает участие в демонстрациях, ходит на митинги, даже исполняет опасные партийные поручения. Когда его спрашивают, каковы его взгляды, Клим отвечает: «социал-демократ». Иногда он даже причисляет себя к большевикам. Но, по существу, Климу Самгину все все равно: если он «работает» на революцию, то потому, во-первых, что его «закрутило», а, во-вторых, потому что это тешит его самолюбие. А Клим Самгин очень самолюбив. Приятно недельки две посидеть в тюрьме и потом прослыть героем. В глубине души Клим глубоко презирает всех, кто его окружает. Он хотел бы только покоя. Но «он привык к мыслям о революции, как привыкают к затяжным дождям», «он чувствует себя рекрутом, который неизбежно должен отбывать воинскую повинность». Притом он мелочно завистлив и одержим духом противоречия: случается, его потянет к «декадентам», — но там лишь только услышит он себе что-либо родственное, как сейчас же пожимает плечами. «Старо!», «плоско!». Климу обидно услышать от кого бы то ни было мысли, которые мог бы высказать и он сам: ему кажется, что его обокрали…
Этого «революционера поневоле» окружают люди, не схожие с ним по характеру, но одинаково болтливые. Кто не застал или не помнит той эпохи, которую описывает Горький — (последняя четверть девятнадцатого века и первые годы двадцатого), - должен неминуемо, по речам Клима Самгина, составить себе представление, что образованные люди тогда главным образом разговаривали. Разговоры заполняют весь горьковский роман. Все беседы вертятся вокруг революции, и все они отвлеченны, туманны и как-то беспредметны. Одно исключение — Кутузов. Это единственный «положительный тип» в романе, единственный человек, который всегда оказывается прав и которого автор изображает в так называемых «теплых тонах». Само собой разумеется, что Кутузов — большевик: иначе теплых тонов, вероятно, не было бы. Он ссылается на Ленина, говорит кратко и веско, на все явления смотрит трезво. Интеллигенцию он разоблачает.
— Великолепный ваш мятежный человек ищет бури лишь потому, что он, шельма, надеется за бурей обрести покой.
Его упрекают в грубости. Кутузов отвечает: «Что же, человек я грубоватый, с тем и возьмите». Конечно, говорит он это не без гордости и удовольствия, как бы противопоставляя себя болтунам и неврастеникам. Кутузову внутренне близок некий «товарищ Яков», с которым Самгин встречается на баррикадах во время московского восстания. Он тоже деловит и напрасно слов не тратит.
Остальных персонажей легко было бы с одинаковым основанием разгруппировать по признаку времени и возраста, или по общему характеру их, или по политической ориентации. Роман Горького можно рассматривать в нескольких «разрезах»: он дает и картину жизни двух поколений, и сводку взглядов передовой интеллигенции за тридцать лет, — наконец, это и просто повествование о людях, о «людях вообще», вне связи с эпохой. Наудачу выделим некоторых из пестрой толпы: вот Марья Романовна, акушерка, блюстительница чистоты шестидесятнических идеалов, строго останавливающая:
— Опомнитесь!
всякого, кто от служения идеалам уклоняется; Тимофей Варавка, отчим Самгина, утверждающий, что для России социальная революция «это, прежде всего, замена посконных штанов приличными брюками», делец, променявший иллюзии на коммерцию; брат Клима — Дмитрий — недалекий и незадачливый «социалист»; Туробоев, деклассированный дворянин, тоже по-своему «революционер»; купчик Лютов, для которого главное было бы о чем поболтать; рабочие, адвокаты, врачи, студенты… Одна за другой проходят сцены. То исторические: въезд Николая II в Москву на коронацию, Ходынка, Нижегородская выставка, 9 января в Петербурге, похороны Баумана в Москве, московское восстание. То бытовые: поднятие колокола в деревне, ловля сома, радение у сектантов, импровизированное выступление Шаляпина в ресторане в «дни свободы». Некоторые сцены сами по себе очень хороши. Но, как я сказал уже, это лишь эпизоды.
Нет никакой возможности передать содержание романа, если понятие «содержание» свести к тому, «что происходит». Не происходит в «Жизни Клима Самгина» ничего. Клим живет, рассуждает, разговаривает. Любовь занимает в его существовании скромное место, — во всяком случае, автор уделяет ей мало внимания. Однако все-таки несколько женщин играют в жизни Клима Самгина роль: «декадентка» Нехаева, дочь Тимофея Варавки — Лидия, простоватая Варвара, наконец, Марина Зотова, купчиха сектантка, властная и умная красавица.
Смысл «Жизни Клима Самгина», ее идейное содержание, ее острие и «актуальность», — конечно, в переоценке значения и роли интеллигенции в русской истории. Нельзя сказать, чтобы самая «оценка» у Горького была когда-нибудь отчетлива и ясна. Как все знают, его долго упрекали за колебания и нерешительность и справа, и слева: одним казалось, что он к интеллигенции слишком жесток, другим — что он к ней чересчур снисходителен. Горький то кланялся в ножки «рыцарям духа», то не без злобы посмеивался над ними и высокомерно учил их уму-разуму. Но это было давно. До октября, до безоблачной дружбы с большевиками, до «самокритики», столь же обязательной для Горького, как и для самого маленького советского писателя. Горький самокритику проделал. Не так давно он писал, что «после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов, обязан был переоценить, — и переоценил, — свое отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно на старости лет».
Нам неизвестно, чего «стоила» Горькому «Жизнь Клима Самгина». Но, несомненно, этот его огромный труд — плод тех же настроений, которые побудили его «отречься от спецов». Он решил написать эту своеобразную историю интеллигенции с тем, чтобы от интеллигенции окончательно отречься. Он приглашает пролетарских читателей «Клима Самгина» как бы в картинную галерею: «смотрите, вот кто "делал революцию", — вот они, говоруны, мечтатели, проходимцы, самовлюбленные гамлетики. Они хотели свергнуть царя, чтобы им, только им, жилось получше; неудивительно, что как только рабочий класс заявил притязание на власть, они оскалили зубы, как волки». Даже те эпитеты, которые Горький, как бы случайно, применяет к своим героям, — характерны: пошленький, злобненький, хитренький, глупенький, красивенький… Горький всячески высказывает свое презрение к тем, кого изображает. Давая свои авторские комментарии к историческим событиям, он сбивается на стиль публицистов из «Правды» или «Известий».
Если это и «Илиада», то написана она Гомером, который сильно озабочен своей «созвучностью» господствующим партийным веяниям и указаниям.
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
Недели две назад один из сотрудников московской «Литературной газеты» беседовал на разные темы с популярными советскими юмористами Ильфом и Петровым… Интервью было лишь наполовину серьезно. Писатели в ответах своих пытались потешить публику. Но одно их замечание, — тоже рассчитанное на смех, — по существу, вероятно, вполне точно выражает чувства многих литераторов, живущих и работающих сейчас в России.
– Что вам больше всего понравилось в «Литературной газете» за 1932 год?
Ильф и Петров ответили:
– Постановление ЦК партии от 23 апреля.
Советскому читателю не надо напоминать, что это за постановление. О нем невозможно забыть: нет теперь критической статьи, нет речи или доклада, где бы об этой «исторической» резолюции не говорилось. Оратор восклицает: «Ныне, в свете решений 23 апреля…» — и сразу ясно, что он имеет в виду. Кстати, даже и это выражение «в свете решений» вошло теперь в неизменный обиход при упоминании об апрельской резолюции ЦК, так что, завидев или заслышав этот «свет», советский читатель или слушатель сразу почтительно настораживается — как у Достоевского, кажется, бедный господин Прохарчин вздрагивал и вскакивал с постели, едва произносили при нем канцелярские слова: «неоднократно замечено»…
Здесь у нас положение иное. Несмотря на то, что и в эмиграции, — в частности, в нашей газете, — писалось об апрельской партийной резолюции немало, о ней существует лишь смутное представление. В лучшем случае читатель помнит только, что по этой резолюции была уничтожена Российская ассоциация пролетарских писателей — РАПП в сокращении. Но что произошло дальше, и чем эта мера была вызвана, он почти совсем не знает. Отдельные газетные сведения противоречивы и сбивчивы… Между тем, переворот, произведенный в апреле на верхах советской литературы, действительно значителен. Последствия его начинают сказываться. Если это и не событие «исторического значения», как утверждают в Москве, то, во всяком случае, крупнейшее явление такого рода со времени памятной резолюции 1925 года, когда партия вмешалась в спор Воронского с напостовцами.
Результаты же могут быть еще заметнее… Тогда случилось нечто странное. Партия стала на сторону сравнительно либерального Воронского, но юркие напостовцы ее перехитрили и быстро прибрали все к своим рукам. Они для виду поколотили себя в грудь, покаялись в ошибках, но тут же обнаружили в резолюции новый скрытый смысл, убедили кого надо в своей правоте — и через год-два оказались господами положения. Произойдет ли и теперь что-нибудь подобное — предсказать трудно. Ничего невозможного в этом нет. Приверженцы «плановой пролетарской диктатуры» в словесности могут оказаться у власти снова. Но теперь у борющихся больше опыта… Поэтому есть основание думать, что сегодняшние победители буду отстаивать свои «достижения» упорнее и ловчее, нежели их предшественники.
Постановлением 23 апреля были распущены все пролетарские литературные ассоциации. Л. Авербах, их главный руководитель и идеолог, был смещен со своего «командного поста» и повергнут в прах. Партия указала, что несколько лет тому назад она сама «всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и искусства». Но за эти годы «выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик и колхозов». Прежние рамки стали «узкими и тормозящими». Появилась опасность превращения пролетарских организаций в «средство культивирования кружковой замкнутости от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социальному строительству». Поэтому вместо РАППа учреждается «единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем».
Текст постановления сдержан и лаконичен. По сравнению с обширным трактатом 1925 года он неясен: чего, собственно, хочет партия, что скрывается за борьбой лиц и личных честолюбий, — понять сразу было невозможно. Естественно возникал вопрос, по форме и существу крайне простой, но вернее всего передающий общее беспокойство и ожидание: будет ли теперь лучше, чем было прежде, или будет еще хуже? Отдушина ли это или дальнейшее зажатие «тисков»?
Было много причин бояться, что второй ответ окажется правильным. Признаюсь, я лично на первых порах был в этом уверен… Правда, уже ходили слухи, что резолюция проведена под влиянием Горького, а Горький все-таки какой-то остаток своего былого престижа сохранил, и представить его себе в роли ревностного «удушителя литературы» было трудно. Правда, уже говорили, что в верхах, в кремлевских «сферах», поняли бесплодность окриков и так называемого «администрирования». Поняли – и отступили перед призраком полного исчезновения литературы. Но это были слухи. Проверить их было трудно. Уклончивые слова резолюции можно было толковать и так и иначе. Несомненно было только то, что настал конец РАППа и что Авербах в борьбе со своими врагами потерпел полное поражение.
Как ни странно на первый взгляд, именно это-то и внушало пессимизм.
При Авербахе советская литература еле-еле дышала. Ей жилось очень тяжело и трудно. Но все-таки она жила. Когда с год тому назад публицист из «Комсомольской правды» вместе с бесстыдным доносчиком вроде Безыменского затеяли против рапповцев поход, казалось, что в случае их победы настанут для советской литературы самые черные времена. По справедливому выражению одного заезжего московского гостя, «в литературу шел хулиган»… Авербах от лица «пролетариата» требовал для себя диктаторской власти над сознанием и совестью литературы. Конечно, это было нестерпимо, но все-таки надо сказать, что властью своей рапповцы пользовались разумнее, чем могло бы оказаться. Они, например, отстаивали необходимость «живого человека» в литературе (вместо ходульно-добродетельного коммунистического героя). Они указывали на важность «психологии». Они допускали даже, что современный советский писатель может уделить внимание таким темам, как любовь или смерть. Для комсомольцев с Безыменским все это были «расслюнявленные размышления над проблемой женских волос». Помимо того, рапповцы отстаивали понятие литературы, как чего-то требующего знаний и мастерства — против тех же комсомольцев, склонных решать вопросы о творчестве по методу «даешь — берешь».
Таким образом, была диктатура, было администрирование, но внутри этого круга, за рапповской изгородью, были все-таки сохранены условия, при которых могли кое-как теплиться «огоньки» литературного творчества.
Осенью прошлого года произошло открытое, решительное столкновение комсомольцев с РАППом. Авербах капитулировал, отступил, — и стало ясно, что дни его сочтены. Месяцев четыре-пять длилось междуцарствие. Резолюция 23-го апреля положила ему конец и установила новый строй.
Кто же одержал победу? Комсомольцы? Нет, во всяком случае, не только они одни; победителей много, они не объединены в какую-либо группу и это-то и заставляет советских писателей радоваться. Победил дух свободы… Конечно, в советских условиях слову «свобода» надо придавать значение весьма ограниченное и скромное… Однако сомнение возможно: теперь стало лучше, чем было.
Если действительно переворот был вдохновлен Горьким, то, по-видимому, приняли в нем участие все антирапповские силы… Все хлынули, как в прорванную плотину; все принялись добивать общего противника. Разумеется, застрельщики схватки, «крайние» типа Безыменского, немедленно заявили претензию на главенство и влияние. Отчасти они этого добились: поэтому рассматривать происшедшую перемену как чистое, простое «поправение» нельзя. Лозунг «живого человека», например, сейчас опять считается упадническим и реакционным. Опять рекомендуется изображать только героев и только в «наиболее героических аспектах». Опять взята под подозрение «психология»… Но все это не беда. Неважно, что былые оппоненты получили возможность развивать свои глупые и невежественные теории, — важно, что тут же рядом им можно возразить, важно, что исчез непогрешимый надсмотрщик, устанавливавший законы, важно, что вместо литературы, управляемой по регламенту, может возникнуть литература вольного соревнования. Рапповский регламент не был вполне безграмотен; повторяю, он был приемлемее многих иных теорий, — но сейчас хорошо то, что никакого регламента нет. Исчезла диктатура. В журналах — полная разноголосица: кто в лес, кто по дрова. Авербах, вероятно, за голову хватается, видя, что делается в его цитаделях. Одно утешение у него: теория вообще отходит на второй план… В этом, кстати сказать, одна из главных особенностей нового курса.
При владычестве РАППа «теоретизирование» было как бы основным делом литературы. Критики вели между собой непрерывные споры. Дискуссии сменялись дискуссиями. «Руководящие товарищи» объявляли, наконец, свой приговор по тому или иному вопросу. Тогда появлялась какая-нибудь новая теория: пища для новых критических совещаний… Писатель в споры вступал редко. Он не всегда мог понять, чего от него хотят. Осуждена была, например, теория «двух струй» (была и такая!). Писатель пишет рассказ. Две струи в его рассказе, одна струя или никаких струй вовсе – как знать? Рассказ напечатан. Писатель трепещет. «Руководящий товарищ» может найти, что это «вылазка классового врага» — и тогда хлопот не оберешься. Может и оказаться, что по части струй не все благополучно… Полная неизвестность вообще. На верхах безостановочно шли отвлеченные «идеологические» беседы, приправленные цитатами из «классиков марксизма». Внизу, в толпе, писатель писал робко, озираясь на начальство. Иной связи между литературой и критикой не было.
Сейчас споры стихают. Лозунги еще выставляются, но они ни для кого не обязательны. Подлинная литература отвоевывает себе некоторую самостоятельность… Это становится с каждой новой книжкой советских литературных журналов все заметнее. Журналы, бесспорно, делаются живее. Еще нет в них сколько-нибудь значительных произведений, отражающих эту сравнительную свободу творческого замысла, — но дух, стиль и состав журналов иной: в основу их кладется лишь общее сочувствие революции и «строительству», без прежнего почтительного следования очередным рапповским предначертаниям. Комсомольцам, желавшим Авербаха свалить, не удалось захватить ту «командную вышку», на которой он держался. В советской литературе нет больше администрирования. Партия восстановила в правах принцип внутренней «перестройки», не подчиненной окрикам и механическим указаниям свыше. По существу, это довольно близко к тому, чего добивался Воронский, в чем он был поддержан в 1925 году и за что потом поплатился.
Не случайно из всех требований, предъявлявшихся Авербахом к литературе, ему сейчас настойчивее всего инкриминируется лозунг «союзник — или враг». Лозунг этот явился на смену понятию «попутчик» и выражает требование немедленного, решительного выбора без каких-либо колебаний или отступлений — с нами или против нас? В свое время он вызвал восторженное одобрение всей московской печати. Всем писателям, насчет которых могли еще быть сомнения в отношении их «классовой благонадежности» — Федину, Олеше, Вс. Иванову, Зощенко, Бабелю и другим — был в упор поставлен этот вопрос: сообщник или враг? Сейчас… Сейчас это «левацкое вульгаризаторство». Вновь признается естественным, что писатель может сомневаться, медлить, искать пути: партия не должна в это время покрикивать на него, партия должна помочь ему обрести единственный в мире источник света — ленинизм.
Кто-то сравнил теперешнее оживление советской литературы с первыми месяцами НЭПа. Сравнение довольно меткое. Государство отказалось от управления литературой, оно как бы согласилось на некий свободный обмен в этой области… В России сейчас, может быть, больше спрашивается с писателя, чем прежде, но и дается ему больше. Он чуть-чуть меньше чиновник, чем был раньше, чуть-чуть больше творец. Опека ослаблена: осталась в полной силе цензура, конечно, — но зато уменьшилось дотворческое внушение.
Долго ли это продержится? К чему приведет? Гадать можно только впустую. Но отметить улучшение в судьбе русской литературы надо. В Кремле как будто сообразили, наконец, что пресловутый «план» к словесному творчеству неприменим.
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». Книга. 50-я. Часть литературная
Юбилей «Современных записок» — большое событие в нашей здешней жизни. Не обычное, рядовое «редакционное торжество» отмечаем мы в эти дни, а общий наш и редкий культурный праздник. Нельзя, конечно, радоваться тому, что мы за границей так засиделись и что выпуск пятидесяти книжек журнала оказался возможным, но надо радоваться, что хватило на такое дело у эмиграции духовной энергии и жизненной силы.
П.Н. Милюков в особой статье уже приветствовал редакцию журнала. Не могу все-таки начать отчет о юбилейной книжке «Современных записок» так, как обычно, — т.е. прямо с разбора помещенных в номере литературных произведений. Еще на днях, в частной беседе, один известный русский писатель говорил:
— В сущности, это лучший журнал из всех, какие у нас были. Даже и в России.
Есть, может быть, в этих словах преувеличение. Но очень небольшое. В том, что «Современные записки», во всяком случае, один из двух-трех лучших журналов, какие были в России, — сомневаться невозможно. Для эмиграции же эти пятьдесят книг, при всей спорности многих отдельных вещей, в них помещенных, — подлинный «патент на благородство».
В юбилейном номере редакция пожелала, по-видимому, продемонстрировать свою заботу о «литературной смене» и уделила молодым писателям больше места и больше внимания, чем обычно. Академизм «Современных записок», впрочем, давно уже начал сдавать свои позиции. Первоначально журнал стоял на охранительной, так сказать, точке зрения: он не осуждал «исканий», но и не интересовался ими; не отрицал таланта у молодежи, но на свои страницы допускал исключительно писателей с более или менее громкими именами. Именно в том, что называется «хранением заветов», редакция видела свою задачу. Но шли годы — и мало-помалу стало выясняться, что «заветы» — не консервы, которые можно хранить сколько угодно, лишь бы только не подвергать их действию свежего воздуха. Появилась опасность отрыва от жизни ради холодноватого музейного благолепия. К чести руководителей «Современных записок» надо сказать, что они это вовремя почувствовали и проявили достаточно гибкости в маневрировании. Сейчас в журнале существует принцип преемственности: от Куприна, Ремизова или Алданова мы беспрепятственно переходим к Сирину, Газданову или Берберовой. «Современные записки» не только поддерживают прошлое и настоящее, но и думают о будущем. Ощупью они идут к нему, допуская неизбежные ошибки, колеблясь в симпатиях и в выборе, теряя в пресловутой своей «солидности», но зато выигрывая в живости… Неизвестно, кто, действительно, будет литературным наследником былых «заветов», но это сейчас и не существенно. Гадать не к чему. Важно другое: сознание, что кто-то принять и продолжить эти «заветы» должен. Словесность продолжается, потому что не умерла культура.
Книга открывается первыми главами нового романа Алданова «Пещера». Это, как говорится, подарок читателям к юбилею: давно уже многие спрашивали, будут ли продолжены «Бегство» и «Ключ», давно ждали рассказа о том, что стало с Кременецким, с Брауном, с Нещеретовым и всеми вообще героями правдивой и увлекательной алдановской хроники. Мы успели с ними настолько уже свыкнуться, что невольно искали их вокруг себя здесь, где-нибудь совсем близко, в том или ином эмигрантском центре… Лучший комплимент писателю трудно сделать: его образы, значит, безошибочно верно были угаданы и очерчены, если обрели плоть и кровь. Можно сказать даже еще определеннее: мы подружились на страницах «Ключа» и «Бегства» с семьей этого петербургского адвоката, такой жалкой, слабой и человечной; как о друзьях смутно тревожились: где Кременецкие теперь? Муся в Париже. Старики Кременецкие в Берлине. Семен Исидорович хворает, обеднел и нервничает. Он перевел в немецкие деньги главную часть своих сбережений, утверждая, что «Германия все-таки есть Германия, а марка есть марка». Афоризм оказался не из удачных, к тревожному изумлению Тамары Матвеевны, твердо верящей в гениальную проницательность мужа: марка подвела. Впрочем, Кременецкий духом не падает. «Папа говорит, — сообщает дочери Тамара Матвеевна, — что Россия должна скоро возродиться и что мы скоро опять будем в Питере, я сама так думаю, и чего бы только я ни дала, чтобы опять жить, как прежде, до всех этих несчастий». Алданов как будто нарочно оставляет своим героям все их иллюзии — не только насчет Питера и «прежней жизни», но и другие, чтобы тем печальнее казалось все повествование, озаренное горькой и холодной мудростью Брауна.
«Жанете» Куприна дан подзаголовок — роман. Между тем, напечатано всего тридцать страниц текста, а в следующем номере уже обещано окончание. Роман будет, по-видимому, чрезвычайно короткий. Куприн рассказывает о русском чудаке-профессоре, живущем в убогой парижской мансарде. Жанета — маленькая девочка, которую профессор встречает на улице: она входит в действие лишь в самом конце напечатанного отрывка. Любопытство возбуждено, но надо запастись терпением на три месяца. Пока можно только сказать, что парижское житье-бытье ученого русского энтузиаста описано Куприным с обычным для него легким и уверенным мастерством.
Ремизов дал отрывок из какого-то нового, большого и сложного своего произведения. Говорю «какого-то», ибо название этой большой вещи еще неизвестно, имена же героев повторяются уже давно в разных ремизовских рассказах… Очевидно, эти рассказы должны быть все объединены. Отрывок, напечатанный в «Современных записках», озаглавлен «Кран гиппопотама». Фабула его незначительна. Но замечателен тон, для Ремизова крайне характерный и с каждым годом все сильнее обостряющийся: витиеватый и гневный, уклончивый и суровый, лукавый и грозный, полный всевозможных «sous entendus», то вздымающийся к небу, как молитва, то сбивающийся на мелкий анекдот… Можно любить или не любить Ремизова, но нельзя отрицать того, что это один из искуснейших и своеобразнейших наших писателей. Правда, нет у него самого высокого — и самого трудного — творческого свойства: прямоты. Пафос Ремизова чуть-чуть слишком хитрый, чуть-чуть порочный и робкий в основе своей. Ремизов никогда не говорит того, что хочет сказать, он только ходит вокруг да около, намекает, посмеивается, отнекивается, шепчет… Но на эти странные словесные узоры и сплетения он подлинный волшебник.
Роман Сирина «Камера обскура» по-прежнему занимателен, ловко скроен и поверхностно-блестящ. При такой плодовитости, какую проявляет молодой автор, трудно, конечно, ждать все новых шедевров… Однако «Защита Лужина» возбудила все-таки к Сирину настолько большое доверие, что каждая новая его вещь встречается с исключительным интересом. «Подвиг» надежд не обманул. Наоборот, он их упрочил. К сожалению, нельзя, кажется, будет сказать того же и о «Камере». Роман внешне удачен, это бесспорно. Но он пуст. Это превосходный кинематограф, но слабоватая литература.
О «Повелительнице» Берберовой не скажу ничего. Роман только что вышел отдельной книгой и заслуживает особого разбора.
Очень интересен — или, точнее, «любопытен» — небольшой рассказ Газданова. Это законченный образец новейшей эмигрантской беллетристики, со множеством влияний, умело переработанных, и каким-то врожденным даром попасть в самый корень современных вкусов и мод. Много психологии, мало действия, длинные, запутанные фразы, запятые и точки с запятой вместо бедных, безнадежно устарелых точек.
Рассказ несколько надуман и подчеркнуто «тонок», но все же бесспорно талантлив. Прелестен любовно-фантастический эпизод, в него вплетенный. Плохо только то, что через несколько часов по прочтении почти невозможно вспомнить, о чем же в «Третьей жизни» говорится. Замысел рассеивается, как мираж.
Поэтический отдел богат, как давно не был. Это, вероятно, тоже результат юбилейных настроений, обыкновенно в «Современных записках» поэзию не очень жалуют. На этот раз редакции пришлось даже отказаться от обычного местничества и расположить стихотворцев не по старшинству, а по алфавиту. Мне очень понравились стихи Оцупа, — в особенности, третье стихотворение, простое, сдержанное и на редкость чистое. Стихи Ходасевича, как всегда, изощренно-искусны и ироничны. Не думаю, однако, чтобы «Я» принадлежало к лучшим его созданиям. Не лучшие свои стихи дал и Георгий Иванов (у него очень хороша только «метафизическая грязь» в последнем стихотворении: зато первое — довольно вяло). Ладинский красноречив и патетичен. Поплавский певуч и задумчив. Есть настоящее чувство у Раевского — в стихотворении, отдаленно напоминающем тютчевское «Пошли, Господи, свою отраду». Декоративен Голенищев-Кутузов. Наконец, Марина Цветаева, как водится, уверяет, что она «одна из всех — за всех — противу всех», но что когда-нибудь это досадное положение изменится. Стихотворение, впрочем, отличное и, наверное, многим понравится: даровитая поэтесса несколько преувеличивает свое одиночество.
Цветаевой же принадлежит статья на тему об «Искусстве при свете совести». Тема острая и глубокая. О таком авторе, как Цветаева, нельзя сказать, что она с задачей справилась или удачно тему «разработала». Держится она в своих высказываниях так надменно-капризно и пишет с такой прихотливой артистичностью, что, применив к ней обыкновенное слово, сразу чувствуешь себя каким-то несчастным канцелярским чиновником. Цитирует она то Тютчева, то Верлена (с ошибкой, конечно, в обоих случаях), «отвечает» за Гете, устанавливает прямую связь между собой и Пушкиным, говорит только с теми, «для кого Бог-грех-святость — есть»… Все это у нее, однако, выходит интересно и оригинально, потому что Цветаева умный и талантливый человек, с подлинным «полетом» в мыслях… Она не ломается, она всегда говорит искренне, в ее словах есть огонь. Но женщина и декадентка в ней не преодолены.
Б. Вышеславцев обнародовал отрывок из записной книжки Достоевского. Запись эта представляет собой стройное и связное рассуждение о бессмертии. Сделана она 16 апреля 1864 года, сразу после кончины первой жены Достоевского. Вышеславцев полагает, — правда, не утверждая этого категорически, — что отрывок появляется в печати впервые. Если меня не обманывает память, он был помещен сравнительно недавно в каком-то советском издании. Но это, конечно, не должно было быть для «Современных записок» препятствием к опубликованию здесь, в эмиграции, документа такой важности. Не буду в короткой заметке полемизировать с Вышеславцевым насчет оценки этой записи. Но скажу все-таки, что, по крайнему моему разумению, ценность этих предельно-рассудочных строк — почти исключительно психологическая. Интересно, что Достоевский мог это писать, и так писать над гробом близкого человека; гораздо менее интересно то, что он записал, само по себе… Но тут я вступаю в полемику и с С.Гессеном, который в библиографическом отделе, рецензируя английскую книгу о Достоевском, разделяет, как будто бы, и даже поддерживает взгляд Вышеславцева. Поражает в размышлении Достоевского тщета доводов. Логика, действительно, «железная» — Вышеславцев прав. Но власть силлогизмов ограничена и, несмотря на их кажущуюся безошибочность, у нас ни на йоту — абсолютно ни на йоту — не прибавляется знания о тех «последних вещах», о которых Достоевский так отчетливо рассуждает. Все по-прежнему темно и неразрешимо: свет был призрачный.
Замечательны — как всегда — «Воспоминания» А.Л. Толстой. Читать их местами тяжело, так много в них суровой правды. Но уж кто хочет вникнуть в семейную драму Толстого и понять ее, тот пусть записки Александры Львовны прочтет: никто еще о Ясной Поляне проницательнее и ярче ее не рассказывал.
<«ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА» Н. БЕРБЕРОВОЙ. – «ВРЕМЯ,ВПЕРЕД!» В. КАТАЕВА>
Сразу скажу: это одна из тех книг, которые должны были бы рассеять сомнения в силах и жизнеспособности нашей молодой эмигрантской литературы. Я только что прочел ее. По «горячим следам» мне о многом хотелось бы с автором поспорить. Но книга, действительно, существует. От нее отталкиваешься или к ней влечешься, как к подлинно живому миру. В ней есть свой ритм, свой внутренний стиль. Это не призрак: выдуманная фабула отвечает всему авторскому душевному опыту, вместе с ним образуя «содержание», а не развивается самостоятельно, по капризу ничем не управляемой фантазии.
Книга, о которой я говорю, — «Повелительница» Н. Берберовой. Роман печатался отрывками в «Современных записках», но по отдельным главам трудно было догадаться об его стройной сжатой законченности. Да и все, что Берберова писала до сих пор, было если и немного слабее, то, во всяком случае, гораздо «сырее», чем эта вещь. «Повелительница» удивляет и радует.
Творческий облик Берберовой был долгое время неясен. Заметно было с первых же ее рассказов сильнейшее, подавляющее влияние Достоевского. Вместе с тем чувствовалось и тяготение к быту, к так называемым «широким бытовым полотнам», в которых давала себе волю природная авторская склонность описывать, рассказывать и просто так, для собственного бесцельного удовольствия, изображать различные человеческие типы. Трудно было предвидеть, что из всего этого получится… Но с «Повелительницей» неясность исчезает. Здесь все взвешено, и напряженное, внутренне-стремительное, будто летящее действие развивается, никуда не отклоняясь и без перебоев. Остались еще первоначальные склонности, — но они вернее направлены, сильны еще прежние влияния, — но они переработаны. Тень Достоевского еще лежит на «Повелительнице». Но уже нет в романе фраз и диалогов, как бы заимствованных из «Идиота»: есть близость в образах, но исчезло подражание манере… Берберова обострила свой вкус, почувствовала потребность найти свое «лицо», — и нашла его. Вероятно, она усердно читала новых французских прозаиков, которыми увлекается большинство наших молодых беллетристов: от них у нее пристальный, кропотливый психологизм. Кое-чем пленил ее, кажется, и Шнитцлер: изысканно-печальным тоном, романтическим ощущением любви и умением из всякого любовного рассказа сделать какой-то водоворот, неудержимо затягивающий человека. При всем том Берберова осталась типично-русской писательницей, взявшей у иностранцев лишь то, что могло ей быть пригодно. Учиться у них ей было не опасно, потому что живой творческий дар должен был удержать ее от простого копирования.
Есть одна только черта в «Повелительнице» не совсем обычная для русского романа, в особенности современного: несколько «салонная» замкнутость атмосферы… Я думаю, если бы книга Берберовой попала в советскую Россию, ее оценили бы там как произведение сугубо буржуазное, и – надо сознаться – не без оснований. Говорится в «Повелительнице» о любви, чувстве, казалось бы, общечеловеческом. Но есть любовь и любовь: та, которая описана у Берберовой, с ее обманчивой простотой, с ее литературными тонкостями и причудами, знакома или, вернее, доступна лишь душам, чуть-чуть слишком праздным, чуть-чуть слишком избалованным жизнью. Это не упрек писательнице. Каждому свое. Можно и из такого материала создать великую и глубокую поэзию — как сделал это Пруст. Но остается впечатление, что Берберовой в ее романе самой как будто душно, что атмосфера его навязана ей извне, что рано или поздно она сама захочет подышать иным воздухом, посвежее, посвободнее, почище.
Очень мало действующих лиц. Русский Париж. Два героя: студент Саша и богатая, слегка скучающая барышня Лена Шиловская. Приятель Саши, Андрей, влюблен в младшую сестру Лены, собирается на ней жениться и как-то вечером ведет Сашу к Шиловскому в дом. Саша уже раз видел Лену на улице, едва заметил ее, но воображение его все же задето ею. Вечер проходит в незначительных пустых разговорах. Однако неизбежность каких-то событий чувствуется… Через несколько дней Лена встречает Сашу, выходя из кассы театра. Он — бедно одет, бежит из библиотеки домой, в свой грошовый отельчик; Лена — нарядная, пахнущая пряными духами, в своем автомобиле. Она приглашает Сашу обедать в дорогой ресторан, не отпускает его от себя, признается ему:
– Вы мне нравитесь!
Саша польщен и счастлив. В следующую встречу Лена проводит с ним ночь. Саша не очень сильно влюблен, но ему необычайно льстит внимание гордой, независимой, слегка «загадочной» женщины. Он хотел бы, чтобы об этой связи знал весь мир. Умная Лена догадывается об его истинных чувствах и уходит от него.
Тогда Сашей овладевает отчаяние. Оскорбленное самолюбие, исчезнувшие надежды, внезапность обиды, неисправимость положения — все это вынести ему не по силам… Он покидает брата, опускается, тоскует, он на краю гибели. Из отчаяния рождается любовь, на этот раз настоящая, неутолимая. Психологически это очень верно, и написаны эти главы с каким-то лихорадочным, страстным вдохновением (иногда напоминающим конец «Митиной любви»). Но в заключении романа Берберова, мне кажется, допустила ошибку: по всей логике замысла, по всей «музыке» его она вела своего Сашу к смерти — и должна была его к ней привести. Ну, конечно, это было бы «банально», что и говорить. Но бояться банальностей и общих мест — нет оснований. После трех тысяч лет культуры и словесности банальны все положения, кроме вычурных: однако художник властен каждое по-новому оживить, в этом-то ведь и состоит искусство. Саша с Леной примиряются. Конец, на первый взгляд, законный. Но его внутренняя шаткость ясна хотя бы из того, что читатель совершенно не может представить себе, как будут эти счастливые и столь чуждые друг другу любовники жить дальше. Смерть поставила бы точку в повести, которой нет продолжения.
Конечно, это спорно – и свои соображения я высказываю лишь в «дискуссионном порядке». Книга увлекает, к ней трудно отнестись с привычным критическим беспристрастием. Ее горькая, терпкая прелесть надолго останется во взволнованной памяти.
* * *
Одна небольшая повесть – «Растратчики» – дала Вал. Катаеву имя.
После «Растратчиков», имевших, кажется, всюду успех, Катаев сразу занял видное место среди советских писателей. На внимание он, бесспорно, имеет право: немногие из современных беллетристов — не только советских, но и вообще всех пишущих на русском языке, — владеют такой интуицией, как он, таким «нюхом» к жизни, таким острым ее ощущением. В России — Алексей Толстой, больше, пожалуй, никто. Как и Толстой, Катаев — писатель менее всего «интеллектуальный», и там, где без помощи разума обойтись невозможно, он довольно слаб. Но в тех областях, где не столько надо понимать, сколько чувствовать, Катаев достигает правдивости почти безошибочной.
Конечно, с Ал. Толстым сравнивать его еще рано: он не соперник Толстого, он его ученик (как сам Толстой — ученик Бунина). Но ученик способнейший.
Его новое произведение, хроника «Время, вперед!» — вещь по-своему замечательная. В своем роде это – фокус. Написана эта хроника на тему о… бетоне. Бетон — главный герой ее. Читателю предлагается следить не за перипетиями какой-нибудь любовной или идейной драмы, а только за тем, успеет ли на далеком «строительстве» заграничная бетономешалка выпустить рекордное количество бетона в час или не успеет. В Харькове было сделано за рабочую смену триста шесть «замесов». В Кузнецке рекорд этот немедленно был побит. Энтузиазм, ясное дело. Теория утверждает, что норму превышать не следует, что это опасно и непрактично, но теорию создавала гниющая буржуазия — для «наших ребят» она не указ. «Темпочки, темпочки!» — как восклицает один из катаевских персонажей: надо побить и Харьков, и Кузнецк. Четыреста пятьдесят замесов в смену! (читатель, может быть, не знает, что такое «замес», — но это и неважно). Мировой рекорд! Однако на последней странице хроники сообщается, что в Челябинске сделано пятьсот четыре «замеса»… Нет пределов достижениям. Соцсоревнование творит чудеса. Рекорды ставятся и падают ежеминутно. Инженеры-американцы изумленно глядят на советские строительные подвиги. Ребята, охваченные восторгом, тысячами записываются в комсомол. Кризис на Западе разрастается, банки, где американцы держат деньги, терпят крах. Капиталисты со страхом взирают на страну советов. Автор полон счастья и гордости. Время летит вперед.
Все это давно известно по бесчисленному количеству других « производственных » романов и повестей. Внутренняя ценность катаевской хроники ничтожна. Но автор «Время, вперед!» сделал все, что, кажется, возможно было сделать в пределах человеческих сил, чтобы повествование свое оживить. Стоит только сравнить эту хронику с такой благонамеренно-тягучей мертвечиной, как «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, чтобы удачу Катаева оценить. Это, конечно, не литература, – точнее, не творчество: это исполнение постороннего, данного свыше, задания. Автор не свободен: он следует агитационным обязательным предписаниям. Но так заразительна и так свежа сила, живущая в нем, что в конце концов, ему удается вызвать нетерпеливый интерес даже к бетону. Читаешь – и ловишь себя на беспокойной мысли, что же, побьют рекорд или не побьют?
«Время, вперед!» не вплетет, как говорится, новых лавров в венок Катаева. Но и не разубедит в его писательском призвании. Конечно, писателю нужна не только бойкость пера, но и совесть. Конечно, писатель не должен и не может уступать кому-либо права на замысел, оставляя себе лишь функцию исполнения. Но эту горестную оговорку приходится делать при разборе чуть ли не всех советских книг, талантливых и бездарных, все равно. Вопрос, в ней заключенный, тяжел и сложен… В основе своей он выходит за пределы литературы и относится ко всей современной России, променявшей личную ответственность каждого на общее послушание. Несправедливо было бы по случайному поводу обвинять одного Катаева в том, в чем повинны подчас все, — тем более что Катаев свою ошибку рано или поздно, надо думать, поймет.
Интересно, что «Время, вперед!» — не знаю, помимо воли автора или по его тайному желанию — дает пресловутому «соцсоревнованию» несколько иное внутреннее толкование и освещение, чем обычно принято. По Катаеву, дело не столько в неудержимом «социалистическом пафосе», дело в жестокой борьбе самолюбий, в прислужничестве, в карьеризме. Даже и мальчик-десятник Мося, весь, казалось бы, охваченный бескорыстным восторгом, даже и он просит, чтобы в телеграмме, сообщающей о победе, было указано его имя: «десятник Вайнштейн». Социализм социализмом, а о себе тоже забывать не годится. Новый человек, рожденный в небывало прекрасных и обновленных советских условиях, что-то подозрительно походит на нашего давнего знакомца — человека старого.
ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ПОСЛЕ «ПЛЕНУМА». – ВЕЧЕР В СОРРЕНТО. – ЕЩЕ О ХРОНИКЕ КАТАЕВА. – ПСИХОЛОГИЗМ И СОВЕТСКИЙ РОМАН
Первый «пленум» Союза советских писателей собрался в Москве в дни предпраздничные, накануне октябрьских торжеств. Совпадение оказалось как нельзя более кстати: на писательских заседаниях тоже господствовали настроения праздничные и торжественные… Если не считать Клычкова, выступившего с очень сдержанной и двусмысленной речью, все участники съезда друг друга поздравляли, все говорили о невиданном расцвете советской литературы и указывали, что никогда, нигде лучших условий для творчества, чем в СССР, не было. Правда, Авербах, привыкший командовать и, вероятно, раздраженный тем, что на этот раз ему пришлось только каяться в грехах, неожиданно обозвал былых своих подчиненных «хамами». Но этот диссонанс был тотчас же заглушён бурным взрывом общего творческого восторга, да и сам Авербах поспешил заметить, что никого обижать не хотел. Съезд закрылся при ликовании участников его. В телеграмме на имя Сталина были выражены самые благонамеренные, пылкие и высокие чувства.
Разумеется, прения на съезде посвящены были одной теме: знаменитому апрельскому постановлению ЦК, уничтожившему РАПП… До 23 апреля, по выражению одного из ораторов, создавались в России не «Магнитострои литературы», «Магнистострои групповщины». Ныне каждый писатель, согласный признать над собою общее идейное руководство «ленинской партии», получил, так сказать, права гражданства и возможность печататься без риска быть объявленным «классовым врагом».
«Литературная газета», подводя итоги, пишет:
«Пленум дал ярчайшее доказательство гениальной мудрости решения ЦК. Все писатели, большая часть которых до сих пор была разъединена и сидела по своим углам, явилась на пленум, чтобы с энтузиазмом подчеркнуть преданность советской власти. Выступление таких старых дореволюционных писателей, как А. Белый, как Пришвин, с высказанными в них желаниями обобществить свой станок, с указаниями на то, что нигде в мире нет такого внимания к литературе, такого "покровительства писателям", как у нас, еще более подчеркивает, что постановление ЦК чрезвычайно своевременно вскрыло и вместе с тем еще более стимулировало переход писателей на рельсы советской власти, создав единый фронт писателей от Чумандрина до Андрея Белого».
О выступлении Андрея Белого — скорее трагическом, чем смешном, и, во всяком случае, крайне тягостном для всех, кому, по давним воспоминаниям, еще дорог этот одареннейший писатель, — уже упоминалось в нашей газете. Характерно, что и он, и все другие утверждали, что благодетельное действие решения ЦК уже сказалось на практике и что советская литература переживает дни небывалого творческого подъема («нам бешено хочется творить», — сказал Л. Грабарь). Книги будто бы выходят «сплошным величавым потоком», одна другой лучше, одна другой значительнее. Где эти книги – неизвестно. Журналы, действительно, стали чуть-чуть живее, чем был год тому назад, но особых шедевров — даже и по советской оценке — в них незаметно. Окончен «Скутаревский» Леонова, роман очень неровный, очень спорный, талантливый, как все, что Леонов пишет, но, во всяком случае, ни в какой связи с апрельским партийным постановлением не стоящий. Тянется бесконечный, сероватый, скучноватый «Последний из Удэге » Фадеева. «Энергия» Гладкова, «Баррикады» Павленко, «Время, пространство, движение» Никулина — вся эта «продукция среднего качества» тоже могла появиться когда угодно. Где шедевры, обязанные своим возникновением ЦК, повторяю, — неизвестно. Конечно, шесть или семь месяцев, прошедшие со дня «гениального решения», — срок небольшой, и вполне естественно, что та сравнительная свобода, которую получили писатели в России, еще не успела заметно отразиться на их работе. Но тогда непонятно, кому нужны речи о небывалом расцвете.
Из теоретических вопросов на съезде довольно много было уделено внимания «социалистическому реализму». Сторонникам «революционной романтики» был дан бой, — и те поспешили отступить; впрочем, кое-какие позиции они за собой сохранили, и расположенный к благодушной терпимости пленум признал, что и «красная мечта» имеет право на существование, поскольку она отражает «взволнованность писателя и заглядывание в будущее». Ни к какой определенной, обязательной для всех программе пленум не пришел: Боже упаси, с новейшей точки зрения это опять была бы «групповщина». Никаких «заостренных выводов», — как выражаются в советской печати, – не сделал. Собрания прошли, главным образом, в приятных разговорах. Если какой-либо вывод и напрашивается сам собой, то лишь тот, что лучшая в мире литература преисполнена благодарности и любви к лучшему в мире политическому строю… Читатель может подумать, что я иронизирую. Нет, это не только лейтмотив всех речей, но и формула, с совершенной точностью передающая настроения и помыслы участников съезда. Явные, по крайней мере: о тайных мы можем только догадываться.
* * *
Прежде ездили в Ясную Поляну. Теперь ездят в Сорренто.
Молодой драматург Афиногенов, автор «Страхам, путешествовал прошлой весной по Италии, заглянул в Неаполь и не мог, конечно, удержаться от соблазна побывать у Горького… В трогательной волнующей форме передает он в последнем номере «Красной нови» свои впечатления от встречи и бесед с «нашим изумительным Максимычем» (обращение к Горькому в одном из юбилейных приветствий от рабочих).
Афиногенов, разумеется, сильно волновался. О чем он будет говорить с великим писателем? Не помешает ли ему? Не «податься ли назад»? Но показался на пороге Горький, «большой, чуть сгорбленный, покашливая и дымя в усы», обласкал робкого посетителя, — и «сразу отпала шелуха довстречных мыслей».
«Великий писатель » был с Афиногеновым весьма словоохотлив. Сначала спросил с отеческой суровостью: «Ну, как у вас там; какое положение в литературе, с кем деретесь?», – а потом принялся рассказывать анекдоты… Анекдот за анекдотом: то со ссылкой на последнюю речь Кагановича, то из личных воспоминаний, то из области чистой фантазии. Сообщил, между прочим, что «белые» в пароксизме ненависти к СССР организовали в Париже «контрчеку». Сообщил, что одна его знакомая лично знала Серафима Саровского, который был «прижимистым кулаком». Рассказал, как до самых последних лет при царском режиме его, Максима Горького, обижали: пришел к цензору, а тот и сесть не попросил, — «так стоя и дожидался». Подчеркнул свое недоверие к философии, пустой буржуазной выдумке: «в самых сложных философских системах ничего нет такого, что не содержалось бы уже в простых, примитивных идеях народных масс».
О многом говорил Горький, всего не переберешь. Изредка беседа прерывалась вздохом: «В Москву, в Москву».
– Замечательные там творятся дела, мне бы в Москву поскорее… Доктора не пускают, говорят, рано, в Москве еще холодно. А я поеду, я должен первомайскую демонстрацию увидеть, я все равно поеду.
* * *
Два слова еще по поводу хроники Вал. Катаева «Время, вперед!», о которой я писал на прошлой неделе.
Одному французскому писателю на днях передавали при мне содержание этой вещи. Он послушал и сказал:
— Это фетишизм.
Интересно, что слово «фетишизм» мелькнуло уже и в советской критике в связи с катаевской хроникой, — хотя, конечно, тут же вызвало гневные возражения. Напомню, что во «Время, вперед!» говорится о соревновании отдельных заводов в изготовлении максимального количества бетона в рабочую восьмичасовую смену. Рабочие полны энтузиазма. Героические подвиги их на «трудовом фронте» возбуждают беспредельный восторг автора.
Фетишизм… Действительно, для Катаева бетон – это как бы некое божество, требующее жертв, а труд, имеющий целью хозяйственное обогащение страны, является процессом, поглощающим не только все физические, но и все духовные силы человека. Катаевские рабочие борются за строительство, как рыцари шли в крестовые походы: дойти в Иерусалим — и умереть; побить мировой рекорд по бетону и как бы раствориться в радостном трепете от предчувствия окончательной, последней победы социализма. Карьеристы и честолюбцы не в счет, речь идет об основной массе. У нее никаких «запросов» нет: все дано, все заключено в технике и хозяйстве. Успешное ведение хозяйства страны даст абсолютное счастье. Поэтому-то и труд, к этой цели направленный, вызывает почти что религиозное воодушевление. Бетон — залог торжества над жизненным страданием.
В этом смысле «Время, вперед!» — произведение, чрезвычайно характерное для теперешней России. Думаю, что и на Западе оно придется по вкусу тем, кто болезненно ощущает разлад духовной и физической деятельности человека и, вместо гармонического союза этих двух начал, готов немедленно помириться на поглощении одного другим. Единство устремления всей человеческой энергии будто бы достигнуто, – но какой ценой? Престиж мертвой вещи настолько вырастает в глазах живого и свободного индивидуума, что он на служение ей отдает всего себя.
* * *
Довольно точно и правдиво передает впечатления «среднего» европейского читателя от советской литературы статья Р. де Сен-Жана в «Нувель литтерэр».
«Ничто не повергает француза в такое недоумение, как современный русский роман… Подмените любовь пятилеткой, если угодно. Но поймите же, что этим вы сразу уничтожаете долгую литературную традицию, которая даже и в самой России дала шедевры Толстого, Достоевского и Чехова».
Недоумение основано на полном исчезновении «психологизма». В то время как на Западе это течение становится все шире и сильнее, в России оно внезапно оборвалось… «Такие писатели, как Всеволод Иванов или Лидия Сейфуллина, оставляют человеку лишь естественные функции». Западный роман изображает столкновение личности с обществом. В России общество не удостаивает личности своим вниманием, борьбы между ними быть не может, общество всегда торжествует и заранее в торжестве своем оправдано.
«Новый человек, служитель государственного блага, не знает больше порывов, раздумий, мечтаний и внутренних диалогов, которые составляют достояние героев буржуазных романов. Ему недостает одиночества в самом простом смысле слова, он даже не может воскликнуть, как восклицали принцы в пародии на трагедию:
– Удалимся в наши покои!
– ибо его покои это общая комната, где сожители ни днем, ни ночью не дадут ему уйти в свои мысли и страсти… Будущий Стендаль принужден будет отказаться от всяких монологов и отправить своего героя на какую-нибудь образцовую ферму.
Автор статьи решает вопрос, может быть, слишком прямолинейно: всякий, внимательно следящий за советской литературой, признает это… Но, несомненно, анализ «переживаний» у советских романистов, действительно, сходит на нет, и потому-то пресловутый лозунг «живого человека» и вызывает в России столько неразрешимых споров, что без углубления в душевную жизнь нет возможности дать образ человека. Идеологи и теоретики в большинстве случаев настаивают: живой человек литературе нужен. Но только писатель пробует его показать, они сразу в ужасе открещиваются: как смеет этот злосчастный «живой человек» думать о чем-либо, кроме классовой борьбы и строительства? Получается некое «или-или»: или безупречно-революционный истукан, или человек подлинный и потому с неизбежными «провалами». Теория отказывается признать противоречие, но практика обойти его не может… до сих пор советская литература поневоле выбирала, большею частью, первое «или». Если бы тот «социалистический реализм», о котором теперь так много говорят, позволил литературе обратиться к настоящей жизни, он спас бы ее от медленного омертвения.
<«СЧАСТЬЕ» Ю. ФЕЛЬЗЕНА. – КЛЕТЧАТОЕ СОЛНЦЕ» А. ТАЛЬ >
У каждой книги — своя судьба. «Habent sua fata libelli», — сказал древний поэт. Одни рассчитаны на успех широкий и быстрый, даже иногда мгновенный: всем книга «нравится», все находят в ней что-то для себя приемлемое и приятное, всех она так или иначе волнует или интересует. Автор обращается не к индивидуальным особенностям какой-либо отдельной, близкой ему категории людей, а к тому, что во всех людях есть несомненно-общего и что они с радостью друг в друге обнаруживают. Величайшие книги человечества бывают таковы, но таковы же и те романы и повестушки, которые в читательской памяти «сгорают быстрее свечи»: разница вся в том, насколько дорог людям и неискореним из их сознания образ, созданный автором, требует ли он от них умственно-душевного напряжения, или, наоборот, поощряет их слабость и лень… Можно сказать, что есть бессмертно-общее, но есть рядом поверхностно или эфемерно-общее: всем близок и понятен «Дон Кихот», например, но ведь и романы Потапенко в определенной среде и в определенную эпоху возбуждали у тысяч читателей одинаковые эмоции. В литературе, увы, Потапенок неизмеримо больше, чем Сервантесов. Широта и легкость успеха в огромном числе случаев покупаются ценой его глубины.
Другие книги доступны только при наличии которого внутреннего родства с автором. Читательские «массы» над такими произведениями скучают: они чувствуют, что автор к ним высокомерно пренебрежителен, и в ответ как бы обижаются, мстя ему безразличием и холодностью. Но «где-то есть душа одна», она это лично-прихотливое, от всего отрешенное и грустное сочинение прочтет и — продолжу Некрасова — «она до гроба помнить будет». Найдется две-три таких души, сто душ, быть может, — они в книгу «влюбятся», все до последнего слова в ней примут и поймут и потом попытаются заразить своей влюбленностью остальной мир. Иногда это удается. Иногда — нет. Опрометчиво, конечно, было бы думать, что всякое узкое и глубокое признание a priori ведет к славе: если люди и согласны исправить свою первоначальную ошибку, то на веру они этого не делают и предварительно хотят убедиться, что ошибка в самом деле была… Писатель, до конца замкнутый в себе, подлинной славы никогда не узнает. Характерен в этом отношении пример Иннокентия Анненского: уж у этого ли поэта не было влюбленнейшего, очарованного, тесного окружения, казалось бы, обеспечивающего посмертную судьбу, сходную с тютчевской, — и все-таки пределы его влияния оказались скоро достигнутыми, и шире их раздвинуть до сих пор еще невозможно. В чем дело? Мастерство ведь почти что несравненное, своеобразие духа пленительное, — в чем дело? Вячеслав Иванов когда-то заметил, что Анненский принадлежит к «скупым нищим жизни». Точнее и острее сказать трудно, — и, кажется, в этой характеристике и дан самый верный ключ к разгадке. Нет самозабвения, нет щедрости — слишком много дальновидной, умной бережливости. Время и так называемая «толпа» на этот счет редко заблуждаются: суд их по большей части – суд зоркий и справедливый.
Самый серьезный упрек, который мне хотелось бы сделать Юрию Фельзену, автору бесспорно замечательного и — не в обычно-поверхностном, а подлинном смысле слова, — «интересного» романа «Счастье», это именно его замкнутость. В сущности, даже не упрек: упрекать можно только в том, что поправимо, в том, за что человек лично ответственен… Фельзен, кажется, рвется из заколдованного круга своих «переживаний». Но мир, лежащий за ним, для него недоступен и недостижим. Нечего делать: весь его стыдливый пафос, вся тусклая и горькая поэзия его творчества — от сознания невозможности переступить черту и смутного понимания, что переступить ее все-таки надо. «Счастье»? Есть, вероятно, ирония в названии книги. Много правильнее было бы озаглавить ее — «Одиночество».
Не думаю, чтобы когда-нибудь — не только в ближайшее время, но и позднее — у Фельзена образовался обширный круг читателей. Но не сомневаюсь ни на минуту, что уже и теперь найдутся в Париже или в далекой Латвии, а то и где-нибудь «под знойным солнцем Аргентины», по всем углам и странам русского «рассеяния» люди, для которых его книга будет неожиданным и радостным откровением, люди, которые будут читать ее и перечитывать, с удивлением следя за безошибочными и неутомимыми блужданиями автора по дебрям какого-то темного, странного, печального, но им хорошо знакомого внутреннего мира. Должен признаться: я был заинтересован «Счастьем», так сказать, со стороны. Но при совпадении душевных типов чтение Фельзена должно быть до жуткого увлекательно: нечто вроде саморазглядывания в свете рентгеновских лучей.
Никакой, или почти никакой фабулы. Герой пишет длинное, заполняющее всю книгу, письмо своей возлюбленной Леле. Та, вероятно, никогда не прочтет этого бесконечного послания, да это и не нужно. Она не то что ограниченнее героя; нет, она могла бы, может быть, понять все, что он ей пишет, — но ей не очень хочется погружаться во все эти причудливые, тончайшие и капризные сложности, ее тянет жить. А жизнь из-за излишнего внимания к тонкостям и сложностям можно и пропустить, прозевать. Леля этого, по-видимому, инстинктивно остерегается, а он, герой… он жить все равно не умеет и не хочет. Показательно для него, что сразу, уже на первых страницах романа-письма, он в обычном своем путанном и прихотливом стиле признается, что для него высшее блаженство — полулежа на кушетке, молча гладить лелины волосы, ничего не думая, ничего не делая, — если бы все существование его могло заключаться только в этом, он благодарил бы судьбу… Нельзя сказать, что этот человек умен: он не выражает никаких общих мыслей. Но он наделен необычайным, скорее женским, чем мужским, даром улавливать и понимать каждое мельчайшее душевное движение, и эта созерцательность, ни разу не потревоженная спящей силой, развивается в нем до ясновидения. Книга, действительно, похожа на монолог ясновидящего, внешний мир исчез, зато внутренний освещен беспощадным сиянием. Человеку надо же на что-либо обратить свою энергию, и если ему к тем областям, которые в самом общем значении можно назвать социальными, доступ закрыт, то, естественно, он тратит силы на наблюдение за самим собой… Леля ему изменяет, вокруг тянется жизнь, полная обманов, грусти и лжи, кто-то за кого-то бессмысленно выходит замуж, кто-то стреляется от безнадежной любви, другие пьянствуют, картежничают, говорят плоские пошлости, – а он, герой, все только замечает, записывает и объясняет. У него есть цель: убедить Лелю в том, что счастье дружбы, — если нет счастья страсти, — ценнее всех ценностей на свете, он без конца ее о дружбе молит, всячески доказывая ей, что все остальное прах, суета сует, чепуха, что личная любовь включает в себя все блага мира, — и, конечно, остается со своими мольбами один, без ответа. Леля, может быть, и вернется к нему. Он простит измену, забудет обиду, он все забудет и простит вообще, — вспомним еще раз Некрасова:
Сердце мое, исходящее кровью, Всевыносящей любовью Полно, друг мой!Но положение его безысходно-печально. Нельзя такого человека любить, не «не за что», скорей «нечего» в нем любить, — разве что встретится ему такая же сомнамбулическая душа, вялая и чистая, обостренная и осторожно-расчетливая, одна из «скупых нищих жизни», которая в нем узнает себя, как в зеркале… Нет основания, конечно, отождествлять автора с его литературными героями. Но Фельзену такие же нужны и читатели, — и если найдется их и не очень много, то преданы они ему будут, как никакому другому современному писателю. Не испугает их ни трудное своеобразие стиля, ни постоянное возвращение к тем же суждениям, ни вся вообще напряженнейшая и вдохновенно-кропотливая путаница этой книги, которую нельзя «перелистать», в которую надо вчитаться.
Два слова в заключение о языке «Счастья». Он крайне неправилен. Автор это, очевидно, знает — и устами своего героя говорит.
— Не человек для языка, а язык для человека. Мы вправе ломать существующий язык, если не можем при его посредстве себя и свое выразить, и грех перед человеческим достоинством и назначением – недоговаривать малодушно, языку уступать… Все это требует медленной и страстной работы над словом: пускай получатся неуклюжие, неловкие сочетания, — по крайней мере, будет высказано действительно нами задуманное, не то приблизительное и случайное, что у нас появляется в легкомысленной, горячечной спешке из-за ленивого подчинения внешне удавшейся фразе.
Взгляд очень спорный — и в общей своей форме очень опасный. К какому хаосу может он привести! Если даже будет достигнута особая, прежде неведомая, индивидуальная выразительность стиля, — стоит ли «игра свеч»? Вопрос, над которым надо было бы подумать. У Фельзена его отступление перед грамматикой почти всегда оправдано (все-таки не всегда). Но у других оно может быть внушено безволием и даже распущенностью.
* * *
После удивительного «Счастья» довольно трудно перейти к «Клетчатому солнцу» Анны Таль.
Это вовсе не плохая книга. Есть в ней и вкус, и какое-то хрупкое холодноватое изящество… Но это роман, в обычном и самом условном смысле слова, с известной порцией разговоров, с установленной долей описаний природы, со страдающей и непонятой героиней, с различными типами и персонажами, введенными в повествование лишь для его оживления, со всеми теми данными вообще, которые требуются по готовым рецептам общедоступной литературной кухни. Рецепты хороши сами по себе, они в течение многих лет проверены, они выработаны опытными мастерами, — но для подлинного творчества их все-таки мало; нужно «кое-что» другое, свое, в дополнение к принятой схеме. У Анны Таль этого «кое-что» пока не заметно. Если быть вполне откровенным, то надо сказать, что не видно у нее еще и залогов его появления… Роман чистенький, не бездарный, но чуть-чуть ученический. Было бы, пожалуй, даже предпочтительнее, если в нем было бы меньше гладкости за счет внутреннего движения, и если бы к нему не так шел эпитет «удачный» — эпитет похвальный, конечно, но ограниченно-похвальный. Было бы больше надежд, — а то сейчас приходится считать, что «Клетчатое солнце» не ранний, бледный набросок молодой писательницы, а ее «достижение».
Ольга Кривецкая замужем за немецким ученым, профессором Шрадером. Она не счастлива и не несчастна. У нее «мятущаяся» душа, она сама не знает, чего хочет, — и мужа, разумеется, бросает. Начинается довольно длинная цепь «увлечений»: мальчик-итальянец Джино с «холодными, мягкими губами», затем какой-то скрипач, затем немецкий журналист и другие. Счастья, увы, все нет. Ольга ищет забвения в искусстве. Она — талантливый скульптор и думает в лепке найти свое подлинное призвание. Старый русский художник ею, полувлюбленно заботится о ней, и Ольга в ответ на его внимание называет его своим «единственным другом». Но это тоже не счастье. Рассеянная, утомленная жизнь в Париже, денежные заботы, неудачи… В искусстве Ольга достигает успехов, но душа ее пуста. Наконец, попадается на ее пути американец Армстронг, прямодушный, простой человек – богатый, конечно, как и полагается быть американцу. Ольга уезжает с ним на его родину. На этом роман и кончается.
У Анны Таль нашлось достаточно чутья, чтобы рассказать эту незамысловатую историю без дешевого лиризма. Наоборот, она даже кое-где подсушила ее иронией.
Не совсем ясно, сочувствует ли автор своей взбалмошной героине или посмеивается над ней. Это и лучше, ибо нет ничего рискованнее попыток выдать фарс за драму.
1933
<«СКУТАРЕВСКИЙ» ЛЕОНИДА ЛЕОНОВА >
Первоначальное впечатление от первых ста или полутораста страниц — решительная неудача. Обычный советский «производственный» роман с научными формулами и экономическими размышлениями, с описаниями героической борьбы за социализм и картинами «вредительства», с добродетельными большевиками, колеблющимися интеллигентами и злобствующими мещанами, — обычный советский «производственный» роман, одним словом, но какой-то вялый, психологически неясный, бесцельно задерживающийся на мелких бытовых подробностях. Не то «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян, не то Гладков или Пантелеймон Романов… Правда, и большого доверия у читателя к Леонову сейчас нет. Уж слишком он энергично «перестраивается», как выражаются в московской печати, — за последние годы уж слишком резок, боек был переход от «Вора» к «Соти» и, в особенности, к новейшим леоновским речам, статьям и другим теоретическим выступлениям. Ясно — человек уступчивый, готовый на любую сделку с совестью. С этим предубеждением раскрываешь «Скутаревского», первые главы его читаешь с тяжелым чувством, не находя в романе ничего такого, что когда-то прежде в Леонове пленяло, — никакой глубины, никакого взлета.
Но это длится недолго. Неожиданно и не сразу заметно «Скутаревский» как бы раскалывается и начинает звучать гораздо сложнее, гораздо болезненнее и вместе с тем «музыкальнее», чем можно было ожидать. Автор как будто теряет власть над темой, она им овладевает и, помимо его воли, вопреки желанию, возвращает в область подлинного творчества, к живой и смутной творческой стихии. Тяжелое чувство у читателя не исчезает вполне, но к этому чувству мало-помалу подмешивается волнение, и оно уже не похоже на прежнюю простую досаду. Леонова становится жаль: какое дарование и какая ужасная путаница в душе, какая раздвоенность между истинным, тревожно-пристальным вниманием к миру и готовностью изображать его по чужим, схематическим указаниям! Волнение то слабеет, то усиливается. Попадаются главы, которые действуют как ледяной душ: опять вспоминаются плоские образцы советской беллетристики… Но тут же снова слышится «музыка»: к концу она все отчетливее, все властнее. Нет, «Скутаревский» — не та книга, которую можно перелистать и со спокойным сознанием удовлетворенного любопытства поставить на полку. Конечно, это — неудача: оспаривать этого никто не станет. В формальном отношении даже удивительно, что Леонов сделал столько очевидных промахов и дал своему замыслу так расползтись. Но в самой неудачливости своей «Скутаревский» все-таки живее, ценнее, полновеснее «Соти», — и уж если говорить о «перестройке» или «творческом росте» писателя, то означает «шаг вперед». Только расти и двигаться Леонову придется, вероятно, долго, — и неизвестно, чем он кончит. Много дано ему, много с него и спросится.
Сергей Андреевич Скутаревский — знаменитый ученый, физик, работающий над проблемой беспроволочной передачи электрической энергии. Разрешение этой задачи имело бы величайшее значение для советской России. Скутаревский еще в молодости, будучи студентом, поражен был навязчивой идеей-вопросом: откуда берут световую энергию рыбы на огромных океанских глубинах, откуда берет свое бледное зеленоватое сияние светлячок? Товарищи даже дразнили его: «ну что, — понял, почему светятся рыбы?» Но Скутаревский не обращал внимания на шутки и продолжал искать. Происходил он из бедной семьи ремесленников. «Молодой ученый вступал в жизнь без лавров, без триумфальных арок, даже без лишней пары штанов; буржуазия еще не видела, за что ей следует платить этому угрюмому босяку», — замечает автор. Вскоре буржуазия увидела, за что ей следует платить Скутаревскому. Он получил кафедру, приобрел громкую известность. Труды его переводились на все языки, Европа и Америка считались с его авторитетом. Настала революция. Однажды Скутаревского вызвал к себе Ленин, носившийся тогда с мыслью об электрификации. В результате аудиенции, подробно описанной Леоновым, Скутаревский стал директором особого института, посвященного исключительно задаче беспроволочной передачи тока, и видной советской «персоной». Сочувствует ли профессор большевикам? Вначале — лишь наполовину. Ленину он ответил уклончиво: «У меня имеются кое-какие сомнения». Но мало-помалу увлечение работой «всероссийского масштаба» начинает перевешивать над сомнениями. Скутаревский — двоящийся образ, противоречивый и глубокий. Он мрачен, угрюм, чудаковат, – и в то же время простодушен и наивен. Один из его бывших приятелей в высшей степени проницательно определяет источник его настроений после очередной беседы о «наших успехах».
– Ты теперь всему радуешься, положение твое такое. Тебя купили. Нет, не за деньги… но тебе верят безоговорочно. А это самая страшная монета!
Казалось бы, Леонову следует — по общепринятому советскому рецепту — провести своего профессора от раздумий и сомнений к окончательному уверованию в мудрость «нашей партии», к научному торжеству и победе над всеми врагами. Критика была бы довольна. Роман получился бы, как теперь в России говорится, «крепкий». Не знаю, был ли у автора «Скутаревского» такой план, но ничего невозможного в этом предположении нет. Я уже сказал, что в романе есть момент, когда возводимая Леоновым постройка как бы рушится, когда мир его как бы «раскалывается», и в бездушную, мертвенную, надуманную фабулу вторгается настоящая жизнь. Если бывают книги, о которых хочется заметить, что у автора «правая рука не знает, что писала левая», то, кажется, никогда эта поговорка не была уместнее, чем в применении к «Скутаревскому». В этом и сила, и слабость романа: сознание Леонова не поднимается высоко, но лучшие главы его книги написаны как будто бессознательно, в каком-то странном, грустном оцепенении. Советские критики по привычке ищут в каждом литературном произведении вывода, тенденции: вот этим, например, образом автор «сигнализирует» о прорыве на таком-то участке идеологического фронта, другим — указывает на срочную необходимость такой-то меры… Подобные опыты уже проделываются над «Скутаревским». Но критики в явном недоумении: ничего нельзя найти определенного у Леонова, ни «сигнализаций», ни указаний, ни даже «четкой классовой зарядки». Начнет он сигнализировать, — и тут же бросает, не договорив самого существенного. Сделает вид, что заряжен классовой бодростью, — и вдруг пишет что-то «о великом одиночестве человека на земле». И это в завершающий год пятилетки одиночество-то, в дни невиданных социалистических триумфов и завоеваний! Остается только признать «Скутаревского» роковой и непонятной ошибкой. Критика так и поступает.
Трещина в романе впервые чувствуется в тех главах, где появляется женский образ, т. е. любовь. Достойно внимания, что она разверзается в подлинно-зияющую пропасть там, где входит в роман Леонова смерть, — в главе, посвященной самоубийству сына Скутаревского. Профессор с высоты своего материалистического миросозерцания склонен посмеяться над «проклятыми вопросами», но автор, кажется, не вполне уверен, что его герой прав. У постели самоубийцы, бывшего в связи с группой инженеров-вредителей, Скутаревский гневно спрашивает:
— Это правда — подорвать величайшую попытку перестроить мир? Правда — организованно сжигать народные усилия?
Но хотя он и говорит, что «политика делит мир на иные молекулы, чем физика и химия», гибелью сына он все-таки потрясен и объяснить себе ее не может. Смерть и любовь парализуют рассудок Скутаревского, — и, как будто помня совет Ларошфуко, он боится на них «взглянуть в упор».
Женщина в романе Леонова не занимает значительного места. Однажды, возвращаясь в автомобиле в Москву, Скутаревский в поле едва не сбил с ног какую-то девочку. Была ночь, девочка шла одна, во тьме… Профессор подвез ее до города и, так как ей некуда было деться, пригласил к себе. Женя оказалась способным, умным подростком: стала учиться, сделалась секретарем Скутаревского. Профессору пришлось выехать из собственной квартиры из-за ревности и обиды жены. Но слухи и сплетни, которые стали усиленно распространяться насчет «старческих шалостей» Скутаревского, ни на чем не основаны: отношения его с Женей — деловые, суровые, без всякой сентиментальности. Страсть таится глубоко, Скутаревский не дает ей выхода. Жене же и в голову не приходит, что она может полюбить профессора: любовь зреет в душе ее медленно, спокойно. Ей, в сущности, гораздо ближе помощник Скутаревского, некто Геримов, молодой парень, яростно грызущий «гранит науки», и коммунист настолько стойкий, что ему даже по ночам снится, будто он полемизирует с Каутским. Но однажды Женя пришла к Скутаревскому и сказала:
– Мне кажется… вы можете считать, что я люблю вас.
Он молчал. Она добавила:
– Если вы хотите… то живите со мной!
Скутаревский отвечает взволнованно и сумбурно. Женя не понимает его. Тогда он переходит на иронию:
– Проще — значит площе. Я не имею права на вас, дорогой товарищ. Будучи нелюдимым, я прожил одиноко. Такое состояние продлится, по-видимому, и впредь. Наверно, я умру один. Меня похоронит милиция. Гроб оклеят красненькими обоями. Геримов, если ухитрится сбежать с заседания, скажет благоразумное слово.
– Это неправда, неправда! – закричала она, хватая его руку.
– Вот, знаитя, и все, – заключил он, нарочно исковеркав слово. – Мой вам совет, товарищ, сойдитесь с кем-нибудь еще!
На этом идиллия кончается. У Скутаревского остается наука. Но и в этой области он оказывается неудачником. Для опытов передачи электрической энергии на расстояние отводится особое поле. Скутаревский уверен в успехе. Жизнь его получит, наконец, свое завершение, имя его станет бессмертным. Вся страна следит за его работой: открытие Скутаревского должно явиться началом новой эры не только в физике, но и в народном хозяйстве. Опыт должен удаться. Гений, воля, знание, — все на стороне Скутаревского. Наступает торжественная ночь, та, в которую должно все решиться. Приборы осмотрены, расчеты проверены, ток послан, — на противоположном, черном берегу реки должны вспыхнуть какие-то контрольные щиты. Но щиты остаются темными, как были. Света нет. Вычисления Скутаревского ошибочны.
Он возвращается домой, в Москву, подавленный, но гордый. Он знает себе цену все-таки. Неучам, которые уже готовы поднять поход против него, у Скутаревского найдется, что ответить. Но… если его заподозрят во «вредительстве», его, его, Скутаревского, который так искренно и честно хотел послужить родной стране, помочь ей в ее усилиях? Профессору уже мерещится судебный следователи беседующий с ним сухо и высокопарно. Но предположение не оправдывается. Скутаревский продолжает работать, за ним остается место директора института. Роман обрывается на сцене встречи его с рабочими «подшефного» завода… Однако «великое одиночество человека на земле» дает себя знать к концу «Скутаревского» сильнее, чем когда бы то ни было, — и никакими фанфарами, которые Леонов под занавес вводит в дело, его не заглушить.
Таков этот роман. Несмотря на бесчисленные срывы, на множество грубо-фальшивых страниц, он все-таки запоминается, — как редко какая другая советская книга. Интереснее всего было бы рассмотреть его в плоскости вопроса: что происходит с Леоновым, куда ведет, куда уводит его, к каким печальным думам, к какому горестному ощущению жизни та пресловутая «перестройка», которую ему навязали? Но об этом можно было бы судить только в том случае, если бы в России писатель мог писать свободно. Догадываться и гадать, читать «между строк» — не стоит.
«ЧИСЛА». КНИГА 7-8
Когда появилась первая книжка этого журнала, с таким редким изяществом изданного, многие предсказывали ему короткое, эфемерное существование. Одни утверждали, что «Числа» — это всего лишь забава, роскошь, праздная и чуть-чуть снобическая затея. Другие приветствовали новый журнал и признавали за ним право на существование, но тут же выражали опасения, что в нашей усталой, занятой насущными заботами эмиграции не найдется сил для его моральной поддержки.
«Числа» оказались более живучими, чем можно было предполагать. Эмиграция проявила внимание к области так называемых «исканий» в литературе. Выяснилось, что у нас существует острый интерес к искусству, которому в новом журнале отводится значительное место. Обнаружилось вообще, что «насущные заботы» не уничтожили в нашем обществе привычной его склонности следить, любопытствовать, тревожиться или хотя бы просто «быть в курсе», — и что как ни тяжело здесь, за границей, русским людям живется, им хочется, им нужно иногда прочесть не только произведение классически стройное, как бы гарантирующее от всяких неожиданных эмоций, но и вещь спорную, вызывающую сомнение или даже противодействие; не только статью о сегодняшнем дне, но и рассуждение отвлеченное; не только, скажем, очерк современного состояния социализма, но и размышления о Пикассо, например. «Числа» нашли своего читателя – оттого они и существуют.
По всей вероятности, успех их основан именно на заполнении того «пробела», который давно уже здесь чувствовался, — на широкой, быстрой и притом критической отзывчивости к явлениям общей культуры. Подчеркиваю, что я говорю лишь об успехах: этим, конечно, не исчерпывается значение журнала. Значение «Чисел» — иное. Им пытались навязать претензию создать новое направление в литературе. Направления до сих пор нет. Отсюда — ирония некоторых критиков.
В этом кроется недоразумение. «Не такое нынче время», — говоря блоковским стихом, — чтобы искусственно создавать здесь, вне России, новые литературные направления, и, конечно, никто в здравом уме и твердой памяти не решился бы в эмиграции такие безнадежные опыты проделывать. «Числа» держались выжидательной позиции и пытались в отношении здешней литературной молодежи сыграть, по-видимому, только организующую и как бы «поощряющую» роль: дело более скромное, но и более разумное. Оно им удалось. Никакой общей теоретической программы, — насколько можно судить по вышедшим до сих пор книжкам, — у « Чисел» нет, кроме свободы, если человек внушает «творческое доверие». Этот же принцип применялся и к писателям «с именами», — сравнительно редким гостям в журнале… Естественно, в «Числах» создалась разноголосица. Но именно она-то и составляет их «знамя», поскольку в разноголосице этой есть подлинное движение, дыхание подлинной жизни; именно она-то и придает «Числам» их своеобразное в здешних условиях «лицо». Журнал становится порой похож на альманах, где материал выбран лишь по признаку его отдельной, самостоятельной ценности, — и ни под какие общие мерки не пригнан. Если «направление», хотя бы в самых смутных чертах, наметится, — тем лучше: если нет, — значит, для него не было, так сказать, объективных данных. «Числа» не насилуют жизни, а слушают ее. Говорят больше не о том, что должно быть, а о том, что есть. Предпосылкой их служит стремление понять, уразуметь, почувствовать наше время, признание «сдвига», происшедшего в мире, и утверждение того, что у эмигрантского «человека тридцатых годов», — которому посвящена одна из статей в последней книжке журнала, — есть что остальным людям сказать.
Новый выпуск «Чисел» удачно и содержательно составлен, — удачнее, пожалуй, большинства предыдущих. В отделе беллетристики — три автора, До сих пор, кажется, не печатавшиеся или обнародовавшие только стихи. Все три заслуживают внимания, каждый интересен по-своему.
А. Алферов, автор рассказа «Дурачье», если не ошибаюсь, неведом, как писатель, решительно никому. Мне хотелось бы написать, что «Числам» принадлежит «честь его открытия», — но, конечно, рискованно говорить о «чести», раз Алферов напечатал всего несколько страничек, и неизвестно, что даст он в дальнейшем. Скажу только, что в этих нескольких страничках сквозит настоящий талант: острое зрение, выдумка, юмор, ощущение слова… Очень жаль, что рассказ так короток и сбивчив, – не отрывок ли это какого-либо крупного произведения? Алферов повествует о самоубийстве эмигранта Хлыстова, оставившего перед смертью записку с одним только словом:
– Дурачье!
Затем он как бы приглашает нас в галерею «дурачья»: показывает одного за другим людей, с которыми Хлыстову приходилось бы сталкиваться. Чувствуется большой размах, — и тем неожиданнее рассказ обрывается. Подождем с надеждой и любопытством его продолжения.
«Тело» Е. Бакуниной — вещь вполне законченная. По теме и замыслу она довольно близка к алферовскому «Дурачью»: то же кропотливое описание человеческих «будней», та же мелкая, темная, тяжелая, жалкая жизнь, «le tragique du quotidien», как выразился когда-то Метерлинк. Но в реализме своем Бакунина откровеннее, настойчивее и смелее Алферова. Она ставит все точки над всеми i, не дает читателю ни передохнуть, ни улыбнуться. Можно предпочитать «возвышающие обманы низким истинам», — дело вкуса. Но нельзя не признать, что Бакунина в изображении несчастных своих героев и в картине их внутренней жизни беспощадно правдива. Замечателен данный ею, — центральный в «Теле», — образ матери, еще молодой женщины, имеющей подростка-дочь. Развенчивает ли Бакунина материнство, освобождает ли она его от обычной идеализации? Нет, пожалуй. Но она углубляет и усложняет его анализ, прибавляя к нему нечто новое, подсмотренное очень глубоко, очень зорко и безошибочно переданное. Бывают актеры, о которых в виде похвалы говорят: он не играет, он живет на сцене… Вот самое важное, что можно было бы сказать о людях, обрисованных в рассказе Бакуниной. Они не двигаются и не обмениваются речами в угоду придуманной автором фабулы, — они живут. Автор как будто стоит в стороне — и только молча за ними наблюдает.
Совсем в другом роде «Кирпичики» А. Штейгера, вещь, пронизанная множеством литературных влияний, грустно-насмешливая, двусмысленная, легкая, скользящая… Написана она не без прелести. История школьной дружбы рассказана крайне искусно. Это, разумеется, «пустячок», обнаруживающий в авторе его не только вкус и умение, но и дар превращать все, что ему вздумается, в поэзию. Сологуб советовал когда-то добиваться того, чтобы «пласт глины сырой звучал как китайский фарфор»… Этого в своих «Кирпичиках» почти и достигает Штейгер.
Ю. Фельзен, о котором писать мне пришлось совсем недавно, продолжает свои «Письма о Лермонтове» — произведение только наполовину беллетристическое, полное отвлеченных теоретических рассуждений. Прочесть эти письма нелегко, но потрудиться над ними стоит: автор их — один из двух–трех наиболее даровитых и своеобразных писателей, появившихся у нас в последние годы. В «Письмах о Лермонтове» он верен себе. Тот же «высокий строй» чувств и мыслей, та же неподдельная искренность, — и та же путаница стиля, препятствующая порой разобраться в словах. Если препятствие преодолеть, то обнаруживается ум острый и тонкий, горестно замыкающийся в собственном своем одиночестве.
Не плох «Рассказ медика» В. Яновского, – вариация на тему о страхе смерти.
«Перламутровая трость» З.Гиппиус написана исключительно декоративно и ярко. Опытный автор как будто пожелал скрыть под «вакханалией цветов», под картинами природы, описаниями южноитальянского моря, внезапно налетающей бури, или экзотического праздника на какой-то таинственной вилле, под всеми вообще красками своей богатой «палитры», — ту ядовито-тревожную завязку, которая составляет сущность его рассказа… Не думаю, чтобы это вполне ему удалось. Тема для русской литературы слишком новая, — в противоположность литературе западноевропейской, где она стала обычной, — и когда читатель доходит до ее открытого изложения, то о вакханалии цветов немедленно забывает. Кое-что в «Перламутровой трости» очень хорошо, — если ограничиться чисто формальной точкой зрения. Но довольно шатким и условным представляется мне психологическое построение З. Гиппиус: во всяком случае, в образе прекрасного Франца, тоскующего о прекрасном изменнике Отто, есть что-то раздражающее и почти комическое… Не всегда, не у всех писателей эти положения приобретают такой оттенок, и едва ли З. Гиппиус к подобному эффекту стремилась.
Стихи… Из двух стихотворений Н. Оцупа и двух — Георгия Иванова надо было бы у того и у другого выделить первое. Н. Оцуп, как всегда, изысканно точен в выборе слов и обманчиво-сух в своей стилистической сдержанности. Ему удался фокус: ввести в стихотворную строчку три буквы — Г.П.У., — не нарушая общей гармонии. Лишнее доказательство, что обо всем может говорить поэт, если говорить умеет… Георгий Иванов, в противоположность ему, — весь в музыкальной стихии: строфы Оцупа надо читать, строфы Иванова — лучше слушать. Оба в своей области — мастера. Следует только заметить, что воображением Г. Иванова в последнее время навязчиво владеют поздние стихи Блока. Это особенно ясно сказывается во второй его пьесе. Даже рифмы в ней «царя» и «зря» — незабываемо-блоковские.
Поэты младшего поколения представлены полно и содержательно. Многим из них давно пора бы оставить кличку «молодых», независимо от возраста: ни в каком читательском снисхождении, — к которому как будто приглашает подчеркнутый признак «молодости», — они не нуждаются. В «Числах» прекрасные стихотворения поместили: Довид Кнут, Терапиано, Кельберин, Смоленский… Мне хотелось бы на этот раз с особой настойчивостью остановиться на стихах Юрия Софиева, поэта, растущего медленно и верно. Некоторые его строчки и строфы как бы светятся насквозь, — настолько явственно внутреннее их одушевление.
Статья П. Бицилли о судьбе романа не так убедительна, как бывают его статьи обычно. Она блестяще написана, но похоже на то, что автору была скучновата самая тема, и потому на внешнюю отделку своего произведения он и обратил главное внимание.
Достойна внимания короткая заметка Терапиано о «человеке тридцатых годов», — заметка, для «Чисел» крайне характерная, и для настроений, окружающих журнал, показательная. Правда, в ней нет разрешения поставленного вопроса. Терапиано отказывается от каких-либо пожеланий или предсказаний. Он только зовет подумать: как и, в духовном смысле, чем – жить современному человеку. Ответ должен быть найден только сообща.
Д. Мережковский дал «Числам» новую главу из своего «Иисуса Неизвестного», — о заповедях блаженства. Интересны статьи о живописи и музыке, принадлежащие В. Вейдле и А. Лурье.
В отделе рецензий и мелочей нельзя не выделить заметки А. Формакова о «Двух могилах». Автор, недавно приехавший из СССР, рассказывает о своем посещении могилы Блока в Петербурге и могилы Есенина в Москве. Грустный и надолго запоминающийся рассказ. От него так странно-верно, так неповторимо веет Россией, что кажется — будто и сам побывал там, на Смоленском и Ваганьковском кладбищах.
СТИХИ ПАСТЕРНАКА («ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»)
Французы стали в последние годы довольно часто употреблять слово «une mystique». Его не легко перевести.
Это не «мистика», во всяком случае. Это и не «мистифицирование»: во французском выражении нет намека на желание одурачить кого-либо. Вернее всего, это «зараза», с подчеркиванием в этом понятии элементов, ускользающих от точного контроля, — или, еще лучше, «психоз», т. е. нечто, не вполне согласное с доводами разума.
Иногда, читая Бориса Пастернака или думая о нем, хочется сказать, что вокруг этого поэта создалась «une mystique». Существует, конечно, тесный круг людей, которых все стихи его, действительно, очаровывают. Каждый из нас встречал этих фанатических и искренних поклонников Пастернака, наизусть читающих самые путаные его строфы, с упоением вслушивающихся в причудливые звуковые сочетания, которые в них возникают. Но таких людей немного. Гораздо больше у Пастернака поклонников мнимых, принявших слух о необычайной его даровитости на веру и не всегда даже делающих попытки этот слух осмыслить. Мода? Не совсем. Объяснить всякое литературное увлечение по такому способу, со ссылками на снобизм, глупость или стадный инстинкт, – занятие слишком легкое и простое. На Пастернака есть мода, разумеется, — но, кроме нее, исходят, по-видимому от его поэзии какие-то «токи», которые подчиняют себе людей. Человек не любит его стихов, но чувствует, что их любить надо бы, — и влечется к ним, как к чему-то недоступному, но подозреваемо-прекрасному. Притворство появляется лишь потом. Ему предшествует момент бессознательного выбора Пастернака среди других современных поэтов, как наиболее достойного «объекта» восторгов. Читатель не только твердо знает, что это дает ему репутацию особенно тонкого ценителя поэзии, но и смутно верит, что Пастернак его вообще не подведет: даже и в будущем, даже, — как говорится, — и «перед лицом вечности».
Несомненно, в ряду стихотворцев послевоенных лет Пастернаку и в Пастернака верят больше всех других. Было два официальных соперника у него — Маяковский и Есенин. Но их известность, будучи более шумной, была и более легковесной. Ни у того, ни у другого не было ореола «высокого искусства», который по праву окружает Пастернака: наоборот, довольно скоро стало ясно, что Есенин — это всего лишь скромный и грустный эпизод в русской лирике, не лишенный прелести, ни в каком отношении не значительный; а Маяковский, при всем его исключительном словесном даровании, слишком театрален и поверхностен для того, чтобы вообще считаться поэтом. У Маяковского, прежде всего, нечего читать. Невозможно представить себе, чтобы кто-нибудь, в минуту душевного волнения или подъема, взял в руки его книгу и — не отшвырнул ее как нечто унылое, пустое и плоское. Правда, говорят – это «певец площадей», трибун, митинговый оратор… Допустим. Каждому свое. Но остается все-таки несомненным, что Маяковский человеку не дает абсолютно ничего, — поскольку в поэзии человек ищет отзвука (если не ответа) последним, самым неясным, самым тревожным и дорогим своим думам и чувствам. Маяковский — предатель личности, предатель души и ума, изменник, в глубочайшем значении слова. Пастернаку этого упрека сделать нельзя. Оттого ему и верят, что за ним чувствуют трудную тяжесть индивидуальной культуры, со всеми ее провалами, взлетами и срывами, — тяжесть, не сброшенную с плеч в угоду новейшим ребяческим басням, а принятую покорно и навсегда.
Вопрос только в том: оправдает ли он полностью доверие? Тот ли он, кого давно уже ждет русская поэзия? Многие склонны поспешно сказать: да, тот. В этой-то необъяснимой уверенности и заключается, мне кажется, «психоз», о котором я говорил выше.
Недавно появилась новая книга стихов Пастернака «Второе рождение», — бесспорно, самый зрелый из всех его сборников [1]. Недоумениям и надеждам не остается больше места. Пастернак уже не так молод, чтобы можно было ограничиваться привычными толками о «многообещающих ростках и побегах», да и мастерство, которого он теперь достиг, достаточно своеобразно и остро для предположения, что «ученические годы» поэта кончились. «Второе рождение» надо прочесть всем, кто поэзию любит и судьбами ее озабочен: книга во всяком случае необыкновенная… Но для того, чтобы уяснить себе, что такое вообще представляет собой Пастернак, решить «тот ли он», – хорошо бы предварительно перечесть или вспомнить предыдущую его книгу, автобиографическую повесть «Охранная грамота».
О ней мне пришлось писать с год тому назад. Нигде, никогда Пастернак не выступал так открыто, не рассказывал о себе так прямодушно и обстоятельно («с аппетитом», — заметил бы Тургенев). Очень интересный рассказ, взволнованный и порою волнующий, порывистый, яркий, умный. Но вот что становится несомненно, когда закрываешь книгу, вот что ощущаешь с безотчетной достоверностью: автор — вовсе не замечательный человек… Самое приятное и, пожалуй, ценное в нем, это его подлинно «геттингенская душа», дар восхищаться и любить вместе со склонностью к какому-то безбрежному, пассивному мечтательству. Но смущает отсутствие темы во всем, что он пишет о себе, отсутствие костяка, основы, собственной художественной совести. Талантливость тут не при чем, она вне подозрений, но не в ней и дело… Позволю себе для краткости повторить прежнее свое сравнение: это скорее новый Андрей Белый, чем новый Блок, — т. е. художник большого блеска и размаха, но болезненно-разбросанный, сам себя опустошающий, в конце концов — не знающий, о чем писать, и потому с одинаковой легкостью пишущий о чем угодно.
Во «Втором рождении» это впечатление еще усиливается.
Какую бы книгу действительно глубокого и живого поэта мы ни припомнили, всегда возникает при этом некий единый образ, отвечающий в нашем сознании замыслу творца… Нам бывает трудно описать его, определить словами, но мы, наверно, можем отличить его от всякого другого. У Пастернака нет поэзии, есть только стихи. Стихи полны достоинств, и вполне понятно, что тот, кто чувствителен к ремесленной и, так сказать, материальной стороне искусства, многими пастернаковскими строчками поражен и обворожен: после пастернаковского «ремесла» всякое другое, может быть и более строгое (например, гумилевское), кажется архаическим и скудным. В искусстве Пастернака удивительнее всего остроумие, — не в смысле какого-либо зубоскальства, конечно, а в умении пользоваться всем, что до сих пор оставлялось в пренебрежении, и еще более в блестящих, быстрых и смелых «перелицовках» стихотворной фабулы. Если бы составить перечень сомнительных слов, которые Пастернак употребляет, и нарочитых его газетно-стертых метафор (наудачу: «волненье первых рандеву», «пожизненность задачи врастает в заветы дней» и т. п.), можно было бы a priori решить, что стихи его смехотворно-нелепы. Неправильные выражения подкрепили бы эту догадку. Но это не так: нравятся нам или нет обильные безвкусицы Пастернака, нельзя не признать, что в целом они у него сливаются в стиль, текучий, как обычная разговорная речь, но по своему стройный и цельный, оживленный ни на мгновение не слабеющим ритмом. Звук разнообразен и богат. Многие пастернаковские стихи можно слушать, почти не вникая в смысл слов, — внимая только таинственной игре шорохов и шопотов, перекличек и перезвонов… Все это я не думаю отрицать. Но лишь в редчайших случаях у Пастернака слово как бы теряет свою плоть, перегорает и начинает светиться, лишь в редчайших случаях у него за прихотливейшей словесной гимнастикой сквозит нечто такое, что эту гимнастику оправдывает. Хорошо, конечно, что чтение большинства стихов из «Тем и вариаций» или «Второго рождения» доставляет слуху физическое удовольствие, любопытствующему уху несколько утомительное удовлетворение… Плохо, однако, то, что они доставляют только это, что во всяком случае удовольствие, любопытство и удовлетворение остаются главенствующими в общем впечатлении. Мало подлинной музыки в обманчиво-музыкальном сцеплении пастернаковских звуков, и как он за ней ни гонится, она от него уходит. Это не внешний порок, не такая слабость, от которой можно отучиться. Пастернак сам рассказал, что он поэтом сделался не сразу, не по неодолимому влечению, а лишь разуверившись в своем призвании к другим областям творчества… Кое что этим, пожалуй, в особенностях его стихов объясняется. В них виден мастер. Но бывают поэты, о мастерстве которых не хочется даже и говорить: — не важно, не интересно… Едва ли когда-нибудь Пастернак этого добьется.
Перелистав «Второе рождение», списываю стихотворение, которое кажется мне лучшим в книге, — самым чистым и правдивым, прелестным в своем стилистическом целомудрии:
Никого не будет в доме, Кроме сумерек. Один Зимний день в сквозном проеме Незадернутых гардин. Только белых мокрых комьев Быстрый промельк моховой. Только крыши, снег, и, кроме Крыш и снега, никого. И опять зачертит иней, И опять завертит мной Прошлогоднее унынье И дела зимы иной. ************************ Но нежданно по портьере Пробежит сомненья дрожь. Тишину шагами меря, Ты, как будущность, войдешь. Ты появишься из двери В чем-то белом, без причуд, В чем-то, впрямь из тех материй, Из которых хлопья шьют.Приведу еще конец описательного стихотворения «Лето». Поэт вспоминает, как он «с неба сорвал налет недомолвок».
…И поняли мы, Что мы на пиру в вековом прототипе, На пире Платона во время чумы. Откуда же эта печаль, Диотима? Каким увереньем прервать забытье? По улицам сердца из тьмы нелюдимой Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое! И это ли происки Мари-арфистки, Что рока игрою ей под руки лег, И арфой шумит ураган аравийский, Бессмертья, быть может, последний залог.Здесь сплетенье Платона с Пушкиным волшебно. Редким и скудным сиянием озаряют книгу Пастернака такие строфы.
ИГРОК
В одном из писем Достоевского есть такая фраза: – В Висбадене я после проигрыша выдумал «Преступление и наказание».
Очень заманчиво попытаться восстановить, как возник в сознании писателя замысел его романа. Но для этого у нас нет данных. Исследователю нечего делать в области фантазии: она открыта лишь поэту или художнику.
Леонид Гроссман, автор книги «Достоевский за рулеткой», не поэт и не художник: напрасно он не за свое дело взялся. Ему тоже приходится «выдумывать»: иначе восстановить генезис знаменитого романа невозможно. Не обладая ни талантом, ни вкусом, он беспомощно бьется в потоке напыщенных, ложно красивых слов и эффектных, но не достоверных догадок. Книга вызывает интерес самым названием своим. Автор — человек, составивший себе имя работами по изучению Достоевского. Думаешь, что он обстоятельно расскажет о темном, тревожном, «рулеточном» периоде жизни его… Но название не соответствует содержанию книги. Гроссман повествует не столько о том, как Достоевский играл, сколько о мыслях, чувствах и воспоминаниях, будто бы нахлынувших на него в висбаденском игорном зале. Он смешивает факты с очевидными небылицами, правдоподобное с невероятным. Довольно часто с грациозной непринужденностью он подставляет на место Достоевского самого себя: иначе получилась бы, — говоря по-советски, — «неувязка». Тогда-то порочность всего его построения и обнаруживается: если бы, действительно, Достоевский так грубо-хаотически, так вычурно-модернистически рассуждал и так плохо, так аляповато и претенциозно писал, никогда бы ему не создать «Преступления и наказания». Гроссман компрометирует своего героя непрошеным вторжением в его внутренний мир. От такого Достоевского, какого он представил, мутит, как от худших романистов декадентского типа — вроде Пшибышевского и его подражателей, ищущих во что бы то ни стало ужасов там, где их нет, визжащих, декламирующих и стонущих там, где можно просто говорить, вообще искажающих истинную и глубокую сложность жизни поверхностным, назойливым ее преувеличением.
Для образца приведу один из заключительных периодов Гроссмана, в котором после всевозможных подходов и намеков он, наконец, касается возникновения замысла «Преступления и наказания».
«Со дна сознания, из глубочайших провалов совести, из самых потаенных недр его истерзанного, потрясенного, кровоточащего болью и все же ликующего сердца, из груды отталкивающих воспоминаний и огромных неосуществившихся замыслов еще неясная по очертаниям, но мощная по означающимся образам, возникала одна великая и печальная книга».
— Бррр! — хочется воскликнуть, как восклицали критики и фельетонисты в старину. Какая пустая трескотня, какая унылая риторика! Удивительнее всего, что человек, всю жизнь имеющий дело с писаниями Достоевского, сохраняет все-таки вкус к такому стилю! Дело ведь не только в словах: за словами таится то, что можно назвать «жизнеощущением», и недаром было сказано, что «стиль — это человек». (Бюффон, как известно, сказал не совсем то, не «стиль — это человек», а «стиль от человека». В последнее время это довольно часто стали напоминать, — иногда подчеркивая, что Бюффону по ошибке приписывается нелепость. Никак нельзя с этим согласиться! Ошибка, действительно, произошла, но, благодаря ей, заурядное, обычное замечание превратилось в ослепительную, безошибочную формулу. Молва приписала Бюффону гораздо более острую мысль, чем та, которую он на самом деле выразил: оттого «исправленный» ею афоризм и запомнился навсегда.) Гроссман нагромождает один «кровоточащий» или «ликующий» эпизод на другой, развязно врывается в тайны человеческого творчества и с красноречием присяжного гида объясняет, где, когда и почему возник тот или иной образ Достоевского, где, когда и почему Достоевский то-то понял, «преодолел» или отверг.
Конечно, можно возразить, что Гроссман предлагает только гипотезу или же ни для кого не обязательную «версию» возникновения первого из великих романов Достоевского. Но ведь гипотезы нужны в науке, где ими обусловлено развитие и движение вперед. Догадки биографические — занятие праздное, отвечающее только любопытству, ничему другому. Победителей не судят, – и когда догадка тонка, тактична и правдоподобна, о ее оправданности не спорят. Но когда автор «Преступления и наказания» становится похож на недалекого героя Леонида Андреева или Арцыбашева, невольно думаешь, что лучше было бы остаться при наших сухих и скудных сведениях о нем, без всякой попытки из этих данных «сконструировать» творческую личность.
* * *
«Достоевский за рулеткой».
В Германии под этим названием издан был несколько лет тому назад замечательный сборник. Существует он и во французском переводе в серии «Documents bleus».
Книга эта неизмеримо более интересна, содержательна и увлекательна, чем бутафорский «роман» Гроссмана, — хотя ни о каких озарениях, безднах и экстазах в ней нет ни слова. В ней просто и деловито, с протокольной точностью, рассказано о мытарствах Достоевского по немецким и швейцарским курортам и день за днем восстановлена история его борьбы со случаем, олицетворенным для него в бездушном белом рулеточном шарике.
К книге приложены письма Достоевского и дневник его жены Анны Григорьевны. Ничего более ужасного, подлинно патетического невозможно себе представить. Не думаю, чтобы среди самых прославленных страниц «Бесов» или «Карамазовых» нашлось что-либо более «пронзительное», чем некоторые послания Достоевского к жене. Все это давно знакомо и, может быть, на взгляд людей положительных, рассудительных и трезвых, ничего, кроме жалости, смешанной с легким презрением, не должно и не способно вызвать – обычная страсть, унижающая человека, превращающая его в одного из подонков общества, обычная картина предельного человеческого падения… Но Достоевский не был бы Достоевским, если бы ему даже и в короткой записке сами собою не подвертывались слова, которые, действительно, «вопиют к небу». Он отлично сознавал безумие своей мечты — нажить игрой большое состояние, он сознавал даже и то, что выигранные талеры и гульдены послужат лишь «войском для дальнейших битв», он понимал, что играть не имеет права, так как не о себе одном должен заботиться, он чувствовал, что убивает жену, для которой слишком уж тяжело сложилось заграничное свадебное путешествие, — и все-таки играл. Сегодня заложена шуба, завтра последняя заветная «мантилья» Анны Григорьевны, потом какой-то уже сверхзаветный крестик ее… «Аня, я выиграю, я уверен» — и в тот же вечер новые клятвы, рыдания и новые надежды. Телеграмма в Петербург, телеграмма Герцену — и никакого ответа ниоткуда. Знакомые отворачиваются, в гостинице не дают ничего, кроме спитого чаю, Достоевский шатается от слабости, выходит в обеденные часы, чтобы хозяин думал, что он отправляется в ресторан. А когда, наконец, кто-нибудь сжалится и пришлет деньги, их хватает лишь на час или два: пока длится новая, недолгая схватка с бездушным шариком. Потом снова: «Аня, ангел мой, Аня — прости меня».
Одним из тягчайших испытаний для Достоевского была необходимость обратиться за помощью к Тургеневу, которого он ненавидел и который подавлял и раздражал его своим барски-покровительственным деланно-любезным тоном, — своими «генеральскими объятиями», как однажды Достоевский выразился. Тургенев деньги дал, хотя, разумеется, и не всю ту сумму, которую дорогой собрат у него просил. Достоевский их ему не отдал.
Человек не истукан и не автомат, конечно, и нельзя допустить, чтобы все это прошло для Достоевского бесследно, никак не отразившись на его творчестве. Гадания Гроссмана, помимо постоянной их шаткости, претендуют на слишком большую точность и удивляют мнимой осведомленностью автора в том, чего никто знать не может. Но к общему пониманию Достоевского история его несчастной игорной страсти добавляет многое.
Опять еще раз вспомню замечательные слова Толстого, сказанные им незадолго до смерти при чтении «Карамазовых».
— Не то, не совсем так…
То есть, не совсем такова жизнь. Это, пожалуй, последнее, наиболее ощутимое и проясненное впечатление от Достоевского: ощущение какой-то его несправедливости в счетах с бытием, беспокойное чувство какой-то подтасовки в составленном им следственном материале. Обвинение предъявлено не вполне беспристрастно, а с отзвуком личных обид, которые картину искажают… Вопрос слишком глубок и спорен, чтобы его можно было в двух словах разрешить. Однако, если верно, что «Преступление и наказание» было выдумано после проигрыша, то догадка о неокончательной основательности, неокончательной неустранимости – не знаю, как сказать яснее, – всей той горечи, которую Достоевский в своих писаниях выразил, получает подтверждение. Едва ли это умаляет Достоевского: это только объясняет в нем что-то дополнительное, новое. Каждый видит мир таким, как он ему представляется, и слишком многое должно было придти в голову Достоевского во время его долголетних, висбаденских, баденских, гамбургских или экс-ле-бенских блужданий, чтобы мог он свои надежды и свое отчаяние забыть. Очень возможно, что рулетка сыграла в этом отношении роль более решительную, чем даже Сибирь. Там Достоевский вырос. Там пришло просветление. Ощущение реальности зла, столь хорошо знакомое всем игрокам, появилось, кажется, не на эшафоте и не в обледенелых, темных, смрадных каторжных бараках, а в изящных европейских казино.
Если не ошибаюсь, Артур Шнитцлер сказал:
— Я в Бога не верю… Но я поверил в дьявола после того, как побывал в Монте-Карло.
* * *
Несколько слов об «Игроке».
Оттого ли, что вещь эта написана до самых страшных несчастий Достоевского, или оттого, что он во время работы над повестью еще не освободился от своей страсти, — «Игрок» все-таки беднее и бледнее, чем то, что Достоевский, вероятно, в силах был бы на такую тему создать. Конечно, в литературе ничего лучшего об игре не существует, это бесспорно. Но все-таки Достоевский в своей стихии мог бы, кажется, написать нечто и еще более «мучительно». Повторяю, письма его, не претендующие ни на какую художественность, идут по той же линии дальше, они вернее и глубже передают чувства человека, обреченного на какое-то упоительное и безнадежное единоборство с судьбой. В «Игроке» поражает обстановка: второстепенные персонажи, вставные сцены, описания и пр. Но о самом главном Достоевский рассказать не захотел.
ЗАМЕТКИ О СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: «БАРРИКАДЫ» ПАВЛЕНКО. – СОВЕТСКИЙ РЕМАРК. – О М. КОЛЬЦОВЕ И ФЕЛЬЕТОНЕ
Об историческом романе сейчас много спорят. Подвергается сомнениям жизнеспособность этого литературного. Предъявляется ему новые требования.
В России за последние двадцать пять лет теории литературы уделено было много внимания. Даже и теперь, при диктатуре марксизма во всех областях мысли, некоторым писателям удается более или менее свободно продолжать прежде начатые работы. Вопрос о существовании исторического романа, — или, точнее, об оправдании его, — ставится и там. Но рядом с этим там одно за другим появляются произведения, в которых теоретические сомнения не оставили ни малейшего следа, романы, которые, при изменении темы и тона, — но вовсе не художественных приемов, — могли бы с успехом быть помещены в блаженной памяти «Историческом вестнике».
Из них — наиболее заметен и наиболее удачен, конечно, «Петр I» Ал. Толстого. Все согласны: это блестяще-талантливая вещь. Но, может быть, именно поэтому художественная беспечность автора обнаруживается в ней особенно ясно. От толстовского «Петра» не так далеко до «Князя Серебряного», а романы гр. Салиаса, пожалуй, к нему еще ближе. Некоторая «оперность», условность, лубочность дает себя знать в нем постоянно: в целом роман напоминает все-таки огромные исторические «махины» какого-нибудь Константина Маковского или Семирадского, где попадаются отдельные куски отличной живописи, но не видно единого замысла… Трудно забыть отдельные страницы «Петра»: детство, свадьбу, кое-что другое. Однако еще труднее не почувствовать, в конце концов, всей роковой поверхностности этой вещи, растекания ее в ширину и щеголяния наружным блеском вместо глубины и правдивости.
Толстой недавно в беседе с московскими журналистами истолковал своего «Петра» как произведение не столько историческое, сколько современное, — в том смысле, что оно является «глубоким рейдом в тыл нашей действительности». По-видимому, подобные «глубокие рейды» теперь в моде среди советских писателей, и производятся они, по большей части, в такие области, связь которых с «нашей действительностью» несомненна. Пролетариат будто бы учится на них «героической борьбе», беллетрист же пользуется случаем продемонстрировать свое пламенное революционное настроение. Удобнее всего — эпоха Великой французской революции или 1848 год. Но и такими эпизодами, как парижская коммуна, пренебрегать не следует.
П. Павленко избрал именно ее. Он «отобразил» Париж 1871 года в романе «Баррикады».
О Павленко мне не раз уже приходилось писать. Это писатель молодой, бесспорно одаренный. Начинал он очень хорошо: была в его ранних «Азиатских рассказах » и острота чувства, и редкая словесная выразительность. Выйди эта книжка в иное время и в иных условиях, автора, пожалуй, можно было бы упрекнуть в эстетизме, в романтическом, чайлд-гарольдовском, любовании прошлым и отчасти самим собой… Однако в советской литературе это не только было неожиданно, но и говорило о некоторой самостоятельности: уж слишком далек был Павленко от исполнения партийных «социальных заказов». Надежды оказались напрасны. Довольно скоро Павленко внял голосу благоразумия и принялся делать карьеру, не хуже большинства своих собратьев. При наличии ума и таланта он в три-четыре года многих из них обогнал. Сейчас Павленко — «видный советский писатель», но если говорить правду, — это «бывший» писатель, человек, у которого были данные стать художником, но который предпочел сделаться чем-то вроде чиновника литературного департамента.
«Баррикады» нельзя отнести к области очевидной «халтуры». Все на месте, историческая точность более или менее соблюдена, лица живы и характерны… Но все-таки это типичный роман из «Исторического вестника». Разумеется, для советского читателя, желающего познакомиться с возникновением, существованием и гибелью Коммуны, роман Павленко — находка. Он узнает из «Баррикад» не только главнейшие факты, но и то, как к ним, с советской точки зрения, надлежит относиться. Учебная роль такого «рейда» вне сомнений, и Павленко справился со своей задачей так же успешно, как хороший чиновник с докладом или с проектом циркуляра. Но дальше он не пошел. Дальше ему и не хотелось идти. Дальше начинается область свободного творчества, где можно сбиться с пути и внезапно оказаться в разладе с руководящими указаниями какого-нибудь руководящего товарища.
Я сравнил «Баррикады» Павленко с «Петром» Толстого. Спешу оговориться: «Петр» все-таки неизмеримо увлекательнее, зрелее, оригинальнее… Не касаясь необычайного чутья Толстого к жизни, неспособности его обойтись без чудотворной поддержки ее во всем, что бы он ни писал, есть разница и в теме. Эпоха Петра — это далекая история, разработанная в основательных трудах, эпоха, для русского человека полная глубочайших вопросов, намеков и отзвуков на современность. Коммуна — ближе и как бы мельче. Достаточно Павленко было прочесть две-три популярные брошюрки и посидеть несколько часов за книжками чуть-чуть более серьезными, чтобы ознакомиться с нею. Сдал роман в печать, — и тут же принялся за другой, опять, конечно, из истории борьбы пролетариата за власть и свободу. В год по роману, — а там, глядь, и полное собрание сочинений можно вскоре издать, со вступительной статьей Луначарского или еще лучше Кирпотина.
Плохо у Павленко с передачей французской речи и всего французского быта на русский язык. «Старина» и «дружище», — означающие, вероятно, «mon vieux» — как в плохо переведенных романах, дают мнимо-парижский тон повествованию. Да и революционный пыл молодого автора порой слишком уж горяч. Конечно, невозможно в советской книге изобразить Тьера, например, иначе как дураком и пройдохой. Однако все-таки едва ли советский читатель поверит Павленко, когда он рассказывает, что этот «вождь крупной буржуазии» ругался, как извозчик, и даже на официальном приеме обозвал маршала Мак-Магона «грязной мордой». Надо знать меру.
* * *
В «Звезде» с перерывами продолжает печататься «Тяжелый дивизион» А. Лебеденко.
Первые главы этого романа, помещенные в журнале с полгода тому назад, показались мне замечательными, — и я позволил себе тогда же обратить на них внимание читателей. Отрывок, появившийся недавно, менее ярок и психологически менее интересен, но по-прежнему говорит о даровании автора.
Кто он, этот неведомый Лебеденко? Просматривая за последние годы советские журналы, я ни разу нигде не нашел имени его. Не попадались мне и отдельные его книжки. Надо полагать, что это дебютант. «Будем надеяться…», — хотелось бы мне сказать, как обычно говорится о даровитых новичках. Но на что можно в советских условиях надеяться? Разве Павленко, о котором я только что говорил, не казался тоже «многообещающим ростком»? Разве десятки других не поддаются мало-помалу соблазну внешнего, казенного успеха и не слабеют среди общей угодливости, удобно связанной, кстати сказать, с отсутствием личной ответственности и необходимости лично, за свой страх и совесть о чем-либо думать? «Укатали сивку крутые горки», — выразился недавно Луначарский о Гете. Укатали советские горки уже много сивок, укатают еще множество других. Не будем поэтому гадать о будущности Лебеденко.
То, что он дал до сих пор, можно было бы охарактеризовать так: русский Ремарк. Его неврастенический герой, Андрей, так же застигнут стихийным бедствием войны, так же подавлен ею, как незадачливый вояка «западного фронта». Положение осложнено лишь тем, что к войне примешивается революция, — и сознанию Андрея, без того уже раздвоенному, оказывается не под силу осмыслить эти грозные исторические явления.
Роман не кончен. Вероятно, Андрей и осмыслит большевизм. Если нет, — будет, конечно, «выкинут за борт»: иная развязка в советском романе невозможна. Но пока Лебеденко к ней не пришел, он рассказывает много запоминающегося, меткого и верного о людях на фронте, о смятении умов и душ к концу войны, об общем неблагополучии мира, обнаружившемся в те годы, — и все еще до сих пор нас поражающем.
* * *
Мих. Кольцов, известнейший из советских фельетонистов, думает, что он очень остроумен.
Это самая характерная его черта. Лицом, судя по портрету, он сильно напоминает Гарольда Ллойда: та же «тонкая» улыбка, те же роговые очки, то же лукавство в облике, — плюс, разумеется, отпечаток некоей большевистской «стальной зарядки», на которую американский комик не претендует.
Мих. Кольцов так и пишет — в соответствии со своей внешностью. Короткие, отточенные фразы, блеск юмора в каждой строке, убийственные, как стрелы, словечки, — и в заключение несколько гневно-рокочущих, неукротимых, мощных периодов о тяжелой поступи рабочего класса, о близости революционного пожара или чем-либо другом, столь же возвышенном и священном.
Фельетоны свои Кольцов собрал в книгу «Свои и чужие». Сделал он это, вероятно, потому, что у него, — по сталинскому определению, — случилось «головокружение от успехов». В самом деле, советские критики давно уже возвели Кольцова в классики. Ему, как «мастеру слова», посвящены даже отдельные исследования. Кольцов, очевидно, решил, что для потомства надо сохранить те шедевры, которые вызвали восторг и удивление современников.
Газетные статьи лишь в редчайших случаях выдерживают испытание временем. Большею частью это «эфемериды», которые лишь один день живут… Надо сказать, что тот жанр, который у нас называется фельетоном, недолговечен в особенности. Может быть, кольцовские статьи при появлении своем и производили некоторый эффект: это даже вполне вероятно. Но их нельзя перечитывать без отвращения и скуки, вне всякой зависимости от политической их тенденции, просто по их очевидной пустоте и отсутствию смешного в том, что, по мысли автора, должно смешить. Как анекдот слишком глупый во второй раз вызывает лишь досаду, а не смех, — так и эти очерки, посвященные то Пуанкаре, то ген. Деникину, то Керенскому, то Николаю II, кажутся нелепыми.
Досаднее всего то, что Кольцов явно уверен в неотразимости своих «стрел». А они даже и не долетают до цели.
Интересный вопрос: возможен ли в наше время «фельетон» в том виде, как его культивировал, например, Дорошевич, в каком он вообще процветал до войны? Мне кажется, — нет… Характерно, что в эмигрантской печати он почти исчез, как почти исчез он и в печати западной. Не в том дело, что нет сил или нет соответствующих дарований, — они нашлись бы, — а в том, вероятно, что самый этот род творчества устарел, обветшал и показался бы теперь чуть–чуть наивным, провинциальным и даже жалким. Мы вообще труднее смеемся теперь, чем прежде. В особенности, мы стали чувствительны к потугам и усилиям нас рассмешить или удивить. Претенциозные попытки «заклеймить» или «пригвоздить к позорному столбу» кого-либо в одном слове — обречены, большей частью, теперь на неудачу, а неудача обращается острием своим на автора. Оттого умирает и фельетон с неизбежным анекдотом в начале, с обилием точек и неожиданным росчерком в конце… Все это было хорошо, пока были «отцы города», которые забыли озаботиться канализацией Большой улицы или несправедливо убрали со службы местного врача. Ошибка Кольцова в том, что он и сейчас еще относится к мировой истории как к губернской хронике.
«Современные записки». Кн. 51-я. Часть литературная
Борис Зайцев не часто пишет большие вещи. Мы привыкли видеть его подпись под рассказами или повестями. Но время от времени этого прирожденного новеллиста, по-видимому, тянет к роману.
«Дом в Пасси» — вещь, которой открывается новая книжка «Современных записок» — роман. Так, по крайней мере, определяет ее сам автор, будущее покажет, насколько его определение основательно и правильно. Несколько действующих лиц уже обрисовано. Уже намечен в смутных чертах ход фабулы. Но судить о произведении еще рано, — и если первые главы производят впечатление бледноватое, то, может быть, в дальнейшем будет иначе. Надо бы вообще воздерживаться от оценки вещей, еще не целиком прочитанных. Всякое правило допускает исключения: бывает, что сразу, «по горячим следам» хочется высказаться, поделиться своим восхищением — или возмущением, — но правило все-таки остается правилом. Лучше промолчать, чем говорить неуверенно или даже наобум. Признаюсь, у меня нет никакой уверенности, что «Дом в Пасси» надо будет отнести к удачным созданиям Зайцева, но я, конечно, не в праве еще утверждать и обратного… Поэтому помолчим, подождем.
Роман эмигрантский, как видно из названия. Барышни, работающие в «кутюре» и с великим совершенством превратившиеся в заправских парижанок: «не узнаешь, Москва или авеню Монтэн». Старый генерал, командир корпуса, собирающий объявления для газеты. Подросток, путающий русские слова с французскими. Шофер из бывших офицеров… Все знакомое. По этой «актуальности», по близости и родственности всего быта «Дом в Пасси» читается с легким волнением и любопытством. Но не более того.
Местами удивляет язык романа. Мальчика, выросшего в Париже, Зайцев заставляет говорить:
– Мне все равно, спите хоть до миди.
Или:
– Вас могут конжедиэ.
Это естественно и правдиво. Но он и от себя, от автора, пишет: «Лестница некрутыми маршами спускалась вниз», «она его очень любила, но без сантимента», «налетела тучка-жибулэ»… Вероятно, Зайцев думает создать такими фразами французскую атмосферу в русском романе. Труднее объяснить замечание вроде того, что «ее заражала хорошая погода на лице гостя».
Дальше идет «Пещера» Алданова.
По-прежнему сменяются сцены жизни семейной и общественной. Муся с мужем-англичанином приезжает в Люцерн повидать родителей. В Люцерне как раз в эти дни происходит социалистическая конференция: повод для Алданова дать блестящую и ироническую картину ее. На конференции встречаются Браун и Клервилль и затевают один из тех философско-политических разговоров, которые в алдановских романах являются как бы комментарием к действию. Браун, как всегда, настроен чрезвычайно мрачно; к этому читатели давно уже привыкли. Некоторой новостью для них будет, пожалуй, только то, что автор со своим героем «перекликается». Личные замечания Алданова более уклончивы, но по существу столько же горьки и едки, как брауновские.
Кременецкий, которого Муся застает больным, но еще бодрящимся, умирает. Как ни странно, — жаль его, точнее, — жаль с ним расстаться. Это образ не очень сложный, может быть, даже несколько односторонне очерченный. Но, бесспорно, это один из самых ярких, самых законченных типов нашей новой литературы; отныне о человеке можно сказать: «это — Кременецкий», почти так же, как говоришь: «это — Обломов», тоже, в сущности, образ более яркий, чем сложный, более выпуклый, чем глубокий — сразу все станет ясно. Мне уже приходилось как-то писать, что Кременецкий по складу своему напоминает аптекаря из «Мадам Бовари»: в последних главах романа это впечатление еще усиливается. Очень хороша и жена Семена Исидоровича, Тамара Матвеевна. Не случайно к ней относятся слова:
– Все пройдет, все, только эта простая, вечная любовь, эта собачья преданность, ничего смешного не видящая, не понимающая, это и есть то, для чего стоит жить на свете.
Новые главы из «Camera obscura» Сирина так же остроумны и искусны, как и предыдущие. Изобретательность автора неистощима. Фабула развивается прихотливо и свободно. Для любителей высокопробного занимательного чтения, уставших от романов, которые пытаются скрыть отсутствием чувства меры отсутствие фантазии, такое произведение — подлинная находка.
Большой интерес вызывает «Древний путь» Л. Зурова. Невольно тянет сравнить его с романом Сирина не только потому, что они рядом помещены, но и потому, что оба автора молоды и принадлежат к «детям эмиграции»… Не буду сравнивать таланты. У Зурова размеры дарования еще неясны, у Сирина талант подлинный, несомненный, абсолютно очевидный. Искусство Сирина гораздо тоньше. Если его сопоставляли, например, с Жироду, то Зуров напоминает скорее Мамина-Сибиряка или других «почвенных», «кряжистых» бытовиков. Но вот: у Зурова в слове есть еще влага, есть свежесть, есть какой-то отзвук природных животворящих сил. У Сирина все механизировано. Не то что камень дает он вместо хлеба, нет, — но хлеб его такой, какой выпекается в современных столицах: очень чистый, преувеличенно белый, но не питательный. Будто бумага или вата во рту: не пахнет землей… За это Сирина нельзя упрекать. Думаю даже, что именно в этом свойстве заключена его значительность, ибо именно здесь обнаруживается его органическая связь с современной культурой, его безотчетная покорность ей. Но хочется иногда подышать свежим воздухом: так с грустным и, пожалуй, благодарным чувством перелистываешь, страницу за страницей, сравнительно тусклое и не очень оригинальное повествование Зурова — будто дочитываешь книгу о людях, которые умели еще доверчиво и спокойно вглядываться в окружающий их мир, а не ощетиниваясь против него судорожно и тревожно.
Отдел стихов разнообразен. Отмечу прежде всего два стихотворения Бальмонта. Они могут нравиться или не нравиться, дело вкуса. Но лишний раз они подтверждают то, что легенда об упадке сил поэта не имеет оснований. Эти строфы могли бы без всякого диссонанса быть включены в самые прославленные сборники Бальмонта — в «Будем, как солнце» или «Только любовь», например. Никто не заметил бы «упадка». Не Бальмонт изменился, нет, изменились мы, читатели: если бы теперь появилось «Будем, как солнце», книга эта прежних восторгов уже не вызвала бы.
О стихах трудно высказываться иначе, как узколично, иначе пришлось бы употреблять язык технический, уместный лишь в исследованиях каких-нибудь формалистов… Поэтому скажу, что мне лично показались прелестными стихи Ладинского, взволнованные и легкие, проверенные безошибочным внутренним слухом. Какой это одаренный стихотворец! В его строках, в его строфах дана как бы гарантия от срыва: они летят, как птица, — и, как птица, не могут упасть.
Смоленский пьет, как говорится, из очень «маленького стакана». Но стакан у него свой. Только со всей своей поэтической бутафорией — с ангелами, звездами, розами, ночью, смертью и лирами — он так неразлучен, что, читая новые его стихи, не совсем твердо знаешь: те ли это или не те, которые читал вчера или третьего дня. Кстати, что было бы с эмигрантской поэзией — с доброй половиной ее, по крайней мере, — если бы из нашего языка исчезли звезды и ангелы, или издан был бы декрет, запрещающий употреблять эти слова? Признаюсь, я такой декрет склонен был бы приветствовать.
Берберова в патетическом отрывке из книги «Наше сердце» очень красноречива. Ее вольные, широкие строки похожи на попытку создать какой-то неоклассицизм. Опасная попытка: лубок от нее в двух шагах. Не напрасно Верлен советовал «сломать шею» красноречию. Если оно после этой операции и остается в живых, то живет уже по-новому, по-иному, не соблазняясь больше внешней красивостью фразы. Берберовское звонкое красноречие, к сожалению, красивости еще не избегает.
В еще большей мере это относится к наивным стихам В. Пиотровского. Дух Пушкина, к которому они в своей стройности и гладкости явно апеллируют, от них беспредельно далек.
Особняком, как всегда, — Марина Цветаева. Кто ее стихи любит, тому придется по сердцу и «Дом».
Почти то же самое мне хотелось бы сказать и о цветаевской статье, в этом номере журнала законченной, — «Искусство при свете совести»: — кто Цветаеву любит, тот с увлечением прочтет и эти ее размышления. Ни об искусстве, ни о совести, ни об искусстве при свете совести он решительно ничего не узнает. Но кое-какие сведения о самой Цветаевой, кое-какие данные для постижения ее щедрой и капризной натуры получит. Цветаева принадлежит к тем авторам, которые только о себе и могут писать. Пишет она, во всяком случае, интересно. Спасибо и на этом.
«Чинг-Чанг» Ремизова — типичный, обманчиво простодушный ремизовский «пустячок», где рядом с подробным наставлением, как варить баклажаны, можно найти намеки на вещи не столь безобидные и мирные. Любопытно, что у Ремизова создалась репутация забавника, затейника — и, кажется, сам он ее охотно поддерживает. Между тем, судя по некоторым глухо прорывающимся в его творчестве нотам — это едва ли не самый грозный, гневный, библейски-пламенный и страстный из наших писателей. Но «человек человеку бревно». В согласии со собственной своей формулой, Ремизов предпочитает улыбаться и отшучиваться.
П. Бицилли избаловал за последнее время рядом блестящих и глубоких статей. От него всегда многого ждешь — и досадуешь, когда бываешь обманут. Именно это чувство возбуждает «Жизнь и литература». Странная статья! Начинается она с несколько схематических и упрощенных, но все же интересных рассуждений о концепции человека в литературе, — и неожиданно обрывается на сравнении Сирина с новейшими композиторами, а Тэффи с Сервантесом. Что, к чему, зачем и куда — не совсем понятно… Да и «фактический материал», почти всегда у Бицилли безукоризненный, на этот раз вызывает некоторое недоумение. Сирин, например, будто бы соответствует в литературе Дебюсси и Прокофьеву в музыке. Можно в отдельности соответствовать Дебюсси, можно также соответствовать Прокофьеву. Но остается загадкой, как, при полярном различии приемов и внутреннего склада этих двух музыкантов, можно «соответствовать» им обоим вместе. Так прежде писали «Ибсен и Пшибышевский», будто бы это одно и то же: оба ведь «модернисты».
В заключение два слова о воспоминаниях Александры Львовны Толстой. Они по-прежнему замечательны. Чувствую, что даже это слово слабо: они необыкновенно важны и значительны. Но они и ужасны. Более тягостного чтения нельзя себе представить, — особенно, когда вспомнишь, что все это происходило в доме Льва Толстого: ничего нельзя распутать в болезненной путанице, ничем в ней нельзя помочь. Александру Львовну многие осуждают за обнародование мемуаров. Справедливее сказать, что она совершила большой и трудный подвиг, решившись на такую прямоту повествования. Или вовсе никогда никому не следовало о драме Толстых писать и говорить — или надо знать о ней все. Свидетель Александра Львовна, во всяком случае, исключительный.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
На днях в одном русском литературном доме шел разговор об эмигрантских диспутах и собраниях. Жаловались на безразличие публики, искали интересных тем. Кто-то шутя сказал:
– Вот отличная тема — «любовь в эмиграции», или «возможно ли в эмиграции любовное счастье?». Полный сбор обеспечен.
Предложение было встречено улыбками и усмешками. Но один из собеседников заметил:
– В сущности, тема серьезная… Только надо выбросить слово «любовное». Не «возможно ли в эмиграции любовное счастье?», а просто « может ли быть человек в эмиграции счастлив? »
Говорившего перебили:
– Нет, и «в эмиграции» — лишнее… Просто «может ли быть человек счастлив?» Или даже «должен ли быть человек счастлив?»
Снова начались шутки и остроты, — как почти всегда бывает там, где соберется несколько литераторов (каждый в отдельности ничуть не Анатоль Франс и отнюдь не «душа общества», но на людях всякий ищет случая «блеснуть»). Тема, конечно, была отвергнута. Не только показалась она расплывчатой и двусмысленной, касающейся одновременно и глубочайших философских вопросов и тех сомнительных «проблем», которые ставила в своих романах Вербицкая, – но было выставлено и другое возражение, еще более основательное. Тема «счастья» не годится для обсуждения общественного. Не стоит поднимать вопроса, о котором заранее знаешь, что он должен быть разрешен положительно, оптимистически, в духе американских кинематографических картин с благополучным концом. А иное разрешение невозможно, если беседа ведется в собрании. Есть вещи, которые общественно-невыносимы, которых человек не хочет слышать, поскольку он «общественное животное», есть взгляды, которые невозможно развивать иначе, как наедине… Отдельному, одинокому сознанию доступны сомнения и горечь, но когда люди вместе, им естественно делать вид, что «все хорошо» — tout va bien, — если не сейчас, то вообще, когда-нибудь «пойдет хорошо». Американские сценаристы — проницательные психологи, они знают, что делают. «Будем надеяться…», — как говорят опытные ораторы, заканчивая свою речь, или как пишут в популярных брошюрах. Нельзя сказать: «надеяться не на что», не потеряв чувства ответственности и того, что можно назвать общественной моралью, — нельзя, хотя бы лично это и казалось наиболее вероятным. Поэтому и не стоит публично обсуждать «возможность счастья», раз до всякого обсуждения известно, каков должен быть ответ.
* * *
Существует множество схем развития литературы, по разным признакам построенных. К тем, которые уже известны, можно было бы добавить еще одну, – приняв за признак усиление «интимности», окончательное превращение книги в «беседу с глазу на глаз». Из этой схемы резко выпадает советская Россия, с ее литературой «масс, улиц и площадей», да и в Европе не все, конечно, подходит под нее. Однако, в общих чертах, можно проследить долгий многовековой процесс, принявший в последние десятилетия почти болезненные, «гипертрофированные» формы: каждый только за себя, каждый — только о себе, или если и о других, то взятых в отдельности, как бы вырванных из среды и почвы… Полвека тому назад невозможен был бы не только Розанов, но и средний теперешний беллетрист, сразу заводящий речь каким-то вкрадчивым шопотком и внушающий читателю, что перед ним не обычное «печатное слово», а нечто вроде исповеди или дневника. Полвека тому назад, и даже еще сравнительно недавно, автор обычно говорил о себе во множественном числе «мы», — стремясь обезличиться; в большинстве теперешних книг условное авторское «мы» невозможно, — наоборот, автор кричит «я», подчеркивает «я», или рассказывает о себе и о своих героях такие вещи, при которых уклончиво-сдержанное множественное число звучало бы фальшью и бессмыслицей. Имею в виду вовсе не одни только книги «откровенного» содержания, как, может быть, заподозрят некоторые, — нет, достаточно вспомнить, например, блоковские сборники стихов и его предисловия к ним, чтобы понять, что условное «мы» вообще отпадает при переходе литературы к личным признаниям.
Отсюда возникло и этим, вероятно, вызвано то, что новые книги в целом грустнее, безнадежнее прежних. Есть и другие, общие причины, – но нельзя игнорировать эту. Разумеется, грусть, – чувство вечное. Разумеется, во все времена жили творческой жизнью бесстрашные и познавшие горестный внутренний опыт люди, которые не жертвовали истинами, хотя бы и низкими, ради обманов, хотя бы и возвышающих: их находишь везде, во все века, восходя к глубокой древности. Не будем болтать пошлостей о том, что наше поколение будто бы что-то такое особенное увидело, поняло и почувствовало и потому стало во всех отношениях «тоньше» предыдущих. Это вздор. Но вот что несомненно: наше поколение все упорнее, все настойчивее пишет книги для одинокого воздействия на одинокого читателя, для чтения «про себя», лучше ночью, чем днем, ночью, когда человек острее чувствует свою оторванность от всего окружающего, для полного «с глазу на глаз», одним словом. Поэтому оно больше себе может позволить, — во всех областях. Общественно-нестерпимое превращается в лично-приемлемое. В частности, даже безнадежность не вызывает внутреннего протеста, не оскорбляет: с глазу на глаз можно сказать и выслушать все.
Вопрос не сводится к какой-либо одной книге. Но каждая новая книга, идущая дальше предыдущих по той же линии, его возбуждает. Каждая — удивляет. Сначала думаешь: «неужели и это можно было написать?» Потом как бы примиряешься, понимаешь неизбежность появления этих дневников, признаний и записок: надо, — как сказал поэт, — «всякую чашу пить до дна». Выпьем же до дна и «чашу» индивидуализма.
* * *
С удивлением я читал роман Е. Бакуниной «Тело»[2] Невольно думал над некоторыми страницами: «неужели и это можно было описать, сказать и рассказать?» Но удивление уступает мало помалу место признанию большой ценности этого романа, как «человеческого документа». Книга, во всяком случае, серьезна и очень характерна для нашего времени. Ее, конечно, не все одобрят. Но ревнители благонравия — идейного и жизненного — осмотрительно поступили бы, если бы поразмыслили над тем, что едва ли случайно в одно десятилетие в Европе разные, ничем не связанные между собой авторы, договариваются, приблизительно, до того же самого, делая по линии «интимности» тот же добавочный, новый шаг, но бесконечно отличаясь притом друг от друга но таланту, уровню культуры и воспитавшей их среде, — и что нравится нам такое положение или нет, оно, очевидно, подготовлено состоянием современных умов, сердец и душ. Несправедливо обвинять одну Бакунину за то, в чем лично виновата она лишь на какую-нибудь ничтожную, тысячную долю.
Пишет женщина… С художественной стороны роман до крайности неровен. Попадаются страницы ужасающие: не могу выразиться иначе. Нет ничего тягостнее эротики, которую, по непонятным мотивам, автор пытается украсить картинными и аляповатыми сравнениями, пышными образами и прочей дребеденью, рассчитанной на то, чтобы создать впечатление какой-то доморощенной «Песни песней». Получается не Библия, а Вербицкая в ухудшенном издании: все вообще эротические сцены ужасны у Бакуниной. Но рядом есть главы необыкновенной, мучительно-кропотливой зоркости и такого внутреннего напряжения, такой словесной точности и силы, что просто, как говорится, «диву даешься». Есть строки незабываемые в «Теле», будто безошибочно найденные в каком-то лунатическом вдохновении, полностью заменившем мастерство и вкус. Да и вся книга, в целом, — незабываема, несмотря на отдельные срывы, слабости и промахи. Это, конечно, не совсем «литература». Но в своем роде это нечто не менее важное и значительное, чем то, что литературой по праву называется.
«Может ли быть человек счастлив?» Возвращаюсь к вопросу, с которого начал. Бакунина, в сущности, только об этом — о не назначенном, не отпущенном судьбой человеку счастье — и пишет. «В Бога я не верю. Какой Бог, когда возможны войны и расстрелы, матери, грызущие от голода руки и поящие кровью детей?» Довод вызовет, конечно, снисходительную улыбку профессиональных теологов, но он жив, пока жив человек, — и никто его никогда в человеческих сознаниях не искоренит. Изверившаяся в небесной помощи бакунинская героиня рассчитывает лишь на себя. Она уже не очень молода. Она русская, эмигрантка. У нее грубый, нелюбимый, бестолковый муж и дочь, равнодушно–жестокая с ней, в четырнадцать лет уже одурманенная парижской роскошью и холодно утверждающая, что «любить можно только богатого». Женщина чувствует свою кровную связь с дочерью и готова ради нее на любую жертву, но не хочет и не может целиком в материнстве раствориться. Наоборот, она пытается жить своей жизнью, для себя. А вокруг – полунищета, темная, сырая квартиренка, стирка, рынок, муж с волочащимися за спиной подтяжками, впереди старость, – и никакого проблеска, никакой надежды, ни на что.
«Боже, если Ты есть, да неужели же никакая гроза не очистит смрада, в котором задыхаюсь, никакая молния не опалит загрязненную, замусоленную душу. Неужели навсегда то, что со мной, и уже нет ни спасения, ни просвета, и жизнь прошла, — не воротишь, не изменишь, не изгладишь, не выжжешь? Навсегда»,
Женщина вспоминает прошлое. Было несколько блаженных часов, давно, в Крыму, с каким-то заезжим англичанином. Была любовная дружба с умным, преданным, как собака, доктором… Но все это в прошедшем времени, «было». Потребность счастья все растет, возможность его все уменьшается. Женщина ненавидит свое тело, но не ищет избавления от его власти. «Умерщвление плоти» ее отталкивает, как лицемерная выдумка. Будто для того, чтобы еще себя унизить и сильнее себя истерзать, она с упоением и беспощадной правдивостью перебирает в воображении все, чем жизнь ей платит за всепоглощающее, страстное, душевно-телесное влечение к ней. Нет счастья: есть лишь долгая пытка, тление на медленном огне, и если другие этого еще не видят, то вот она, она, эта женщина, все им опишет и растолкует, чтобы не оставалось больше иллюзий, чтобы обманщики и лжецы не поили больше людей подслащенной розовой водичкой несбыточных обещаний.
Вероятно, книга Бакуниной многим покажется близка, — женщинам, в особенности, если только найдут они в себе силы это безотрадное повествование прочесть. Есть люди — сейчас, в нашей эмиграции их много, — которые живут как бы в оцепенении. Если их встряхнуть за плечи, разбудить, спросить: «подумайте, очнитесь, разве это жизнь?», — они на миг встревожатся и ужаснутся, пока сон не одолеет их снова… Бакунина это и делает, с силой подлинной искренности и страстью отчаяния.
Но она не дает никакого ответа. Она нашептывает даже, что ответа нет. Ее книга внушена лишь бессмыслицей жизни.
«Будем надеяться…» — Будем надеяться, — на этот раз пишу без всякой иронии, — что всегда, везде, во всех положениях, состояниях и возрастах у жизни и для жизни можно найти оправдание и смысл.
ДНЕВНИК МАРИЭТТЫ ШАГИНЯН
Из всех писателей, сложившихся в дореволюционное время, Мариэтта Шагинян — вместе с Серафимовичем — пользуется у большевиков, пожалуй, наибольшим признанием и уважением. Горький, конечно, не в счет.
Некоторых других тоже охотно печатают и поощряют, — Алексея Толстого, например, или Эренбурга, или Сергеева-Ценского. Но отношение к ним не то. В советской литературе — это как бы «высококвалифицированные спецы», которые полезны, пока работают по правительственным заданиям, но которые в любую минуту могут оказаться «вредителями». Окончательного доверия к ним нет. Право на самостоятельное идейное творчество у них оспаривается. Критика с легким сердцем и с сознанием полной безопасности разносит их, чуть заметит ту или иную «ошибку», упрекает в небрежности или в нежелании «перестроиться» и вообще никакого пиетета к ним не обнаруживает.
Мариэтта Шагинян — вне критического обстрела. Недавно ей был даже пожалован какой-то особенно почетный орден, дабы отметить ее заслуги и привилегированное положение. С ней разрешается почтительно спорить, но над ней нельзя смеяться, ее нельзя учить или в чем-либо упрекать. После «Гидроцентрали» Мариэтту Шагинян окружает нимб советской святости, высокой революционной порядочности и серьезности. Еще немного, — и ее канонизировали бы «совестью русской литературы» советским Львом Толстым.
Все, кажется, согласны: она не бог весть как талантлива, эта «совесть»! Двух мнений на этот счет быть не может. Трудолюбива, упорна, настойчива, образованна и, бесспорно, умна, — но не даровита. Никогда, ни в одной строчке ее не было ничего, кроме труда, ума и воли, ни в ранних декоративно-чувственных стихах, которыми, по чуждым поэзии соображениям, неожиданно восхитился Розанов, нив бледных очерках и рассказах, ни в тягучей, мертвенной «Гидроцентрали». Кстати, этот роман, признанный почти классическим в советской России, не особенно много там читаемый, но зато одобренный в самых высоких инстанциях, — чуть ли не самим Сталиным, — нашел и здесь, у нас, в эмиграции, поклонников. Не раз мне приходилось слышать похвальное суждение о нем в частных беседах или в литературных собраниях. В последнем номере «Современных записок» Г. П. Федотов с сочувствием отозвался об особом «моральном воздухе», будто бы ощутимом в «Гидроцентрали» по сравнению с другими советскими романами. Федотов осторожно воздержался от оценки художественных достоинств произведения Мариэтты Шагинян, но нравственную его высоту подчеркнул. Ореол революционной святости окружает, значит, романистку и в представлении здешних читателей.
На этом, вероятно, основан ее успех: иное объяснение найти ему трудновато.
Дело в том, что советские писатели, в большинстве случаев, ведут игру слишком грубую. Их карьеризм, их «рвачество» настолько очевидно, что никакая талантливость искупить или затушевать его не может. «Социалистическое соревнование» находит в области фальшивого пафоса и искреннего прислужничества обширное поле, где разгуляться: об этом мало кто в СССР говорит, к этому все давно привыкли, — но цену друг другу, конечно, знают. Отсюда взаимное издевательство, вечное стремление кого-нибудь из менее умелых и ловких притворщиков подцепить, уличить, вывести начистую воду. Отсюда же — презрение к текущей литературе на партийных верхах, саркастические, язвительные ленинские словечки, сталинское пренебрежение к «аллилуйщине»: там, в «сферах», слишком пресыщены лестью, чтобы еще иметь к ней вкус, там должны — психологически это несомненно — искать сотрудничества менее восторженного, но более верного, с постоянной возможностью легких колебаний или даже оплошностей, но без возможности внезапной измены. Ориентируясь на верхи, и вся мелкая, подневольная критическая братия инстинктивно выделяет тех, кто верхам должен быть угоден.
Мариэтта Шагинян играет роль верного, бескорыстного друга, не ищущего ничего кроме истины. Истина же для нее — в Кремле. Говорят, она человек искренний, чистосердечный… Не знаю. Может быть. Но что-то плохо верится в это, да, кроме того, бывает и искренность, которой грош цена: погладьте комнатную собачку, — она завизжит, завиляет хвостиком, лизнет руку, без всякого расчета на подачку, просто от удовольствия, что ее приласкали.
Ее благодарность – тоже искренняя. Мариэтту Шагинян советская власть именно приласкала, превратив ее из третьестепенной поэтессы в виднейшего «работника пера», — и в ответ получила беззаветную преданность, со стремлением всю мировую мудрость повергнуть к ногам Маркса и весь опыт человечества использовать для успеха пятилетки.
Любопытнейшая книга — дневник Мариэтты Шагинян, только что ею изданный. Это огромный том, включающий записи с 1917 по 1931 год. Назначение и цель его — продемонстрировать, как должен «перестраиваться» подлинный советский писатель, как превращается он из «беспочвенного художника» в «любознательного журналиста» сначала, в «страстного и прочно определившего свои задачи публициста» затем. Любопытна книга потому, что в ней дано, — чистосердечен ли автор или нет, все равно, — полное теоретическое обоснование и оправдание прислужничества, полное руководство к тонкому, ювелирно-отточенному карьеризму, полное раскрытие метода успешного сотрудничества писателя с правительством. Мариэтта Шагинян очень умна, — повторяю, очень культурна. С высоты своего опыта она ворчливо поучает своих сотоварищей, — бранит их за головотяпство и объясняет, как ей, например, «знание греческой философии помогло в изучении проблем грузинского марганца» (дословно — стр. 9). Она не льстит власти. Изредка только, как бы невзначай, не в силах удержаться, стыдливо и кротко запишет она:
«Нынче дивный день, XV том Ильича, прогулка».
Но вообще-то о таких своих интимных восторгах она молчит. Она вся увлечена делом — советским экономическим строительством. Она храбро предупреждает, что «декларации и дискуссионные высказывания, не сопровождаемые практическими результатами или доказательствами, имеют значение нулевое». Она строит пятилетку. Гете, Вагнер, Эсхил, Гегель, Бальзак, Шекспир — все великие имена, приводимые в дневнике, упоминаются ею лишь «постольку-поскольку», то есть лишь для того, чтобы показать, как они, эти светочи духа, помогли Мариэтте Шагинян прийти к уразумению небывалого величия и неслыханного значения «нашего строительства» и «нашего плана». Они толкнули ее на путь «практики нашего класса» — пролетариата.
Дневник открывается определением пресловутого понятия «внутренней перестройки». Его стоило бы выписать целиком, чтобы показать, как тонко и ловко исправляет и усложняет Шагинян теоретические прописи различных «руководящих товарищей» из недорослей, как помогает им в их работе… Неудивительно, что те ее ценят: второй такой сотрудницы, которая добровольно придумывала бы к голым лозунгам хитроумные философские подходы, не сыщешь.
Шагинян говорит о писателях «до» и «после» революции. В чем разница?
«У огромного большинства писателей дореволюционная действительность вызывала отрицательное отношение, — и не потому, что это большинство политически было сознательно или имело иной идеал действительности. А потому, что эта "действительность", говоря языком Гегеля, пропущенным через Маркса, уже перестала быть действительностью, утратила историческую необходимость своего существования, мешала развитию общества, стесняла его, должна была быть сброшенной, – и той живой, непобедимой исторической тяги соучастия в ней, соработы с нею, какая бывает у современников новой эры, – ни в ней, ни в нас быть не могло. Отсюда бегство из действительности как одна из форм ложного отражения материала; книжная ретроспекция, — кабинетный тип писателя, находившего свои впечатления в книгах и через чтение; отсюда и та общественная вынесенность за скобки, пассивная форма профессии писателя как человека, освобожденного от всяких других особенностей своего класса, — форма, целиком осуществленная лишь при развитом капитализме, потому что никакой другой класс не освобождал во время своего господства целиком писателя от обязанностей помещика, офицера, чиновника. Ни Альфред де Виньи, ни Лермонтов, ни Гете не были только поэтами и писателями. Итак, с одной стороны, — привычка получать готовый материал и неуважение к нему; с другой, — привычка сознавать себя за классовыми скобками, — вот с чем мы пришли к октябрю».
У дореволюционного писателя было убеждение, что мир может быть познан «чистым мышлением, без общественной практики». Но теперь на основе новой формы бытия родилась новая «гносеология».
«Сейчас на вопрос "как ты пишешь?" ни одному из нас уже недопустимо ответить, минуя вопрос, как он живет и что делает, потому что нас окружает новый материал, который готовым в руки не дается никому, потому что получить его, не познав его, нельзя, а познать его, не участвуя в его делании, —– невозможно».
В соответствии с этой программой Мариэтта Шагинян рассказывает, как она прожила пятнадцать революционных лет. За эти годы она три раза ездила в свою родную Армению. Первые записи, относящиеся к 1917 году, похожи на обычный путевой дневник: картины природы, мысли, общие дорожные впечатления… В следующую поездку об угле, хлопке и рудниках говорится уже значительно более, чем о прелестях кавказского пейзажа. Наконец, дневник, который велся во время третьей поездки, совпавшей с периодом полного духовного просветления Мариэтты Шагинян, в доброй своей половине мог бы сойти за отрывок из записной тетрадки какого-нибудь трудолюбивого хозяйственника: цифры, таблицы, деловые справки — больше ничего… Так «практика нашего класса» вытеснила былые «переживания». Так — говоря языком Шагинян — «получился своеобразный симбиоз-сращение внештатного человека с рабочим комплексом».
Есть кое-какие записи о Петербурге 1920 года и о «Доме искусства»: короткие, беглые, включенные в книгу как бы только для того, чтобы оттенить никчемность и растерянность рядовой интеллигенции по сравнению с автором дневника, уже в то время сгоравшей от «первичной силы любви» к большевикам. Есть указание, что даже Блоку попало от Шагинян за «отречение от революции». Есть ценное сообщение, что заметил и, «в гроб сходя, благословил» Мариэтту Шагинян еще сам Ленин. В 1923 году Боровский писал автору «Дневника»:
«Да, забыл: знаете, ваши вещи нравятся тов. Ленину. Он как-то говорил об этом Сталину, а Сталин мне».
На всякий случай, в предвидении всегда возможных капризов превратной фортуны, это диплом полезный. Есть, наконец, свидетельство, что Мариэтте Шагинян весьма по вкусу ее собственные писания. На каждом шагу:
«Написала очень хороший рассказ, послала в "Правду" превосходную статью, работалось восхитительно…»
А о пустом авантюрном романе «Янки в Петрограде» скромным автором написано черным по белому:
«По архитектонике, по умело использованному словесному штампу и опыту всех романов последних десятилетий — это воистину гениальная вещь».
Недаром, видно, Вольтер заметил:
— Самый умный человек глупеет, когда говорит о себе.
«МАСКИ» АНДРЕЯ БЕЛОГО
Удивительнее всего, что книга эта выпущена Госиздатом.
Конечно, у Андрея Белого — большое имя. Конечно, его недавние выступления на разных съездах и диспутах, где он каялся в грехах юности и клялся в верности партийным учителям, должны были вызвать сверху ответную ласку и поощрение. Еще немножко усердия — и Белого причислили бы, пожалуй, к глубоко своим парням. Но это — в теории. А на практике, когда принес он в издательство рукопись своего романа, не могли же там не подумать, что если «Маски» попадутся в руки какому-нибудь «литударнику» или комсомольцу, тот потребует объяснений, сошлется на бумажный кризис, и вообще, в сознании своей правоты, поднимет пренеприятнейшую для издательства «бузу»? Булгарин, страж благопристойности, сто лет тому назад любил восклицать, в порыве критического недоумения:
– А дамы? Что же скажут дамы?
Над книгой Белого хочется воскликнуть:
– А массы? Что же скажут массы?
Ибо Госиздат не призван ведь обслуживать последних декадентов, символистов и мистиков. Он выпускает книги — по собственному своему определению «нужные пролетариату». Насколько пролетариату может быть нужен новый роман Андрея Белого, предоставляю судить тем, кто его прочтет.
Разобраться в «Масках» нелегко. По сравнению с этой книгой, прежние романы Белого — в частности «Петербург» или «Серебряный голубь» — были прилизанными, аккуратными вещицами, написанными старательным беллетристом школы Потапенко или, скажем, Шеллера-Михайлова. Чтение «Масок» требует напряженнейшего внимания, — однако вовсе не для того, чтобы поспеть за развитием необычайного действия или уследить за полетом авторской фантазии, а лишь для того, чтобы в потоке безудержных словесных «эксцессов» не потерять фабульной нити. В «Масках» необычайны только слова, только небывалый разгул и разлив слов: всего другого вложено в них не так уж много. Андрей Белый прав, когда говорит об «очень простом сюжете» своего романа, — но он сделал все возможное, чтобы создать впечатление сложности.
Несколько строк, мимоходом, — о том, что представляет собой Белый вообще, в целом. «Pour prendre position», как говорят французы: иначе речь о частностях останется неясной, а неизбежно субъективный привкус, вносимый в нее, — неоправданным. Мне Белый рисуется в виде какой-то огромной развалины, погибшим под тяжестью страшных грузов, им же самим на себя принятых. Должно было быть нечто величественное, но ничего не вышло. Не хватило устойчивости, не хватило твердости в уме и воле. Блоку было от природы, может быть, меньше дано: но у Блока было огромное чувство ответственности за все сделанное и сказанное, — и оно-то и возвысило его. У Белого все — на ветер, и все, как ветер, пролетает сквозь его сознание, не удерживаясь, не пуская никаких корней. Сознание, что говорит, гениальное: едва ли есть другое такое в нашей литературе – по щедрости отзвуков, по глубокому, острейшему слуху к музыке мира и понимаю ее на лету, с полузвука, с полунамека… Но в книгах запечатлелись лишь отблески, отсветы увиденного или понятого: никакого продолжения, никакого ощущения жизни, где намек стал бы словом, а слово, может быть, делом. При этом — изменчивость, почти женственная, граничащая с коварностью и лживостью, вечная склонность отшутиться, — как Блок был всегда серьезен! — отделаться капризной гримасой там, где этого все менее ждут. В целом, разумеется,— зрелище «патетическое»: подлинный «неудачник», но все-таки один из тех, по которым можно смутно судить, чем мог бы стать человек, если бы… трудно, в сущности, сказать, если бы — что? Если бы, — пожалуй, — в последнюю минуту человек не был подменен карикатурой на самого себя.
Еще одно замечание, узко-литературное: мне кажется, что у Белого нет настоящего большого писательского таланта, — и что некоторый дилетантизм его во всех областях творчества не произволен, а вынужден. Я только что употребил слово «гениальный» — и от него не отказываюсь. Но гениальность Белого какая-то неопределенная, «глухонемая», больше сказывающаяся в его темах, нежели в разработке тем. Поэт? Да, у него есть несколько строф незабываемых, идущих, или вернее прорывающихся, на мой слух, «дальше Блока», пропетых с той же страстью, печалью и силой, как лучшие стихи Некрасова. Но всего только — несколько чудесных строф в ворохах дребедени и мусора. Романист? Н этот счет едва ли возможно разногласие. «Петербург» — книга, которую читать в высшей степени интересно, столько в ней ума, остроумия и выдумки. Но люди в ней из картона и чувства их вымышлены: этого ничем скрыть нельзя. Запах типографской краски в книге слишком силен. Это, разумеется, замечательная, любопытнейшая литература, но ее, эту литературу, какая-то тончайшая и роковая черта отделяет от тех областей истинного творчества, где легче и свободнее достигается большее.
«Маски» являются вторым томом романа «Москва» и прямым продолжением «Московского чудака» и «Москва под ударом», составляющих вместе том первый. С обворожительной наивностью, — или, может быть, с иронией, стоящей на грани издевательства, — Белый говорит:
«Москва» — наполовину роман исторический. В первом томе я рисую беспомощность науки в буржуазном строе и разложение устоев дореволюционного быта. Второй том рисует разложение русского общества осенью и зимой 1916 года. Третий том, в намерении автора, должен нарисовать эпоху революции и часть эпохи военного коммунизма: четвертый том обнимет эпоху конца НЭПа и начала реконструктивного периода.
Какой-нибудь доверчивый и простодушный человек примется, чего доброго, перечитывать «Москву» в ожидании на самом деле найти в книге историческую фреску, картину разложения и реконструкции, одним словом, — так называемое «широкое бытовое полотно». Что найдет он в действительности? В девяносто пяти случаях из ста — ничего, у него не хватит терпения искать и доискиваться. Если же хватит, — то обнаружит собрание сумасшедших, среди которых медленно сходит с ума сам автор. Я вовсе не поклонник «здравого смысла во чтобы то ни стало», как выразился один из героев Анатоля Франса. Но после чтения «Масок» хочется почитать что-нибудь ясное и здравое, Вольтера, например, или прозу Пушкина, или Герцена, хочется убедиться, что дважды два по-прежнему четыре, а не, например, сорок семь, и что в нашем бедном скудном мире бедные скудные законы логики все еще что-то значат.
Постараюсь передать фабулу «Москвы», насколько позволяют это сделать первые два тома романа.
Профессор Коробкин — великий математик. Случайно он делает открытие, имеющее необыкновенное значение для развития техники, в частности, для техники военной. Об этом тотчас же узнают все европейские державы. Начинается слежка, шпионаж. Авантюрист Мандро, германский шпион, решается добыть у Коробкина его секрет, какой бы то ни было ценой. Но профессор на деньги не падок. Мандро ночью проникает в его квартиру, жестоко пытает его и выжигает ему глаз. Коробкин сходит с ума, но бумаг с вычислением не выдает. Мандро попадает в тюрьму и, будто бы, там умирает. Коробкин — в больнице. В дело вмешивается его брат, который, вместе с другом профессора, по фамилии Киерко, решает вывести все на чистую воду. Коробкин выздоравливает, возвращается домой. Его жена сошлась за это время с другим профессором, Задопятовым. Вновь выступает на сцену Мандро, который, оказывается, не умер. Но несчастная дочь авантюриста, Лизаша, им обесчещенная, ищет правды. Много еще случается разнообразных, таинственных и непонятных происшествий, пока не раздается страшной силы взрыв. «Кто уцелел? Кто разорван? Читатель, пока: продолжение следует».
Продолжение — будет дано в третьем томе.
В пересказе похоже, что — роман как роман. Но мне пришлось выделить из создания Белого его повествовательные и беллетристические элементы, связанные с воспоминаниями о молодости и о том старинном профессорском житье-бытье, которое не раз уже он со злобной насмешкой описывал. Эти элементы у Белого растворяются, тонут в море описаний, восклицаний и посторонних замечаний. Автор указывает, что фабула сама по себе в чистом виде для «Масок» и вообще «Москвы» несущественна.
Оказывается, «моя проза — совсем не проза; она поэма в стихах; она напечатана прозой лишь для экономии места». До сих пор Белый об этом не предупреждал, он называл «Москву» романом, не делая никаких оговорок. Но в предисловии к «Маскам», заранее защищаясь от нападок, он указывает, что его фразу надо читать, «став в слуховом фокусе», т. е. вникая столько же в звук, сколько и в смысл, — столько же если не больше. «Кто не считается со звуком моих фраз и с интонационной расстановкой, а летит с молниеносной быстротой по строке, тому весь живой рассказ автора, из уха в ухо, — досадная помеха».
Не знаю, что на это возразить: так неожиданно подобное утверждение под пером столь многоопытного литературного теоретика, каким является Белый. Как будто он забыл, что границы прозы и стиха условны, и что нельзя точно определить, где кончается одно, где начинается другое (по Маллармэ: «есть алфавит и поэзия: прозы нет»). Как будто Толстой или Гоголь, или Достоевский, или любой «прозаик», сколько-нибудь взыскательный к слову, — даже если он пишет не роман, а пустяшную статью, — не проверяли и не проверяют фразу слухом, по несколько раз ее себе повторяя и понимая и чувствуя, что от места слова в предложении зависит полностью его сила и вес. Я опять позволю себе повторить, что со стороны Белого это заявление о необходимости относиться к его произведению, как к поэме в стихах, есть или внезапная необъяснимая наивность, или издевательство. Пожалуй, предположение наивности правдоподобнее, если основываться, по крайней мере, на самом тексте «Масок»: он, с ритмической стороны, напоминает ту прелестную рубленую прозу, которая в приложениях к «Ниве» или «Отдыху» шла на изготовление всевозможных ноктюрнов и этюдов. (А Горькому пригодилась для «Песни о соколе».) Если таким товаром Белый не побрезгал, то, очевидно, с ним что-то неладное произошло, и он «опростился».
Для того же, чтобы дать понять о благозвучии поэмы Белого, достаточно привести первую ее фразу:
— Козиев третий с заборами ломится из Тартаганова к Ханнах-Пинахева особняку (куплен Элеонорой Леоновной Тителевой); остановимся: вот дрянцеватая старь. И Соляришин-Старчак с Неперепревым думалось, что покупалось пространство двора, а не дом: для постройки.
Стоило бы рассказать отдельно о предисловии к «Маскам». Это — невероятная в своей причудливости смесь высокомерия и робости, самомнения и поклонов в сторону марксистов, проницательности и слепоты, пафоса и комедиантских ужимок. В заключение Белый любезно сообщает, что он «учился словесной орнаментике у Гоголя, ритму у Ницше; драматическим приемам — у Шекспира; жесту — у пантомимы; музыка, которую слушало внутреннее ухо, — Шуман; правде же учился у натуры моих впечатлений».
Есть вещи, слова и заявления, над которыми неудобно даже смеяться: слишком легко. Мне кажется, приятная галерея благородных предков, которую сам для себя устанавливает Белый, — этого порядка. Уместнее повторить те слова, которые однажды пришли на ум Тургеневу, когда он смотрел на Гоголя:
— Какое ты умное, и странное, и больное существо!
ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ НОЧИ
В двух словах напомню факты.
О книге Селина «Le voyage au bout de la nuit» заговорили сразу после присуждения Гонкуровской премии. Получил ее писатель посредственный, автор одного из тех романов, которые без особой скуки читаются, но и без особого труда забываются. Селина обошли. Но голосовали за него именно те члены жюри, которые славятся свои литературным «нюхом», да и некоторые из его противников признались после голосования, что сердце их полностью на стороне Селина, и если они его не поддерживали, то лишь по нежеланию разжигать страсти и поднимать скандал.
Прошло три или четыре месяца. Официальный лауреат Мазлин успел за это время, вместе со своими «Волками», отойти, как говорится, «в тень забвения». Его соперник, Селин, прославился на всю Европу, а во Франции вызвал бесконечные споры и целый поток статей. «Путешествие в глубь ночи» — книга огромная, мрачная и довольно дорого стоящая. Несмотря на это, она, действительно, — «у всех в руках». Кто-то правильно заметил, что ее читают «министры и шоферы, академики и консьержки». Нечто подобное было в прошлом году в Париже с «Любовником леди Чаттерлей», — но, разумеется, совсем по другим причинам.
Мнения крайне разноречивы. Одни превозносят Селина до небес, другие презрительно называют его полуграмотным болтуном, клеветником и циником, рассказывающим все, что ему придет в голову, без разбора или плана. Обстановка для успеха книги — самая благоприятная, тем более что положительные отзывы преобладают.
Осуждения и брань идут, главным образом, из лагеря принципиальных хранителей традиций, защитников добрых нравов и любителей всего условно-изящного в искусстве. Там, в этом лагере, утверждают, что, во-первых, Селин не умеет писать по-французски, во-вторых, он лишен чувства меры, этого коренного французского свойства, в-третьих, — развращает читателя и подтачивает в его сознании уважение к исконным человеческим добродетелям, в–четвертых… Но перечислять все обвинения ни к чему. Полезнее, пожалуй, вспомнить, что приблизительно то же говорилось в свое время о Флобере, о Бодлере, о Золя, о многих других. О «Мадам Бовари» один из авторитетнейших критиков три четверти века тому назад писал: «Эта книга утонет в грязи, которою автор пытался залить наше общество». Предсказание, как известно, оправдалось не вполне… Конечно, не следует делать заключения по аналогии: нельзя a priori утверждать, что судьба книги Селина будет такой же, как судьба флоберовского романа. Это было бы слишком легкомысленно. Единственное, к чему обязывает разноголосица в отзывах: внимательное чтение.
Книга замечательна. С первой до последней страницы в ней чувствуется внутреннее единство, и есть ли в ней план или нет, — становится мало-помалу безразлично: если архитектурность в замысле и отсутствует, то все время присутствует в нем человек, – и этим спаивает, связывает распадающиеся части повествования, дает им непрерывную жизнь. Безразлично и то, «умеет» ли, — в школьном, строго грамматическом смысле слова, — Селин писать. Конечно, язык у него чудовищный: это смесь уличного «арго» с отрывистым красноречием лавочника, приправленная нарочитым пренебрежением ко всякой книжной, литературной, плавной красивости. Но при этом подлинный художник, подлинный писатель виден всюду: одной фразой Селин умеет сказать или показать все, что ему нужно, и многие французские романисты-академики, считающие себя специалистами по части художественной изобразительности, могли бы у него поучиться этому искусству. Есть сцены незабываемые в «Путешествии». Читаешь — и невольно останавливаешься, опускаешь книгу на колени: хочется с кем-нибудь тут же поделиться впечатлением, тут же кому-нибудь передать книгу, сказать: «Прочтите, — как это хорошо!» Поражает правдивость. Ленин в одной из своих статей о Толстом употребил выражение: «срывание всех и всяческих масок» — выражение, которое в советской критике стало классическим и повторяется постоянно. Вот, упорством и настойчивостью «в срывании масок» и изумляет Селин: нет в «Путешествии» пощады для человека. Только сердце, наперекор сознанию, иногда заступается за него, — и тогда в этой странной и жестокой книге вдруг появляются страницы и главы, звучащие будто какая-то жалобная, тихая песенка: наивно, беспомощно, еле-еле внятно.
Досадно, что недостаток места не позволяет коснуться целого ряда тем и мыслей, возбуждаемых «Путешествием». О нем или по поводу него сказать хотелось бы очень многое. Особенно интересно, между прочим, что огромный успех книги Селина совпал с уменьшением внимания к тому роду «психологического» романа, который культивируют последователи Пруста, сузившие и обеднившие наследие своего гениального учителя. Пруста можно «развивать» в каком угодно направлении. Средние парижские романисты нашли наиболее для себя удобным принять за отправную точку его несколько салонную замкнутость, его обманчивый меланхолический эгоизм… С появлением книги Селина произошло нечто вроде реванша Золя над Прустом: в литературу опять ворвался внешний мир. Только это уже не тот Золя, прежний, настоящий, чуть-чуть дубоватый и прямолинейный, а Золя, отравленный Прустом, многое узнавший и понявший, растерявший свою былую веру и свой энтузиазм. В книге Селина нет, собственно говоря, «социального протеста» и нет никаких рецептов для исправления мира. Но в своей ужасающей грусти, в беспримерной своей горечи книга вся как бы «вопиет к небу» о мировой неправде, о том самом, что Блок назвал когда-то мировой чепухой.
Ночь для Селина — это жизнь. Путешествие «в глубь ночи» — путешествие в глубь жизни, медленное погружение человека во тьму безысходного одиночества. Бардамю, герой книги, рассказывает день за днем историю своего существования. В ранней молодости он попадает на войну. Никаких эмоций война в нем не вызывает, кроме отвращения и страха.
– О значит, вы трус? — с презрительным недоумением спрашивает его восторженная американка-патриотка.
– Да, да, трус! Я не хочу войны! Я не прикрываю ее цветами. Я не всхлипываю… Я отказываюсь от нее целиком, я ничего не хочу иметь с ней общего. Будь я один против всего мира, — прав-то все-таки буду я. Я один знаю, чего я хочу: я не хочу умирать.
Картины войны напоминают порой сцены из книги Ремарка. Но, не говоря уже о том, что у Селина гораздо больше повествовательного таланта, живопись его ироничнее, насмешливее, злее. Читая «На западном фронте», хотелось спросить: как люди будут воевать после этого? Еще неотвратимее встает тот же вопрос над книгой Селина. Не с облаков же она свалилась, выражает же она какое-то общее ощущение… Одним словом: есть же за ней что-то, кроме личности автора. Вот сейчас, в 1933 году, мы ее сравниваем с книгой Ремарка или с каким-нибудь Другим романом того же склада, а полвека тому назад она вообще не могла быть написана. Батальные картины Толстого кажутся рядом с ней, — так же, как казались уже рядом с Ремарком, — приподнято-бодрыми и декоративными. А уж он ли не старался разоблачить фальшь военной героики, — этого «кокетства смерти», — он ли не тащил ее всеми силами вниз с ее векового пьедестала. Но, очевидно, не было еще в мире или в мировом сознании нужных Толстому данных, не находил он еще соответствующих слов и образов, очевидно, еще бесспорной, непоколебимой истиной звучал древний стих: «dulce et decorum est pro patria mori». Это для многих истина еще и сейчас. Но она уже не абсолютно бесспорна, уже сверкнула в ней какая-то трещина, — и, во всяком случае, в ответ ей поднимается столько гнева, возмущения и отвращения, что военным легендам в чистом виде сложиться, пожалуй, больше уж не суждено. Троя, Рим и Наполеон были: но едва ли они будут еще, едва ли все это вообще повторимо, хотя бы и в новых формах, и если эстеты истории склонны видеть здесь падение человечества, то позволительно все-таки держаться и другого мнения… Опять побочная для Селина тема, отвлекающая нас в сторону. В «Путешествии в глубь ночи» герой, Бардамю, рассказывает не только о себе: тысячи живых людей, обрисованных с волшебной отчетливостью, окружают его. Если это не бессловесные жертвы, то лжецы, плуты и пройдохи, на патриотизме делающие карьеру.
С фронта Бардамю попадает в лазарет. Его считают психически больным. Со своим обычным едким юмором он замечает: «когда весь мир перевернут вверх дном, и симптомом сумасшествия является недоумение: зачем, собственно говоря, нас убивают, — сумасшедшим прослыть очень легко…» Выписавшись из больницы, Бардамю отправляется в африканские колонии, где пытается устроиться служащим в торговую фирму. Но колониальная жизнь сулит ему не больше радостей, чем война. Обманом, чуть ли не проданный в рабство, он попадает на какое-то полуразбойничье судно, доставляющее его в Нью-Йорк. Здесь он тайком сходит на берег и в течение долгих дней влачит нищенское существование, угнетаемый голодом, скукой и похотью. В Детройте Бардамю встречает проститутку Молли, одно из редких существ, о котором он сохраняет светлое воспоминание. Она беспечна и добра. Автор изменяет себе и пишет, не сдерживая волнения:
– Молли! Если попадутся ей на глаза эти строки, пусть знает, что я все тот же, что я еще люблю ее… Если она подурнела, не беда! Что же делать? Она дала мне столько красоты, что этого хватит на двадцать лет, по крайней мере, и даже навсегда.
Он возвращается во Францию, кончает свое медицинское образование, становится врачом. Вся вторая часть книги посвящена описанию темной и мелочной жизни Бардамю, то в Париже, то в провинции, — с длиннейшей, кропотливейшей, похожей на галлюцинацию «галереей» больных, которых он посещает, и обрывается на картине смерти его давнего приятеля Робинзона, которого убивает отвергнутая и обманутая им невеста.
Фабулы, в обычном смысле этого слова, в книге нет. Если бы Селин пожелал, он мог бы выпустить новый том своего «Путешествия», рассказывая дальше о невзгодах, мыслях и чувствах своего героя. Но точку он поставил с полным внутренним правом. Все ясно. Больше не о чем говорить, никакие факты больше не нужны. И если бы в своем кратком пересказе «Путешествия в глубь ночи» я стал бы на фактах дольше и обстоятельнее задерживаться, то все равно о сущности книги ничего бы не сказал.
Сущность удивительного селиновского романа — в его тоне, в привкусе, который от чтения остается. Это книга о людях, у которых парализована воля. Бардамю — неплохой человек. Но до некоторой степени понятно, что его безжалостная, маниакальная откровенность вызывает у многих читателей неодолимое отталкивание. Действие, деятельность как бы проветривают человеческое сознание. У Бардамю сознание засорено, и чем дальше движется он в глубь ночи-жизни, тем настойчивее шевелятся в этом бедном больном мозгу призраки и обрывки того, что на дневном свету исчезает. Нетрудно было бы разобрать «Путешествие» с высоты своего нравственного благополучия и преподать селиновскому герою соответствующий совет. Но не в этом дело, — а в том, по-видимому, что никакого совета Бардамю не услышал бы и не принял. Он знает, что болен, знает, что гибнет. Но для него болен и гибнет весь мир: от лжи, тщеславия, от злобы, от тоски, от общего ко всему безразличия. Помогать кому-то и спасать что-либо Бардамю не намерен. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти», — мог бы он повторить розановские слова. И еще: «я не хочу истины, я хочу покоя». Очень холодная, очень усталая душа живет в этой книге, — и не напрасно Селин усиленно открещивается от подозрений в автобиографичности.
Но как урок, как картина — это, бесспорно, высокое создание моралиста. Книга «ранит», — если воспользоваться выражением Гамсуна. Ее музыке «без волненья внимать невозможно». Опасно только то, что найдутся слабые растерянные создания, которые узнают себя в ней, как в зеркале, и решат, что «Путешествие» написано им в утешение и оправдание.
ТРИ ПЬЕСЫ: Bс. Вишневский. «Оптимистическая трагедия». — Ал. Толстой и А. Старчаков. «Патент № 119». – М. Чумандрин. «Естественная история»
Героической эпохе нужна героическая литература.
Эта мысль давно уже варьируется в советской критике на все лады. Писателей упрекают за то, что они плетутся в «хвосте жизни» и не пытаются раздуть или хотя бы поддержать в массовом сознании пламя революционного энтузиазма. Особенно достается драматургам. Их дело — влиять на зрителя, воздействовать на толпу, превратить театр в «школу социализма». Этого можно достигнуть лишь при том условии, если затронуты будут лучшие, глубочайшие классовые чувства, если исторгнуты будут горячие классовые слезы. Нужна пролетарская, социалистическая трагедия. Нужен Шекспир, — новый Шекспир, конечно, без королей и привидений, но столь же «полнокровный и неукротимый во взлете страстей».
Писатели, однако, колеблются. Не все, впрочем, а те из них, кто все-таки посовестливее и пограмотнее: они знают, что от великого до смешного один шаг, а от «Макбета» или «Отелло» до советской пародии на трагедию — и того ближе. Но находятся и смельчаки. Им вскружил голову «социальный заказ на героику» и вместе с тем сбило с толку безудержное московское театральное экспериментаторство последних лет, узаконенное стремление каждой мало-мальски уважающей себя сценической студии сказать свое «новое слово», сделать новое, неслыханное «завоевание». Их лозунг, их символ веры: да здравствует ломка старых форм! все позволено, — лишь бы было ново, не похоже на то, что делается в буржуазном театре, и, разумеется, героично.
Типичный представитель этого направления, — или, правильнее сказать, настроения — Вс. Вишневский. Он считается в СССР одним из крупнейших драматургов. О нем с сочувствием и почтением отозвался не так давно Мейерхольд. Его драма «Первая конная» и «Последний, решительный» идут в Москве и провинции, вызывают толки в печати и споры на различных писательских съездах. Вишневский — моряк, специализировался он на морских темах, но в формальном отношении признает себя последователем Маяковского и претендует на то, чтобы прослыть писателем передовым.
Новейшее его произведение называется «Оптимистическая трагедия». Оно, кажется, еще не поставлено на сцене, но за этим дело не станет, конечно. Будущие зрители, глядя на пьесу пролетарского новатора-драматурга, вспомнят, может быть, чеховскую «Чайку» и тот декадентский спектакль, с которого она начинается.
Но у Чехова это была насмешка. У Вишневского все глубоко патетично, — и он, очевидно, не подозревает, насколько его революционная трагедия похожа на те «мистерии», которые лет тридцать тому назад ставились иногда на любительских спектаклях в Калуге или Костроме, в сукнах или без сукон, – по Метерлинку или по Леониду Андрееву, для потрясения прекрасных мещанских душ и во славу новой солнечной красоты.
Три акта. Занавес поднимается над чем-то туманным, хаотическим и грандиозным.
«Рев, подавляющий мощью и скорбью дочеловеческие всплески вод, рождающих первую тварь. И первые стремительные взрывы могучего восторга от прихода жизни, восторга, теснящего дыхание и обжигающего. И первое оцепенение перед первой смертью.
История, текущая, как Стикс. Испарения всех тел. Шум человеческих тысячелетий. Тоскливый вопль “зачем”. Неистовые искания ответов».
Появляются два матроса. Они разговаривают на революционные темы, удивляются величию социалистического строительства в России и, коснувшись литературы, утверждают ее право на полную свободу (разумеется, формальную, — не какую-либо иную). Мало-помалу выясняется, что это матросы мертвые. Это — тени былых живых матросов, погибших в гражданской войне. Они вспоминают свои славные деяния. Они вступают в беседу со зрителями. К ним присоединяются товарищи, тоже мертвые, — и «целый матросский полк, погибший под синим небом Тавриды, становится на сцене, как гигантский хор». Трагедия так трагедия! Неудобно же без хора, в самом деле!
Дальше происходят вещи еще более величественные и странные. Матросы переругиваются, хор изредка подает реплики, — и вдруг на сцену выходит некая прекрасная девушка, большевичка. Это комиссар полка. Несмотря на ее высокое положение, матросов охватывает по отношению к ней буйный любовный пыл, и они посягают на ее девственность и честь. Комиссарша энергично обороняется и одного из предприимчивых кавалеров убивает, после чего резонно говорит:
– Вот что. Когда мне понадобится, – я нормальная, здоровая женщина, – я устроюсь. Это не так трудно.
Любовные сцены сменяются боевыми и политическими. На матросский полк нападают белые банды. Анархисты и тайные контрреволюционеры разлагают полк изнутри. Автор тут же сводит счеты с критиками, присутствие которых предполагается в зрительном зале… Всего не перечесть, не описать, не рассказать. Хор и герои попеременно изрекают афоризмы вроде того, что «человечно убивать классового врага». Убийства, кстати, следуют за убийствами непрерывно. Из зала раздается голос критика: «не слишком ли много смертей в пьесе?» Хор наставительно отвечает:
– Не больше, чем у Шекспира, и гораздо меньше, чем было в гражданскую войну, товарищ.
Критик посрамлен и «смывается». Потом на сцене происходит сражение. Гремят пулеметы, несется конница. Доблестный матросский полк взят в плен и целиком приговорен к смертной казни. Перед смертью все распри и недоразумения сглаживаются. Даже целомудренная комиссарша уступает любовным требованиям одного из героев.
Неожиданно появляется священник. Но в услугах религии полк не нуждается и на смерть идет с похвальной бодростью… Снова хаос. Снова — первозданная мировая тьма. «Пульсируют артерии… Как подавляющие грандиозные силы природы, страшные в своем нарастании, идут звуки, уже очищенные от мелодии, сырые, грубые, колоссальные, — ревы катаклизмов и потоков жизни». Занавес. Все.
Какая чепуха, какая наивная и жалкая безвкусица! Для советской литературы и ее теперешнего положения крайне характерно, что о таких доморощенных «трагедиях» может идти в критике серьезный разговор: культурный уровень непрерывно понижается, и сейчас он, пожалуй, ниже, чем когда бы то ни было. Несколько подлинных и даже замечательных писателей не могут этому противостоять. Попробуй, например, Пастернак или Каверин, Бабель или Олеша сказать о Вишневском правду: будет на ближайшем же каком-нибудь «пленуме» неопровержимо доказано, что это вовсе не правда, а бессознательная вылазка классового врага, результат его сомнения в «ведущей роли» пролетарского творчества. Молчание осторожнее.
* * *
Случается, что некоторые из подлинных замечательных писателей и сами «халтурят» не менее самозабвенно, чем их малограмотные собратья. Конечно, трагедии с первозданными ревами и мелодиями мировых катаклизмов они не сочиняют. Но этакую бодренькую, идеологически выдержанную пьеску с Небольшой порцией революционной романтики и двумя-тремя реалистическими сценками выпустить они не прочь. В очередной анкете можно написать: «работаю над драмой о технических спецах». Актуально и вполне солидно. Глядишь, какой-нибудь Кирпотин или Суббоцкий и потреплет по плечу: «творческий год товарища Икс оказался заполнен на все сто процентов».
Таков Ал. Толстой. Не думаю, чтобы надо было вновь и вновь делать оговорки и писать об огромном таланте этого беллетриста. Талант — вне споров, вне каких бы то ни было сомнений. Но следов его очень мало в драме «Патент № 119»: три-четыре фразы похожи на толстовские и, как обычно у Ал. Толстого, остры, ярки и свежи. Остальное напоминает ученическую работу. Правда, пьесу Толстой написал не один, а в сотрудничестве с каким-то таинственным незнакомцем Старчаковым: однако, дав свою подпись, он принимает и ответственность за нее.
Действие драмы начинается в Германии, а затем перебрасывается в СССР.
В Европе кризис. Первоклассно оборудованный, пользующийся всесветной известностью завод Конрада Блеха закрывается. Блех разорен и принимает предложение ехать работать в советскую Россию. Однако это не гениальный инженер, как думает весь мир, а эксплуататор, невежда и обманщик. На него работает Рудольф Зейдель, даровитейший изобретатель, с которым Блеха связывает контракт. Зейдель творит, Блех пожинает лавры. То, что могло остаться тайной в гниющей Европе, обнаруживается в здоровом СССР. Блех просит пятьдесят тысяч долларов за какой-то нужный советскому строительству патент. Государство бедно, платить не может. Зейдель уступает патент даром — и изобличает обманщика. Добродетель торжествует, порок наказан. Зейдель счастлив, записывается в партию, женится на коммунистке. Блех всеми оставлен и гибнет.
Удивительно, что Толстой не сумел — или не захотел — сделать свою пьесу хотя бы поверхностно занимательной. С первых же сцен вы знаете в общих чертах, чем все кончится. Ясно, что коварный Блех будет наказан. Ясно, что порывистый, бескорыстный Зейдель оценит преимущество коммунистического строя перед капиталистическим и отдаст ему на служение свой гений.
* * *
С М. Чумандрина многого не спрашивается. Этот писатель совсем заурядный. Предъявлять к его драме «Естественная история» какие бы то ни было художественные требования нет оснований, — и если она любопытна, то лишь как один из документов, свидетельствующих о «вредительском» психозе, охватившем коммунистов.
Впрочем, отстать от передовых товарищей, сочиняющих трагедии для передовых театров, Чумандрин не желает. В его пьесе тоже есть пролог, загадочный и глубокомысленный, никакого отношения к действию не имеющий. Однако пролог этот происходит не в междупланетных пространствах, а в обыкновенном советском вагоне. До Вишневского, разумеется, далеко, — а все-таки не без исканий…
Персонажи охарактеризованы в высшей степени обстоятельно. Лидия Огулова, например, инженер-плановик, не только «невысока ростом и коренаста», но и «близка к партии»; только, к сожалению, «склонна к перегибам». Инженер-вредитель Ипостаснев является «сволочью на цыпочках», и т. д.
Драма развязывается на строительстве, заброшенном на далеком пустынном севере. Один из инженеров носится с проектом постройки в тундре какого-то роскошного «банно-прачечного комбината». Другой предпочитает электрическую станцию. Борьба между этими местными советскими работниками обостряется, а в это время исподтишка затевают свою подлую возню вредители… Вредителей вообще не оберешься. Нужен весь опыт и глубокий ум старой большевички Отделкиной, чтобы обнаружить их козни. А то пропало бы строительство, погибло бы многомиллионное дело. Иностранные спецы — все-таки честнее. Немец-инженер на предложение испортить трактор отвечает:
— Я приехал из Германии, чтобы дать этой великой стране свою технише Moglichkeit… а вы есть сволочь и негодяй!
Немка действует еще лучше, еще сознательнее. Но свои, русские инженеры — предатели. Не все, конечно. Один, побывав на Соловках, заявляет, что заключение ему на пользу. Власть научила его истине, исправила его. Он ей «обязан своей творческой жизнью». Но другие — неисправимы.
Надо полагать, что чумандринская пьеса послужила усилению пролетарской бдительности. Вредители изображены в ней весьма картинно. Придя из театра на строительство или завод, рабочий по неволе будет приглядываться к каждому инженеру — и искать случая отличиться, разоблачить какую-нибудь «сволочь на цыпочках», настоящую или мнимую.
СТИХИ: «Невод».— Сборник берлинских поэтов. Берлин,1933. «Скит». — Сборник пражских поэтов. Прага, 1933. «Без последствий». — Сборник стихов П. Ставрова. Париж, 1933
Передо мной – несколько тоненьких, скромных, аккуратных книжек: сборник берлинских поэтов, сборник пражских поэтов, отдельные издания отдельных авторов… Они не рассчитаны на большой успех и не будут, конечно, иметь его. Им всем, в качестве названия, подошли бы те два слова, которыми когда-то охарактеризовал свои стихи Жуковский:
– Для немногих.
Но Жуковский ограничивал круг своих читателей умышленно. Он боялся слишком широкого внимания, избегал его. Наши современные стихотворцы в ином положении. Они ничего не имели бы против того, чтобы их читали как можно больше, — но знают, что этого не добиться. «Для немногих»: у них это прозвучало бы как горькое «констатирование факта», а не отзвук добровольного, чуть-чуть жеманного романтического уединения.
Стихи читаются в наши дни мало. Не раз уже я пробовал выяснить общие причины этого, — не буду сейчас к этому сложному вопросу возвращаться. Поэты, разумеется, не правы, полагая, что в разладе их с публикой — с так называемой презренной «толпой» — они ничуть не повинны. Грехов на их душах накопилось достаточно, и было бы с их стороны лицемернейшим легкомыслием становиться в позу каких-нибудь жертв общественного безразличия. Но в одном поэты правы: в диктуемом инстинктом самосохранения отказе непосредственно следовать за эпохой, со всеми ее волнениями и катастрофами, — в отказе уподобиться рифмованной публицистике. «Поэзия отстает от жизни». Этот упрек, постоянно бросаемый поэзии в СССР, — и там ее почти окончательно погубивший, — раздается нередко и здесь, в эмиграции. Человек перелистывает книги стихов, рассеянно скользит взглядом по строкам, – и с раздражением восклицает:
— В наше время, когда в мире происходят такие события, — заниматься такими пустяками!
Восклицание как будто бы убедительное, основательное. Но в нем скрыта демагогическая фальшь: не вдумываясь, всякий с ним a priori легко соглашается, — но, вдумавшись, всякий же и признает, что если бы такому читателю подсунуть вместо стихов Икса или Игрека стихи подлинно великого поэта, он и их, пожалуй, причислил бы к «пустякам». Такой читатель враждебен или чужд искусству по самой природе своей. Он не хочет или не может понять, что поэт отвечает на тревогу эпохи общим своим духовным напряжением, которое выражено или отражено бывает большей частью в словах, не стоящих в прямой связи с непосредственными данными дня. «Поэзия отстает от жизни». Да, — если довольствуется сладковатой красивостью в годы, когда в «мировом пожаре» истлели или перегорели многие человеческие сердца и сознания. Нет, — если он этот «пожар» чувствует, видит и помнит и о каком-нибудь весеннем рассвете или, допустим, любви к женщине, говорит так, как в иные «до-пожарные» годы сказано быть не могло. Здесь, в этой области очень легко ошибиться. Будем же внимательны: у нас, право, не так много осталось литературных «ценностей», чтобы все рубить сплеча и погребать под презрительно-самодовольными фразами бескорыстное стремление как бы то ни было продлить здесь жизнь свободной русской поэзии.
Внимание исключает лесть, внимание не требует дешевых, ничего не значащих комплиментов, в дополнение к которым любезный критик указывает, большей частью, на «прекрасный четкий шрифт» и «желает широкого распространения »… Наоборот, оно обязывает к безоговорочной правдивости. Поэтому я позволю себе сказать, что ни в берлинском, ни тем более в пражском сборнике нет стихов, которые читались бы с чувством полного удовлетворения или отрады. Но в обоих есть поэтическая культура, есть атмосфера, которая подлинному таланту может помочь развиться. Одиночество ведь мало кому под силу. Иногда и даровитейшие «ростки» гибнут оттого, что вокруг них нет ничего и никого: школа, кружок, объединение, споры, соревнование и взаимная проверка, — все это им нужно как воздух.
Культура в берлинском сборнике несколько выше, нежели в пражском. Интересно было бы в этом отношении установить традицию, которую каждый беспристрастный читатель поэзии может проверить… В парижских сборниках молодых стихотворцев уровень мастерства, вкуса и общего развития наиболее высок. В берлинском он понижается, — я дальше объясню, в каком отношении именно. Затем идет Прага с ее склонностью повторять московские, Москвой уже оставленные, имажинистские и другие эпигонски-футуристические образцы. Затем – Рига, где рядом с индивидуальным, анархическим новаторством, безмятежно соседствуют розы, грезы, Ваал и идеал. Разумеется, я не касаюсь отдельных дарований, которые то там, то здесь достигают большого развития, а лишь подвожу итог впечатлениям от общих «коллективных» выступлений.
В Берлине сильно увлекаются культом старой формы и, вероятно, считают это продолжением пушкинской традиции. Высказываю это предположение потому, что стиль и склад стихов, которые пишутся под лозунгом «назад, к Пушкину», давно и хорошо уже известен, — и что именно таковы многие стихотворения в сборнике «Невод»: внешняя гладкость, внутренняя опустошенность… Пушкин, конечно, за это нисколько не ответственен. Надо было бы только понять одну крайне простую вещь, прежде чем у него учиться: Пушкин 1930 года не мог бы оказаться таким же, каким был Пушкин 1830-го, и оболочка пушкинского искусства жива только потому, что освещена и поддержана изнутри и в точности отвечает пушкинскому сознанию. Мне кажется, в Париже молодые стихотворцы это, в большинстве случаев, поняли: оттого им и надо отдать преимущество перед берлинскими. Они, может быть, не умеют с таким утомительным и назойливым блеском «подать» строфу, как это делает, например, Вл. Пиотровский, но они и не гонятся за этим, зная, что не в этом дело. У них живее сохранилось ощущение единства формы и содержания, они бредут как впотьмах, они чаще срываются, но кое-какие строки, написанные ими, все же, пожалуй, ближе к истинному Пушкину, чем самые упругие, эффектные и отполированные ямбические строфы, украшающие «Невод».
В сборнике этом приятны стихи Раисы Блох, очень бледные, но сквозь ахматовскую интонацию все-таки «свои», затем стихи Белоцветова и, в особенности, Георгия Раевского, Его первое стихотворение «На резкий звон разбитого стекла» — лучшее, конечно, что есть в сборнике. Что касается Вл. Пиотровского, о котором я только что упомянул, то мне хотелось бы еще раз подчеркнуть его формальную одаренность, — к сожалению, слепую, даже в своей области предпочитающую мертвенную законченность живому творчеству… Попадаются в «Неводе» стихи и совсем слабые, почти комические. Одна поэтесса, обуреваемая предчувствием близости новых войн, обращается к женщинам всех национальностей:
Выйдем, девочки, из разных стран На одну дорогу. Скажем Богу: У кого берешь? Бог не ответит. В таком случае Взвоем, девочки, из разных стран!Как видно, это перифраза пролетарского гимна «Девочки всех стран, соединяйтесь».
Пражский сборник «Скит» до крайности неровен. Он в меньшей степени представляет какое-то литературное объединение, чем берлинский «Невод». У сборника нет «лица». Каждый из участников его идет своей дорогой, не мешая соседям, но и довольно слабо поддерживая их.
Один из пражских стихотворцев пользуется уже некоторой известностью — Вячеслав Лебедев. Не могу сказать, чтобы его стихи выделялись в «Ските» как нечто сравнительно зрелое или своеобразное. Они расплывчаты, написаны как будто наспех и в вялости своей обманчиво-вдохновенны:
Как жаль, что в Европе нет небоскребов, Чтобы моя душа Могла развеваться, как флаг созиданий, На самой верхней балке конструкций, Приветствуя поступь надзвездных судеб, Идущих облачно над тобой.Это было очень хорошо у Уитмена. Но при чтении Лебедева вспоминается знаменитая пушкинская эпиграмма: «Что, если это проза, да и дурная?» Нет в поэтическом искусстве ничего труднее (и на мой вкус — ничего прекраснее) белых стихов, в особенности лишенных строго-определенного размера: очарование звука сведено к минимуму и должно быть заменено остротой словесной выразительности… Когда этого нет, осторожнее опереться на рифмы, как на костыли. Это, очевидно, чувствует Алла Головина, у которой звук спасает стилистически-неряшливые строки, — и отчасти Вл. Мансветов. Роль берлинской поэтессы с «девочками» играет здесь В. Морковин. Он сообщает, что ему
…Сердце демпингом захлестывает злость и что он летит вослед каким-то ресницам, Пленяя рой принцесс, как струны Берлиоз.Бедный французский музыкант. Еще раз его тень оказалась понапрасну потревоженной из-за сладкозвучной фамилии… Никогда никаких струн он особенно не пленял, но уж так повелось: неизменно с давних пор, где «грез» – там и Берлиоз. Попробуйте, в самом деле, пустить в поэтический обиход счастливчика Бетховена или Вагнера!
Я намеренно оставил на конец статьи сборник П. Ставрова «Без последствий». О других книгах не стоит, мне кажется, говорить: это было бы интересно только авторам. В литературном отношении они не имеют никакой ценности и не представляют собой «общественного явления», как сборники групповые.
Но о Ставрове мне хочется два слова сказать. Имя новое. В нашей печати оно, насколько мне известно, появляется впервые. Не знаю, большой ли это талант. Трудно об этом судить по одной скуповатой книжечке незнакомого, внутренне неясного, замкнутого в себе автора. Но знаю наверное, что некоторые его стихи — подлинная поэзия. В бедных и темных своих словесных одеждах, в косноязычии и путанице, в случайной безвкусице даже, они все–таки доходят до ума и сердца, как нечто творчески–напряженное и несомненное: «Поэма горести», например. Эти стихи неизмеримо взрослее всего, что напечатано в коллективных сборниках. Очень заметно влияние Иннокентия Анненского, одного из двух-трех волшебников русской лирики, — но даже и это наследство у Ставрова переработано, а не принято на веру… Книжку перелистать — ни к чему. Но тем, кто умеет и любит читать стихи, в ней есть что прочесть.
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». КНИГА 52-я. Часть литературная
В любой книжке каждого журнала есть так называемый «текущий материал» и рядом — вещи, на которых книжка держится. Текущий материал в новом, пятьдесят втором выпуске «Современных записок» довольного высокого качества, но как бы он ни был разнообразен или интересен, два факта все–таки выделяются на общем его фоне: возобновление бунинской «Жизни Арсеньева» и окончание «Воспоминаний» A. Л. Толстой.
Сначала — о записках Александры Львовны. Они давно печатаются, и раза три или четыре мне уже приходилось о них бегло высказываться. Но теперь, когда в памяти встает весь этот длинный и тягостный рассказ, хочется снова, и с большей, чем когда бы то ни было, уверенностью, отметить его исключительную, несравненную ценность. Много книг написано о Толстом: людьми, близкими к нему и сравнительно от него далекими; людьми, любящими его и такими, которые не в силах преодолеть свою тайную к нему антипатию. Некоторые из этих книг получили широчайшую и вполне заслуженную известность. Но никто не ввел нас в яснополянский дом с такой покоряющей силой достоверности, с таким беспощадным пафосом правдивости, как Александра Львовна. Можно спорить насчет окраски, которую она дает своему повествованию, можно даже осуждать его одностороннюю «тенденцию»… Но факты бесспорны: так не выдумывают. По одному слову жены Толстого или других участников яснополянской драмы восстанавливаешь порой полностью всю картину — и впервые чувствуешь, схватываешь, видишь ее противоречивую, сложнейшую безвыходность. Последние страницы, написанные Александрой Львовной, принадлежат к самым тяжелым. Позволю себе, со всей подобающей тут осторожностью и осмотрительностью, сказать, что если ее записки в целом представляют собой «апологию Толстого», попытку очистить его человеческий образ и память, им по себе оставленную… не от упреков, нет, а именно от того недоброжелательства, о котором я вскользь только что упомянул, то цели она, в конце концов, едва ли достигла. Все шло хорошо, но в заключительных главах что-то срывается: что-то не так, именно по человечеству — что-то не то. Прощальное письмо Софьи Андреевны прекрасно. Ответ Толстого — холоден и резонерски наставителен. Не по влечению или пристрастию к «примиряющим аккордам» ждешь здесь разрешения драмы, а потому, что порыв естественно вызывает ответный порыв, готовность забыть — ответную готовность забыть… Если Толстой учил христианству, то не в этом ли именно нравственная сущность Евангелия? Правда, дальнейшие события показали, что рассудком Толстой был прав. Но только рассудком.
Одно лишь место последних записей A. Л. подлинно «апологично». Толстой из Оптиной Пустыни излагает своей дочери причины, по которым он не может встретиться с Софьей Андреевной:
«Все ее поступки относительно меня не только не выражают любви, но как будто имеют явную цель убить меня, чего она и достигнет, так как надеюсь, что в третий припадок, который грозит мне, я избавлю и ее, и себя от этого ужасного положения, в котором мы жили и в которое я не хочу возвращаться».
Далее неожиданная приписка:
– Видишь, милая, какой я плохой. Не скрываюсь от тебя.
Значит, он не считал, что поступает правильно и справедливо. Значит, он почувствовал, что дочери от его слишком рассудительного письма может стать «не по себе». Приписка вызвана мелькнувшей в его сознании — или в его сердце — догадкой: это несомненно. Фарисейства у Толстого не было, что бы ни говорили его бесчисленные «обличители», — но слабости, конечно, были. Александре Львовне оттого и веришь, что она ничего в своих записках не утаила, ни о чем не промолчала. Еще раз скажу: не надо было бы, пожалуй, устраивать публичного, неизбежно-оскорбительного разбирательства этого ужасного семейного дела… Но если уж разбирательство началось, надо знать все. Кропотливая откровенность дочери Толстого есть внутренний подвиг, который едва ли дался ей легко.
Продолжения «Жизни Арсеньева» давно уже все ждали. Заждались, — хотелось бы сказать. Эта пленительная хроника оборвалась внезапно, а перерыв длился так долго, что уж возникало сомнение, не оставил ли Бунин ее окончательно. С год тому назад в нашей газете впервые появились новые отрывки «Жизни», теперь в «Современных записках» помещено несколько ее глав… Сомнения рассеяны. Но при прежнем мастерстве повествования и прежней лирической его прелести, в новейших главах нет все-таки былого одушевления. Будто пропала у Бунина охота к «Жизни Арсеньева»: подчиняясь какой-то внешней необходимости, он к своей повести вернулся, но без страсти и без радости. По привычке он берет страстно-радостный, безотчетно-восторженный, былой арсеньевский тон, — но тут же обрывает его, или длит, так сказать, «машинально», привлекая на помощь все готовые свои слова и приемы, мобилизуя свою творческую память. Это делается с таким умом и художественным тактом, что едва-едва заметно, — но все-таки это заметно. Подождем следующих глав «Жизни», чтобы решить, неслучайно ли впечатление: попадаются ведь всюду, даже и в великих литературных созданиях, страницы сравнительно бледные, и другие, более напряженные. Построение вещи порой даже требует смены взлетом и спусков.
В новой части «Жизни Арсеньева» герой-рассказчик по-прежнему скучает в провинциальной глуши, томится мечтами о творчестве и мечтами о любви. Как всегда у Бунина, рассказ тянется, тянется, — и вдруг попадаются в нем такие две-три строчки, такой эпитет или такое описание, будто вспыхнула молния; все сразу становится видно. Характерно, однако, что автор оживляется, главным образом, в отступлениях от хода фабулы, — как, например, на странице, посвященной театру и актерам. Эта страница, кстати сказать, подлинно «просится в антологию». Сколько убийственной меткости, сколько иронии и зоркости! Арсеньев утверждает, что «талантливость актеров есть только умение быть пошлыми», и припоминает одно за другим все то, что «приводит его в содрогание»:
«Эти вечные свахи в шелковых повойниках лукового цвета и турецких шалях, с подобострастными ужимками и сладким говорком, изгибающиеся перед Тит Титычами, с неизменной гордой истовостью откидывающимися назад и непременно прикладывающими растопыренную левую руку к сердцу, к боковому карману длиннополого сюртука, эти свиноподобные городничие и вертлявые Хлестаковы, мрачно и чревно хрипящие Осипы, поганенькие Репетиловы, фатовски негодующие Чацкие, Фамусовы, играющие перстами и выпячивающие, точно сливы, жирные актерские губы, Гамлеты, в плащах факельщиков, в шляпах с кудрявыми перьями, с развратно-томными подведенными глазами, с черно–бархатными ляжками…»
И дальше — несколько слов о провинциальной знаменитости, выступающей в роли гоголевского сумасшедшего! Жаль, что нельзя всего процитировать. Эти отрывки не потускнели бы и рядом с толстовскими (чудовищными, но изумительными) страницами, посвященными Шекспиру и Вагнеру, причем в них гораздо больше правоты. Художник примиряется с театром на высших его ступенях, но рядовые «священные подмостки», рядовой «храм искусства» слишком грубо и карикатурно искажают сущность творчества, чтобы он мог все это не презирать и не ненавидеть. Антитеатралы, — вроде покойного Айхенвальда, сказавшего в своей давней, но памятной полемике с Евреиновым много верного, — поймут Бунина с полуслова.
Окончена «Камера обскура» В. Сирина, Заключительные главы этого романа, — начиная с момента автомобильной катастрофы, — с внешней стороны принадлежат к лучшему, что Сирин вообще написал. В них есть магическая словесная убедительность. Именно магическая: не столько блестяще, сколько «обворожительно»… Вместе с тем роман легковесный и поверхностный. Он полностью исчерпывается течением фабулы и лишен замысла. Он придуман, а не найден. Наша литература приучила нас к очень высоким требованиям, и когда писатель так даровит, как Сирин, к нему их невольно полностью предъявляешь: прежде всего, — о чем это? Некоторые книги читаешь только для развлечения, — тогда этот вопрос отпадает. За сочетаниями и сплетениями судеб, воль и страстей в них следишь, как смотришь на искусно расположенные манекены в витрине модного магазина: чем прихотливее, тем и лучше, — это ведь манекены, они расставлены, они не живут. Но Сирин пишет о людях, а не только о приключениях, которые с людьми случаются. Поэтому ждешь отражения и отсвета жизни, с проникновением в ее таинственные законы, с вниманием к ее скрытой сущности, со вкусом ее горечи: «tout le reste est litterature», пустое, праздное рукоделие. Ждешь — и не находишь… Нет темы, есть только сценарий. Надо признать, однако, что сценарий остроумнейший. Если с автора «Камеры обскуры» многое спрашивается, то лишь потому, что ему много дано.
О «Доме в Пасси» Бориса Зайцева и «Древнем пути» Зурова высказаться трудно: романы это, по-видимому, довольно большие, а прочли мы из них всего только несколько глав. О первом же мимолетном впечатлении, которые они производят, я писал не так давно.
Несколько коротких, остро-своеобразных стихотворений З. Гиппиус. Первое из них настолько любопытно, в качестве автобиографического признания этого рассудочного и одинокого поэта, что стоит выписать его целиком:
К простоте возвращаться… Зачем? Зачем — я знаю, положим. Но дано возвращаться не всем: Такие, как я, — не можем. Сквозь колючий кустарник иду. Он цепок, мне не пробиться. Но пускай, ослабев, упаду, До второй простоты не дойду, Назад — нельзя возвратиться.Хорошие стихи дал Поплавский: менее нарядные, чем большинство его прежних вещей, но более глубокие в своей сдержанной выразительности. Еще отмечу стихотворения Довида Кнута и Штейгера. У первого всегда радует редкостное дыхание, «голос», свободно и широко, с какой-то восточной, певучей заунывностью поднимающийся, как молитва или жалоба, к небу. У второго — соединение неподдельного лиризма с насмешливостью, очень личный, получеловеческий-полукукольный тон. Марина Цветаева напечатала небольшое стихотворение, написанное пятнадцать лет тому назад.
За ее же подписью помещены мемуары о Максимилиане Волошине, под названием «Живое о живом». Мне никогда не приходилось Волошина встречать. Насколько можно судить о нем по его стихам и статьям, он истинным поэтом не был, — и значение, которое Цветаева ему, очевидно, приписывает, сильно преувеличено. (Нельзя забыть поздних, грубо-трескучих фальшиво-декламационных волошинских стихов о России: это не случайный срыв, это — важнейший для характеристики Волошина документ.) Но, вероятно, как личность он был интересен: интересная, умная статья Цветаевой в этом убеждает.
Рассмотрение замечательных отрывков из «Иисуса Неизвестного» Д. Мережковского вышло бы далеко за пределы этой статьи. Мне приходится от него воздержаться и указать в заключение лишь на содержательные — хотя и очень спорные — статьи М. Алданова «О романе» и В. Вейдле «Борьба с историей».
ПИЛЬНЯК И БАБЕЛЬ
К пятнадцатой годовщине «великого октября» в Москве решили подвести итоги всему, что дала советская литература. Произнесены были речи и напечатаны в журналах статьи, где с птичьего полета обозревались успехи писателей в борьбе за мировое словесное первенство… В СССР очень любят соревнование во всех его видах и формах, и о литературном «первенстве» там говорят охотно и упорно, будто и на самом деле существует какой-то чемпионат, где бодрые, полные сил пролетарские писатели состязаются с утомленными буржуазными неврастениками. Достоинство и честь страны победоносного социализма требуют, чтобы первый приз достался именно советской литературе. Московские критики уверяют, что это уже и произошло. «Наша литература самая художественная, наиболее насыщенная мыслью из всех, какие сейчас существуют»… — провозгласил недавно при общем одобрении Кирпотин. Это утверждение повторяется почти дословно, как лейтмотив, во всех критических обозрениях. Спорить не приходится, так как, на наш скромный взгляд, ни первых, ни вторых, ни третьих литератур в мире нет. Но развлекаться каждый волен, как ему угодно. Если кому по вкусу игра «догоняем-перегоняем», то пусть и играет на здоровье.
На этих пустяках останавливаться долго не стоит. Признаюсь, лично меня они интересуют, или, вернее, поражают, лишь как образец старого, неискоренимого русского бахвальства, — «шапками закидаем», — достигшего небывалого расцвета в советском обличье (и кажется, теперь, при Сталине, еще большего, чем при Ленине, — в силу его какой-то унтер-офицерской природы, в силу грубой и лубочной силы его характера, по сравнению с изъеденной сарказмом, презрительной, недоверчиво– интеллигентской мыслью Ленина… «Стиль — это человек». Обратите внимание на стиль Сталина, на знакомый «душок», идущий от этого стиля: «Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одной пяди своей земли не отдадим никому». Или: труд ныне превращается из зазорного дела, каким был раньше, «в дело славы, в дело чести, в дело доблести и геройства». Не касаюсь сути этих слов — не в ней дело: но никогда Ленин так бы не сказал. Он фыркнул бы, услышав это. А неумирающий, приспосабливающийся «союз русского народа» на это радостно откликается и, конечно, расцветает при Сталине много свободнее, много пышнее, чем в дни умного и желчного Ильича). Но это — особая тема. Ее развитие вышло бы за пределы литературы. Не будем отклоняться в сторону.
К октябрьской годовщине, в порядке «подытоживания», выпущены в Москве сборники избранных произведений некоторых виднейших советских писателей. В них нет ничего, или почти ничего, нового. Но они кажутся новыми: это как бы первая «ретроспективная выставка» художников, с которыми раньше мы были знакомы лишь прерывистым, случайным знакомством, с перебоями в общении и неизбежными провалами в памяти. Теперь дается возможность перелистать книгу Пильняка или Бабеля, Леонова или Сейфуллиной как некий творческий отчет. Это интересно и само по себе, и в качестве средства проверить давние разрозненные свои впечатления.
Пильняк… Было время, когда он считался исключительно даровитым человеком. Я впервые прочел один из его рассказов лет тринадцать или четырнадцать назад.
Помнится, Шкловский, человек с острым непосредственным чутьем, тогда же сказал:
— Не знаю, что из него выйдет, но он, во всяком случае, раз в десять талантливее, чем Икс.
При этом он назвал имя одного из известнейших русских писателей. В первые годы революции о Пильняке думали так приблизительно все: уже расцветали и начинали привлекать к себе внимание Серапионы, но Пильняк все же затмевал их. Природа, казалось, одарила его гораздо щедрее.
Потом Пильняк написал «Голый год», «Непогашенную луну», «Красное дерево», роман «Волга впадает в Каспийское море»… Имя его упоминалось в связи с травлей, поднятой против «Красного дерева» советской критикой, и в связи с раскаянием, или, как в Москве выражаются: перестройкой, — которое Пильняк поспешил закрепить восторженными декларациями верности власти. Некоторые его книги нравились, другие удивляли. В общем — представление о нем было какое-то смутное, и если ему, как художнику, еще продолжали верить, то скорее всего в кредит.
Есть ли основание верить в дальнейшем? Не думаю. Это не то что слабый писатель, это – плохой писатель, фальшивый, бесстыдный в отношении к слову и назойливо-чувствительный. Талант у него, конечно, есть, но талант не настолько сильный, чтобы с порочной его природой примирить. Избранные «Рассказы» Пильняка читаешь с некоторым смущением: как было сразу не понять, что это плохо. Но тут же, в качестве оправдания самому себе, приходит и объяснение: Пильняк обманул своих читателей романтизмом, который был у него довольно искусно согласован с эпохой. Петр, большевики, блоковские «Двенадцать», Россия, метели, символизирующие революционную бурю, смятение страстей и умов, нищета, мечты о земном рае, неизбежная кровь, заранее оправданная будущим царством справедливости, ширь степей и ширь славянской, разумеется, всепрощающей и всепонимающей души, — все это подано у него было как сильно приперченное блюдо, подлинный вкус которого разобрать сразу было нелегко… Головы в те годы у всех слегка кружились, и эмоции преобладали над доводами рассудка. Но эпоха кончилась. «Метели» улеглись. И вот теперь видишь, что за пильняковским бутафорским безумничаньем — ничего нет: на грош мысли, на грош чувства, — и «слова, слова, слова», ватные вороха пустых, мнимо значительных слов. Ни одного живого человека, — да и откуда бы появиться живым людям у писателя, которому собственное воображение дороже реальности и который внимателен лишь к самому себе и не устает напоминать, что если во внешнем мире воют и носятся метели революции, то такие же метели пролетают и в его душе, всем мировым бурям «созвучной»… Можно отрицать революцию, можно принимать ее: но, во всяком случае, это дело суровое и страшное, а никак не предмет для стихотворений в прозе или мелодекламация каких-нибудь новейших Ходотовых с Вильбушевичами. «И был апрель, и была весна! И была в нашей стране заря восстаний…» Правду сказать, я предпочитаю ласку лазурного моря или негу роскошных плеч. По крайней мере, честнее и откровеннее.
Любопытно все-таки проследить по книге Пильняка его эволюцию. Последний рассказ относится к 1930 году. Пильняк, конечно, остался Пильняком, и по-прежнему «словечка в простоте не скажет». Но вот во что превратились метели в заключительных строках книги:
— Советская власть есть тот химический завод, который строит химию истории. Эта химия проста, как математика, и непонятна лишь так, как математика для тех, кто математики не знает. Химия истории есть тот ключ, которым и заканчиваю мои главы.
Дальше еще несколько слов о «ветре темпов» и о том, что «человеческую историю делает химический завод социализма».
Без декорации — творчество Пильняка вполне неприглядно. Не вызывает сомнений внутренняя ценность этого творчества. Кто хотел бы после книги избранных рассказов подкрепить свое впечатление, пусть прочтет последний пильняковский роман «О-Кей». Чтение, о котором можно сказать, что оно «было бы смешно, когда бы не было так грустно».
Бабель включил в свой сборник лишь еврейские рассказы — и не дал военных. Возможно, что он не хотел нарушать цельности книги или руководствовался какими-либо другими соображениями, чисто художественными и литературными. Но правдоподобна и та догадка, что Бабель предпочел о своей прославленной «Конармии» не напоминать. Много было полемики вокруг этой книги. Много неприятностей доставила она автору, обвиненному в клевете на «наших славных бойцов». Осторожнее от нее отречься.
Сборник открывается рассказом, который всем известен: «Король». Дальше идут — «Отец», «Любка-казак», «История моей голубятни», «Карл-Янкель» и другие небольшие вещи, порой всего в две– три странички… Я согласен, что некоторые упреки, делаемые Бабелю, основательны. Цветисто, порой чуть-чуть вычурно, слишком причудливо и анекдотично для того, чтобы иметь общее значение, — да, пожалуй, это верно. Но какое мастерство и, за мастерством, — какое чутье, какой «нюх» к жизни! В советской литературе у Бабеля, по сжатой силе и умению найти окончательное, незаменимое выражение, есть один только соперник — Юрий Олеша. Но Олеша слабее, — хотя у него, особенно в коротких его рассказах, есть элемент «прелести», у Бабеля отсутствующий. Олеша больше поэт, больше лирик, но зато они «декадент» (как совершенно правильно охарактеризовал его недавно Катаев в любопытнейшей беседе с сотрудником «Литературной газеты»). Поддержки жизни за ним нет, он выдумщик, фокусник, он «литератор», и потому, когда он срывается (напомню пьесу «Список благодеяний»), то срывается ужасно, — в пустоту и ничтожество. Бабель так сорваться не может, он всегда, даже в самом торопливом и неудачном своем рассказе, сохранит частицу чего-то подлинного, не сочиненного, а найденного. Поэтому его и читаешь без опасений за ход повествования: вздора он, во всяком случае, не расскажет никогда.
Фабула у Бабеля отчетлива и большей частью забавна. Но было бы ошибкой признать, что искусство его только к тому и сводится, чтобы с предельной яркостью рассказать какую-либо незамысловатую бытовую историю. Это не так. За талантливый анекдот можно принять каждый рассказ в отдельности, но в целом над книгой, смутно обрисовываясь, вырастает тема, или, иначе говоря, видно содержание… Автор не вмешивается в диалоги или столкновения своих героев, но он чувствуется за книгой: каждое слово оживлено его дыханием. Не знаю, есть ли в России сейчас писатель, более горестно и безнадежно настроенный: там сейчас оптимизм в моде, да и если бы это и не было так, Бабель все равно выделился бы… Впрочем, его печаль не революцией вызвана и не к советским порядкам обращена. Она гораздо шире, она «вечнее» по природе своей. «Суета сует и всяческая суета». Иногда при чтении мелко-нелепых, «местечковых» рассказов Бабеля вспоминается Библия. Путаются в жалком, противоречивом существовании люди и людишки, мечтают о несбыточном счастье, плачут, смеются, любят, скучают, тоскуют, — и всех одинаково гонит к смерти и ее «всепоглощающей и миротворной бездне» судьба. К ней, к судьбе, книга Бабеля и взывает из глубины отчаяния — как пророки взывали к Богу
Еще одно воспоминание, ближе и мельче — Мопассан. Бабель называет его своим учителем. Это тема для особой статьи: влечение к Мопассану в России… Во Франции его, как известно, ценят довольно невысоко. У нас же он давно стал классиком, — и преклонение Бабеля перед ним лишь новое тому подтверждение. Разгадка этого расхождения оценок, мне кажется, в том, что французская критика и вообще французы никогда не придавали большого значения дару «жизненности», которым с такой несравненной силой владел Мопассан (значительно превосходя в этом отношении Флобера или Стендаля). Для России же это было решающим достоинством. Бабель полюбил у Мопассана то, что есть в нем самом.
ПОСЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Прежде всего, отмечу странное явление: они приходят неравномерно, а, так сказать, «полосами»… Бывают месяцы, когда не получается ни одного письма. Потом – сразу три, на следующий день – еще одно, через неделю – еще несколько, и так до нового перерыва. Никаких объяснений этому не найти, но самый факт повторяется постоянно, приблизительно с такой же точностью, как смена времен года.
Обыкновенно к письму приложено несколько отдельных листков. На листках – стихи… Можно держаться какого угодно мнения насчет развития русской поэзии, можно утверждать, что уровень ее падает и влияние идет на убыль, но одно несомненно: количество стихотворцев не уменьшается, а скорее растет. Пишут стихи в Париже и на каких-нибудь фермах, заброшенных в глухой провинции, пишут их в Иностранном легионе и в Шанхае, «под знойным солнцем Аргентины» и в дождливом Пинске. Человек, который с некоторым постоянством занимается литературной критикой, может легко составить себе коллекцию почтовых марок всех стран света. Везде рассеяны русские эмигранты. Везде среди них находятся поэты.
Большею частью авторы просят указаний. Иногда выражают желание, чтобы произведения их были помещены в печати, и сообщают адрес, по которому надлежит перевести гонорар. В обоих случаях испытываешь некоторое смущение: не знаешь, что ответить. За такими письмами нередко чувствуется подлинная взволнованность, нетерпеливое ожидание. «Отписаться», ответить ничего не значащим казенным комплиментом или пустым, расплывчатым советом «работать» – невозможно. О помещении присланных стихов в печати в большинстве случаев не может быть и речи. Приходится искать выражений не слишком обидных, но и не дающих ложной надежды.
Указания… Если бы даже обладать достаточной самонадеянностью и считать себя вправе эти указания направо и налево раздавать, при первой же попытке выйти за пределы первоначальной литературной грамотности возникли бы затруднения. Когда человек строит дом или решает алгебраическую задачу, указания ему дать легко: существуют в этих областях общие незыблемые правила, — правила, не находящиеся ни в какой зависимости от личных особенностей каждого, кто их применяет. Дом должен быть построен так-то, задача должна быть так-то решена, именно так, а не иначе. Известно, для чего они строятся или решаются, следовательно, известно и то, какие принципы должны быть соблюдены. Но насчет искусства не известно с достоверностью ничего: ни – что? ни — для чего? ни — зачем? ни — почему? ни — для кого? Все остается в области предположений и догадок. В школах, правда, излагаются правила стихосложения и даются общие стилистические советы, но первый же творческий опыт их опрокидывает и уничтожает: творчество начинается с победы над общим, а не с подчинения ему… Иначе: в творчестве все определяется личностью творящего. Может быть, в далекие, счастливые времена это было не совсем так. Личность с добровольным и естественным смирением растворялась в общем, безымянном замысле или по крайней мере, сознавала свою неразрывную связь с ним. Тогда, пожалуй, можно было давать «общие указания». Но теперь положение изменилось, и как бы мы об этом ни сожалели, умышленной «юлиановской» слепотой делу не поможешь. Нельзя по собственной своей прихоти восстанавливать золотой век, нельзя и механически навязывать эпохе то, что она потеряла. Сейчас в искусстве и литературе, при сколько-нибудь развитом художественном сознании, каждый отвечает сам за себя, каждый говорит о себе. Только в советской России сделана попытка вернуться к «коллективному вдохновению», в соответствии с общим строем и складом тамошней жизни… Но попытка превратилась в административную меру. С внешней стороны она как будто бы и удалась: единство достигнуто. Однако если вглядеться сколько-нибудь внимательно, ясно, что получилась только коллективная фальшь, коллективное малодушие, страх и раболепие. Все живое в советской литературе этой общей обязательной «перестройке» сопротивляется или, по крайней мере, пробует ее осмыслить.
Авторы просят указаний… Если в стихотворении срифмованы, например, «луна» и «зима», то можно, разумеется, ответить, что обычно луна рифмуется с весной или волной, т. е. со словами, имеющими одинаковую опорную согласную. Если в пятистопной строфе попадается шестистопная строчка, можно обратить внимание и на такой промах. Но ведь это — азы, прописи, приготовительный класс. Уже в «первом классе» поэт имеет право – и порой имеет основание – срифмовать луну с барабаном и вообще с чем угодно, а размеры смешать и сломать с еще большей причудливостью. Честный и взыскательный мастер это делает очень редко, ибо он не кокетничает показным своеобразием, а избегает его, — он не притворяется свободолюбивым безумцем, не ощущая внутренней потребности к тому. Мастер стремится к наружной скромности, к сдержанности и экономии в средствах. Но он твердо знает, что непреложных законов над ним нет, и если, например, ямбическая строфа ему мешает сказать то, что сказать надо, он без малейшего колебания скрутит ее в веревку, — не подчиняясь оболочке, а подчиняя ее себе.
Поэтому после примитивных «прописных» указаний неизвестному корреспонденту-стихотворцу надо бы ответить: я ничего не могу вам сказать потому, что я вас не знаю. Если вы соблюдете все правила, стихи ваши, в лучшем случае, будут свободны от технических недостатков. Но это еще не значит, что в них будут достоинства. Может быть, вам удастся где-нибудь эти стихи напечатать, может быть, ваши друзья и знакомые будут считать вас поэтом. Но никто никогда, «в минуту жизни трудную», не повторит ни одной написанной вами строки, не обрадуется ей и не и откликнется ей сердцем. Это приходит «после правил». А для того чтобы знать, как и в чем могли бы вы себя и «свое» выразить, надо бы знать, что вы за человек. В возможности, как статуя в глыбе мрамора, наверно, существует словесный мир, вам соответствующий, — но посторонний советник, хотя бы это был критик более проницательный, чем все Белинские и Сент-Бевы вместе взятые, ничем помочь вам не в состоянии. Скорее всего, он собьет вас с толку, – обманет несбыточными обещаниями, если у вас таланта нет, смутит и обезличит, если талан у вас есть. Лучше всех сказал обо всем этом Рильке, — цитирую его на память, передавая только тон и общий смысл его слов: надо долго жить, долго думать и смотреть на мир, любить и разлюбить, верить и разувериться, надеяться и отчаяться, опять поверить, снова полюбить, надо все запоминать и все беречь в сердце, надо идти сквозь жизнь, ничего не пропуская мимо, ничего не теряя, и тогда, может быть, — да, только может быть, — на склоне лет удастся написать несколько строк, которые достойны названия поэзии… Конечно, в этих пленительно-глубоких и верных словах есть преувеличение: не только же на «склоне лет» написаны людьми стихи, подобные тем, о которых мечтал Рильке. Но метод указан безошибочно. Если молодому поэту говорят «учитесь», то ему это следует понять скорее всего как «живите», — сначала живите, а потом, уже накопив хоть какой-нибудь опыт бытия, посмотрите, отразится ли он в ваших стихах… Надо, конечно, знать основы стихосложения, небесполезно быть осведомленным в элементарной истории его. Для этого существуют учебники, но творчество возникает тогда, когда оставлены упражнения, а поэзия — когда преодолена версификация.
«Будьте добры, помогите мне устроить эти стихи в печать…» Обыкновенно следуют доводы: живу вдалеке от всяческих «центров», знакомых нет, послать стихи непосредственно в какую-либо редакцию — бросить в корзину. Легенда о всепоглощающей редакционной корзине, кстати, держится твердо, — и рукописи гибнут в редакциях только потому, что их никто не удосужился прочесть. Авторы отвергают иное объяснение, более обидное для их писательского самолюбия.
«Будьте добры, помогите устроить стихи в печати…» Не раз я думал над такими письмами и, в особенности, над приложенными к ним стихами: «в сущности, они должны были бы появиться в печати… имели бы на это право, если бы хоть чуточку были поискуснее». Объясню почему. В наших журналах и газетах появляются порой образцы поэзии довольно высокого формального уровня, но ни для кого не тай на, что они оставляют общую массу читателей равнодушными. То непонятно, то слишком изысканно и причудливо, то суховато, холодно и насмешливо… По эта, который писал бы, — или, если угодно, «пел», — за всех и для всех, каким был, до известной степени, Блок, — сейчас нет. Между тем, сознания и души томятся о нем, и по-своему, в беспомощных, не всегда даже грамотных виршах, этот пробел для себя восполняют. Темы анонимной, кустарной, литературно слабой поэзии неизмеримо отчетливее, прямее, «актуальнее», и поэтому творчески смелей, — нежели темы нашей печатной, признанной лирики, В своих письмах авторы этих стихов неизменно жалуются на то, что их сейчас никто из поэтов не «задевает», и, давая непосредственный выход своему волнению, они оплакивают Россию, гадают о ее возрождении, пишут о горькой судьбе эмигранта или о неразделенной любви… Но Россия оказывается, конечно, «занесенной снегом» и «скрытой во мраке», ее будущее воображается в виде «светлой зари», эмиграция принуждена «с тоской глубокой» влачить «долю одиночества», а у любимой женщины поэт отмечает «воздушный, золотистый локон», капризно вьющийся над «нежной щечкой». Печатать всего этого нельзя. Это, конечно не литература. Но это материал, который истинный поэт вберет в себя, использует, запомнит и поймет, — если только не суждено нашей поэзии со все более изящным совершенством все безнадежнее замкнуться в леденящем индивидуализме.
Приведу в заключение одно письмо, недавно мной полученное и, мне кажется, очень характерное. Приложена большая поэма, автор просит о содействии для помещения ее в печати. Затем пишет:
— «…Учился я мало, некогда было. В России не успел, а за рубежом, сами знаете, — не до того. Только литературу нашу читал, от Пушкина до Гумилева и Есенина, поэтов всех знаю, сколько нашлось их книжек тут в библиотеке. Тянет к поэзии сильно, а спросить некого, стоит ли писать, и не ошибаюсь ли в своем призвании. Простите, теперешних поэтов я не так люблю; читаешь иногда с удовольствием, а прочтешь — и вылетит из головы… Я пробую сказать, что у меня на душе, и когда читал друзьям некоторым, многие одобряют, но они не судьи. Хочу сказать про все наше горькое, вот только сумел ли».
Поэма — сплошь в трафаретах. Нет, к сожалению, автор не сумел «сказать о всем нашем горьком». Но им движет то же чувство, которое вдохновляет на стихи бесчисленных незадачливых его собратьев, — и которое ослаблено у литературных профессионалов. Это самая замечательная особенность любительской, не доходящей до печати, поэзии.
О прозаиках, об их письмах и их произведениях, — когда-нибудь в другой раз.
«Числа». Книга девятая
Пессимисты предсказывали этому журналу короткое, почти что эфемерное существование.
В наши дни пессимистом быть — прямой расчет; что ни напророчишь, все оправдывается. Казалось, и скептические предсказания насчет «Чисел» неминуемо должны сбыться.
Уже слишком странен казался факт, что теперь, в пору общего материального оскудения, «среди бурь житейских и тревог», за рубежом выходит журнал, изданный чисто, изящно и даже не без роскоши. «Бумага альфа…» В своей варшавской газете г. Философов, со свойственной ему маниакальной и комически-высокомерной раздражительностью, посвятил этой несчастной бумаге десять или пятнадцать фельетонов. Он пространно и сердито доказывал, что «альфа» — признак морального гниения, духовного маразма, умственной спячки, и прочего, и прочего. Он призывал небесный гром на «Числа» и уверял, что это «буди, буди», что рука Всевышнего покарает редакцию, если только не будут приняты к безоговорочному исполнению его, Философова, советы… Прошло, однако, два года. Всевышний, очевидно, обременен другими делами и по рассеянности своей не обратил внимание, что появилась уже девятая книга «Чисел». В эмиграции к журналу привыкли, с ним даже свыклись. Никто больше не удивляется. «Числа» заняли свое определенное место в нашем здешнем литературном быту. Еще находятся критики, которые упрекают журнал в неясности программы, но даже и они признают, что у него есть своя «физиономия», свой внутренний облик.
«Числа» оказались победителями в главном; они отстояли свое существование. А что это здесь нелегко, — знает всякий. Журнал можно одобрять или не одобрять, можно в нем то или иное принимать и отвергать, но нельзя, без предвзятой недобросовестности, отрицать, что он делает свое дело. Мне не раз случалось слышать, в беседе с молодыми литераторами, — или после публичного чтения какой-либо новой вещи:
— Это можно напечатать только в «Числах»…
Эта фраза выражает доверие к «Числам», как к лаборатории, там ищут не законченности, а творчества, не удачи, а жизни, не лоска и занимательности, а одушевления… Этим определяется и круг читателей «Чисел», которые гораздо более популярны в среде пишущей молодежи, нежели в так называемой широкой публике. Этим определяется и их роль. Не буду повторять того, о чем мне уже не раз приходилось говорить.
Новая, девятая книга «Чисел» подтверждает давнюю догадку: надежды редакции на возникновение — «само собой» — нового литературного течения не оправдались. Можно было бы из осторожности добавить «не оправдались до сих пор», — но осторожность тут ни к чему: в этой области пессимисты, бесспорно, правы. «Не такое нынче время», — хотелось бы процитировать Блока… Не таково наше время, не таково и положение наше, чтобы мог появиться новый «изм». Крушение надежд вызывает некоторую растерянность, или, точнее, — чрезмерную склонность к поискам, чрезмерную жажду открытий. В «Числах» это смутно сквозит. Мне кажется, правильнее было бы продолжать поддержку тех двух-трех новых даровитых авторов, с которыми в «Числах» мы впервые познакомились, чем во что бы то ни стало искать неведомые, пребывающие в неизвестности, таланты. Сил в эмиграции не много, — по той простой причине, что она сравнительно малочисленна. Каждые три месяца найти новую «звезду» не удается. Поиски же и пробы уничтожают ту духовную атмосферу, которая в «Числах» могла бы создаться при большей сплоченности, большем напряжении и единстве… Правда, ее нарушают и некоторые другие авторы, с которыми редакция в своем благодушном эклектизме гостеприимна: авторы, может быть, и очень талантливые сами по себе, но чуждые «Числам» в основных своих устремлениях. Однако речь не о них. Главную свою ставку «Числа» неизменно делали на молодых, — на них должно быть обращено и главное внимание.
В прошлых номерах журнала мелькнули — и запомнились — имена В. Варшавского, затем Бакуниной, получившей известность после выхода романа «Тело», затем Алферова, писателя, который много обещает и, кажется, обещание сдержит… В этом номере новый дебютант — Самсонов, автор небольшого рассказа «Сказочная принцесса». Разумеется, по одной короткой вещи судить о человеке всегда трудно, — но бывают все-таки случаи, когда хочется рискнуть сказать «да» или «нет», сознавая возможность ошибки. Рассказ Самсонова этого желания не вызывает. Он недурен, он мил, — но и только. Довольно интересен замысел, зато разработка лишена какого бы то ни было своеобразия. Может быть, Самсонов напишет со временем какой-нибудь гениальный роман, может быть, он не напишет ровно ничего, — не знаю: для меня он после «Сказочной принцессы» остается таким же таинственным незнакомцем, каким был до выхода «Чисел».
Ю. Фельзен и С. Шаршун — давние, постоянные сотрудники «Чисел», неразрывно с журналом связанные. Оба они — писатели замечательные; по моему глубокому убеждению, — много более замечательные, чем думают наши современники. Должен, однако, с удовлетворением отметить, что по отношению к Фельзену в так называемом «общественном мнении» произошла за последнее время перемена. Сначала его просто-напросто игнорировали, потом он встретил сопротивление, — вследствие какой-то вызывающей, лишенной всяких уступок «галерке», тусклости стиля, вследствие трудного и неправильного языка, вследствие сомнамбулической одержимости одной темой… Теперь Фельзена почти что «признали». С Фельзеном уже считаются, — было бы хорошо, если бы его и читали. Отрывок из «Писем о Лермонтове» в новой книжке «Чисел» этого заслуживает, как, впрочем, и все, что Фельзен пишет… Это, конечно, не чудо, не результат моцартианского, свободно-радостного вдохновения, не предмет для восторгов и восхищений. Это литература, творимая медленно, поистине в поте лица. Но Моцарты в наши дни поглупели, а трудолюбивые и настойчивые Сальери договорились и договариваются в своей одинокой, горячей грусти до таких слов, которые тем и не снились. Моцарты все порхают, как ни в чем ни бывало, доверяя себе, не замечая, как усложнился мир, не понимая, какого творческого усилия требует вовлечение всех новых элементов в игру; Сальери же — слушают, анализируют, записывают, вглядываются, вдумываются. Они не очаровывают, но, по крайней мере, и не обманывают, не выдают мишуры за золото. (О Моцарте, кстати, — настоящем, а не символическом, — помещена в «Числах» прекрасная статья Артура Лурье). Им можно верить. В частности, о «Письмах о Лермонтове»: если автора их в чем-либо и хотелось упрекнуть, то лишь в том, что его остро-проницательная мысль затуманивается и ослабляется иногда какой-то вялой мечтательно–ленивой чувственностью. В этом повествовании есть что-то бессильное, женственное, — и, как у женщин, ум цепляется за доводы психопатические там, где ему изменяет логика. Впрочем, я только подчеркиваю то, что мне лично у Фельзена не совсем по душе. Своеобразие его — именно в этой причудливой смеси, в этих чертах.
О Шаршуне — мнения еще разделены. Думаю, это происходит потому, что многие просто-напросто не удосужились прочесть его прозу внимательно, без застарелой вражды к футуристическим вывертам и ухищрений. У Шаршуна есть наружная обманчивая беспомощность, у него попадаются стилистические безвкусицы, которые легко принять за манерность одного из незадачливых эпигонов Бурлюка или Крученых… Но за всем этим у него есть и необычайная зоркость, соединенная с высоким и редким даром духовного горения. Мне посчастливилось прочесть рукопись его романа «Долголиков» целиком. Она не издана, и едва ля для нее скоро найдется издатель: с коммерческой стороны дело слишком невыгодное. Но когда-нибудь роман будет причислен к самым выдающимся созданиям послереволюционной русской литературы. Утверждение голословное. Он может вызвать усмешку, но rira bien, qui rira le dernier, посмотрим, кто окажется прав.
Рассказы А. Ремизова, И. Демидова и А. Бурова принадлежат к той категории, которую для «Чисел» надо охарактеризовать как случайную, «гастрольную»: об этом я говорил выше. Разумеется, случайность не стоит ни в какой связи с достоинствами или недостатками произведений названных авторов, она определяется только их складом. Ремизовский «Шиш еловый» полон тех намеков и междустрочных полемических выпадов, которые останутся непонятными рядовым читателям, но легко, — и не без удовольствия, конечно, — расшифруются людьми, близкими к «кулисам литературы». Очень хороша глава о Шестове. В ней много фантазии и небылиц, как всегда у Ремизова, — но прельщает основной тон: любовное и благородное признание Шестова исключительным духовным явлением. За это хочется простить Ремизову все то, что он в «Шише еловом» написал лишнего.
«Живая клика» Демидова — рассказ меланхолический, чуть-чуть декоративный, тонко и как-то целомудренно написанный. Подкупает его словесная и внутренняя сдержанность. У Бурова в «Мужике и трех собаках» есть страницы удачные, — и рядом другие, полные условностей. Это очень неровный писатель, у которого притом крупные нелады с русским языком. Но одушевление его неподдельно.
В отделе статей — интересно почти все. Н. Оцуп дал разрозненные размышления на «натуральную тему с птичьего полета» (советское выражение), изящно, устало, суховато и нервно изложенные. Поплавский — статью о значении дружбы, парадоксальную смесь талантливейших мыслей с ребяческим, импровизационно-легковесным бредом. Терапиано — правдивую и печальную заметку о состоянии эмиграции. Особняком стоит Антон Крайний, и за ним — М. Кантор, которому едва ли не одному, за весь юбилейный год, удалось у нас сказать о Гете несколько умных, ясных, — хотя и спорных, — слов. «Культура слова, как культура лжи» Ландау производит странное впечатление: грубо говоря, не стоило огород городить. Построение хитрое и прихотливое, — а выводы самые скромные. Будто сложнейшими формулами исписано десять листов бумаги для того, чтобы всех убедить, что дважды два четыре.
Из стихов выделю три стихотворения Гиппиус, настолько «гиппиусовских», что их безошибочно и сразу можно было бы узнать в миллионе других словесных созданий, и стихотворение Оцупа, который достиг в последние годы редкого по своей чистоте, точности и трезвости стилистического мастерства.
Множество мелочей, заметок, рецензий. Кое-что крайне любопытно (Алферов, Чиннов, заметка Кельберина о Н. Федорове и др.). Но обо всем не скажешь.
«ЭНЕРГИЯ» (НОВЫЙ РОМАН Ф. ГЛАДКОВА)
Книгу эту надо прочесть. Я не решился бы рекомендовать ее тем, кто ищет тонких эстетичских эмоций… С мнением Андрея Белого, который в длинной и странной статье приравнял гладковскую «Энергию» к созданиям Толстого и Гоголя, согласиться трудно. Роман написан с несносной, назойливой «художественностью», очень наивной и аляповатой. Но советские книги мы читаем не для отдыха и не для наслаждения. Нас интересует новая Россия. Книга, которая дает что-то в ней почувствовать, что-то в ней понять и уловить, внезапно к ней приблизиться, — ценна, как бы ни была написана. Поэтому я и обращаю внимание на новый роман Гладкова.
Надо было в свое время прочесть и его знаменитый «Цемент». Плохая была с художественной стороны книга, фальшивая, грубая, плоская, но необычайно характерная для советских настроений, необычайно для них показательная. (Кстати сказать: исключительный успех «Цемента» в Европе наполовину объясняется тем, что иностранцы читали этот роман в переводе. Перевод сглаживает невозможный гладковский язык, уничтожает уродства и выверты и сквозь его несколько безличную оболочку чужеземному читателю может показаться силой и своеобразием стиля то, что нам представляется беспомощным жеманством.) «Цемент» не то что отражал быт СССР, – нет, он его формировал, он давал ему склад и канон. Насколько можно судить по литературе последнего десятилетия, гладковский роман определил для целых слоев молодежи черты идеального поведения, идеальной манеры жить и трудиться. В одном из рассказов талантливой и наблюдательной беллетристки Герасимовой («Дальняя родственница ») девочка-подросток, приехавшая из деревенской глуши в город и рвущаяся «работать», — на пользу революции, конечно, — мечтает о том, чтобы хоть раз «встретить настоящего классового врага, с безумным, лихорадочно-опустошенным взглядом и бомбой в руках» и еще о том, чтобы, как гладковская Даша, выбежать на минутку к Глебу Чумалову «с красным платочком, туго повязанным на волосах, и говорить ему какие-то огромные, звенящие, классово-суровые слова…» Здесь поставлена точка над i, здесь подмечен случай прямого влияния Гладкова. Но воздействие «Цемента» сказывается и там, где о нем и его авторе не упоминается. В тысячах очерков, повестей и романов по впервые предложенному Гладковым и привившемуся образцу описано и воспето было строительство «реконструктивного периода»: тот же схематический восторг и романтическая суровость, те же надежды и то же нетерпение, те же успехи и те же срывы… Сейчас все это уже отошло в область истории. Времена меняются быстро, месяцы — как на войне — засчитываются за годы. Эпоха расплывчатого «планетарного» пафоса кажется далекой, а уж о днях военного коммунизма нечего и говорить. Но еще лет пять-шесть тому назад в России, вероятно, можно было встретить искренних, увлекающихся юношей и девушек, которые собирались «жить» по «Цементу», как четверть века тому назад «жили» по «Ключам счастья» или «Санину».
Получит ли «Энергия» то значение и распространение, которое имел «Цемент»? Едва ли. По условиям и особенностям времени в «Энергии» нет уже той порывистости, того волнения и кипения, которые были в «Цементе» и действовали заразительно: это — во-первых. Во-вторых, советская литература сделала все-таки большие формальные успехи, критика стала требовательнее, и теперь Гладкову сойти за «мастера» трудновато… «Цемент» был в литературном отношении гораздо ниже «Энергии», в которой за скверным стилем есть все-таки жизненная сложность и правдивость, но тогда с революционной словесности многого не спрашивалось. Был бы энтузиазм, были бы масштабы и темпы, все прочее — буржуазные прихоти. Нынче московскому критику ничем не угодишь. Он, конечно, по-прежнему жаждет темпов, но тут же он рассуждает о беллетристических приемах Джойса, или даже Жироду (увлечение этим изысканно-пустоватым писателем в СССР родственно, мне кажется, увлечению романами Анри де Ренье в дореволюционной России), а на Гладкова посматривают со снисходительным пренебрежением.
«Энергия» не создаст отчетливого морального и трудового идеала наподобие «Цемента». Она для этого слишком реалистична, слишком тяжела. Изредка только в некоторых образах, как, например, в образе юной коммунистки, инженера Фени, Гладков решается по-прежнему дать черты безоговорочно-героические, абсолютно-положительные. Большей же частью он изображает действительность такой, какова она есть. Роман кропотлив, фотографически мелочен и точен. Среди так называемой «производственной» беллетристики он выгодно выделяется несомненной вдумчивостью автора и его способностью видеть, понимать, обрисовывать людей, их взаимные отношения. Нельзя отрицать вдумчивости и у Шагинян, например, автора «Гидроцентрали»: но при значительно более высоком, чем у Гладкова, уровне словесной культуры, ее роман бездарен и мертвенен. У Катаева во «Время, вперед» — таланта хоть отбавляй. Но зато у него все поверхностно, все легковесно и случайно… Гладков — тяжеловоз, писатель по-своему честный (думаю даже — вполне честный) и зоркий. Он умеет сгущать, обобщать впечатления, которые дает окружающее, обладает даром показать «типичное». Оттого-то его роман и интересен, и важен.
Действие происходит на каком-то огромном речном «строительстве», — очевидно, на Днепрострое. Две среды, постоянно соприкасающиеся, но все-таки сохраняющие каждая свою особенность: среда инженеров-интеллигентов и общество партийных «выдвиженцев» из простых рабочих, а то и беспризорников. Героя нет. Несколько человек очерчено с большой тщательностью, но, как в «Войне и мире», ни один из них не играет бесспорно главной роли в ходе повествования. Две сферы авторского внимания: общий труд на строительстве — и рядом частная жизнь каждого из действующих лиц в отдельности. Тема романа — в примирении личного с общим, в их гармоническом, безболезненном сочетании. Эпиграф из Гете поясняет, что хотел показать Гладков:
– Что тут такое?
– Человек творится… («Фауст»).
Советская критика упрекает автора «Энергии» в том, что он уделил «личному», «интимному» в человеческом существовании слишком много забот и тревоги. По ее мнению, все в этой области просто: поменьше бы обращать внимания на личную жизнь глядишь, «перестройка» и произойдет сама собой. Упрек старый. Делается он неизменно каждому писателю, который имеет смелость заявить, что «на фронте человеческой психики» триумфы и достижения революции не столь прочны, как кажется, и что приемы, применимые, например, при ударной кладке бетона, здесь «для ликвидации» этого прорыва не вполне уместны.
Строительство продемонстрировано Гладковым в обычных тонах: интеллигенты малодушничают или даже «вредительствуют», комсомольцы геройствуют… Страницы, где описаны работы, нет охоты читать: во всех «производственных» романах они совершенно одинаковы. У одного — похуже, у другого — получше и поживее, как у Катаева, но суть та же. «Энергия» интересна с закулисной стороны — не показной и парадной, а будничной.
Всем людям в ней — не по себе. Гладков менее тенденциозен, чем это представляется на первый взгляд: преднамеренные мысли свести все к мажорному финалу у него нет. Он этого финала ищет, но не считает уже данным. Мирон, коммунист и носитель всех добродетелей, к концу романа проговаривается:
— Обо всем подумали, а свою жизнь наладить не сумели.
У Мирона ушел в беспризорники сын, у него разрыв с женой. Правда, ложась спать, он беспокоится о том, что «массовая работа на строительстве мало развернута», а просыпается с тревожной мыслью, что «сезонник не вовлечен в общественно-политическую деятельность». Но где-то глубоко, редко-редко вырываясь наружу, его точит сознание, что реальное его существование находится в страшном противоречии с официальными прописями, обещающими ему удовлетворение и благополучие. Схоластические афоризмы о разнице между «личностью» и «личным» делу не помогают.
Инженер Балеев, начальник всего строительства, властный, резкий и самолюбивый человек, для «душевной» беседы ходит к полуюродивой девочке, капризной и нервной: с товарищами по работе ему говорить не о чем. Инженер Кряжич, с самозабвением трудясь «во имя социализма», не перестает издеваться над этим будущим социализмом и жаловаться на свое положение кандидата в Соловки. Почтенная, заслуженная большевичка, носящая изящную партийную кличку Бочка, внезапно изнемогает от одиночества и оказывается самой обыкновенной женщиной, которой хочется «немножко ласки». И так далее, и так далее…
«Человек творится». В романе Гладкова сквозит сомнение, которое должно, — не может этого не быть, — многих и многих смущать в современной России: стоит ли игра свеч? Ну, допустим, строительство закончится полным торжеством, план будет выполнен, все пятилетки удадутся, но если человек не станет от этого ни лучше, ни счастливее, — стоило ли затевать все дело, а главное — приносить такие жертвы? Может быть, прав старик — герой какой-то советской драмы, если не ошибаюсь, Н. Никитина, — который в отчаянии молится Богу:
— Останови, покарай Ты этих чертей! Мы ничего не хотим строить, мы ничего не хотим изменять Мы хотим, чтобы тихо текли Твои реки, мирно шелестели Твои синие леса… Тепло человеку под Твоим солнышком, Господи…
Сомнение насчет внутренней неоправданности «строительства» в целом у Гладкова сквозит. Но надо сказать правду: весь его пафос направлен на преодоление этого сомнения, на сознательное, зрячее, уверенное торжество над ним. В этом-то именно и характерность его «Энергии», какая-то ее тематическая центральность в новейшей российской беллетристике, — как тематически централен был в свое время и «Цемент»: книга эта — радостно богоборческая или, если угодно, природо-борческая… Человек должен быть «сотворен» (в смысле, вложенном в гетевскую цитату). Он будет сотворен в процессе борьбы за первое место во вселенной, когда будет создано, наконец, объединенное одной волей человечество.
Что говорить! Многое можно возразить против такого всемирно-исторического проекта. Защищать или обосновывать его я не собираюсь. Думаю только, что это проект, близкий и родственный всем советским мечтам, поскольку они уходят за пределы непосредственных повседневных перспектив, — и что Гладков верно отразил эти безотчетные порывы и стремления.
Чисто литературное замечание: в книге множество типов и персонажей, четко обрисованных и, с бытовой точки зрения, крайне любопытных. Картина заседания инженеров — документ, пожалуй, перворазрядный.
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ: Диалоги.– Догадки Вал. Катаева. – Советский кумир: Дос-Пассос. — Перечитывая Сологуба
В книжной лавке. Входит покупатель, узнает, нет ли «новинок».
– Пожалуйста, посмотрите на этой полке… Вот Сирин, вот новый роман Фельзена, Берберова, Газданов, все наши молодые авторы вообще.
Покупатель молча раскрывает книжку за книжкой, перелистывает, рассматривает и ставит на место.
– Нет, уж лучше что-нибудь из старых… Чтобы с разговорами!
Улыбку удержать было трудно. Но сцена сама по себе крайне характерная. Если бы, действительно, постараться найти внешний, формальный признак, который резче всего отличает писания наших старших беллетристов от произведений молодых авторов, то придется повторить то же самое: те пишут с разговорами, эти без разговоров или, во всяком случае, с небольшой дозой их. Убыль диалогов наблюдается всюду. У Сирина они еще остались, но тенденция во всей новой прозе одинакова: разговоры сокращаются, сгущаются, писателя не прельщает больше фонографическая передача живой речи.
Понятно, что это не всем по вкусу. Роман, испещренный диалогами, читать легче уже хотя бы потому, что страница с пустыми белыми местами меньше утомляет глаз. Такую страницу быстрее можно «пробежать». Кроме того, разговорная фраза большею частью ослаблена и разжижена стилистически: построй ее романист иначе, как делает Андрей Белый иногда, – фальшь и неправдоподобие становятся слишком очевидны. Раскрывая роман с диалогами, читатель знает, что словесных препятствий брать ему не придется… Все это так.
Но наши молодые беллетристы по своему правы. Их упрекают в подражании: чаще всего, как известно, Прусту… Вопрос о подражании теоретически очень сложен. Одно только можно сказать с несомненностью: подражание, охватывающее целое поколение или группу, не бывает случайным. Идеи носятся в воздухе, литературные приемы, очевидно, тоже. Сейчас многие романисты, без всякого Пруста, приходят к сознанию необходимости сократить диалоги.
У Толстого разговор был средством передать и запечатлеть внутренний облик человека, впервые введенного в литературу полностью, во всей его противоречивой сложности. У Достоевского разговор схематичен, с уклоном к сгущению. Дальше произошло нечто странное, в чем отчасти повинен Чехов. Реализм, понятый как дословность, открыл доступ болтовне… Если раскрыть книгу среднего современного беллетриста, то легко убедиться, что именно болтовней она наполовину и заполнена. Списываю наудачу, не называя автора:
– Мамочка, ты не видела телефонной книжки?
– На комоде, направо, под моей розовой шалью.
– Да нет… я смотрела. Нет.
– Значит, опять кто-нибудь утащил… Спроси Володю.
И так далее… Это как будто бы и похоже на Толстого. Но от толстовских волшебных открытий здесь осталась одна шелуха, как в гладком теперешнем стиле осталась лишь шелуха от Пушкина. Это оболочка, ничем изнутри не оживленная и не оправданная. Реакция была неизбежна. «Дыхание бытия», вкус и тон повседневности можно отразить с совершенной правдивостью и без того, чтобы передавать ахи и охи над затерявшейся телефонной книжкой. Естественно, что новые беллетристы рассказывают о жизни и людях как бы «со стороны», вводя диалог лишь изредка, придавая ему особую значительность, вновь ощущая значение игры света и тени.
Из старших один только Бунин разговорностью увлечен никогда не был. Душевное напряжение, которое есть во всех его книгах, не позволило ему опуститься до болтовни. Самый «толстовский» из наших писателей оказался менее всех других обезличен соблазном использовать чужие приемы в готовом виде.
* * *
До советских авторов эти стилистические сомнения, настроения и поиски еще не дошли. Едва ли можно сомневаться, однако, что они до них скоро дойдут. Во-первых, эти поиски, так сказать, поддержаны Европой, что на русские умы всегда действовало магически. Во-вторых, они напрашиваются сами собой — и в лице нескольких писателей советская литература подошла к ним вплотную.
Конечно, дело не в одних только диалогах. Дело во всей той словесной ткани, которая составляет произведение. До сих пор в СССР писатели, наиболее взыскательные по стилю — например, Пастернак или Юрий Олеша — стремились к максимальной яркости и перегружали текст образами, метафорами, редкими эпитетами, всеми вообще застарелыми атрибутами условной художественности. На этом пути тупика не миновать — у Олеши он уже отчетливо был виден.
Однако первое слово — «первая ласточка» — пришло не от него и не от Пастернака, а от беспечного, но, кажется, одаренного острым чутьем Вал. Катаева. Не так давно в московской «Литературной газете» была помещена интересная беседа с ним.
Катаев без обиняков назвал Олешу декадентом. «Совершенно верно!» — хотелось воскликнуть, читая. Настолько верно, что не требуются даже никакие объяснения: почему Олеша декадент? Сразу понятно. Не говоря уже о ядовито-индивидуалистической закваске умных и двусмысленных писаний Олеши, вся их внешность такова, что изощренность не радует, а томит и угнетает… Дальше Катаев усомнился в ценности и значении метафор.
Для советского литератора это почти подвиг. Плеханов, вслед за Марксом, сказал, что «образ есть основа искусства», и утверждение это вошло в советское художественное credo как абсолютная истина. От образа же рукой подать до метафоры. Было много школ, много направлений, много «измов» в России за последние годы: на все посягали они, но метафоры коснуться не смели. Катаев первый заметил то, что рано или поздно открывается всякому художнику: образ не есть основа искусства, а метафора – и подавно. (У Пушкина метафор мало, Надсон же весь в «цепях рабства» и «чертогах мечты».) И сразу вместо душной олешевской изысканности и чуть-чуть нелепой пастернаковской пестроты стали видны необозримые возможности слова, освобожденного в своей прямой, непосредственной силе.
Есть разница между сладостью и приторностью. Катаева, очевидно, мутит от того, что К. Леонтьев называл «гипертрофией художественности», рассчитанной на детей или на дикарей. Ему хочется прозы поскромнее, побледнее, построже, ему хочется искусства, которое уходило бы «концами в воду», а не кокетничало бы своей принаряженностью. В России у него, вероятно, найдутся единомышленники и с каждым годом их будет все больше.
* * *
Дос-Пассос. Для большинства зарубежных читателей это имя пустой звук. Если они и слышали о нем, то смутно… Люди, считающие своей обязанностью быть в «курсе» культурной жизни мира, знают, что это молодой американский романист. Обыватель не знает даже и этого.
В России Дос-Пассос сейчас один из двух-трех популярнейших писателей. Пожалуй, даже самый популярный. Успех его огромен, особенно в литературной среде. Недавно в Москве состоялась даже «дискуссия о Дос-Пассосе», длившаяся два дня и прошедшая более оживленно, чем другие литературные собрания и споры. Дос-Пассос, так сказать, на повестке дня. Им увлекаются и у него учатся.
Эти «массовые» увлечения — явление для России привычное. Было время, когда там зачитывались Барбюсом. Потом Барбюс показался плоскими в моду неожиданно вошел Стефан Цвейг, писатель столь же одаренный, сколько и склонный к «халтуре». (Вышедшая в этом году в русском издании цвейговская «Мария Антуанетта» — отличный образец соединения таланта и халтуры.) Нынче советские литераторы клянутся только Дос-Пассосом.
Надо сознаться, выбор неплох. Достаточно прочесть одну главу из любого романа Дос-Пассоса, чтобы увлечение это понять и даже, может быть, разделить. Талант «прет» из всего, что пишет Дос-Пассос, и, конечно, другому советскому любимцу из американцев, маститому Драйзеру никогда и не снилась такая неподдельная живость такая удачливая смелость письма, такой блеск. Нелегко дать в нескольких словах характеристику писателя настолько выдающегося. Скажу все-таки, что Дос-Пассос иногда напоминает Селина, автора «Путешествия в глубь ночи», и родственен ему ненасытно-жадным вниманием к внешнему миру, острым социальным беспокойством и постоянным сплетением юмора и грусти. Только Селин, конечно, сложнее — и в сравнении с ним Дос-Пассос производит все-таки впечатление дубоватого американского парня, который не прочь порезонерствовать, но с еще большей охотой сыграет тут же в футбол.
Советских читателей прельщает в Дос-Пассосе его антипсихологизм или, точнее, то, что для него не существует человека в одиночестве. Книги Дос-Пассоса (как, в сущности, и книга Селина) рассказывают о человеке, пытающемся наладить свою связь с миром, а не уходящем в себя и эту связь умышленно обрывающем. Затем прельщает революционность. Если не ошибаюсь, Дос-Пассос недавно побывал в России и на любезности не скупился. Не раз подписывал он и всякие воззвания, протесты и декларации коммунистического толка. Но одно дело — заявления, другое — творчество. «Ломать я буду с вами, строить нет», — вспоминается давний брюсовский стих. Дос-Пассос мог бы, кажется, его повторить. Несомненно, он ненавидит капиталистическое общество, но от его нервной, судорожной, чисто эмоциональной критики капитализма довольно далеко до симпатий к «строительству», хотя бы и социалистическому… По природе Дос-Пассос анархист.
Такова же и его манера писать — со смещением всех планов и скачками от одной фабульной нити к другой. В России особенно любят «42 параллель» и «1919 год». Это — части большой эпопеи, охватывающей второе десятилетие нашего века, с войной в Центре его. Войну Дос-Пассос показывает издали — из глубины лицемерного, растерянного, испуганно-веселящегося тела. Картина блистательная и едкая, со смутным привкусом каких-то будущих неотвратимых ужасов. Но личная энергия автора так неистощима и радостна, что у него даже ужасы не очень страшны.
* * *
В летнее время тянет не только читать, но и перечитывать.
Случилось мне в последний месяц перечесть Федора Сологуба. Позволю себе в двух словах «поделиться впечатлениями», притом — как оговариваются порой советские журналисты — в дискуссионном порядке.
У Сологуба никогда не было ни широкого признания, ни широкого влияния. Но наша «элита» чтила его необычайно высоко. Принято было даже в хорошем обществе предпочитать его Блоку: это давало диплом на изысканный вкус. Блок будто бы был для толпы, Сологуб для посвященных.
«Элита» нередко бывает в своих пристрастиях права: много есть примеров тому, как ей удавалось за одно-два поколения привить свой вкус толпе. Но иногда она и ошибается. (Нельзя забыть, например, что в свое время она у нас полностью «отрицала» великого Некрасова и противопоставляла ему Фета.)
Не ошиблась ли она в оценке Сологуба? Бесспорно, большое мастерство. Бесспорно, своеобразие. Но дальше, но глубже? Не подозрителен ли холодок, веющий от каждой сологубовской строчки, и нет ли за холодком пустоты? Современников легко обмануть. Сологуб играл на «струне странности» и их обворожил. Но с годами обольщения рассеиваются и единственное, что продолжает жить — это огонь, порыв, самозабвение. Блок весь жертвенен и время как бы только раздувает его сияющий костер. Сологуб — «себе на уме», весь в расчетах и осторожности. Когда перестает нравится принятая им поза, не остается ничего.
Правда, в поздних стихах есть просветление. Но силы поэта уже иссякли. Он как будто понял, что прогадал, но понял это слишком поздно – и старческим умилением, слегка напоминающим Жуковского, не мог уже искупить отсутствие духовного подъема в былых своих искусных и недолговечных созданиях.
СОВЕТСКИЙ РЕМАРК
Несколько небольших отрывков их этого романа промелькнуло в журнале «Звезда» за прошлый год. Имя автора было новое, неизвестное. Но вещь сразу, с первых страниц, останавливала внимание, – и я тогда же, раза два о ней писал. Не знаю, помнят ли об этом читатели. Роман называется «Тяжелый дивизион», принадлежит он А. Лебеденко[3].
Недавно «Тяжелый дивизион» вышел отдельной книгой.
Впечатление, произведенное разрозненными главами, подтверждается, даже усиливается. Приятно убедиться, что обещания не обманули и надежды оправдались… Это — замечательная книга, которая выделилась бы везде, при любых условиях. В советской же литературе ее появление вдвойне удивительно. Для военных повествований там существует шаблон, уклоняться от которого не полагается: если дело происходит до революции, то рисуется «империалистическая бойня», с извергами-офицерами и угнетенными, но пробуждающимися солдатами; если после — изверги окончательно теряют человеческий образ, а восставшие солдатской массы проявляют неслыханный классовый энтузиазм и политическое чутье. У Лебеденко от шаблона не осталось почти ничего. Кое-где только, как, например, в сценах с участием священника или в заключительных главах с их никчемной «идеологической концовкой», заметна уступка посторонним влияниям и указаниям. Без этого книга, вероятно, не могла бы выйти в свет: советский писатель должен так или иначе сделать реверанс власти, если не хочет обречь себя на молчание… Это печально, но неизбежно, и возвышенная декламация на тему о независимости творческого духа была бы с нашей стороны по этому поводу неуместна и лицемерна. Осуждать и поучать здесь легко; жить, мыслить и писать там — много труднее, и иначе как «с поправкой на условия» оценивать нынешнюю русскую литературу нельзя. Объективность, беспристрастие, бесстрашие и прочие судебные добродетели прибережем для другого случая; тут нужно только понимание. По существу, книга Лебеденко свободна и правдива.
Она смутно напоминает Ремарка, автора в России мало популярного и коммунистической критикой осмеянного. Конечно, не о лирическом ремарковском «пацифизме» речь: дай советский писатель волю таким своим настроениям, его сразу бы затравили, как «лакея», «прихвостня», «агента» буржуазии, и песенка его быстро была бы спета. Лебеденко осторожен, хотя к мечтательному миролюбию его явно клонит. Однако роднит его с Ремарком больше всего какая-то надломленность, чувствующаяся в тоне романа и в обрисовке действующих лиц, точнее: растерянность личности перед историей… Эта растерянность выражена и отражена во многих книгах о войне. Но Ремарк в ряду военных авторов такого склада – первый (на мой взгляд, по праву, а вовсе не по случайной прихоти судьбы, как теперь принято утверждать). Оттого именно к нему Лебеденко и хочется приравнять.
Андрей, герой повествования, – студент, «веселый кучерявый хохол», как называют его товарищи. Довоенная его петербургская жизнь похожа на существование тысячи других студентов. Андрей ничем не замечателен, это, так сказать, «средний студент». Он вяло и без подлинного увлечения влюбляется в бестужевку Екатерину. Вместе они читают по вечерам Бальмонта, Гумилева и Блока, вместе ходят в театр или обсуждают последние университетские демонстрации… В воздухе пахнет войной. Но лебеденковским героям не хочется думать «о неприятных и еще далеких вещах».
— Предстоит концерт Гофмана, выступают Северянин и Маяковский.
Атмосфера схвачена очень верно. Были, конечно, и другие круги молодежи в предвоенные годы. Но кто эту эпоху помнит, узнает все-таки Андрея, Екатерину и всю их компанию как своих давних знакомых.
Настает 1914 год. Андрею к этому времени лет двадцать или двадцать один. Война его «захватывает», хотя он и не особенно торопится попасть на фронт. Но зато он с живостью толкует о близости и неизбежности победы, разъясняет сомневающимся ее благотворное значение для России, предсказывает развал Австрии и ежедневно переставляет флажки на карте военных действий. Андрей — патриот и передовой молодой человек. Война в союзе с великими западными демократиями его радует.
На фронт он отправляется, в сущности, случайно. Нельзя сказать, чтобы его неодолимо влекло туда. Но какой-то знакомый полковник что-то предложил, Андрей, сам не зная почему, согласился, мимолетная беседа в ресторане привела к реальным последствиям — и Андрей неожиданно для себя сменил студенческую тужурку на защитную рубаху вольноопределяющегося.
Екатерина всплакнула, провожая его:
— Прощай, мой родной. Я поступила в сестры. В Георгиевскую общину. Может, ты и хорошо сделал, но так тяжело…
Андрей на войне. Он и прежде никак не мог себе этого представить: что такое война? А теперь смущен еще сильнее. Войны нет. Есть только маленький, узкий кусочек фронта, со скукой, грязью или кровью, но без связи с остальным миром и без сознания участия в каком-то общем огромном деле. Где-то существует ставка, где-то разрабатываются какие-то планы, ведущие к победе или поражению. Андрей это знает, но этого не чувствует. Для него победа в том, чтобы укрепить вовремя телефонный провод между двумя батареями: удается — хорошо, нет — плохо… А может быть, в минуту его призрачной удачи гибнут целые армии. Никто ничего не видит дальше того, в чем сам непосредственно участвует. Офицеры вокруг Андрея бездельничают, бранятся, шутят, играют в карты, умирают. Одни верят в победное окончание войны, другим на все наплевать, были бы только отпуска, чины, ордена, пенсии. Андрей с удивлением видит, как неистощима в людях жизнь, как цепко люди за нее держатся.
— В тылу думают, что война — это схватки штыковые атаки, страдания, страх смерти, и никто не знает, что война — это жизнь, полнокровная жизнь, только в других условиях, по-иному. Соловин не уезжает в тыл, хотя и запасся свидетельством о контузии, потому что ждет, не выйдет ли ему полковничий чин прежде, чем начнутся опасные бои. Кольцов готов не сходить с наблюдательного пункта, лишь бы уйти с войны командиром батареи, со столовыми, суточными и приварочными… Ни один человек на войне не ставит ставку на смерть. Все делается в расчете на вечную или, по крайней мере, долгую жизнь, и для того, чтобы оградить эту жизнь, люди прячутся в кусты, нагибаются, когда свистит снаряд, бросаются в неприятельский окоп и заряжают орудия двухпудовыми бомбами.
С офицерами у Андрея налаживаются приятельские отношения, — тем легче, что многие из них, как и он, бывшие студенты. С солдатами сойтись труднее. Солдаты охотно слушают рассказы Андрея о «звездах, о Боге, об истории, о других странах и городах». Но Андрей чувствует себя среди них «не собеседником, а приезжим лектором». Откровенности и близости нет.
Война затягивается. Надежды на победу слабеют. Недостаток снарядов дает себя знать все сильнее. Настроение падает. Сначала Андрей пытался объяснить себе ход военных действий по-толстовски, т. е. полагая, что судьбу сражений решают тысячи мельчайших непредвидимых и неустранимых случайностей.
Ему вспомнились «великолепные страницы "Войны и мира"».
– Эти страницы отнимали у Цезаря его блестящую тактику в Галлии: у Сертория — умение подвижными, но слабейшими иберийскими отрядами громить тяжелые и устойчивые легионы Помпея и Метелла; у Наполеона — чутье, помноженное на расчет гения, как это было у Ульма, Аустерлица и Ваграма. Они лишали всякой поэзии этот блестящий мир борьбы и побед, который дворянская Россия через школу и искусство прививала всем без различия молодым людям в стране.
Но теперь Андрей понимает, что победить должен тот, кто лучше вооружен. «Талант или тупость генералов, храбрость офицеров, дух армии, планы штабов, преимущество территории, число дивизий — все это второстепенно. Солдат с прикладом слабее солдата с пулеметом». Исчезновение веры в победу оставляет в душе и сознании Андрея пустоту. «Вера эта строилась на воспоминаниях из национальной истории, преподанной так, что раздел Польши, захват Крыма, разгром Швеции казались фактами настоящими, оправданными, как бы предопределенными, а война с Японией или крымская кампания относились к числу недоразумений». Иллюзии рассеялись. Их место ничем не занято. Вся вторая часть повествования полна глубокого внутреннего смятения: Андрей и так человек не Бог весть какой стойкий и крепкий, а в потоке событий он и подавно превращается в «щепку». Рушится мир, в котором он вырос и жил, на смену же ему пришло нечто чуждое и враждебное — славный полк равнялся пятидесяти человекам с сорока винтовками, со знаменем, но без патронов, крепость оказывалась бабьим решетом, плевательницей, генерал — старикашкой, годным только для партии в экарте, пулемет – кашляющей, облезлой, расхлябанной машинкой, которая никогда не стреляет в те минуты, когда это необходимо, а солдаты – это уже не ряды, но лица, лица без конца, с бородами, бритые, с широкими и узкими ногтями, смирные и злые, молчаливые и болтливые, послушные и строптивые, которые хороши в рядах под равняющим действием дисциплины, но непонятны, неожиданны и страшны в своем разнообразии, когда распадаются ряды.
Андрей тяжело заболевает. Из госпиталя он бежит домой, в свой родной, глухой провинциальный городишко на Днепре. В дороге беседует с другими дезертирами и, по старой привычке, пытается их образумить. Те к его патриотическим доводам равнодушны:
– Кому нужно, тому что ж… Той пускай и воюет. А нам без надобности.
Андрей не сдается. А если немцы отберут всю землю? А если немцы всех обратят в рабство?
– Ты, наверное, из образованных будешь, я вижу. Ишь ты, как мудрено. Если да если. Что да что…
Беседа обрывается. Один солдат, впрочем, добавляет:
– Вольноперы, они все за войну. Потому хочут в охвицера выйти.
Из дому Андрей возвращается на фронт, потом в Петербург. Там — суета, сплетни, показное участие, а за ним безразличье. Говорят только о Распутине.
– Ах, война так двинула у нас общественную жизнь, — восклицает тетка Андрея. — В обществе равноправия женщин каждый день заседания. Теперь столько дела. А людей что ж? Шишкина и Явейн, да я, вот и все.
И тут понижает голос:
— Неужели армия не придет в Царское Село? Ну, хотя бы гвардия. Гвардия нередко меняла судьбу страны… Ведь это все — она. Все зло — от нее. Распутин — это возможно только в России. Говорят, у него из-под шелковых рубах воняет козлом. Брр…
Андрей подавлен окончательно. Нервы его едва выдерживают напряжение: Он чувствует, что «вышиблен» из жизни — и не может в нее вернуться. Да и не хочет: он обижен на жизнь и на прежних своих друзей за то, что они, в сущности, обошлись без него, не ощутив пустоты. Он одинок и ищет из одиночества выхода.
Дальше брезжит, конечно, «заря революции». Но только брезжит. Ее еще не видно, и роман ни на чем не кончается. Это и лучше: остается впечатление большой правдивости и большой зоркости. На русском языке таких книг о войне немного; пожалуй, такой книги еще и не было. Имею в виду, разумеется, только последнюю войну, потому что войны предыдущие — это «дьявольская разница», по пушкинскому выражению. Севастополь уже отдает древней историей, а о двенадцатом годе нечего и говорить.
Если бы Лебеденко создал только фон своей книги — походное житье-бытье нескольких заурядных офицеров, — то и тогда его следовало бы признать настоящим художником.
ШОЛОХОВ
Его успех у читателей очень велик. В советской России нет библиотечной анкеты, где бы имя Шолохова не оказалось бы на одном из первых мест. В эмиграции — то же самое. Принято утверждать, что из советских беллетристов наиболее популярен у нас Зощенко. Едва ли это верно. Зощенко «почитывают», но не придают ему большого значения, Зощенко любят, но с оттенком какого-то пренебрежения… Шолохова же ценят, Шолоховым зачитываются. Поклонники у него самые разнообразные. Даже те, кто склонен видеть гибельное дьявольское наваждение в каждой книге, приходящей из Москвы, выделяют «Тихий Дон». Еще совсем недавно мне удалось беседовать с одним почтенным земцем, человеком простодушным и пылким, который держал в руках роман Шолохова и приговаривал:
— А, здорово! Здорово! Ловко, негодяй, пишет. Замечательно наворачивает, подлец. Здорово!
В глазах его было искреннее удивление: советский писатель, а не совсем бездарен и туп; на книжке пометка Государственного издательства, а читать не противно. «Ну, да ведь это казак!» — нашел он вдруг неожиданное объяснение.
Успеху Шолохова критика содействовала мало. В России о нем только в последнее время, после «Поднятой целины» и третьего тома «Тихого Дона», начали писать как о выдающемся художнике, которому приходится простить некоторую противоречивость его социальных тенденций. В эмиграции критика занималась Шолоховым лишь случайно. Леонову или Бабелю, Федину или Олеше у нас больше повезло. Шолохов оставался в тени. Но это не помешало ему «пробиться к читателю» и опередить в читательском «благоволении» всех тех, о которых в печати было больше толков. Популярность его разрастается.
У Шолохова, несомненно, большой природный талант. Это чувствуется со вступительных страниц «Тихого Дона», это впечатление остается и от конца романа, — хотя третий том его, в общем, суше, бледнее и сбивчивее первых двух. «Поднятая целина» по замыслу мельче. Но в ней все, о чем рассказывает Шолохов, живет: каждый человек по-своему говорит, всякая психологическая или описательная подробность правдива. Мир не придуман, а отражен. Он сливается с природой, а не выступает на ней своенравно наложенным, чуждым рисунком. Искусство Шолохова органично.
В заслугу ему надо поставить и то, что он не сводит бытие к схеме в угоду господствующим в России тенденциям, — как это случается, например, у богато одаренного, но растерянного и, кажется, довольно малодушного Леонова… Шолоховские герои всегда и прежде всего люди: они могут быть коммунистами или белогвардейцами, но эта их особенность не исчерпывает их внутреннего мира. Жизнь движется вокруг них во всей своей сложности и бесцельности, а вовсе не для того только, чтобы закончено было какое-либо «строительство» или проведен тот или иной план. В повествование входит огромное количество действующих лиц. Некоторые из них эпизодичны, на их долю достается всего-навсего какая-нибудь одна фраза. Но если через триста страниц это лицо снова вынырнет, оно окажется уже знакомо, и автор никогда не наделит его чертами, которые бы не согласовались с уже известными. Все у Шолохова очень «ладно сшито». Он знает, о чем пишет, — знает не только в том смысле, что касается близких себе общественных слоев, но и в том, что видит и слышит все изображаемое, как будто бы в действительности оно было перед ним. Фальши нет почти совсем.
Привлекает в Шолохове свежесть. Привлекает первобытная сила его характеров. Привлекают даже такие, например, лирические отступления, — необычайно и странно звучащие у советского автора, не похожие на индустриальные восторги большинства его собратьев:
– Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь пол низким донским небом. Вилхорины балок, суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравившимся гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачья, нержавеющей кровью политая степь!
Слова, пожалуй, слишком уж «нутряные». Но тон искренний, и неподдельная есть в этом отрывке связь с землей, неподдельная ей преданность. Это, может быть, лучшая и самая сильная особенность дарования Шолохова: его чувство земли. Думаю даже, что именно она к Шолохову влечет и тянет: литература везде, во всем мире, механизируется, теряет живую непосредственность, надстраивает в своих вымыслах этаж за этажом, обрывает корни, — и если вдруг появляется книга, в которой чувствуется еще близость к истокам бытия, это действует очищающе. Будто подышал прозрачным деревенским воздухом, посмотрел на небо, еще не задымленное и не запыленное… В европейской словесности сейчас таков Гамсун, который, конечно, другим беллетристам не чета и умеет быть художником тончайшим и обостренно-чутким, сохраняя всю силу и близость стихиям. Шолохов, что говорить, грубоват. Его здоровье чуть-чуть животное, звериное. Кстати, характерно, что ему лучше всего удаются образы зажиточных, крепких казаков, веками, из рода в рол, сидящих на тех же хуторах, отстаивающих свою землю зубами, как волки. Чуть только надо изобразить «сознательного работника», Шолохов слабеет. Это заметнее всего в «Тихом Доне», и оттого, вероятно, первая часть романа особенно хороша, что действие ее развертывается во времена мирные, еще никакими катастрофами не встревоженные. В «Поднятой целине» Шолохов попытался оплошность свою исправить и довольно искусно обрисовал нескольких добродетельных большевиков — Давыдова, например. Но все-таки натяжка и условность чувствуются. В советской критике Шолохова в этом упрекают, считая, что тут сказываются его «классовые симпатии» и неполная «созвучность» революции… Доля правды в этих упреках есть. Революция в теперешнем своем, сталинском, преломлении связь с землей рвет. Уничтожение крестьянской собственности уничтожает скрытую прелесть сельского хозяйства, сводит земледелие к обычному производственному процессу. Колхозную землю не поцелуешь; она если и не чужая, то чуждая. Весь новейший идеал революции — в антипочвенности… Шолохов не враждебен революции политически, он расходится с ней только в своем ощущении жизни. Советские критики могли бы заметить, что отъявленная «контра», вроде есаула Половцева из «Поднятой целины», удается ему еще хуже коммунистов: люди, бездомно носящиеся по стране и одержимые какой-то отвлеченной идеей, Шолохову непонятны. Он воодушевляется только тогда, когда перед ним мир, еще не нарушивший своего естественного, первоначального строя. Кулак или не кулак, — для Шолохова это не так важно. Существенно только то, чтобы человек оставался в ладу с природой, не хотел бы ее оттолкнуть, не бился бы в бесплодных судорогах, как рыба на песке.
Оба шолоховских романа — «Тихий Дон» в особенности — развиваются неторопливо, плавно и величаво. Это настоящий «roman-fleuve», если воспользоваться модным сейчас выражением. Дыхание ровное. Размах большой. Талант автора, повторяю, вне всяких споров.
При всем том я не думаю, чтобы Шолохов был писателем первоклассным, каким его нередко называют в последнее время. Он еще молод, окончательную оценку давать ему рано. Однако в будущее его «верится с трудом». Во всяком случае, сейчас надо основываться на свершениях, а не на обещаниях.
Есть простота, здоровье и сила, прошедшие через все испытания и соблазны, — и все-таки уцелевшие, даже закалившиеся в них. Но есть рядом сила, которая ничего еще не узнала, ничем еще искушена не была… Шолохов именно таков. Он еще в «школе первой ступени» общей культуры, и неизвестно, что бы с ним было, если бы пришлось ему пройтись по многим мытарствам, открытым современному человеку. Я только что назвал имя Леонова, который как будто оттеснен сейчас на второй план успехом Шолохова. Леонов, в сущности, не написал ни одной удачной вещи. Только «Барсуки», пожалуй. «Вор» внутренне замечателен, но хаотичен и напыщен, все дальнейшее – срыв. Однако Леонов, мне кажется, все-таки крупнее и значительнее, как художник, чем Шолохов. В нем есть беспокойство, которое рождается только присутствием мысли. В нем есть «дрожжи». Шолоховское же тесто именно без дрожжей: оно не бродит и потому едва ли взойдет. Леонов способен написать сто или двести плохих и лживых страниц, но вдруг «влетит» и в нескольких страницах искупит все свои грехи. Шолохов не срывается, но и не взлетает. Конечно, он не всегда одинаков. Его искусство то крепнет, то слабеет, но без резких колебаний. Пишет он легко, широко и свободно. Как будто бы так, как советовал Гейне: «словно из ведра». Но Гете добавлял: «исправляйте – потом». У Шолохова «ведро» остается в девственном состоянии, и такова вся ведерная размашистая сущность его, что исправления почти невозможны. Можно кое-где подчистить стиль, но нельзя сжать течение романа, не исказив его.
«Тихий Дон» не раз уже сравнивали с «Войной и миром». Шолохова называли последователем и учеником Толстого. Кое-что от Толстого у него, действительно, есть, но чем пристальнее вглядываешься, тем сильнее убеждаешься, что это — только оболочка толстовского искусства… Да, «roman-fleuve». Но Толстой им управляет, он нас самих, читателей, уносит на его волнах. А Шолохов не в силах поток сдержать. Третий том «Тихого Дона» сбивается на откровенную бестолочь: автор больше не знает, что, куда, к чему, и в поисках спасения цепляется за «руководящую» коммунистическую идейку. Мысль могла бы помочь ему. Но мысли у Шолохова нет.
Мне вспоминается не Толстой, а совсем другой писатель, которого, кстати, с Толстым у нас тоже сравнивали. О нем в «Тихом Доне» довольно много говорится, как об одном из участников гражданской войны. Это — генерал Краснов.
Читатели, пожалуй, заподозрят меня в склонности к парадоксам… Напрасно! На основательности сравнения я настаиваю. Краснов — дурной писатель, конечно. Он во всех отношениях Шолохову уступает. Но характер и дух его писаний — шолоховский. Притом таланта у него отрицать нельзя: первый том «Двуглавого орла и красного знамени» написан с такой широтой и непринужденностью, какая и не снилась многим нашим заправским беллетристам. Дальше все портится, а когда дело доходит до философических размышлений или критики блоковских «Двенадцати», хочется книгу выбросить в окно. Но в начале в картинах учебной и военной жизни есть такое же правдивое и бесстрастно-бездушное отражение жизни, которое прельщает и у Шолохова. Будто и в самом деле «Война и мир».
Люди сейчас тоскуют об искусстве большого масштаба. Отчасти оттого их к таким художникам, как Шолохов, и влечет. К тому же от его книг «пахнет Россией», самой подлинной, неизменной. Успех его понятен и оправдан. Надо только помнить, что в наши дни видимость «большого искусства» достигается лишь ценою некоторых уступок в сторону лубка, и что иногда в одном невнятном стихотворении, в одном беспомощно-обрывающемся романе истинного величия больше, чем в многотомной и многословной эпопее о войне и революции.
НЕ АПОЛОГИЯ
Не только идеи, но и самые обыкновенные мысли носятся в воздухе. Случается, что хочешь о чем-нибудь написать или сказать – и тут же убеждаешься, что другие уже успели подумать о том же самом.
Это скорее располагает и побуждает к беседе, чем «охлаждает пыл». Если мысли сталкиваются, значит для них есть какое-то основание в действительности, значит есть им и отклик.
Письмо, полученное на днях:
«Не опротивело вам толковать о советских книжках? Ох, подозреваю, что надоело и опротивело, и в самом деле, разве не лучше оставить их в покое почивать на лаврах? Про Беломорский канал в газетах подробно пишут, мерзость эта у всех на глазах, так к чему же разбирать их романы, в которых кроме отъявленной лжи ничего не найти? Искусство и литература есть отражение красоты жизни, так по крайней мере полагали мы до сих пор, а в гнусных советских книжках из-под палки выхваляются разные кровавые достижения, которыми одурачен бедный наш народ…»
Я как раз собирался на эту тему писать. Давно уже мне казалось, что в некоторых читательских слоях прежний интерес к советской литературе сменяется отталкиванием от нее или по меньшей мере безразличием. Анонимный корреспондент подтвердил мою смутную догадку.
Вопрос в целом довольно обширен и расплывчат. Но есть в нем стороны, которые настолько ясны, что споров вызвать не должны бы. Прежде всего: советская литература труднодоступна. Читатель просматривает отзыв о книге, но знает заранее, что ее ему не достать и своего личного мнения составить не удастся. Сначала он на это досадует, потом ему это надоедает… Если бы такой читатель был чуть-чуть внимательнее, он заметил бы, пожалуй, что рецензент принимает это в расчет и всегда старается рассказать о книге прежде, чем критиковать ее. Но внимание — вещь редкая. Мало помалу к советской литературе создается такое же отношение, как к литературе чуждой, далекой, почти что иностранной, для знакомства с которой вполне достаточно двух-трех обзоров «с птичьего полета».
Затем… Затем — Беломорский канал. Придаю, конечно, этим двум словам общее, нарицательное значение, т. е. отношу к ним всю официальную деятельность советских писателей.
Эта деятельность, действительно, ужасна. Максим Горький — человек отпетый, он больше ничем никого не удивит, сколько бы ни «смахивал» новых умиленных слез над новыми сталинскими «чудесами». Но иногда думаешь о каком-либо другом писателе: он никогда бы этого не сказал и не сделал — а на следующий день именно за его подписью и читаешь очередной плоский и лживый панегирик… С этим нельзя примириться, к этому нельзя остаться равнодушным. Стараешься не осуждать слишком поспешно, помня, что люди, находящиеся на свободе, не должны бы судить людей, находящихся в неволе. Но рвение и своеобразная виртуозность в прислужничестве все-таки поражают.
Однако – это не литература, это побочная ее область. Способен ли человек на раздвоение личности, найдется ли позднее какое-нибудь другое объяснение, проще и убедительнее, — как знать? Надо только еще раз подчеркнуть, что в лучших советских книгах «беломорского» духа нет. Есть общее сочувствие революции, это несомненно, — но было бы тяжкой ошибкой с нашей стороны истолковать его как лакейство, как отъявленную ложь. Даже не только ошибкой: недобросовестностью. По заказу можно сочинить речь или написать хвалебную оду. Но нельзя по заказу, механически, без личного вклада и участия, без всякого отзвука в сознании или сердце создать живой мир со страстями и движением. А такой мир в советской литературе есть, — и отрицают его только те, кто ее не знает. Приходится повторять то, что уже много раз говорилось: есть бесстыдная, безудержная лесть, целый поток ее, захвативший сотни и тысячи «работников пера», которые друг друга обличают, догоняют, перегоняют и вообще социалистически состязаются в праве на благоволение власти. Но рядом есть и другая словесность, подавленная, измученная, озирающаяся при каждом слове по сторонам, чтобы не сказать лишнего, привыкшая к намекам и тут же принужденная снабжать их благонамеренными авторскими комментариями, словесность, готовая на любую побочную сделку, но не продавшая все-таки главного — совести, никому не уступившая монополии замысла, и потому еще живая. И притом напряженная и по-своему серьезная словесность, – грубоватая, да, но пламенная.
Очевидно, Беломорский канал – это тоже компромисс: уступка в торге на право жить. Не настаиваю, впрочем. Издалека судить трудно, и, может быть, правильнее какая-нибудь другая разгадка. Но десять новых Беломорских каналов с десятью торжественными писательскими банкетами на них не уничтожат убеждения, что советская литература не вся еще изолгалась. Удивительно, что это у нас здесь вызывает не только радость, но и озлобление, будто речь идет не о России.
«Во избежание недоразумений» добавлю: конечно, часть России сейчас молчит, не имеет никакого голоса, никакой литературы. Нельзя считать советские книги чем-то отражающим волю и мысли всей страны. Нет, они однотонны, однообразны, в них нет столкновения творческих устремлений, нет того риска и страха за свой мир, которые возникают в борьбе, т. е. в свободе. Но, будучи таковыми, они все-таки остаются русскими книгами. В них звучит голос той России, которая в целом признала историческую оправданность всего, что произошло за последние десятилетия.
Теперь — два слова об отталкивании, о том, что «надоело». На это нечего ответить. Надоело, так надоело. Что делать? Бывает, что и сам себе человек надоест… Тяжелый, грустный случай. Но советами тут не поможешь. Надо оставить больного отдохнуть, успокоиться, надо дать окрепнуть нервам. Приблизительно то же и в случае данном. Если нам надоела Россия, какая бы она ни была, — дело плохо.
Часто говорят другое. Мой раздражительный корреспондент брюзжит, отмахивается. Встречаются люди, настроенные более сговорчиво: они читают вчитываются, признают правдивость там, где она есть, не отбрасывают всего без разбору, но вянут и изнемогают по иной причине.
— Не интересно.
Большей частью, это поклонники и знатоки западной литературы, в особенности, английской и французской. Их возражение, их «отвод» против советских книг, даже наиболее искусных, по-своему основателен. После изысканной европейской кухни мало кого «потянет на капусту», а что в сравнении с теперешней европейской беллетристикой, даже не самой первоклассной, советские книги все-таки «капуста», в этом сомнений быть не может. В Москве упорно хвастаются, что «наша литература первая в мире», притом не только по своему идейному уровню, но и по своей художественной ценности. На месте этому, может быть, и верят, да и то едва ли. Не только писательская техника, но и духовное содержание западной литературы сейчас несравненно сложнее, глубже и тоньше, чем все предлагаемое Москвой. Если искать в книге уединенного наслаждения, если выделить вообще процесс чтения, как нечто, не связанное с нашей жизнью, а лишь дополняющее ее, конечно, лучше взять хороший «добротный» западный роман, пронизанный насквозь мощной и требовательной книжной культурой, нежели российское кустарное изделие. «Не интересно». Да, конечно, Моруа гораздо интереснее, чем Гладков, Вирджиния Вульф гораздо интереснее, чем Сейфуллина, — и так далее, и так далее.
Но мы живем не на луне, не «в царстве грез», как выражались прежде поэты. Все здесь связано со всем, все — со всеми. Интересного в чистом, отвлеченном виде не существует, — всегда нужна некоторая «поправка на обстоятельства». Интереснее всего то, в чем я больше заинтересован, и вовсе не по какому-либо корыстному, низменному расчету, а, наоборот, по открывающейся для меня возможности как-то войти в общее человеческое дело, послужить ему, присоединиться к нему. «Истинный космополит существо метафизическое», — сказал еще Карамзин, — и до сих пор во всех наших европейских обольщениях, очарованиях и разочарованиях, это остается глубоко верным. Кто этот закон пытается опровергнуть, превращается в тень, — и в своем обманчивом западном обличии отходит гораздо дальше от сущности и естества культуры, нежели упорный приверженец «капусты». Ему закрыты двери к ней. Ему не с чем к ней придти.
Советская литература груба. Да, с этим, конечно, никто не спорит! Она бедна и скудна: да, да, конечно! Но это наша грубость, наша бедность и скудость, та, за которую мы несем ответственность, та, которую можем здесь, хотя бы и за тридевять земель, изменить или исправить, та, которой мы дышим, одним словом, которой обречены дышать! Кое-чему у нее, у этой дурной и нищей литературы, мы поучимся, — как научимся и у самой России, надо надеяться, когда-нибудь, — кое-что откинем или постараемся улучшить. Долгое нужно взаимное всматривание, долгая проверка и «узнавание»… Но жаловаться на скуку все-таки не время.
Мысль за мыслью, как нить за нитью — постепенно приходишь к литературе, которая творится здесь, в эмиграции. Если надоела «та», то, вероятно, привлекает «эта»: так должно было бы оказаться, по крайней мере.
Но, к сожалению, это не совсем так. Об эмигрантской литературе много писали в последнее время — и за здравие и за упокой. Она достойна, по самому положению своему, всяческого внимания и сочувствия. В ней есть замечательные художники. Но она еще не вплетается со своей мелодией в «мировой оркестр»: она ничего отчетливо не представляет, ничего не говорит. Подождем, срок еще не упущен, и торопливость в таких делах только вредит. Но не будем презрительно и брезгливо махать рукой на другую литературу, не менее русскую, чем наша здешняя, гораздо более несчастную, чем она, и все-таки находящую в себе силы существовать. Трудно доставать советские книги. Но кто достанет их, увидит, что они «интереснее», чем кажется с первого взгляда, — если только интересна жизнь, Россия, будущее.
< «ГУЛЯЙ-ВОЛГА» АРТЕМА ВЕСЕЛОГО. – «ЛЬВЫ И СОЛНЦЕ» С. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО. – «ВЕЛИКИЙ ИЛИ ТИХИЙ» ВЛ. ЛИДИНА >
Об Артеме Веселом довольно много писали после появления первых его книг. Он был сразу включен в число главнейших «надежд» советской литературы. Нельзя сказать, чтобы надежда совершенно не оправдалась. Однако пишут о нем все меньше, уделяя ему место где-то в стороне от «большой дороги» советской словесности.
Это романист, талант которого так же бесспорен, как и болезненно ограничен. У Веселого нет ни мысли, ни дара обобщения, ни внимания к человеку. Зато у него необычайно развито чувство языка, ему доступно то первичное наслаждение языковой стихией, которого не знают художники много более крупные и значительные. Веселый упивается словами и словесными сочетаниями, купается в них, захлебывается ими, — и проявляет в этой области чутье и изобретательность. Он считает себя учеником Хлебникова. Конечно, это верно лишь с оговорками. Из богатого, но сырого, странного и темного хлебниковского наследия Артем Веселый принял лишь то, что легче всего было популяризовать и использовать для обычной, рядовой беллетристики. Вместо «чудеса» сказать «дивеса», а историков назвать «прошляками» — еще не значит быть учеником Хлебникова… Хлебников гораздо сложнее, а в языковых своих поисках гораздо органичнее и загадочнее… Но кое что от него у Артема Веселого, действительно, есть, в особенности, тяготение к славянским истокам русской речи, отталкивание от литературного западничества.
Как бы то ни было, когда читаешь Веселого, первое впечатление складывается в его пользу. Если даже стиль его бывает не по душе, то чувствуешь богатство, яркость, силу, какое-то природное «буйство» этого стиля. Чувствуется талант. Можно бы, разумеется, обойтись и без того, чтобы выделять одну строчку в целую главу, а слова можно было бы и не расставлять в виде какой-то лестнички, с правильными, постепенными уступами, — но это мелочи. Да к этому мы давно уже и привыкли. В России до сих пор многие думают, что литературное новаторство связано с новаторством типографским, и если прежние писатели располагали слова подряд, то теперь надлежит сплетать из них различные узоры. Если даже Андрей Белый с его культурой и опытом всем этим соблазнился, то что же спрашивать с других, в частности, с Артема Веселого! Однако, повторяю, словесная одаренность Веселого несомненна. Только вчитавшись в его книги, видишь, что одаренность эта, в сущности, ничему не служит и замыкается в самой себе. Будь Артем Веселый стихотворцем, это было бы не так заметно: в звуковых и зрительных элементах слова ему тогда легче было бы найти убежище. Но он романист. Построить же роман на одной только словесной ткани, как бы роскошна и причудлива она ни была, трудновато, — и крушение такой попытки неминуемо.
Новая книга Веселого называется «Гуляй-Волга». Говорится в ней о покорении Сибири Ермаком. Автор так объясняет заглавие романа:
— Гуляй-городом в глубокую старину у русских звался военный отряд в походе — с обозами и припасами; у сибирцев — кочевое становище. Позднее гуляй-городом назывались подвижные в катках башенки для приступа к крепостям. Отсюда в хорошую минуту родилась и «Гуляй-Волга» — русской воли и жесточи, мужества и страданий полноводная река, льющаяся на восток.
Дальше Артем Веселый говорит:
— Знаю, глупец, зачерствевший в зломыслии и ненавистничестве, пустится поносить меня всяко и лаять на разные корки, полудурье прочтет книгу сию, ухмыльнется и забудет; умный же и чистый сердцем возрадуется крутой радостью и порой перечтет иные строки… Улыбка и уроненная на страницу слеза живого читалы послужат мне лучшей наградой за этот каторжный и радостный труд.
Всякому лестно, конечно, попасть в «умные и чистые сердцем». Но, по совести, вижу, что мне приходится зачислить себя не в «живые читалы», а в «полудурье». Роман Артема Веселого далеко не ничтожен и по-своему даже интересен, но в память он не врезается ничем. Автор, вероятно, много работал, вжился, так сказать, в склад эпохи и быт той дикой казацкой среды, которую изображает; он с большим искусством и редким словесным чутьем передает речь своих безымянных героев, но в его причудливом, пестром создании нет людей. Это какой-то ковер, а не картина. Ковер, правда, настоящий, самотканый, не фабричный, но все же дающий лишь сплетение разноцветных нитей, игру тонов и красок, а не что-либо большее. Пока Ермак с казаками плывет, и запечатлеть надо лишь это движение безличных отрядов на восток, Артем Веселый еще в своей области и достигает большой яркости. Но вот — прием у царя Ивана в Москве: отдельные люди, сложный, резко индивидуальный характер в центре картины… Беспомощность автора обнаруживается сразу.
Если от романа и остается впечатление, то довольно смутное. Уловлен дух вольницы, слышен в ходе повествования какой-то азиатский, унылый и широкий напев. Но истории в нем нет. Советская критика усмотрела у Артема Веселого «вскрытие классовой сущности сибирского похода». Это тяжелый случай марксистской галлюцинации.
* * *
Если бы мы ровно ничего не знали о положении советской литературы и настроении писателей, то по одной небольшой повести Сергеева-Ценского «Львы и солнце» можно было бы догадаться, что в России на этот счет крайне неблагополучно.
Сергеев-Ценский беллетрист немолодой, не очень склонный к юмору, часто даже впадавший в показное «серьезничание». Дай ему волю, он, вероятно, отражал и «отображал» бы революцию, пятилетку и строительство в обширных романах, которые, может быть, и страдали бы явным загибом или анархическим уклоном, но были бы солидно скроены, ловко написаны и читателю, наверно, пришлись бы по вкусу.
Однако Сергееву-Ценскому воли не дают. Он не в милости у начальства, он растерян. Иначе трудно объяснить, почему Ценский сочинил и напечатал повесть, которую человек в здравом уме и твердой памяти едва ли согласился бы признать своей. Повесть написана будто от отчаяния. В своем роде это ценный документ, психологически ценный: если «от хорошей жизни не полетишь», по Горбунову, то и такой бред от хорошей жизни не придет в голову.
Постараюсь в двух словах передать содержание «Львов и солнца».
Поставщик овса на армию Полезнов приезжает накануне революции по делам в Петроград. В Бологом у него дом, жена и дети. Странное объявление в газете привлекает его внимание. «Продаются львы». Полезнову львы не нужны, но он зачем-то идет на них взглянуть. Продает диких зверей полусумасшедший немец. От него и от его львов Полезнову еле-еле удается избавиться. На улицах тревожно. Толпа народа, полиция, казаки. Полезнов едет домой, в Бологое, и застает жену в объятиях любовника. В довершение обиды мошенник-компаньон обманывает его на двенадцать тысяч. С горя Полезнов возвращается в столицу. Революция в полном разгаре. Свободолюбивый купец достает винтовку и охотится за городовыми. Со случайными товарищами бродит он по городу. Вдруг гениальная мысль осеняет его: пойти забрать львов от имени восставшего народа. Сказано — сделано. Но беда цепляется за беду. Лев бросается на Полезнова, один из присутствующих хочет защитить товарища и убивает вместе со зверем и человека. Тогда выясняется, что пресловутые львы — не львы, а просто большие собаки. «А на улицах, осиянных небывалым солнцем, революция сверкала, дыбилась, пенилась, рокотала, гремела и пела».
Больше ничего… В целом это напоминает некоторые рассказы Сологуба — из тех, в которых «дебелая бабища-жизнь» была высмеяна с особенно усталой, капризной и горькой иронией. Но у Сологуба, по крайней мере, не было никаких «бодрых аккордов» в заключение, и никакие революции у него не дыбились и не рокотали. Он знал, что делал, и никого не обманывал. Сергеев-Ценский еще пытается в чем-то оказаться «созвучным», что-то уловить, за чем-то поспеть. Он хочет придтись ко двору хозяевам положения.
Но, чувствуя невозможность этого, бьется, мечется от попытки к попытке — и, потеряв голову, доходит, наконец, до совершеннейшей нелепицы с «идеологически выдержанной концовкой».
* * *
Еще один старый знакомец — Вл. Лидин.
Он дебютировал в нашей литературе в годы войны или, может быть, немного раньше, — если не ошибаюсь, одновременно с Юр. Слезкиным, забытый «Помещик Галдин» которого имел в то время такой успех. Со Слезкиным его нередко и сравнивали, но Лидину обычно отдавали предпочтение, считая его даровитее и развитее.
С тех пор «много воды утекло». Лидин сделался видным советским беллетристом, правда, не из самых первых, но все-таки заметных. Его талант окреп, вырос. Но вместе с тем обнаружилось, что силы и возможности этого таланта невелики.
Лидин всегда пишет хорошо, не говоря уже о простой грамотности, которую по нынешним временам тоже приходится ценить — в каждой его фразе, в каждой странице есть словесная находчивость, свежесть, порой даже острота. Он многое по-своему видит, о многом умеет по-своему рассказать. Короче, у него отлично выработана и развита писательская техника. Но ему безразлично о чем писать, — и это настолько явно, что даже в советской критике, где ко всему рады придраться, о Лидине говорят со спокойствием и равнодушием. Нет, никаких особых «ошибок» у него не найти: он и политграмоту усвоил с такой же быстротой и успешностью, как грамоту литературную, он впросак никогда не попадет. Это вообще прирожденный пятерочник, пай-мальчик современной беллетристики.
Но с ним чуть-чуть скучно. У него теплая кровь. Если пользоваться обычными критическими терминами, у него нет «лица».
«Великий или Тихий» — роман, за который можно, пожалуй, поставить пятерку. Все на месте, все удачно. Но радости от этих средних ремесленных удач маловато.
Действие происходит на далекой восточной окраине России. «Строительства» здесь, к сожалению, не имеется, зато есть рыбные промыслы, на которых при желании тоже можно проявить трудовой энтузиазм и преданность социализму. Труд перемежается с любовью. Однако это, разумеется, любовь новая, социалистическая, суровая, без романтики и слез. Герои мало говорят, но мощно чувствуют. Лишь когда дело доходит до каких-нибудь партийных споров или «склок», красноречие разверзается.
Роман напоминает леоновскую «Соть» и, думаю, даже под нее и написан. Он глаже, ровнее «Соти», зато и много мельче.
По-настоящему хороши только картины природы. В них Лидин оживляется и становится поэтом. Оленья охота и, в особенности, бой двух оленей из-за бесстрашно столпившихся самок описан с каким-то сдержанным, но пронизывающим каждое слово внутренним трепетом. Природа, очевидно, ближе и понятнее Лидину, чем люди.
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ: Соперники. — «Стихотворения в прозе» Тургенева. — О мировых тайнах и загадках. — «Профессор Бодлер»
Имена Блока и Гумилева соединены смертью, почти одновременной. Их литературное сопоставление сначала казалось искусственным. Но прошло двенадцать лет со дня гибели обоих поэтов, а по-прежнему их вспоминают вместе и одного с другим сравнивают… Очевидно, параллель внутренне оправдана, иначе она не могла бы удержаться, особенно в представлении людей, которые ни Блока, ни Гумилева лично не знали, а судят о них лишь по книгам.
Еще совсем недавно в двух или трех эмигрантских газетах промелькнули статьи на ту же тему: Блок и Гумилев. Были и отвлеченные оценки, были и мемуары. Высказывалась мысль, что о «соперничестве» не могло быть при жизни поэтов и речи, что легенда о нем выдумана позднее, что Гумилев, в частности, «преклонялся», «уступал место», — и лишь по слабости характера, поддаваясь настояниям своего мелко тщеславного и темного окружения, вел иногда против Блока и блоковского влияния глухую борьбу.
Позволю себе привести кое-какие соображения по этому делу. Не то чтобы оно имело большое значение: нет, по-моему, обо всей этой литературной эпохе с ее спорами, распрями и обычной суетой у нас и так слишком усердно и словоохотливо рассказывают, будто каждый третьестепенный фактик представляет общий интерес… Лучше и полезнее заняться настоящим, чем прошлым, и, кстати, подождать, пока прошлое «отстоится», пока уляжется его пыль, пока выяснится, о чем вспоминать стоит, а что любопытно только для десяти или пятнадцати человек. Каждому всегда кажется важным то, в чем он участвовал,— со стороны, однако, впечатление бывает совсем иное… Но уж если вопрос поднят, надо к нему вернуться… «В интересах истины», — как принято выражаться.
Гумилев, конечно, не завидовал Блоку, — не завидовал в низменном и позорном смысле слова. Он был слишком прямодушен, слишком порывист и благороден для этого. Но всякий, кто близко знал и часто наблюдал его, подтвердит, что он с Блоком сознательно, настойчиво и постоянно соперничал. Да и сам Гумилев этого не скрывал. Блоку он «отдавал должное», не более. Когда началось движение против символизма, — акмеизм, футуризм и пр., — он всячески отстаивал блоковский престиж от тех, кто на него легкомысленно посягал. Как-то, после мейерхольдовской постановки «Балаганчика» в Тенишевском зале, когда в частном кружке Кузмин высказался с демонстративным презрением не только об актерах, но и о пьесе («просто чепуха!»), — Гумилев взволнованно принялся доказывать, что пьеса глубокомысленна и прекрасна. Однако Блока он не любил. Для Гумилева бранным словом было: «розановщина». Нередко над блоковскими стихами он и говорил:
— Ну, это розановщина!
Его отталкивал чрезмерный лиризм блоковской поэзии, ее слишком откровенная, обнаженная музыкальность, — он сторонился блоковского творчества, как сторонятся иногда женщины, которая до добра не доведет. Он именно опасался Блока, – и чем тот становился неотразимее и обворожительнее, тем больше Гумилев хмурился.
Будучи по природе своей «ловцом человеков», Гумилев всячески стремился расширить и упрочить свое влияние за счет блоковского. Повторяю, — не было зависти. Но было желание оградить русскую поэзию от игры с «мирами иными», от болезненно напряженной впечатлительности, была попытка вернуть ей мужество, простоту и веселье. Каждого молодого поэта Гумилев настойчиво и медленно «обрабатывал», все дальше уводя его от Блока. Он с подчеркнутым восторгом отзывался о «Ночных часах» или даже о «Двенадцати», но тут же с удовольствием слушал остроумные возражения, спорил и поддакивал, толкал дальше, опять отрицал, — пока ореол Блока не начинал меркнуть… Он попутно внушал собеседнику отвращение к типу анемичного юноши с длинными кудрями и мечтательным взором, с улыбкой доказывал, что из двух крайностей лучше уж быть кутилой, забиякой и спортсменом. Правда, все во имя поэзии, но поэзии вполне «земной». Блок, по его мнению, витал в облаках, а земля богаче и прекраснее всех облаков и небес вместе взятых. Я огрубляю, конечно, но насколько помнится, передаю правильно сущность гумилевских взглядов и настроений… Он был задорным, очень жизнерадостным человеком, сохранившим в себе что-то детское: его все занимало, все забавляло, и во время борьбы за какое-нибудь председательское кресло в союзе поэтов он готов был каждый вечер устраивать у себя военные заседания и совещания, будто и в самом деле судьба всей русской литературы поставлена на карту и зависит от того, будет он, Гумилев, председателем или не будет. Надо было видеть его в такие дни. Разумеется, он баловался, но вкладывал в баловство всю свою страстность — и никогда не упускал из виду своей истинной заветной цели: борьбы с романтизмом во всех его проявлениях и с его высшим русским воплощением — Блоком. Оттого-то пустая и нелепая затея его и увлекала, оттого он и придавал ей значение, что Блок со своих облаков до нее не мог и не желал спуститься. Оправдание Гумилева в том, что он тоже всегда «витал», — в частности, кресло председателя тоже было ведь своеобразным «облаком», — и, считая себя строго практическим человеком, был неизменно в полной власти своих иллюзий и химер.
Ему удалось все-таки отстоять от блоковской ворожбы свое гумилевское представление о поэзии и поэте. Влечение последних, новейших литературных поколений к нему это доказывает. Если бы он об этих нежданных симпатиях знал, они были бы лучшей наградой ему за короткую и не очень счастливую жизнь.
Да, Блок был для него первым из современных русских поэтов. Но напомню, что когда-то Андре Жида спросили, кто величайший поэт Франции. Он ответил:
— Victor Hugo, helas!
Гумилев без этого «увы» едва ли обошелся бы.
* * *
Еще по поводу Тургенева.
Все или почти все писавшие о нем в юбилейные дни оказались довольно суровы в оценке «Стихотворений в прозе». Борис Зайцев очень тонко заметил, что в них слишком много красивости, – и поэтому они оказались менее долговечны, чем другие тургеневские создания. Та же мысль, то же ощущение какой-то досадной «слащавости» сквозило и в остальных отзывах.
В отношении доброй половины «Стихотворений в прозе» это, безусловно, верно. Притом, в отношении самых прославленных среди них: «Лазурного царства», или «Как хороши, как свежи были розы», или «Нимф», например. Нарядность и расплывчатость стиля, бесконечные многоточья, приподнятость, нарочитая артистичность, — все это, правду сказать, вынести сейчас довольно трудно. Недаром и не случайно эти вещицы пришлись по вкусу всем мелодекламаторам и под музыку Аренского, а то и Вильбушевича, составляли неизменное украшение «литературно-вокально-музыкальных» вечеров в русской провинции. Некоторое обаяние старины у них, пожалуй, еще сохранилось. «Где-то, когда-то, давным-давно тому назад я прочел одно стихотворение…» Это, конечно, имеет еще какую-то прелесть, но прелесть полумертвую: прелесть сухих цветов, допотопной мебели, каких-нибудь забытых альбомов и вышивок, всего того вообще, к чему примешивается чувство смутной жалости и безотчетного, непрочного умиления.
Есть, однако, совсем другие «Стихотворения в прозе». Признаюсь, я довольно давно их не перечитывал и по старой памяти хранил о них представление, как о чем-то увядшем и устарелом. Тургеневские дни побудили перечесть с детства знакомый текст: я очень бы советовал сделать то же самое тому, кто «Стихотворения в прозе» целиком отвергает. Некоторые из них так трагичны в своей простоте, так чисты, а главное, так правдивы, что и самому Толстому впору. Конечно, в общих чертах, все помнят «Щи»: барыня-помещица идет проведать бабу, у которой умер сын, и удивляется, что та еще в состоянии хлебать щи… Несколько строк всего, притом с обличительной «тенденцией», сквозящей в последней фразе. Но эти строки бессмертны, — и по словесному своему целомудрию, и по знанию человеческого сердца. Вообще, чистоты мысли, чувства, звука и слова в «стихотворениях » больше, чем где бы то ни было у Тургенева, — особенно в тех, которые обнародованы были недавно и почти совсем лишены назойливой и приторной декоративности. Они, кстати, гораздо менее известны и популярны, чем прежние, их еще никто не успел опошлить и испортить. Это чтение очень грустное, очень холодное, в нем чувствуется одинокая, ни во что твердо не верящая душа, и такой же ум, ум, которому причиняет боль собственная его острота и сила. Но чтение это — в каждом слове живое.
Напомню «Мои деревья», «Куропатки» и другие. Или «Фразу». Она настолько коротка, что списываю ее целиком: «Я боюсь, я избегаю фразы. Но страх фразы — тоже претензия.
Так, между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь».
Как верно! Чуть ли не все «муки творчества», знакомые каждому пишущему, — в этой короткой удивительной записи.
* * *
В наше время, как известно, многие тоскуют о так называемом «целостном миросозерцании».
Спрос рождает предложение. В ответ на идейную и религиозную тоску делаются попытки спешно ее заполнить. Большей частью они возникают не в главных культурных центрах, где у человека поневоле рассеивается внимание, а на окраинах, в тиши и в глуши.
Предо мной две книги, изданные в Харбине: «Дело человека» Всеволода Иванова и «О конечном идеале» Н. Сетницкого. Разбирать их было бы долго, да, правду сказать, только вторая книга разбора и заслуживает. Всеволод Иванов настроен возвышенно, но не вполне серьезно и хотя утверждает в предисловии, что «русское образованное общество должно, наконец, размышлять», почин его в этом отношении никак нельзя назвать добрым. «Дело человека» претенциозно в высшей степени: сто двадцать коротеньких параграфов, и в них — вся мировая мудрость и разрешение всех исторических проблем. Автору, может быть, увлекательно было этот трактат писать, но читателей занимать им не следует.
Книга Сетницкого, наоборот, любопытна — при всей ее отвлеченности и, порой, сумбурности. К сожалению, этот обширный труд не закончен. Интересен он психологически: автор считает возможным строить сейчас цельное и устойчивое религиозное мировоззрение, обращаясь не только к помощи чувства, но и к содействию разума, и не замечая какого-то основного рокового противоречия между методами, которые он избрал, и целями, которые он себе поставил.
* * *
В Ковке вышло сочинение попроще, скромно озаглавленное «Открытие великой тайны бытия и загробной жизни». По названию можно было бы подумать, что это вздор, полный и окончательный. Но это не совсем так…
Г. Рудольф ничего не «открыл», разумеется, но он добросовестно изложил содержание прочитанных им книг, а прочел он на своем веку много, и порой читал книги интересные. Не могу, однако, обойти молчанием одного «открытия» действительно замечательного.
В главе об искусственной мистике он рассказывает о губительном действии гашиша на психику человека и добавляет:
— Действие гашиша изложено профессором Ш. Бодлером в его книге, озаглавленной «Les paradis artificiels».
Дабы не оставалось сомнений в авторитете свидетеля, г. Рудольф и дальше везде пишет: профессор Бодлер.
Поэты — люди шалые. Ссылка на них не имеет весу. Профессорское звание должно придать имени Бодлера необходимую долю солидности.
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В последней, восьмой, книжке «Красной нови» помещен подробный отчет об очень интересном деле.
По поручению редакции два сотрудника журнала, Ермилов и Мазнин, отправились на один из крупнейших московских заводов «Господшипник» и провели там в наблюдениях и беседах довольно долгое время… Случай сам по себе обычный. Все советские писатели теперь путешествуют по «строительствам», или «включаются в производство». Ничего нового, ничего замечательного в самом факте посещения завода литераторами нет. Однако затея «Красной нови» вызвала в писательских кругах оживление и любопытство. Отчет о проделанной работе Ермилова и Мазнина читался в особом собрании, в присутствии целого ряда известных беллетристов — и, судя по прениям, все отнеслись к докладу с гораздо большим вниманием, чем это бывает обыкновенно.
В прениях была отмечена новизна затеи. Дело в том, что Ермилов и Мазнин отправились на завод не для воспевания его успехов или «зарисовки» заводской жизни, — что всем давно уже в Москве набило оскомину, — а с другой целью, скромнее и живее. Их интересовали на этот раз только люди. Они побеседовали с несколькими десятками рабочих, мастеров и молодых инженеров, задали им кое-какие вопросы, полюбопытствовали насчет литературных или общекультурных взглядов и вкусов, постарались определить их настроения и теперь обнародовали стенографическую запись этих бесед.
Некоторые писатели, с чисто советской склонностью все преувеличивать и всегда видеть небывалое, признали и этот опыт «неслыханно продуктивным», поразительным, чуть ли даже не гениальным. Другие отнеслись к работе Ермилова и Мазнина разумнее и осторожнее. Но все согласились, что эта работа имеет большую ценность для словесности, занятой поисками «героя нашего времени»: а ведь именно такова советская литература. В последнее время даже там, в СССР, стали все чаще раздаваться жалобы на то, что литература в изображении героев схематична, что она наделяет их заранее известными чертами, что она «лакирует» жизнь… Тип «нового человека» советским писателям не удается, они не могут его уловить, хотя почти все их старания на это и направлены. Они боятся противоречий, избегают срывов, которыми полна действительность: в поисках бесспорной и партийной «положительности» они сплошь и рядом превращают человека в автомат. Ермилов и Мазнин дают образцы, с которыми придется считаться. Как выразился один из участников прений, критика в их лице «планирует литературу и опережает ее», т. е. предлагает ей материал, идет сама в жизнь вместо того, чтобы питаться за счет чужих замыслов.
Как была выполнена работа? Каковы гарантии ее «объективности»? К сожалению, надо ответить, что выполнение одностороннее и гарантий маловато. Да иначе и не могло быть. Хотя Мазнин в заключение своего доклада и сказал, что вовсе не намерен был представить «"некую оранжерею" законченных характеров, на которых никакой пылинки прошлого нет» и что завод «не является питомником каких–то голубых хрустально-прозрачных людей» — оба докладчика именно к «оранжерее» и стремились. Допустить какой-либо «конфуз» они не могли. В лучшем случае они оставили неясности, противоречия, шероховатости «по идеологической линии», но необходимость финального мажорно-болыпевистского аккорда определила все-таки и доклады и самую анкету. Слова записаны точно: в этом едва ли можно сомневаться. Но выбор «человеческого материала» для обследования был явно приноровлен к результатам, намеченным заранее. Не случайно Ермилова и Мазнина упрекнули тут же, после докладов, в том, что они «ограничились людьми с пролетарскими биографиями». Упрек мягкий, но весьма характерный, если его расшифровать.
Как и все, что делается сейчас в России, анкета восходит и апеллирует к Сталину. «Не нам, не нам, а имени твоему». И редакция «Красной нови» и оба докладчика подчеркивают, что нашли именно у Сталина нужную им «зарядку» для работы. Сталин как-то сказал, что «рабочему классу нужна своя собственная производственно-техническая интеллигенция». Отсюда и возникла мысль об анкете: растет ли эта новая интеллигенция, выросла ли уже, о чем она думает, чего она ищет и хочет. Ермилов наполнил свое сообщение возвышенно-марксистским туманом на тему об интеллигенции вообще, об отличиях интеллигенции «сталинской» от прежней, об индивидуализме и коллективизме, о личности обществе, о многом ином. Все это мало интересно: знакомо заранее в мельчайших подробностях. Зато интересны факты.
На заседании присутствовал Ю. Олеша, редкий умница среди советских писателей. Из прений видно, что слушал он доклады со скукой, но когда зашла речь о неожиданной любви одного из молодых инженеров завода к Достоевскому, он «весь оживился»… Как не понять его! В одном таком признании больше пищи для размышления о сложном характере «нового человека» в России, нежели во всех гладких и выхолощенных ермиловских рассуждениях, вместе взятых.
Невозможно передать в короткой статье все содержание анкеты. Приходится обойти молчанием ее обобщения, — да они, повторяю, и лишены значения, ибо основаны на ограниченном и пристрастно выбранном материале. Ермилов много говорит о чувстве личной ответственности за общую работу, об отсутствии замкнутости в своей специальности, о стремлении слить воедино труд физический с трудом умственным, — но мы знаем, что он к этим выводам должен был придти. Любопытнее других замечание о мании изобретательства, охватившей рабочих и молодых инженеров в СССР: это очень правдоподобно, очень характерно для России и для теперешнего ее состояния, со стремлением каждого быть Шекспиром или Эдисоном.
Отчетливее всего сказывается человек в суждениях о прочитанных книгах. Вот некоторые признания — из тех, которые задели или удивили литераторов, присутствовавших на докладе.
– Не люблю я наших современных русских писателей, у них много уличных, грубых выражений, а я ищу в книгах более перерождающего и чистого. Мы бьемся за культуру и воспитание, это же должны делать и книги, а в них часто вся грубость и глупость, которые встречаются в обыденной жизни, а ведь жизнь надо украсить… Обязательно нужно писать о каждодневной жизни, но писать не грубо и показать прекрасное в ней. У Горького показана жизнь уродливая, обыденная, но там прекрасно стремление его, Горького, к идейной жизни, и потому эти книги так хороши (В. Кудряшова, шлифовальщица, род. в 1895 г. До революции — прислуга, прачка, домашняя хозяйка).
Анкета проведена от низов к верхам. Одной из ее задач и является доказательство непрерывности процесса перехода с одной ступени развития на другую. При идеальном положении дела психика должна была бы оставаться одинаковой, лишь обогащаясь и усложняясь, но не изменяясь по существу… Однако жизни нет дела до схем, и она с ними не считается.
— Из литературы, пожалуй, самое большое впечатление произвел Достоевский. Я его перечитывал много раз и особенно «Преступление и наказание». Допрос следователя, борьба в самом Раскольникове и другие моменты остаются в памяти навсегда. Я бы не сказал, что Раскольников мне лично симпатичен. Но дело в том, что он очень умный человек. В нашей литературе мало умных. Немного похож на него Иван Карамазов. Он тоже умен. Запомнился бунт Дмитрия против религии. Там он спрашивает, для чего все это нужно? Помните слова о восьмилетнем ребенке и растерзании его на глазах матери? Я сам религиозным никогда не был, но у меня было стремление к философии… Достоевский чем меня захватывал? Тургенев нарисует пейзаж и на этом развертывает действие. Есть у него вещичка, не помню названия. Он подслушал однажды, идя с охоты, звуки давно знакомого вальса, какую-то хорошую музыку. Он отсюда отталкивается. Он говорит о том, какова ночь, луна. Он дает тени, полутени, он берет ландшафт, выпячивает его и идет дальше. Достоевский берет сразу фигуру человека, разрывает ее и влезает во внутренности. Я обычно, если начну читать его, то до тех пор, пока не закончу книжку, не брошу. Это тебя всегда захватывает… Я не согласен с Достоевским вот в чем. С одной стороны, бунт против религии. Вот Дмитрий, Иван: это, правда, не совсем сознательно, но все же бунтари против религии, а с другой стороны, все оканчивается христианством. «Бесы», пожалуй, единственная вещь, которая мне совсем не понравилась. Это памфлет. Не согласен я с этой штукой. Какой-то нереальный типаж…
Это заявление А. Герасимова, двадцатисемилетнего инженера, начальника цеха с чистейшей пролетарской родословной (оно-то именно и заинтересовало Юрия Олешу). Докладчик Ермилов сильно смущен влечением «образцового строителя социализма» к писателю реакционному и никаким новейшим достижениям несозвучному. Объяснение он находит не без изворотливости. Большевики будто бы борются за то, чтобы «никогда впредь не унижалось человеческое достоинство» (!), Достоевский тоже отстаивал достоинство человека.
– Где-то здесь, в этой плоскости, следует искать причину таких явлений, как интерес Герасимова к нему, – полагает догадливый Ермилов.
Послышались возражения с мест. Однако насчет того, что «большевики защищают человеческое достоинство», не спорил с Ермиловым никто. «Народ безмолвствовал».
Два молодых инженера, независимо друг от друга, вспомнили о Леонардо да Винчи. «Из великих исторических людей это самая интересная фигура», — заявил один, тут же, впрочем, поспешив оговориться: «исключая, конечно, вождей революции». У инженера этого любовь к Леонардо так сильна, что он даже сына своего назвал по его имени. Другой, заметивший, между прочим, что из всего им когда–либо прочитанного «Гамлет» захватил его наиболее глубоко и сильно, — вторит:
— Меня сильно увлекает талант Леонардо да Винчи, я не имею о нем, к сожалению, полных сведений и даже не могу достать хорошего портрета его.
Все это доставляет Ермилову множество хлопот. Правда, Леонардо изобрел подшипник. Не оттого ли и инженеры завода «Господшипник» увлекаются им? Но так ведь, пожалуй, придется допустить, что и крупье из Монте-Карло являются поклонниками Паскаля, ибо Паскаль изобрел рулетку. Объяснение не вполне годится. Удобнее согласиться на всеобъемлющий дух Леонардо и указать, что это черта, общая всем великим представителям восходящих классов. В обществе, застывшем или гибнущем, каждый живет «в условиях профессионального идиотизма». В молодой творчески сильной среде такой ограниченности нет. Мазнин идет еще дальше и утверждает, что мы «выдвинули и выдвигаем титанов, куда более мощных, чем герои эпохи Возрождения».
Так в этой анкете вздор перемежается с интереснейшими данными. Это обычное впечатление, оставляемое, в сущности, почти всем тем, что печатается в советских журналах и газетах, и многим, конечно, знакомое. Здесь оно только усилено: все, что есть факты, правда, жизнь, человек, Россия — не знаю, как сказать яснее и точнее, — достойно самого пристального внимания; все, что относится к советским комментариям — читать противно и грустно, если это ложь сознательная, читать смешно, если это прописи какого-нибудь недоросля, чистосердечно поверившего в научное всесилие и идейное бессмертие «сталинизма».
Доклады Ермилова и Мазнина стоит все-таки прочесть. В них есть над чем подумать, как ни стараются их авторы внушить, что это занятие совершенно лишнее и вредное… Метод работы, легшей в основу их, не дает права на широкие выводы, но зато дарит и обогащает нас острым ощущением реальности, как бы поданной в «сгущенном виде». Это же почувствовали, вероятно, и московские писатели, в особенности те, которые пресыщены мертвящей стройностью теорий и изголодались по прихотливой сложности бытия.
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». КНИГА 53-я. Часть литературная
Нет на свете ни одного большого романа, где все страницы и главы были бы совершенно равноценны. Один эпизод удался писателю больше, другой — меньше, одним он увлекся, над другим почему-то остался равнодушным: это естественно и неизбежно… Никто, однако, читая книгу, не судит ее по частям. Книга — живой организм, и судить о ней надо в целом.
Разумеется, когда бунинская «Жизнь Арсеньева» будет закончена и выйдет отдельным изданием, никому не придет в голову разбирать ее по отрывкам. Все сольется, все окажется проникнуто одним замыслом, озарено одним светом, — и откроется, вероятно, необходимость той смены подъемов и разряжений, без которой нет творчества. Но сейчас мы об этой необходимости только догадываемся. Каждые три месяца мы читаем по одному отрывку «Жизни Арсеньева»… Трудно удержаться, чтобы не оценивать их, как отдельные, почти независимые друг от друга создания, — и сознавая шаткость такого суждения, каждый раз приходится оговариваться, что с настоящим, основательным разбором надо бы повременить.
По всей вероятности, при непрерывном (т. е. нормальном) чтении разница или вовсе не будет заметна, или, по крайней мере, будет оправдана. Но сейчас приходится довольствоваться разрозненными, случайными впечатлениями.
Новый отрывок восхитителен.
Думаю, что Бунин писал эти новые страницы «Жизни Арсеньева» с одушевлением, которого давно уже не испытывал. По содержанию они мало отличаются от других: те же переходы от грусти к восторгу, те же любовные мечты, та же безотчетная тревога… Но каждое слово полно прелести, притом без всякой условно-поэтической «дымки» или вялой расплывчатости: в каждом слове — острота, точность, безошибочная меткость. Читаешь и ловишь себя на невольной мысли; пожалуй, это и правда «последний цветок уходящей помещичьей культуры», как утверждают большевики, — последний, ибо как же не развеяться в наш «машинный», торопливый век этому легкому и тончайшему мастерству, да и кто переймет и сумеет продолжить это хрупкое очарование? Бунин болезненно ощущает свое творческое одиночество в современном мире. По существу, оно непоправимо. На Бунине обрывается та полоса нашей словесности, в которой еще есть природная, животворящая свежесть, есть какая-то влага, поднимающаяся от земли… Другие писатели пишут иногда очень хорошо. Но пишут сухо, как будто без воздуха и без неба. Удивительно передана Малороссия в «Жизни Арсеньева», — со всем ее привольем, со всеми ее запахами и звуками. Это не описание, — это волшебство. Кто знает и помнит гоголевскую родину, тому после чтения Бунина почудится, что он снова побывал на ней.
Окончена «Жанета». Повесть эту нельзя причислить к лучшим созданиям Куприна. В ней видна большая усталость, — особенно в заключительных ее главах. Подробности и отдельные мелочи, правда, по-прежнему картинны и ярки, но самое повествование довольно сбивчиво. Вся вещь проникнута каким-то расслабленно-разнеженным умилением, или, — как говорили иногда в старину, — «подернута слезой»: над старым чудаком-профессором, над бойкой парижской девчонкой, над «суетой сует» человеческой жизни, над бессмертной красотой природы, над всем вообще, что мы вокруг себя видим… Чувство само по себе прекрасное. Но возникает оно сейчас у Куприна не как результат творческого вглядывания в мир, а как обязательная предпосылка — и потому расхолаживает. Приглашения к умилению читатель не принимает, он в этом деликатном деле не верит писателю на слово, — и за его предвзято-чувствительным рассказом следит равнодушно или иронически.
Почти то же самое хотелось бы сказать и о «Доме в Пасси» Бориса Зайцева, — с той лишь оговоркой, что роман не кончен, и впечатление от него может еще измениться. Но в прочитанных нами главах, при наличии обычных зайцевских достоинств и уверенно-тонком беллетристическом рисунке, смущает именно неоправданная, необоснованная разнеженность: сентиментальность, взятая в скобки всего романа, a priori предпосланная ему, навязанная, как эпиграф… Что бы ни промолвил благородный зайцевский генерал, что бы ни подумал иконописный инок Мельхиседек, что бы ни сделал ангелоподобный мальчик Рафа, все преподносится в тонах житийных и лирических, сквозь некое облако благоухания и благолепия. Роман перегружен сладостью. Если бы она лежала на дне его, утаенная и скрытая, автора надо было бы только благодарить. Но ее ощущаешь сразу, с первых же страниц, как бы при первом глотке, — и с приторным вкусом на языке, невольно ищешь чего-либо другого, более простого, сдержанно-мужественного или даже горького.
Несколько молодых беллетристов появляются в «Современных записках» впервые.
Рассказ В. Яновского, человека одаренного, но воспитанного на сомнительных образцах и находящегося не в ладу с русским языком, называется «Преображение». Вопреки праздничному заглавию, это один из тех грустных и тяжелых эмигрантских рассказов, которых в нашей здешней литературе накопилось уже немало (последний и едва ли не самый живой — «Тело» Бакуниной). Нищета, беспросветная скука, унижения, страх, голод: Яновский повествует обо всем этом с кропотливой и безжалостной правдивостью. Художник обнаруживается в рассказе редко, — впрочем, такова тема, что «преобразить» ее под силу было бы, пожалуй, только Достоевскому или Гоголю. Кое-где, однако, в мимолетных замечаниях и в отдельных фразах чувствуется талантливость и внутренняя «содержательность» автора. Например:
– Скажу кратко: думаю, самое жестокое разочарование для женщин брак. Разумеется, я понимаю, хорошо полюбить, иметь сына. Но есть в этом чувстве та смиренная горечь, с какой поздней осенью человек покупает печь (хорошую «feu continu»): если бы солнце грело, он бы о ней не подумал.
Мысль старая, но выражена она с тем личным своеобразием, с тем внезапным оживлением, которое не подделаешь и в котором заключена, в сущности, вся тайна писательства.
Ю. Фельзен искуснее и зрелее Яновского. О нем мне не раз приходилось высказываться: не буду повторять того, что я уже писал. Его новый рассказ, как и все, что он печатает, рассчитан на чтение внимательное и медленное. Надо войти в «атмосферу» рассказа, освоиться с ней, — тогда станет близка и понятна его напряженная и, вместе с тем, полуреальная, притихшая, почти что призрачная жизнь. Кто на этот труд отважится, будет вознагражден. Но не стану скрывать, что первые минуты чтения требуют именно труда. О гимназических приключениях Фельзен повествует так же прихотливо и витиевато, как и о своих любовных томлениях.
«Через улицу» Ант. Ладинского — рассказ бледновато-прозрачный, не лишенный очарования. Если бы искать контраста с Яновским, — более разительного не найти: у того ткань искусства все время рвется, и сквозь нее проступает быт, жизнь, сырой материал, одним словом; у Ладинского только ткань и видна, и на ней почти ничего нельзя прощупать. Это «искусство для искусства», не потревоженное никакими сомнениями.
О «Смерче» А. Гефтера сказать что-либо затрудняюсь. Не хорошо и не плохо. Случай, конечно, весьма любопытный, но литература в этом рассказе «не ночевала».
Стихи… Стихов на этот раз много, есть среди них вещи удачные, есть и совсем слабые. Не буду перечислять авторов и разбирать их индивидуальные достоинства или недостатки. Едва ли имеет большое значение, что А. талантливее В., или Х. чувствует стиль и слова, в то время как У. с явным удовлетворением занимается размашисто-красноречивой декламацией на возвышенные темы. Позволю себе сказать другое. Неужели наши поэты не чувствуют, что все эти стихи, — все такие стихи, вообще, — ужасающим образом искажают и принижают понятие поэзии, которое люди в наше время все еще хранят? А если чувствуют, как решаются они писать и, тем более, печатать это? Возможно возражение: какие же стихи писать? Ответ упирается в «непоправимо-белую страницу». Но над этим нечего смеяться или издеваться: на белой странице есть иногда хоть отблеск мечтаемой, отлетевшей или еще не родившейся поэзии, между тем как в огромном большинстве теперешних стихов нет даже и этого. Они благополучны и слепы, они ни в малейшей мере не отражают глубочайшего «кризиса» искусства в наши дни, они не подозревают о нем, в них все по-прежнему на месте, как ни в чем не бывало: ямбы, рифмы, образы, изящные и меланхолические мысли, отточенные афоризмы… А поэзия в это время — по Фету —
…в ночь идет, и плачет уходя!По странной случайности, рядом с «галереей стихов» помещена статья Вейдле о «Чистой поэзии». Отличная статья, лучшая, мне кажется, из литературных статей этого разносторонне-образованного критика: в ней вдумчиво поставлен диагноз той болезни, о которой я только что упомянул. Жаль только, что сделано это с какой-то академической, высокомерной отрешенностью, без личного риска и вмешательства в дело. Жаль, что в последних строчках статьи, «под занавес», указано лекарство от болезни и дан совет обратиться к религии. Лекарство потеряно, в том-то ведь и все дело, — и Вейдле это хорошо знает. Но изложение процесса, который может привести слово к небытию — превосходно. О «чистой поэзии» без устали писал, как известно, аббат Бремон, недавно скончавшийся, и, правду сказать, запутался в ее дебрях безвыходно. Вейдле вносит в вопрос ясность. (Но, мимоходом, неужели можно Поля Валери ставить как поэта, на одну доску с глубоким и оригинальным Маллармэ.)
Как всегда, интересна и порывиста Марина Цветаева в своих воспоминаниях о Макс. Волошине. С ней не всегда соглашаешься. Но хорошо то, что с ней всегда хочется спорить. Неизменно интересен П. Бицилли.
М. Алданов в заметках о Тургеневе ограничился вопросами второстепенными и мелкими, умышленно ничего не затрагивая «по существу». Многие его суждения спорны и остроумны. Однако, если уж отдаться во власть спорщическому настроению, то одну его оценку никак нельзя обойти молчанием. Алданов пишет, сопоставляя Тургенева с Достоевским: «Признаем, ради справедливости, что в “Поездке в Полесье” и некоторых страницах “Записок охотника” больше искусства и поэзии, чем в “Подростке” и “Униженных и оскорбленных”, вместе взятых».
Сравнивать писателей вообще не следует, и не следует решать, кто «выше», кто «ниже». Однако все это делают и, конечно, пока мир стоит, будут делать: доводы бессильны тут что-либо изменить. Возразить я хочу вовсе не на сравнение Тургенева с Достоевским, а на пренебрежительный отзыв о «Подростке». Да, правда, крайне неровный роман. Но какие гениальные, какие архигениальные страницы! Помнит ли, например, М.А. Алданов ту главу, где к ребенку-герою приходит во французский пансион Тушара его застенчивая испуганная мать, а тот ей холодно демонстрирует свои ученические тетради. Не знаю, есть ли тут «искусство и поэзия», но если их нет, тем хуже для них: это, во всяком случае, нечто такое, что не только не бледнеет в соседстве с Тургеневым, но в неповторимой, пронзающей человечности своей достойно Шекспира или Еврипида.
9-ГО НОЯБРЯ
От радостей мы давно уже отвыкли.
Жизнь нас не баловала ими в последние годы. В эмиграции создался даже какой-то своеобразный «вкус к горю», какая-то мода на пессимизм. Наиболее вероятным признается не самое возможное, а самое худшее. «То ли еще будет!» — при каждой новой неудаче говорят некоторые, готовые тут же повторить иронически-зловещий совет поэта:
Будьте ж довольны жизнью своей, Тише воды, ниже травы…А праздники бывают все-таки и «на нашей улице». Был такой праздник в четверг 9-го ноября. Мы счастливы за Бунина, одного из сильнейших и тончайших художников, какие были в России, мы удовлетворены за себя, за всю нашу литературу. Но не только — это. В стокгольмском решении есть смысл чрезвычайно важный по нынешним временам, хотя и побочный. О нем нельзя промолчать.
Одной из самых печальных особенностей нашей эпохи является крушение духовных ценностей. Это звучит высокопарно и расплывчато: постараюсь в двух словах уточнить то, что я имею в виду… Речь идет, конечно, не о самих «ценностях», а об отношении к ним. Пессимизм эмиграции отчасти этим отношением и вызван. Ей внезапно открылось, что «дух» почти беззащитен в современном мире. Иллюзии внезапно разрушились. Мы с малых лет привыкли говорить: «сила слова», «высокий авторитет мысли», и многое другое в том же роде, — а тут вдруг обнаружилось, что в чистом своем виде слово и мысль почти беспомощны. Им нужна опора, тогда только они приобретают реальное значение: иначе с ними мало считаются. Реверансы — реверансами, но дальше дело не идет. Опора же есть — общество, реальное влияние, ежеминутная возможность размена отвлеченных ценностей на практические. Одно дело — «знаменитый писатель X.» в своей стране, где он прежде всего «un homme arrive», другое, совсем другое, — тот же X., с тем же своим талантом, с тем же умом, тою же душою, но предоставленный сам себе, принужденный искать моральной поддержки в чужой среде. Еще не так давно мы думали, что разницы нет, а теперь готовы были горько смеяться над былыми своими заблуждениями.
И вот оказалось, что все-таки мы не совсем заблуждались. Творческий дар сам по себе, ум и сердце сами по себе что-то да значат. За Буниным ничего не было: ни послов, ни академий, ни каких-либо издательских трестов… Ничего. Никакой реальной силы. Один только его талант. Но этого оказалось достаточно для торжества.
Теперь во всем мире Бунина начнут усиленно читать. Он сам человек смелый, решительный, глубоко «мажорный», так сказать. Он, наверное, смотрит на свой выход в открытое мировое море со спокойной уверенностью. Но со стороны — страшновато, как, признаюсь мимоходом, мне всегда становится страшно, когда иностранец раскрывает Пушкина. «Гордый взор иноплеменный» «не поймет», «не заметит» … Да и как ему понять то, что понимаем мы? Он, может быть, в тысячу раз проницательнее, но мы глядим сквозь Россию, а он — мимо. В Пушкине без России почти ничего не понять, как бы патетически и вдохновенно ни ораторствовал Достоевский насчет его мнимой всемирности. В Бунине тоже. Самый язык его трудно переводим. Как у Пушкина, он держится не столько на образах, сколько на безошибочной расстановке слов, на распределении тяжести в каждом слове, и на игре ударений. А этого ни один переводчик не переведет. Но «будем надеяться», как принято выражаться в приветствиях. Будем и вправду надеяться, что великий бунинский дар все-таки возьмет свое, пробьется через все препятствия — и будет оценен во всей своей мощи и прелести.
ПЛАН
Это слово – «план» – в наше время у всех на устах. О плане все думают. Идея его находит страстных сторонников и горячих противников. Некоторые считают, что выход из того состояния, которое один французский государственный деятель охарактеризовал недавно, как «le desarroi des hommes et des choses», лежит в проникновении общественного или государственного контроля во все области жизни — и расходятся с современной Россией только в содержании предлагаемого ими «плана». Другие, наоборот, утверждают, что жизни нужна свобода, и что государство и общество должны как можно меньше препятствовать возникновению отдельных творческих инициатив и их вольному соревнованию. От повсеместного теперешнего полусоциализма кризис, будто бы, и произошел.
В России вера во всемогущество плана достигла предельных размеров. Там сомнения не допускаются, о возражениях же нечего и говорить. Стереотипная фраза: «под руководством коммунистической партии во главе с тов. Сталиным» — есть в сущности заклинание, спасающее от несчастий, оберегающее от неудач и, во всяком случае, снимающее груз личной ответственности. «В Кремле за нас думают», «в Кремле нами руководят» — это сознание, которое было чуть-чуть унизительно для человека обычной прежней складки, в советской психике является основанием для похвальбы. Средний, благонамеренный советский гражданин убежден в необходимости распространения непогрешимого и тиранического «плана» на все виды духовного или материального творчества.
Я не собираюсь рассматривать вопрос в целом. Еще менее — решать его. Это очень сложно, это требует множества специальных сведений, — а разрешениями мировых проблем «с кондачка», в порядке импровизации, на нескольких журнальных страничках или газетных столбцах нас и без того услаждают нередко… О «плане» я сегодня вспомнил, просматривая несколько последних советских повестей, романов и альманахов. Когда о советской литературе думаешь, то вообще к мыслям о плане неизбежно приходишь. Его находишь в ее основании. Его ощущаешь как причину ее гибели.
* * *
Гибели? Слово может удивить. Разве советская литература гибнет? Разве в России нет сейчас талантливых писателей? Разве, разве… все, впрочем, знают, какие возражения в таких случаях делаются.
Отвечу: да, формально литература в СССР существует. Да, бесспорно, несколько талантливых, даже талантливейших, писателей там живет и продолжает работать. Но не о том речь. В России могла бы создаться в последние десятилетия великая литература, — может быть, неровная, незрелая, не отстоявшаяся, но великая по силе дыхания, по новизне тем, по внезапному, волшебному, головокружительному оживлению и расширению горизонтов… Кое-какие предпосылки для этого были. Кое какие намеки и обещания уже были даны. Потому, при всем расхождении с нею, мы в эту литературу все-таки верили и — признаемся — все-таки ее любили. Противоречивое чувство овладевало иногда: «odi et amo», по слову поэта. Бывало все-таки порой приятно перейти от утонченно-комнатной западной книжки к этому грубоватому, свежему, бурно-мутному потоку слов, образов и ощущений — и приятно было знать, что он исходит из России.
Но за два-три года что-то произошло. Начали, вероятно, сказываться результаты общей кремлевской политики. Стали появляться первые ростки той словесности, которая власти вполне угодна… Так или иначе, обнаружилось с совершенной несомненностью, что надежды были преувеличены. Величие не удалось. Не нахожу других слов, чтобы выразить впечатление от чтения множества советских книг за эти годы. Да, могло бы что-то быть… Но не получилось почти ничего. Как при некоторых болезнях, омертвела самая ткань мысли, и слова в этих книжках — и жизнь за ней бьется все беспомощнее и слабее, порой совсем затихая.
Сталин распространяет свое «планирование» на искусство и литературу совершенно так же, как и на хозяйство. По известному завету его предшественника, «литература есть часть общепролетарского дела». Кто руководит всем делом, тот, разумеется, управляет и отдельными частями его.
Еще до знакомства с первыми результатами сталинского опыта в литературе, история могла бы внушить нам пессимизм в отношении его. Действительно, никогда, нигде литература, насаждаемая сверху, по известной схеме, или с целью отражения какого-либо морального идеала, не давала ничего, кроме жалкого подобия творчества. Можно быть a priori уверенным, что литературы не создадут ни Муссолини, ни Гитлер, как не создал ее Наполеон. Возникнут новые академии, народятся новые художественные течения, наспех придуманные и наспех обоснованные, появятся какие-нибудь оды и трагедии, будто бы возрождающие древнюю простоту и красоту нравов, одним словом, расцветут пышным цветом всевозможные подделки на удивление простодушным современникам, ошеломленным всем этим бутафорским великолепием, — а через полвека окажется, что где-нибудь в тиши, в уединении была в это время написана книга, которая нисколько не совпадала с правительственными внушениями и в которой личная жертвенная энергия еще горит ослепительным светом над унылым официальным творчеством, лежащим в развалинах.
Но Сталину до истории дела нет. С ней он не считается. Ее уроки не в полной мере применимы к тому, что он делает. Во всяком случае, нужны особые оговорки.
Оговорка, основная и самая существенная, — в том, что в слово «литература» вложено в СССР новое, чуждое нам понятие. Это проделано было исподтишка, почти незаметно, и, вероятно, в самой России не все еще отдают себе в этом отчет. Между тем, это крайне важно. Как только это поймешь, так в судьбах советского словесного творчества все становится яснее.
Для нас литература — выражение или отражение духовного мира человека. Определение это может быть заменено другим, и я нисколько не настаиваю на его полноте или безошибочности, — но какое бы определение кто ни нашел, всякое будет содержать в себе приблизительно то же самое. Во всяком будет подразумеваться личность в ее отношениях к стихиям, к обществу, к неизвестному, к самой себе, — и передача всего этого в слове.
Для теперешнего советского писателя, тем более для критика, претендующего на влияние и руководство, литература есть одна из форм помощи и содействия «строительству». И только. Никакого другого значения литература не имеет. Помогла книга наладить производство на каком-нибудь Канстрое, — следовательно, она хороша. Не помогла — плоха. Другого критерия и другого требования нет. Канстрой может быть заменен весенним севом или чисткой комсомола, — но смысл остается тот же. Литература должна практически помогать власти в ее начинаниях, все остальное от лукавого. Это кажется чудовищным, даже невозможным на первый взгляд, — между тем, это так. Повторяю, только усвоив это, можно что-нибудь понять в жизни и настроениях советской литературы в наши дни. Только такой смысл имеет та пресловутая «перестройка», к которой, как в Каноссу, приходят один за другим советские писатели… «Перестроиться» и значит расстаться со всеми иллюзиями насчет возможности творчества за свой страх и риск, хотя бы и при наличии революционного энтузиазма и прочих добродетелей, хотя бы и в пределах разрешенных и одобренных тем. «Перестроиться» — значит окончательно смириться и согласиться на обслуживание очередных потребностей властей, сохраняя при этом вид, будто это делается добровольно, в результате полного растворения личного замысла в замысле коллективном.
Иначе вторжение плана в литературу было бы невозможно. Нельзя предоставить каждому фантазировать – машина остановится. Фантазирует в России только один человек. Другие по мере сил проводят его предначертания в жизнь. Литературе рекомендуется строго следить за собой, чтобы не заняться, по рассеянности, чем-либо посторонним.
* * *
Неправильно и несправедливо было бы, однако, все валить на Сталина. Неправильно было бы утверждать, что вся беда в том, что его план плох, а при ином план был бы благодать… Конечно, сталинский план прозаичен, сух и материалистичен, без всяких парений и туманов, и, приноравливаясь к нему, литература лишена возможности кого-либо обманывать насчет своих стремлений. Будь у советского плана другой характер, притворяться можно было бы дольше, успешней. Но вопрос только в длительности обольщения, а никак не в самом существе дела.
Замысел или мысль, исходящие снизу, — точнее, от отдельного человека, — могут стать общим достоянием. Но они сохранят при этом свою жизненную, неразложимую, неповторимую сложность, которой остальные люди — читатели или слушатели — подчиняются благодаря гипнотической силе творчества. Мысль, исходящая сверху и там же сразу рассчитанная на общую для всех приемлемость, может быть основана лишь на нивелировке, на игнорировании каких бы то ни было личных особенностей. В ней всегда чувствуется схема, в ней нет и не может быть жизни. В миллионах людей она выбирает только то, что есть у них несомненно-общего, и к этому общему обращается.
Литература при таком порядке вещей чахнет не только оттого, что ей вообще что-то внушается, ной оттого, что она обречена оставаться в рамках схемы. План, по самому существу своему, есть схема, и легко догадаться, что получается, когда он навязывается области, где все механическое должно быть исключено. В России литература становится механична потому, что только при этом она чувствует себя в безопасности: вольная трактовка темы неизбежно увлекла бы ее в «уклон». Это особенно видно на языке. Кто читает советские журналы, тот знает этот нестерпимый, мертвый, казенный советский язык, составленный не столько из комбинаций слов, сколько из комбинаций готовых фраз, всегда одинаковых, неизменно повторяемых. Да и слова одинаковые! Сказал о ком-то Сталин «головотяп»: через неделю не было статьи без головотяпа… Таких примеров сколько угодно. Мы возмущаемся, пожимаем плечами. Наше возмущение справедливо, конечно, но должно бы относиться не к языку, а к тому, что за ним. Обезличение, схематизация языка есть явление глубоко закономерное в теперешней России, его не могло не быть. Фраза сколько-нибудь индивидуальная сразу выделяется в советском тексте, сразу кажется подозрительной: что ему надо, этому «личинку», отчего не хочет уложить он свою мысль в готовую форму, уж не такова ли у него и мысль, что ее в дозволенные формы не уложить. И так далее, и так далее. Действительно, – если мысль общая, чем же для нее плохи общие слова? План требует языкового штампа. Проникновение его в литературу, называемую художественной, приводит к таким же результатам и в ней.
Какой огромный вопрос, в общем, если взглянуть глубже и дальше, какой клубок, который не кончишь распутывать, если только потянешь за одну ниточку! Не решаюсь сказать, боюсь опрометчивости и легкомыслия, — но, право, похоже на то, что только при «проклятом капитализме» и возможно искусство. По крайней мере, теперь, в наше столетие, после потери былого, общего религиозного идеала. Весело, должно быть, маршировать с поднятой рукой, скалить зубы и кричать «Heil!», но в тот момент, когда рука поднята только потому, что ее поднял «вождь», искусство умирает для человека со всем своим миром иронии, лиризма, противоречий, ответственности, подвига, риска. У комсомольцев то же, конечно. То, что любой план предлагает под видом литературы или искусства, было бы правильно назвать иначе.
< «ДРЕВНИЙ ПУТЬ» Л.ЗУРОВА. – «КАК СОЗДАВАЛСЯ РОБИНЗОН» И. ИЛЬФА И Е.ПЕТРОВА >
Не совсем ясно, что хотел сказать Л. Зуров, назвав свою книгу «Древний путь». Разумеется под всякую расплывчатую метафору можно подставить какое-то содержание. Так и здесь — можно предположить, что речь идет о том «древнем пути», которым человек, после разных мытарств, обольщений и увлечений, возвращается домой, к своей родной земле; или о возвращении к первобытной вере; или даже о возрождении того состояния, когда человек человеку был волком и все раздоры решались кровью… Любое толкование пригодно. Автор не склонен к отчетливости, и слегка туманное название романа характерно для него. «Древний путь» развивается почти без плана; в повествовании этом нет, в сущности, ни начала, ни завершения, и его с тем же правом можно признать законченным произведением, как и первой главой какой-то огромной эпопеи.
Указываю я на это вовсе не для того, чтобы Зурова упрекать. Не существует единого метода писания, не существует для творчества и канона, от которого ошибкой было бы отступить. Каждый сам себе законодатель в этой области, и одно только правило здесь остается неизменным: «победителей не судят». Зуров написал хорошую книгу, именно «хорошую» (другое слово, например: блестящую или увлекательную, — было бы неподходящим). Каждая страница у него сделана как будто из добротного материала, каждое слово проверено сердцем и разумом, нет назойливых стилистических фокусов, нет малейшего следа манерничанья, — и при чтении кажется, что только благодаря некоторой формальной беспечности он и достиг этого. На деле, конечно, это не так. Но у Зурова оказалось достаточно сил, чтобы заставить нас в иллюзию поверить, поэтому он и «победитель».
Очень русская книга. Не в том смысле, что попадаются в ней порой словечки декоративно-«нутряные», и вообще — как писал где-то Писарев, — «ни на какие розы не променяет наш автор запах смазного сапога». Нет, — по общему ощущению. К концу чтения мне пришла на ум знаменитая вступительная фраза из «Воскресения», — надо ли ее напоминать? — «Как ни старались люди…» Зуров описывает последние месяцы войны и начало революции. Кровью пропитано все его повествование. Аза этой кровью, за всей сутолокой и бессмыслицей человеческой жизни, за вырвавшейся на волю враждой и злобой расстилается природа, равнодушная, тихая и прекрасная. Кроме Толстого, можно вспомнить еще и те тютчевские строки, в которых под наружным бесстрастием, будто бы лишь «констатирующим факт», так явно слышится укор, обвинение:
А небо так нетленно-чисто, Так беспредельно над землей…Вообще, в книге есть нормальный вопрос. «Древний путь» вовсе не тенденциозная вещь, но чтение этого романа само собой приводит к недоумению, откуда в человеке столько дикости и ненависти? Зуров ничего нового или незнакомого не рассказывает и не показывает. Все известно, все правдиво. Но подбор картин в высшей степени убедителен в своей нарочитой «объективности». В частности, на тему о кровавом характере революции: «Древний путь» неразрывно связывает революцию с войной именно в этом пункте. Не будь войны, не было бы и ужасов революции, потому что на фронте народ «хлебнул крови», безвозвратно утратил представление о таинственной, священной недопустимости убийства, свыкся со смертью, и затем легко использовал эти страшные уроки в родных городах и селах. Дух Каина разгулялся по земле, его нельзя было сразу укротить и смирить, и нелепо было думать, что, научившись с благословения начальства образцово колоть штыком «немца», люди вернутся домой кроткими овечками, без всякого воспоминания о безнаказанности убийств вообще… Где не было возможности для этого духа дать себе волю, там он мало-помалу и угас. А у нас ему нашлось широкое поле для процветания. Именно фронтовики принесли с собой в революцию легкость кровопролития, потому что война развратила их.
В «Древнем пути», как я уже сказал, человеку противопоставлена природа. Зуров с подчеркнутым сочувствием обрисовывает тех людей, которые в своем бездушном спокойствии с природой сливаются и в ней как бы растворяются. Таковы у него, главным образом, женщины, в особенности женщины пожилые, всем существом ушедшие в мысли о детях, в заботу о земле и о доме, с тревогой и осуждением поглядывающие на жестокую, упорную неурядицу жизни. Пассивное, женственное начало бытия Зурову вообще понятнее и ближе мужского. В этом отношении он примыкает к той линии писателей, которые, как Толстой, а из наших современников Кнут Гамсун и отчасти Бунин, восстают против цивилизации или культуры. Если придерживаться большевистских определений, книга Зурова «реакционна», — в том смысле, что она зовет назад. Ни в какие строительства, — в самом общем значении слова, — автор «Древнего пути» не верит. Мир для него давным-давно построен и притом построен как нельзя лучше: стоит только человеку припасть к его блаженно-благодатному «лону», и он будет счастлив.
Конечно, я даю лишь вольное переложение настроений, господствующих в «Древнем пути». Произведение это поэтическое, или, если угодно, художественное, — и никаких нравоучительных сентенций в нем нет. Передавать содержание его мне кажется излишним. Да, правду сказать, содержания, — или, точнее, фабулы, — нет. С фронта приходят в деревню солдаты. Туда же возвращается молодой офицер, сын местного помещика. Немцы подступают к Пскову. Большевики отступают. Кого-то грабят, жгут, убивают, кто-то мечтает о любви. Жизнь начинается для одних, кончается или обрывается для других… В каждой отдельной подробности (или эпизоде, или человеческом образе) — полотно яркое. Целое, однако, чуть-чуть сбивчиво, как рассказ, как повествование. Но на тех читателей, которые, главным образом, интересуются: что будет дальше? — «Древний путь» и не рассчитан.
В общем, после первых неизменно талантливых, но наивных и несколько поверхностных зуровских дебютов, эта книга уже больше, чем «обещание». Подлинный дар и подлинное писательское призвание – вне сомнений.
* * *
Ильф и петров издали сборник своих фельетонов.
Опыт довольно рискованный. Злободневная юмористика обычно тускнеет в книге, от которой всегда ждешь все-таки чего-то не совсем легковесного… Потускнели в сборнике и фельетоны Ильфа и Петрова, в газете или в журнале казавшиеся такими забавными. От повторения приемов многое становится менее смешным. От однообразия острот кое-что даже вызывает досаду. Но прочесть книгу все-таки стоит. В известной степени это «энциклопедия советской жизни»… Ибо такая энциклопедия только и может быть юмористической. Только отшучиваясь, балаганя или прикидываясь дурачком, советский автор и может говорить правду. В серьезном тоне он принужден славословить и ликовать.
Первый попавшийся пример:
Некий «сахарный командующий» размышляет:
— Кто отобразит сахароварение в художественной литературе? О цементе есть роман, о чугуне пишут без конца, даже о судаках есть какая-то пьеса в разрезе здорового оптимизма, а о сахароварении кроме специальных брошюр — ни слова. Пора, пора включить писателей в сахароваренческие проблемы!
Кто хоть издали следит за советской печатью, оценит язвительную меткость этой тирады. Подретушировано еле заметно, усилено всего несколько черт, а нелепость стала очевидной для каждого. Главное же, мы убеждаемся, что и там, в СССР, люди готовы смеяться над тем, что нам кажется смешным отсюда… Конечно, стилистические выверты советских сановников или журналистов большого значения не имеют. Но Ильф и Петров касаются самых различных областей жизни и везде с большой зоркостью находят мелочи, о которых другие «серьезные» писатели не рассказывают.
Вот, например, некто Самецкий, о котором все говорят — «крепкий общественник». Иногда отзываются иначе — «очень, очень крепкий работник». Или «крептяга».
Самецкий организует кружки: «кружок по воспитанию советской матери». Кружок по переподготовке советского младенца. Кружок — «изучим Арктику на практике». Кружок балетных критиков. Он же налаживает «ночную дежурку»:
— Скорая помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности. Прием с 12 ч. ночи до 6 ч. утра.
Повторяю, я списываю почти что наудачу… Фельетоны Ильфа и Петрова чрезвычайно богаты фактами, и только обстоятельный перечень их мог бы дать представление о всей книге.
Юмор авторов «Двенадцати стульев» грубоват, но очень непосредственен и порой силен. Пожалуй, у них острее, чем у кого бы то ни было из советских писателей, развито чувство комизма. У Ильфа и Петрова не бывает неудачных попыток рассмешить: выстрел всегда достигает цели. Правда, на средства они не особенно разборчивы, как не был разборчив в свое время Аверченко. Но неслучайно над аверченковскими рассказами десятки тысяч читателей хохотали до упаду. Над Ильфом и Петровым тоже хохочут, и хохотать будут, вероятно, еще долго.
Кроме них, в России есть Катаев, — и затем Зощенко.
Катаев очень талантлив. Однако в юмористических своих вещах он недостоин себя. Признаюсь, когда после «Растратчиков» — повести на редкость живой, но еще недостаточно самостоятельной, чтобы в автора ее окончательно поверить, — я прочел плоские и жалкие «Птички певчие», мне показалось, что Катаев ничего подлинно достойного внимания написать не способен… Только позднейшие его вещи, в частности, сборник «Отец» и даже такой парадоксально-увлекательный фокус, как «Время, вперед», изменили это мнение. Но смеяться Катаев не умеет.
Зощенко же, так сказать, — «вне конкурса». Не то чтобы он был необычайно одарен. Нет, очень возможно, что Ильф и Петров силами ничуть не беднее его и что «распотешить» читателя они способны еще лучше, еще внезапнее. Они не менее его наблюдательны. Но в зощенковском смехе есть грусть, есть какая-то пронзительно-человечная, никогда не смолкающая, дребезжащая нота, которая придает его писаниям их странную, отдаленно-гоголевскую прелесть… Короче, Зощенко — поэт, а другие — просто беллетристы.
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ: Второй том «Тяжелого дивизиона». — «Кочевье».— Селин и Андрэ Мальро
«Тяжелый дивизион» Лебеденко — книга, в короткое время ставшая популярной. Ее читают в России и у нас, в эмиграции. Недавно в одном здешнем литературном кружке была устроена «устная анкета»: какая советская книга за последний год вам больше всего понравилась? Роман Лебеденко оказался на первом месте.
Успех «Тяжелого дивизиона» заслуженный. В книге много недостатков. Но через условность и схематизм, без которых ни одно советское литературное произведение обойтись не может, в ней чувствуется живая мысль и настоящее знание людей. Кроме того, у Лебеденко есть дар видения, дар изображения: в длиннейшей веренице его героев, — солдат и офицеров, — каждый отличим от другого, без всякой назойливости в индивидуализации, как бывает у малоталантливых беллетристов, а по еле заметным, безошибочно-характерным чертам. Об этом «советском Ремарке» я сравнительно недавно писал. Незачем снова о нем рассказывать. Несколько слов только о второй части «Тяжелого дивизиона», которую прочесть мне довелось лишь на днях. Конечно, дарование видно повсюду, на любой странице, в любой сцене. Огромный том в четыреста с чем-то страниц, а читается он легко, с увлечением. Удивляет та же острая наблюдательность… Но волевая вялость, волевое безличье автора, которые давали себя знать уже и в первой книге «Тяжелого дивизиона», становятся во второй почти мучительными. В романе нет костяка, он разваливается на тысячи эпизодов. В конце концов, он сбивается в какую-то толчею, в которой вязнешь и тонешь. «Война и мир»? Да, Лeбеденко, по-видимому, желал написать что-то подобное. Не он первый, не он последний. Много уже мы читали таких бесконечных повествований, в которых все, казалось бы, совсем как у Толстого, — широта и плавность рассказа, эпическое спокойствие тона, огромное количество действующих лиц. Но «Войны и мира» не получилось. Авторы упускали из виду пустяк: то, что Толстой врывается в «действительность», как некий Бог Саваоф в хаос, все ломая, все опрокидывая на своем пути и строя новую вселенную с особыми судьбами и особыми законами… А они, его мнимые последователи, в жизненный материал доверчиво вглядываются, простодушно пытаясь как можно правдивее, беспристрастнее и точнее его изобразить. Но жизнь-то, по природе своей, женственна, над беспристрастием она смеется, она требует власти над собой, — и тех, кто не в силах ее обуздать, топит и губит.
Лебеденко не хватает решительности в выборе и в отборе. Пожалуй, — дара любить и ненавидеть. Оттого на его романе, в общем, все-таки замечательном, лежит какой-то сероватый налет. Двум-трем обязательным коммунистическим заявлениям или тирадам верить нельзя, да они и выпадают из романа. А сущность замысла на редкость рыхлая. Автору все безразлично. Он прекрасно людей изображает, но не хочет и может судить их, он не в силах пронизать их теми неумолимыми толстовскими икс-лучами, которые проникают и в душу читателя. Все это стало яснее во втором томе «Тяжелого дивизиона», – потому что расширение повествовательного русла требует и его углубления, а здесь дно оказалось довольно близко.
Обычная судьба «вторых томов» вообще. Начало превосходно, а дальше автор устает, сдает и думает только о том, как бы свести концы с концами. Не хватает дыхания, не хватает силы дочувствовать, договорить, дорисовать… Сколько примеров этому! Из советских книг разительнее всего пример шолоховского «Тихого Дона», где за блестяще–талантливым вступлением последовали главы бледные и порой совсем беспомощные (в особенности, третий том).
Кстати, позволю себе поделиться содержанием любопытнейшего письма насчет «Тихого Дона», Получил я его этим летом в ответ на статью о Шолохове. На днях же, косвенным образом, получил и подтверждение того, что в нем рассказывалось.
В Москве, будто бы, среди людей, причастных к литературе, упорно держится легенда, которую многие считают истиной. Шолохов — не автор первой части «Тихого Дона». Рукопись ее он нашел во время гражданской войны в сумке убитого офицера. Шолохов выдал «Тихий Дон» за свое произведение — и продолжил. Неудивительно, что между частями романа заметна некоторая разница.
Не имея никаких данных, чтобы судить о достоверности этого предположения, не могу высказаться ни «за» ни «против» него. Но для общего впечатления, оставляемого «Тихим Доном», характерно, что оно может оказаться правдоподобным. Достаточно и этого.
* * *
В «Кочевье», которое после дней буйного расцвета, когда на вечера его собиралось двести-триста человек и горячие прения затягивались «далеко за полночь», теперь снова все вошло, так сказать, в берега обычного эмигрантского литературного объединения, — устроили вечер, посвященный Селину и «Путешествию в глубь ночи».
Расцвет и упадок «Кочевья» не случайны. Общество это сделало ставку на советскую литературу. Года три или четыре тому назад его тенденция совпала с повсеместным, очень сильным интересом к этой литературе: тогда многие верили, что все свежее и юное, в литературном смысле, идет из России, что советская литература героична и величественна и что никакие цензуры, никакие диктатуры не в силах совладать с ее неудержимым ростом. Верили в кредит, но верили искренно. Руководитель «Кочевья», М. Л. Слоним, всячески эту веру поддерживал и утверждал, что для нее существуют реальные, незыблемые основания… А сейчас иллюзии рассеялись. Выяснилось, что советской литературе не так уж много есть что «предъявить». Россыпи оказались миражом. Конечно, осталось убеждение в талантливости и значительности нескольких советских писателей. Но исчез наивный интерес к ней, как к какой-то экзотике, сказочно богатой и неслыханно новой. В десять или двадцать вечеров все богатства оказались истощены, – а об «отображении Белморстроя» в художественном слове или о «роли литературы в посевной кампании» охотников рассуждать и говорить не нашлось.
Этим, вероятно, и объясняется, что приходится обратиться к таким явлениям, как Селин. Кстати, его удивительная книга принадлежит к тем, которые в русском сознании сразу воспринимаются как нечто «свое» (как «своим» был для нас, например, Мопассан и никогда не был и не станет Анатоль Франс; как своим стал для русской поэзии Бодлер, несмотря на всю его парижско-столичную, декоративную изысканность, и никогда не станет Виктор Гюго; дело, по-видимому, в подчеркнутой правдивости, в тоне, родственном русскому стремлению непременно говорить о «самом важном» и в каком-то пренебрежительном отношении ко всему, что не может быть под категорию «самого важного» или «самого правдивого» подведено; у Селина дело еще в глубокой его анархичности, в полном сожжении всех кораблей и, особенно, в той чуть-чуть хмельной безнадежности, которую русские считают своей исключительной монополией). О Селине много и долго спорили. Были голоса, утверждавшие, что славу его следует отнести на счет снобизма или случайной моды; но скорее всего само мнение это продиктовано особого рода «снобизмом», заранее считающим пустым все то, что имеет быстрый и шумный успех. Докладчик Г. Газданов высказал о «Путешествии в глубь ночи» несколько метких и острых мыслей.
В тот же вечер — частным образом — говорили и об Андрэ Мальро, только что получившем гонкуровскую премию. В сущности, этому писателю премия была не нужна: он был известен и, пожалуй, даже знаменит и до нее. Многие критики признают его наиболее даровитым из молодых французских беллетристов. Вообще, ореол необыкновенной, из ряда вон выходящей талантливости вокруг Мальро держится прочно и, значит, на чем-то этот ореол основан. Едва ли, однако, на книгах. Вероятнее, на личности писателя.
Я помню Мальро по нескольким его выступлениям в литературных собраниях. Один раз он говорил о Ницше, другой раз, кажется, о свободе, обществе и индивидуализме… Не то чтобы он высказывал в своих речах какие-то особенно глубокие суждения. Нет, но в каждом слове было «электричество», и во всем облике Мальро, с бледным, надменным лицом, с прозрачными и сияющими глазами, чувствовалась подлинная «священная» одержимость. После него выступали другие ораторы, говорившие разумно, дельно, трезво. Но их было трудно слушать. В хаотическом, отрывистом потоке фраз и восклицаний Мальро билось подлинное творчество, и оттого ему было «без волненья внимать невозможно».
Однако в книги почти ничего не попало. Кое-где только, по некоторым страницам и главам, догадываешься о том, как даровита и сложна натура автора. Но только — догадываешься.
ПРИМЕЧАНИЯ
Во вторую книгу «Литературных заметок» вошли основные статьи Георгия Адамовича, опубликованные в газете «Последние новости» в 1932-1933 годах.
Тексты печатаются по первым (и чаще всего единственным) публикациям с сохранением специфических особенностей, свойственных индивидуальной творческой манере Адамовича. Прихотливая пунктуация Адамовича по возможности сохранена, проставлены лишь очевидно необходимые запятые, пропущенные Адамовичем или наборщиками. Вмешательства в авторскую пунктуацию допускались составителем только в тех случаях, когда она противоречила современному правописанию настолько, что способна была изменить смысл сказанного, в таких случаях предпочтение отдавалось здравому смыслу.
Без изменений оставлены и неточные цитаты, очень частые у Адамовича. Исправлены без оговорок лишь заведомые опечатки и огрехи верстки, как всегда довольно многочисленные в эмигрантской периодике (в частности, переверстки строк, а то и целых столбцов текста), а выпавшие при печати строки приблизительно восстановлены по смыслу в угловых скобках.
Если Адамович давал статье какое-либо название или подзаголовок помимо «Литературных заметок», авторское название сохранено, в остальных случаях для удобства пользования текстом названия статей в угловых скобках даны составителем по аналогии с авторскими подзаголовками.
Примечания Адамовича к собственным текстам даются в подстраничных сносках, примечания составителя вынесены в конец книги и носят преимущественно библиографический характер: приводятся в первую очередь сведения об изданиях и публикациях, упоминаемых Адамовичем, а также полемические отклики на его статьи в эмигрантской печати. Биографические сведения об упоминаемых лицах, чтобы избежать частых повторений, большей частью вынесены в развернутый именной указатель, которым сопровождается каждая книга.
При составлении примечаний использованы разыскания А. В. Лаврова, М. Г. Ратгауза, Д. Д. Николаева, Любови Белошевской, Милуши Бубениковой, Джеральда Смита и др.
Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность за помощь и советы: А. А. Данилевскому (Тарту), А. Н. Николюкину (Москва), Ричарду Дэвису (Leeds), А. И. Рейтблату (Москва), К. О. Рагозиной (Москва) и особенно Жоржу Шерону (Los Angeles) и А. А. Коростелеву (Москва), взявшим на себя труд по ксерокопированию и набору газетных статей Адамовича.
1932
Мысли и сомнения: О литературе в эмиграции. — Последние новости. 1932. 14 января. № 3949. С. 2.
…Прошлой весной в Париже устроен был одним эмигрантским журналом «вечер поэзии». Участвовали поэты заслуженные и поэты юные… — Вероятно, Адамович имеет в виду состоявшийся 25 июня 1931 года в парижском Salle de Societes Savantes вечер «Чисел», посвященный стихам о любви, в котором принял участие он сам, а также З. Гиппиус, Г. Иванов, Л. Кельберин, Д. Кнут, Д. Мережковский, И. Одоевцева, Б. Поплавский, В. Смоленский, Ю. Терапиано, Л. Червинская, В. Мамченко и др.
…М. Слоним написал статью о литературе в эмиграции. Б. Зайцев ему ответил… — Слоним М. Заметки об эмигрантской литературе // Воля России. 1931. № 7/9. С. 616-627; Зайцев Б. Дела литературные // Возрождение. 1931. 31 декабря. № 2403. Статья Слонима вызвала бурную полемику, в которой, помимо Зайцева и Адамовича, приняли участие также В. Ф. Ходасевич, З. Н. Гиппиус, А. В. Амфитеатров, А. М. Ремизов и др.
…по Слониму получалось, что в эмиграции не только ничего нет, но ничего и быть не может: все его надежды обращены к Советской России… — Слоним в своей статье наиболее резко сформулировал мысли, которые высказывал на протяжении всей своей литературно-критической деятельности: «Большинство эмигрантских писателей духовно оторвано от России, чуждо ее жизни, отрезано от ее истоков, утратило чувство русской жизни <…> В эмиграции раздается лебединая песня русского искусства начала 900-х гг. Это либо реалистическое эпигонство, либо повторение напевов символической школы, кажущихся нам сейчас звоном потонувшего колокола <…> «провинция» безраздельно господствует в эмигрантской литературе» (Слоним М . Заметки об эмигрантской литературе // Воля России. 1931. № 7/9. С. 621).
…По Зайцеву, наоборот, литературыв России не существует: русская литература сейчас вся за рубежом… – Зайцев, не слишком высоко оценивая литературу эмиграции, считал ее все же какой никакой литературой, в т время как, по его мнению, «на советскую литературу надо смотреть лишь как на материал, по которому что-то можно узнать о жизни, о быте России. Смысла, характера чисто художественного в литературе «пятилетки» просто нет (это мелькало иногда у «попутчиков», но теперь и они раздавлены» (Зайцев Б. Дела литературные // Возрождение. 1931. 31 декабря. № 2403).
…если даже никакой «миссии» у здешней литературы нет… — О миссии русской эмиграции в двадцатые годы рассуждали много. В частности, 16 февраля 1924 года в парижском Salle de Geographie состоялся вечер «Миссия русской эмиграции», на котором выступили И. А. Бунин, А. В. Карташев, И. С. Шмелев, Д. С. Мережковский и др. Слоним в своей статье среди прочего заявил: «Наряду с мнимой, выдуманной эмигрантской литературой существует другая — подлинная, реальная. Она не только не выполняет миссий, не только не спасает культуры, но медленно умирает» (Слоним М . Заметки об эмигрантской литературе // Воля России. 1931. № 7/9. С. 617).
«описательство» — В одной из своих статей о Бунине Гиппиус писала: «Простые души любили Бунина <…> Критики поумнее, отдавая должное художнику, прибавляли: «Да, он удивительный описатель… Но быть замечательным описателем — довольно ли, чтобы быть и замечательным писателем?» Все это было, конечно, несправедливо. Но какая-то правда скрывалась за неточными и неверными словами» (Гиппиус З . Тайна зеркала (Иван Бунин) //Общее дело. 1921. 16 мая. № 304. С. 3). Адамович вспоминал, как Бунин однажды заявил Гиппиус: «"Вы ведь считаете, что я не писатель, а описатель… Я, дорогая, вам этого до самой смерти не забуду!" Могу засвидетельствовать, что словечка этого – “описатель”, – вкравшегося в одну из критических статей Гиппиус, он действительно не забыл <…> Упоминание о мнимом "описательстве" я слышал впоследствии от Бунина не раз. Неизменно оно сопровождалось сердитыми возражениями насчет того, что он вовсе не "описывает" природу или быт, а воссоздает их» (Адамович Г. Бунин: Воспоминания // Новый журнал. 1971. № 105. С. 117).
арривизм — от франц. arrivisme, карьеризм.
…Не так давно состоялся в Париже диспут на тему: «конец эмигрантской литературы»… — Собрание на эту тему было устроено «Кочевьем» 8 октября 1931 (24, rue St-Victor). С докладом «Конец эмигрантской литературы» выступил М. Слоним, в прениях — Г. Газданов, А. И. Куприн, Б. Ю. Поплавский, Г. П. Федотов, М. О. Цетлин, С. Я. Эфрон и др.
«толкают падающего» — Имеются в виду слова ницшевского Заратустры: «Падающего — толкни!».
«Друг мой,великий писатель земли русской!..» — Из последнего письма Тургенева Льву Толстому, написанного 11 июля 1883 года за месяц до смерти: «…Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое… Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе!».
Стихи В. Смоленского. — Последние новости. 1932. 21 января. № 3956. С. 3.
…Имя Владимира Смоленского еще два-три года тому назад никому не было известно… — Первые публикации стихов Смоленского появились в Сборниках Союза молодых поэтов и писателей в Париже в 1929 году.
…Смоленский выдвинулся быстро и занял место в первом ряду наших молодых поэтов по праву… — Уже после первого сборника эмигрантская критика заговорила о Смоленском как об одном из наиболее интересных поэтов младшего поколения: В. Ходасевич (Возрождение. 1932. 7 января. № 2140. С. 4), Г. Струве (Россия и славянство. 1932. 23 июля. № 191. С. 3), П.Бицилли (Современные записки. 1932. № 49. С. 450-451). Хорошо читавшей свои стихи с эстрады, Смоленский сразу же был тепло принят широкой публикой.
«Голос мой негромок»… «я живу, и на земле мое…» — из стихотворения Баратынского «Мой дар убог и голос мой негромок…» (1828).
«Закат : Первая книга стихов. 1929-1931» (Париж: Я. Поволоцкий, 1931) — сборник Смоленского.
и «не ночевала » — выражение Тургенева в письме Я. Полонскому от 13 января 1868.
«без руля и без ветрил» — из поэмы Лермонтова «Демон» (1839).
<«Огни в тумане» Bс. Н. Иванова>. — Последние новости. 1932. 28 января. № 3963. С. 3.
«Без будущего : Очерки по психологии революции и эмиграции» (Белград: Святослав. М. Г. Ковалев, 1931) книга Николая Васильевича Краинского.
Карабчевский Николай Платонович (1851-1925) — адвокат, журналист, литератор, участник многих крупнейших уголовных и политических процессов, после революции в эмиграции, генеральный представитель великого князя Кирилла Владимировича в Италии.
«Огни в тумане : Думы о русском опыте» (Харбин, 1932) — сборник статей Всеволода Никаноровича Иванова (1888-1971).
<«Художник неизвестен» В. Каверина>. — Последние новости. 1932. 4 февраля. № 3970. С. 2.
«Художник неизвестен : Повесть» (JI.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1932), «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове : Роман» (Ж.: Прибой, 1929), «Пролог : Путевые рассказы» (М. – Л.: ГИХЛ, 1931), «Черновик человека : Рассказы» (Л.: Изд. пис. в Ленинграде, 1931) – книги В. Каверина.
…Обебыли встречены советской критикой недоброжелательно, однако, без ярости… — См., например, отзыв Иннокентия Оксенова о «Прологе» Каверина: «Специфика общественных явлений, классовой борьбы подменяется у Каверина борьбой поколений, "отцов" и "детей" <…> необходима самая решительная ревизия всех основ творческого мировоззрения и метода писателя <…> Писатель-формалист, не зажигающий читателя, не говорящий ему о нужных вещах понятным и впечатляющим языком, — такой писатель обречен на исчезновение» (Новый мир. 1931. № 12. С. 176-179). В. Ермилов заявил, что «Пролог» «не содержит ни одного намека на социалистический характер тех изменений действительности, которые описываются в нем» (Литературная газета. 1931. 3 декабря).
…«Художник» же вызвал ярость… — Неделей раньше Адамович писал о книге в «Откликах»: «Довольно много толков о повести Каверина "Художник неизвестен".
Она касается вопроса, которого теперь поднимать уже не полагается — о личности и обществе.
Вопрос давно разрешен, даны свыше исчерпывающие разъяснения… О чем же говорить еще?
Критика тем более недовольна Кавериным, что он настроен не особенно оптимистически. Пятилетку он, разумеется, одобряет. Но… "мораль отстает от техники". "Сейчас наблюдается падение чести, лицемерие, подлость и скука".
"Новоявленный Саванаролла, бичующий нравы социалистической страны", — иронизирует А. Селивановский. Однако от спора с Саванароллой критика уклоняется. Удобнее всякого довода — стереотипное указание: — Писателю необходимо в корне перестроиться» (Сизиф. Отклики //Последние новости. 1932. 21 января. К2 3956. С. 3).
«Литературная газета»… «беспощадный отпор», как «буржуазным вылазкам»: эти три произведены «Охранная грамота» Пастернака,«Сумасшедший корабль» Форш и «Художник неизвестен» Каверина… — А. Селивановский в статье «Художник известен» писал: «Художник неизвестен» <…> есть боевой документ буржуазного реставраторства в искусстве, — документ, более заостренный, чем даже «Сумасшедший корабль» Ольги Форш <…> Сегодня он в рядах тех, кто дерется, — дерется за буржуазные идеи и буржуазное искусство против идей пролетариата и пролетарского искусства» (Литературная газета. 1932. 4 января. № 1). В. Ермилов месяцем ранее заявил, что роман «Художник неизвестен» выражает «мещански-реакционные взгляды на искусство, на роль художника» (Литературная газета. 1931. 3 декабря). См. также доклад Фадеева на совещании критиков РАПП (Литературная газета. 1932. 28 января. № 5) и др.
«Охранная грамота» Пастернака — см. о ней в примеч. к статье Адамовича, написанной двумя месяцами позже: Последние новости. 1932. 28 апреля. № 4054. С. 2.
«Сумасшедший корабль : Роман» (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931).
«Я не понимаю, что здесь делается. Других освистывают, а когда я выступаю с такими же заявлениями, мне аплодируют…» — Адамович не вполне точно цитирует слова Пастернака из выступления в прениях после доклада Асеева на творческой дискуссии ВССП «О поэзии» 13 декабря 1931 года: «Я не понимаю того, что происходит: над многими из ораторов здесь смеялись, а я с ними вполне согласен. А когда я говорю то же самое — мне аплодируют …» (Литературная газета. 1931. 18 декабря. № 69).
…об «Охранной грамоте» пишут сравнительно уклончиво. Конечно, «буржуазно», конечно, «индивидуалистично», но… — Повесть Пастернака вызвала немало и откровенно негативных отзывов советской критики: Тарасенков А . Охранная грамота идеализма // Литературная газета. 1931. 12 декабря; Березов П . Под маской // Пролетарский авангард. 1932. № 2. Стб. 177; Селивановский А. Чей Маяковский? // Литературная газета. 1932. 11 апреля.
…по Чехову, «каждое ружье стреляет»… – Имеются в виду приводившиеся в мемуарах Чехова слова: «Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить» (Щукин С. Н. Из воспоминаний об А. П. Чехове).
«Современные записки», книга 48-я. Часть литературная. — Последние новости. 1932. 11 февраля. №3977. С. 2.
48 книга «Современных записок» вышла в свет в январе 1932 года.
…«Злая вечность»… — В номере было опубликовано начало повести Георгия Пескова (наст, имя Елена Альбертовна Дейша; 1885-1977) «Злая вечность» (С. 172-206).
…Роман Осоргина «Свидетель истории», печатаемый маленькими порциями… — В номере был напечатан очередной фрагмент под названием «Побег: Отрывок романа "Свидетель истории"» (С. 24-77).
…Закончен «Подвиг»… — С. 78-131.
…Когда-то Лев Шестов сказал о Чехове, что его писания — это «творчество из ничего»… — Статья Шестова о Чехове под названием «Творчество из ничего» была впервые напечатана в сборнике «Начала и концы» (СПб., 1908); позже републикована со вступительной заметкой Адамовича «По поводу статьи Шестова "Творчество из ничего"» в альманахе «Мосты» (1960. № 5. С. 121-150).
…«Гремучий родник» Скобцова-Кондратьева… — В номере были опубликованы заключительные главы первой части романа (С. 132-171) Даниила Ермолаевича Скобцова-Кондратьева (наст. фам. Скобцов; 1885-1969). Вторая часть в «Современных записках» не печаталась. Целиком роман вышел позже отдельным изданием (Париж: Дом книги, 1938).
…О «Воспоминаниях» A. Л. Толстой… — Толстая А. Л. Из воспоминаний (С. 217-246).
«Назаретские будни» — Опубликованный в номере (С. 274-294) фрагмент главного труда Мережковского «Иисус Неизвестный» вошел в книгу третьей главой второй части первого тома.
«Параллели» — В статье П. Бицилли «Параллели» (С. 334-345) речь шла о типах влияний разного рода идеологов на литературные школы.
…Достаточно прочесть его рецензию на книгу о Тургеневе… — Имеется в виду опубликованная в этом же номере (С. 475-477) рецензия Бицилли на книгу Б. Зайцева «Жизнь Тургенева» (Париж, 1932).
…Статья о Ибсене, глубокомысленная и пленительная… — Шестов Лев. Победы и поражения (Жизнь и творчество Генрика Ибсена) // Русская мысль. 1910. Кн. IV. С. 1-30; Кн.V. С. 1-38.
…воспоминания Шаляпина… — Шаляпин Ф. Из воспоминаний (С. 5-23).
…отрывок из книги о «Декабристах»… — Под названием «Накануне» в номере был напечатан (С. 247-273) фрагмент книги М. Цетлина, вскоре вышедшей отдельным изданием: «Декабристы: Судьба одного поколения» (Париж: Современные записки, 1933).
…стихи Георгия Иванова… Довида Кнута… Смоленского и Софиева… — В номере были напечатаны стихотворения Георгия Иванова «Слово за словом, строка за строкой…», «Мир торжественный и томный…», «Сиянье. В двенадцать часов по ночам…», «Замело тебя, счастье, снегами…», «Гаснет мир, сияет вечер…», «О, душа моя, могло ли быть иначе…» под общим названием «Из книги "Ночной смотр"» (С. 207-209), Довида Кнута «Земля лежит в снегу. Над ней воздели сучья…», «Снег радости и снег печали…», «В морозном сне, голубовато-снежном…» под общим названием «Снег» (С. 210-211), а также Владимира Смоленского «Не плачь, не плачь, все это сон и бред…» (с. 215), и Юрия Софиева «В тревоге неустанной и труде…» (С. 215).
<«Стихотворения» В. Ропшина (Савинкова). — «Эта жизнь» А. Штейгера>. — Последние новости. 1932.18 февраля. № 3984. С. 2.
…сборнику стихов покойного Савинкова… — Имеется в виду посмертное издание: Ропшин В. Книга стихов / Предисл. З. Н. Гиппиус. Париж: Родник, 1931. После появления сборника Адамович расспрашивал Гиппиус о Савинкове, и та ответила 4 января 1932 года: «Со мной, дорогой Георгий Викторович, вы всегда, конечно, можете рассчитывать на ответ: и деловой, и литературный, и метафизический, и человеческий, — по силе возможности. Определение такого сложного индивидуума в письме, как Савинков, превышает, пожалуй, эти возможности. Влекло меня к нему то, что всегда влечет к личности, в которой мне видится (ошибочно или нет) известная "значительность" и на которой, поэтому, тяготеет перст своей судьбы. Значительность не в смысле величины, а своего "не общего" выражения, и даже независимо от того, нравится ли мне это «выражение» или нет. Шараду Сав<инко>ва отгадать вполне, до круглоты, я не могла почти до конца. Но кое-что уже знала раньше последнего конца. В кратких словах: его натура, в тесной связи с его биографией (или судьбой) сделали из него то, чем он на мои глаза и был, т.е. как я его разбирала и видела (что от натуры, что от биографии, — безразлично). Человек узкий, прежде всего, и поэтому заостренный. Весь в страстях своих, но не знающий (иногда смутно подозревающий), насколько они владеют им, а не он ими, благодаря гиперболическому самолюбию (не честолюбию). Одаренный – разнообразно, слишком разнообразно; и все дары эти до такой степени меньше его самолюбия, что оно их все или ни к чему не приводит или искажает. Ум, тонкость, воля, вкус, такт, – все это у него было. Но фатально обольщенный, раз навсегда, собой, ослепленный этими своими дарами, которые отнюдь не виделись ему лишь как просто "способности", — он их пускал в дело, воображая их совершенными; между тем и они-то были отпущены ему не в одинаковой мере. И ум, и воля, — все искажалось при соприкосновении с жизнью и с другими людьми. Он не понимал, что может чего-нибудь не понимать; не допускал этого; ум, инстинктивно, м. б., выработал удивительную способность чего-то, похожего на "мимикрию" (менее грубо). Отсюда его лживость; наполовину, иногда, и перед собой. Любви, ни такой, ни эдакой, в нем конечно не могло быть (при подобной-то, круглой, "самости"!). В поле, очень, кажется, примитивном (сплошное, очевидное "м") — страсть, каприз, бессознание; в других отношениях с людьми — стремление или покорить их, овладеть ими, или хоть "использовать" для своего случая, — того или другого. Властвовать, даже над ничтожествами, ему было нужно ; впрочем, он не разбирался в людях; ум его, достаточно тонкий, служил ему до известного предела, а дальше и он изменял, и такт, порой даже хитрость.
Все это я говорю, не собираясь отрицать его действительной внутренней трагедии, несомненных минут некоего прозрения; может быть и не совсем полного в сознании, но в ощущении, вероятно, полного. Впрочем, в ощущении трагедия эта всегда как-то у него присутствовала. Он верил в свое сознание и в свою волю; они были для него главное; они-то и были у него слабы, — сознание еще слабее воли, и это соотношение хуже обратного.
Если учесть, что, благодаря биографии, он был невеждой (в чем кокетливо признавался, — так это было незаметно), надо признать, что дары ума и способностей имелись у него порядочные. Не сомневаюсь, что и кошмары, о кот<орых> он старается писать "стихи", его действительно посещали, или что-то вроде, около. Стихи его не могут "нравиться" — (хотя он очень этого желал), да не в нравленьи и в ненравленьи смысл их. Впрочем, я об этом писала, полунамеками и contre coeur (потому что я ему ничего не "простила") — в предисловии. Т. е. не простила последнего падения, саморазрушения личности… хотя это, по логике, уже допускала, чем в ужас приводила Фондаминского. Пал не "горестно и низко", а срамно, — если знать подробности. Не мое, конечно, дело прощать или не прощать; но у каждого два пути, к своему возвышению и к своему падению; кто доходит до конца первый? Но почему же так часто добегают до конца второго? Мне вчуже невыносимо видеть это, когда на глазах случается, и с такими все-таки значительными, не в ряде, людьми, как Сав<инков>. Я понимаю, что заставило "вещую" Амалию сказать тогда: "Хоть бы он умер раньше!"» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Comp. by Temira Pachmuss. Munchen: Wilhelm Fink Ferlag, 1972. C. 413-415).
…свидетельства о личности Савинкова будут интереснее и ценнее его попыток творчества… — Ходасевич в своей рецензии по этому поводу высказался еще более резко: «Савинков-поэт компрометирует Савинкова-политического деятеля» (Современные записки. 1932. № 49. С. 449).
«И горько жалуюсь, и горько слезы лью» — из стихотворения Пушкина «Воспоминание» (1828).
…Как нежны Ниццы очертанья… Эта строфа в точности воспроизводит интонацию Тютчева… — Ср. стихотворения Тютчева «О, этот Юг, о, эта Ницца…» (1864), «Как хорошо ты, о море ночное…» (1865).
…В этих стихах отчетливее всего виден испуг творчески слабого сознания… — В. Ходасевич в своей рецензии высказал схожее мнение: «Тут трагедия террориста сведена до истерики среднего неудачника. Нельзя сказать, что эта трагедия Савинковым не сознана. Но сознав ее и поставив перед собой как проблему, Савинков тотчас ее пугается. Нет высшей радости, нежели переживание трагедии во всей ее глубине и полноте: но этого Савинков принять не в силах. Его страдание несомненно, но это не трагическое страдание. Создав для себя ситуацию трагического героя, Савинков тотчас ее пугается и отказывается пережить ее должным образом» (Современные записки. 1932. № 49. С. 450).
«Жизнь — пустая и глупая шутка» — из стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно» (1840). У Лермонтова: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — / Такая пустая и глупая шутка…».
«слова, слова, слова» — ответ Гамлета Полонию в третьей сцене трагедии Шекспира «Гамлет, принц датский» (1601).
…Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости… — Этой записью 29 декабря 1911 года завершается книга Розанова «Уединенное» (1912).
«Пишите прозу, господа!..» — Из статьи Брюсова «Стихи 1911 года», вошедшей в книгу «Далекие и близкие» (М., 1912): «Неужели начинающие поэты не понимают, что теперь, когда техника русского стиха разработана достаточно, когда красивые стихи писать легко, по этому самому трудно в области стихотворства сделать что-либо свое. Пишите прозу , господа! В русской прозе еще так много недочетов, в обработке ее так много надо сделать, что даже с небольшими силами здесь можно быть полезным».
«Эта жизнь : Стихи. Книга вторая» (Париж, 1932) — сборник А. Штейгера.
…На обложке «Этой жизни» объявлено о выходе в свет прозы Штейгера… – Это издание осуществлено не было.
Заметки о советской литературе. — Последние новости. 1932.10 марта. № 4005. С. 2.
«Величие и падение Андрея Полозова: Повесть без диалогов» — повесть Якова Семеновича Рыкачева (1893-1952), опубликованная в «Новом мире» (1931. №5. С. 27-61).
…О повести этой была уже речь в нашей газете… — Адамович Г. Величие и падение Андрея Полозова // Последние новости. 1931. 23 июля. № 3774. С. 3.
…нашлись у Рыкачева и защитники — Лидия Сейфуллина, например… — Во время дискуссии во Всероссийском союзе советских писателей (отчет см.: Литература и искусство // Новый мир. 1931. № 10. С. 123-164) Селивановский в докладе подверг повесть Рыкачева критике. Сейфуллина в своем выступлении вступила в полемику с Селивановским, заявив, что «"Величие и падение Андрея Полозова" <…> прекрасный рассказ, глубоко советский, настоящий рассказ, нужный нам, потому что в нем изображен человек — неявный вредитель, неявный мерзавец, такой, которого нам оставила старая казенная, служилая Россия. Не герой, не творец, а такой, который ложится грузом на всякие начинания и который вредит не потому, что он идейный вредитель, а потому, что хочет жить легко <…> Изображение таких героев, коварных прислужников советской власти, необходимо, ибо это тоже рисует нашу эпоху. Тов. Селивановский очень нехорошо обрушился на это произведение».
…В скором времени должна выйти его книга: «Идеологические портреты»… — Эта книга Рыкачева так никогда и не вышла.
…любопытнейший «портрет» попутчика Каширина… — В преамбуле к «портрету» вымышленного писателя-попутчика Алексея Каширина Рыкачев писал: «"Фальсификация эпохи" представляет собою отдельный совершенно самостоятельный "портрет" из готовящейся к печати книги "Идеологические портреты". Портрет, разумеется, с начала до конца — воображаемый. Искать оригинал этого портрета было бы бесплодным делом — речь идет не о личности, а о тенденции <…> В попутчиках Алексей Каширин числится по той лишь причине, что относится к нашей современности не с ненавистью, а с печалью <…> Я хочу разобраться в существе каширинской печали» (Рыкачев Я. Фальсификация эпохи // Литературная газета. 1932. 17 февраля. № 8 (177). С. 2).
«все суета сует и томление духа, бесплодны труды человека и нет в них пользы под солнцем» — Еккл 1,14; 2,11-17.
…Олеша в маленьком и довольно «желтом» журнальчике «30 дней» поместил свои отрывочные заметки и записки… — Олеша Ю . Кое-что из секретных записей попутчика Занда // 30 дней. 1932. № 1. С. 11-17.
…некий тов. Бачелис, тут же в послесловии читающий Олеше нотации, твердо знает, что обращается он по правильному адресу… — Публикация сопровождалась послесловием писателя, журналиста, кинодокументалиста Ильи Израилевича Бачелиса (1902-1951) под названием «Наш ответ попутчику Занду»: «Писателя Занда обуревают "высокие желания" и "мучительная растерянность ". Он мечтает о силе <…> Писатель Занд видит источник силы. Он в неразрывной связи с восходящим классом. <…> "благородная зависть" выдает Занда. Сквозь нее сочится не доверяемая даже дневнику, не высказываемая даже наедине с собой мысль, что раньше история была легче <…> Сейчас в стране писателя Занда, в СССР, происходит подобное тому, что происходило в Америке <…> Но действительно ли у нас происходит сейчас нечто, хоть сколько-нибудь "подобное" расцвету капитализма <…> ведь ставить так вопрос и видеть нечто "подобное" — значит попросту клеветать. И Занд, не решаясь сознаться себе в этом, клевещет на историю <…> бежит в спасительную формулу фигляров: “Я хочу быть дураком!”» (30 дней. 1932. № 1. С. 19-20).
…Вам нужно слиться с массой… – Через неделю Адамович писал в «Опытах»: «Недавно в нашей газете была речь о “Записках Занда” Юрия Олеши.
В "30 днях" — где были помещены и эти любопытнейшие записки — появилось открытое письмо Олеше от группы рабочих-" литкружковцев".
"Мы хотим вам помочь, — пишут литкружковцы. — В вашем творчестве, тов. Олеша, — прорыв! В нем нет рабочего класса, в нем не показано наше превосходство. Нам нужно, чтобы вы перестроились… Овладейте теорией диалектического материализма!"
Что ответит Олеша? Может быть, то же, что отвечает его Занд на подобные же наставления:
"Оставьте. Я не хочу быть писателем, я хочу быть дураком".
Ибо в России писатель обязан "показывать производство" и "овладевать" официально одобренными теориями» (Сизиф. Отклики // Последние новости. 1932. 7 апреля. № 4033. С. 3). Два года спустя на вопрос интервьюера «Какова судьба пьесы "Смерть Занда"» Олеша ответил: «Эта пьеса мне больше не нужна, издавать ее я не собираюсь. Драма Занда уже произошла во мне самом и разрешилась победой оптимистического начала <…> Эта мрачная пьеса потеряла для меня всякий смысл и я вспоминаю о ней, словно о какой-то болезни» (Литературный Ленинград. 1934. 12 августа. № 39).
Левин Борис Михайлович (1898-1940) — советский прозаик, печатался с 1923, выступая преимущественно в жанре юмористических рассказов. Повесть «Жили два товарища», опубликованная в 9 номере «Нового мира» за 1931 год и выпущенная одновременно отдельным изданием (М. – Л.: ГИХЛ, 1931), была его первым большим произведением.
…О романе Б. Левина «Жили два товарища» я расскажу в ближайшее время более подробно… — Полгода спустя Адамович и впрямь посвятил повести Левина отдельную статью: Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1932. б октября. № 4215. С. 3.
«Одна радость» — рассказ Б. Левина, опубликованный в «Красной нови» (1931. № 10-11. С. 50-72).
О книге Лоренса. — Последние новости. 1932. 7 апреля. № 4033. С. 3.
…Книг у Лоренса… много… — Английский писатель Дэвид Герберт Лоренс, Лоуренс (Lawrence; 1885-1930) за свою двадцатилетнюю писательскую карьеру опубликовал полдюжины романов, несколько сборников рассказов и стихов, но всемирную известность ему принес роман «Любовник леди Чаттерлей» (Lady Chatterley's Lover; 1928).
…О «Любовнике леди Чаттерлей» рассказывал уже в нашей газете А. Ладинский… — В статье «Англия после войны» Ладинский писал о французском издании романа: Lawrence Н . L'amant de lady Chatterley / Traduit par R. Cornaz. Paris: Gallimard, 1932 (Последние новости. 1932. 18 февраля. № 3984. С. 3. Подп.: А. Л.).
…На днях вышел русский перевод романа Лоренса… — «Любовник леди Чаттерлей» впервые появился на русском языке в переводе Т. И. Лещенко (Берлин: Петрополис , 1932).
…«Любовник леди Чаттерлей» написан поэтом, которому самое понятие «порнография» было совершенно чуждо… — Часть общества склонна была рассматривать роман именно как порнографический, во многих странах он был запрещен, жаркие споры вокруг книги Лоренса шли более трех десятилетий, пока, наконец, судебный процесс в Лондоне в 1960 г. не завершился реабилитацией романа.
< «Парижские ночи» Довида Кнута. — «Верность» Ю.Мандельштама. — «Горький цвет» Ю. Карелина >. — Последние новости. 1932. 14 апреля. № 4040. С. 2.
…Когда «родился» Довид Кнут? Имя его было известно тем, кто интересуется судьбами и развитием русской поэзии, довольно давно, лет восемь тому назад, до крайней мере… — Довид Кнут печатался с 14 лет, писал стихи примерно с того же возраста, принимал активнейшее участие в литературной жизни эмиграции с 1920 года, как только перебрался в Париж, но широко публиковать стихи в эмигрантской печати начал с 1926 года.
…На Кнута сразу, после появления в печати первых его стихотворений, обратили внимание… — Подробно об этом см.: Хазан В. Довид Кнут: Судьба и творчество. Lyon, 2000.
…Года четыре тому назад в «Современных записках» было напечатано одно его удивительное стихотворение… — Имеется в виду стихотворение Довида Кнута «Я помню тусклый кишиневский вечер…» (1929), впервые напечатанное под названием «Воспоминание» (Современные записки. 1930. № 41. С. 170-172).
«Парижские ночи : Третья книга стихов» (Париж: Родник, 1932) — сборник стихов Довида Кнута, многими критиками эмиграции признанный его лучшей книгой. Подробнее см. в примечаниях В. Хазана: Кнут Довид . Собрание сочинений. В 2 т. / Сост. и комм. В. Хазана. Вступ. ст. Д. Сегала. Иерусалим, 1997. Т. 1. С. 332-335.
…рядом с «Похоронами» помещено другое стихотворение, такого же склада и тона, ни в чем ему не уступающее… — В сборнике «Парижские ночи» вслед за стихотворением «Я помню тусклый кишиневский вечер…» было напечатано стихотворение «Уже давно я не писал стихов…», впервые опубликованное под названием «Бутылка в океане» (Числа. 1930. № 2/3. С. 19-21), а позже печатавшееся под заголовком «Слова» (Кнут Довид . Избранные стихи. Париж, 1949. С. 111-114).
…Те, ктопрежде покровительственно одобрял Кнута за оптимизм или «радостное утверждение жизни должны быть разочарованы. От «радостного утверждения» не осталось ничего… — После выхода книги «Парижские ночи» современники вынуждены были отметить перемены в стилистике Кнута. Суммируя эти наблюдения, Глеб Струве позже писал, что в поэзию Кнута, вначале такую земную и радостную, в 30-е годы «назойливо входит тема «потери слова», тема молчания»; объяснял он это «влиянием «опростительной» проповеди Адамовича» (Струве Г. П. Русская литература в изгнании. Париж, 1983. С. 344). Современный исследователь творчества Кнута В. Хазан спорит с этим утверждением, не предлагая, однако, взамен иного объяснения: «После "Второй книги стихов" и насмешливо-задорного "Сатира" развитие его лирического сознания при желании можно представить, как поиск «потерянного слова», как своего рода отчуждение от установленных ранее художественных приоритетов, что, кстати сказать, в творческом смысле оказалось весьма плодотворным: не случайно в фарватере этих поисков написана лучшая, по общему признанию, книга Кнута "Парижские ночи". Не исключено, что ее автор испытывал влияние Адамовича, и здесь, и в последующей своей книге, "Насущная любовь", в известном смысле сближался с поэтикой "парижской ноты", за которой было бы крайне неверным, однако, устанавливать приоритет катастрофического ощущения мира» (Хазан Владимир . Довид Кнут: Судьба и творчество. Lyon, 2000. С. 60-61). Признавая, что «нельзя, разумеется, отрицать влияния Адамовича на Кнута» (Там же. С. 65), в примечании к приведенному пассажу Хазан высказался по этому поводу более определенно, хотя не более конструктивно: «Даже если допустить правоту Г. П. Струве относительно влияния Адамовича на Кнута (хотя все равно остается неясным, каков был фактический субстрат "парижской ноты” в его собственно кнутовском выражении и в каких художественных формах проявлялось у этого поэта "влияние 'опростительной' проповеди Адамовича», ср. у Г. П. Струве дальше: "…в целом поэзия Кнута далека от опростительства "), это ровным счетом ничего не доказывает, поскольку внешне эффектная схема эволюции "от Ходасевича к Адамовичу" к Кнуту мало приложима» (Там же. С. 161). Эволюция в эту сторону не могла нравиться как Струве, так и другим литераторам, настроенным оппозиционно по отношению к Адамовичу, однако никакого иного объяснения они предложить не смогли, оставалось лишь дать этой эволюции оценку. Берберова в воспоминаниях писала о Кнуте, что именно поздние «стихи его потеряли мужественное своеобразие и стали расплывчаты и однообразны » (Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983. Т. 1. С. 318). Зато Адамович с удовлетворением отмечал, что Кнут именно в поздних стихах нашел «свой внутренний стиль, и свой язык» (Адамович Г . Довид Кнут и П. Ставров // Новое русское слово. 1955. 29 июня).
…Юрий Мандельштам — стихотворец еще совсем юный. Ему следовало бы выбрать себе какой-либо псевдоним, и это, право, еще не поздно сделать… — Это пожелание так позабавило В. Яновского, что он вспоминал о нем много лет спустя в своих воспоминаниях, утверждая, правда, что рецензия Адамовича была написана «после десятилетия творческой деятельности Мандельштама» (Яновский В. Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. С. 214).
«Верность : Вторая книга стихов» (Париж: Я. Поволоцкий, 1932) — сборник Юрия Владимировича Мандельштама (1908-1943).
«Горький цвет : Стихи» (Берлин: Петрополис, 1932) — сборник Ю. Карелина (наст, имя Петр Абрамович Бронштейн; 1881-1944).
<«Охранная грамота» Б. Пастернака>. — Последние новости. 1932. 28 апреля. № 4054. С. 2.
«Охранная грамота» — автобиографическая повесть Пастернака, впервые опубликованная в журналах (Звезда. 1929. №8. С. 148-166; Красная новь. 1931. №4. С. 3– 23; № 5/6. С. 32-46), а затем вышедшая отдельной книгой (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931). Адамович ведет речь о последнем издании.
…Книга посвящена памяти Рильке… — О взаимоотношениях Пастернака и Рильке см. ряд публикаций К. М. Азадовского, прежде всего книги: Рильке Р. М., Пастернак Б., Цветаева М. Письма 1926 года. М.: Книга, 1990; Рильке Р. М. Дыхание лирики: Переписка с Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком: Письма 1926 г. М.: Арт-Флекс, 2000.
«Поэма экстаза» — симфония Скрябина (оп. 54, 1907 год).
…Большинство студентов-философов увлекалось в то время Бергсоном… — Дань увлечению идеями Бергсона отдал и Адамович, а также многие из его друзей: Н. Оцуп, В. Варшавский и др.
…Пастернака тянуло в Марбург, к строгому и суровому неокантианцу Когену… — С мая по август 1912 года Пастернак занимался в Марбургском университете, принимая участие в семинарах Г. Когена, П. Наторпа и Н. Гартмана; вернувшись в Москву, написал кандидатское сочинение на тему «Теоретическая философия Г. Когена».
«Он из Германии туманной привез учености плоды»… «Дух пылкий и довольно странный, всегда восторженная речь» — Пушкин А. С. Евгений Онегин. Глава вторая. VI.
…младшая сестра покойного… — Ольга Владимировна Маяковская (1890-1949).
«Мама, ваш сын прекрасно болен…» — из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (1915).
…Косноязычие… далеко не всегда «высокое», по формулировке Гумилева… — Имеются в виду строки Гумилева из стихотворения «Восьмистишие (Ни шороха полночных далей…)» (1915): «И, символ горнего величья, / Как некий благостный завет, — / Высокое косноязычье / Тебе даруется, поэт».
«Сумасшедший корабль». – Последние новости. 1932. 5 мая. № 4061. С. 3.
…Буржуазное реставраторство… Авторам трех книг, вышедших за последние месяцы, предъявлено в России это обвинение… — См. прим. к статье: Последние новости. 1932. 4 февраля. № 3970. С. 2.
«Возвышенной стыдливостью страданья» — неточная цитата из стихотворения Тютчева «Осенний вечер (Есть в светлости осенних вечеров…)» (1830). У Тютчева: «Божественной стыдливостью страданья».
<«Северное сердце» Ант. Ладинского. — «Поиски оптимизма» В. Шкловского. — Последние новости. 1932. 12 мая. № 4068. С. 2.
«Северное сердце: Вторая книга стихов» (Берлин: Парабола, 1931) — сборник Антонина Ладинского. Ознакомившись с рецензией, Ландинский записал в дневнике 12 мая 1932 года: «Адамович написал статью о "Северном сердце". Статья хвалебная, но со всякими оговорками. Впрочем, на лучшее я не рассчитывал» (РГАЛИ. Ф. 2254. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 43).
…Это — театр, искусный и изящнейший, и не случайно Ладинский так часто о театре, в частности о балете, пишет. Он возвращает нашей современной поэзии элементы волшебства, сказочности… — Об этой особенности стихов Ладинского писали также В. Ходасевич: «Все как будто ненастоящее, но все намекает на настоящее. Отсюда — естественный, очень понятный и в сущности не новый переход к теме театра и балета <…> Мир декораций, кисеи, тарлатана, румян и пудры Ладинскому мил и близок и так же непорочен, как его петербургские сны» (Возрождение. 1932. 19 мая. № 2543. С. 4) и И.Голенищев-Кутузов: «В бутафорском театре, где идут мелодрамы, где балерины, как ледяные розы, расцветают среди феерий, остается лишь предчувствовать другую, недоступную реальность» (Современные записки. 1932. № 50. С. 456-458).
«Пусти меня в сердце, снегурка!..» — Адамович приводит три последних строфы стихотворения Ладинского «Русская сказка» (1931).
…Теперь от Шкловского никто больше ничего уже не ждет. Формализм, созданный им, кончен, да он и сам от него отрекся… — Имеется в виду статья Шкловского «Памятник научной ошибке» (Литературная газета. 1930. 27 января).
…Битвы с символистами отошли в область предания… — О наступлении формалистов на символизм см. главу «Годы борьбы и полемики: 1916-1920» книги: Эрлих Виктор. Русский формализм: История и теория. СПб.: Академический проект, 1996. С. 69-84.
«Облетели цветы, догорели огни» — из стихотворения Семена Яковлевича Надсона (1862-1887) «Умерла моя муза!.. Недолго она…» (1885).
«Поиски оптимизма» (М., 1931) — книга Виктора Шкловского.
…Дурная литература. Но… перворазрядный человеческий документ… — Альфред Бем в своей рецензии вступился за Шкловского, явно не без оглядки на Адамовича: «Не знаю, может быть, имя Виктора Шкловского, слишком яркое и боевое, вызвало то, что в эмигрантской критике его последняя книга была встречена очень сурово. Доигрался, мол, так тебе и надо! Но, по совести, такого приема книга не заслуживает, если взять ее как литературное произведение и человеческий документ <…> следить, как запретная литературная форма пробивается сквозь насильно ей навязанные тиски, необычайно мучительно» (Современные записки. 1933. № 51. С. 462).
О «пафосе» Москвы. – Последние новости. 1932. 26 мая. № 4082. С. 2.
«Тайное тайных» (M.-Л.: Госиздат, 1926) — книга рассказов Всеволода Иванова.
«Июнь-июль» (M.-Л.: ГИХЛ, 1931) — повесть Александра Георгиевича Митрофанова (1899-1951).
«Страх : Пьеса в 9-и картинах» — пьеса Александра Николаевича Афиногенова, вышедшая одновременно в двух издательствах (Л.: Ленинградский театр драмы им. А. С. Пушкина, 1931; М.-Л.: ГИХЛ, 1931).
…Достоевский говорил о Петербурге, что это «самый умышленный город»… — Имеются в виду слова Достоевского о «сугубом несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре» (Записки из подполья. II).
…Недавно чествовали Гете… — К 100-летию со дня смерти Гете в русском Париже состоялся ряд мероприятий. На вечере, устроенном «Перекрестком» 19 марта 1932 года в Salle des Societes Savantes, с докладами выступили В. В. Вейдле, И. Голенищев-Кутузов. В Религиозно-философской академии В. Н. Ильин прочитал цикл лекций «Религиозно-философский смысл «Фауста» Гете» (10, bd du Montparnasse; 10, 24, 31 мая). 17 мая 1932 года в Salle de Musee Social Г. И. Зейд прочел доклад «Гете-юрист. Студенческие и адвокатские годы». Чуть позже в «Зеленой лампе» состоялось собеседование на тему «Духовный кризис Европы (Винчи, Гете и мы)», где вступительное слово сказал Д. С. Мережковский, а Адамович принял участие в прениях (8 июня 1932; Salle de Musee Social).
«звездная книга ясна и с кем говорила морская волна» — измененные строки стихотворения Баратынского «На смерть Гете» (1832).
«Современные записки», книга 49-я. Часть литературная. — Последние новости. 1932.2 июня. № 4089. С. 2.
49 книга «Современных записок» вышла из печати в мае 1932 года.
…если не считать Шаляпина, который, впрочем, не литературе обязан своей славой… — 49 книга «Современных записок» открывалась мемуарами Федора Шаляпина под заголовком «Из книги воспоминаний» (С. 5-38).
…Сирин, Берберова, Георгий Песков и Газданов. Трое из них — «дети эмиграции». Берберова, если не ошибаюсь, напечатала несколько стихотворений еще в советской России… — Из всех четверых лишь Газданов начал печататься в эмиграции; не только Берберова, но и Набоков, и Георгий Песков (наст, имя Дейша Елена Альбертовна; 1885-1977) успели опубликоваться еще в России, однако лишь Берберова (не без советов Ходасевича) вела себя как писательница с российским стажем, отказываясь играть роль начинающего литератора.
…В. Сирин принадлежит к явным любимцам журнала. Из номера в номер печатаются в «Современных записках» его произведения… — Набоков время от времени публиковал стихи в «Современных записках», начиная с 1921 года (№№ 7, 11, 30, 33, 47). После того, как журнал принял к печати «Защиту Лужина» (1929. № 40), произведения Набокова появлялись в каждом номере «Современных записок», за исключением 53, 57 и 62 номеров.
«Camera obscura» — В номере (С. 39-83) были опубликованы первые главы романа В. Набокова, фрагменты которого ранее печатались в газетах (Русский инвалид. 1931. 21 мая; Наш век. 1931. 8 ноября; Последние новости. 1932. 17 апреля; 18 сентября), а книжное издание появилось на следующий год под названием «Камера обскура» (Париж: Современные записки; Берлин: Парабола, 1933).
…новом романе Сирина. Вероятно, лишь случайно это произведение… оказалось более авантюрно и кинематографично, чем «Подвиг» или «Защита Лужина»… — Некоторые современные исследователи считают, что это не было случайностью. См., например, рассуждение Н. Мельникова: «Подобно роману "Король, дама, валет", "Камера обскура" свидетельствует о настойчивых попытках писателя привлечь внимание массового, в том числе и иностранного читателя. Следует отметить, что время создания "Камеры обскуры" (роман был начат в январе и завершен в мае 1931 года) — период наибольшего сближения эпической музы В. Набокова с кинематографом. Именно в это время его творчеством заинтересовался знаменитый голливудский режиссер Льюис Майлстоун. Создатель нашумевшей экранизации романа "На западном фронте без перемен" предложил писателю переработать сценарий "Любовь карлика", который тот уже пытался пристроить в берлинских киностудиях. В то же время Набоков завязывает знакомство с представителем Голливуда в Германии С. Бертенсоном. "Камера обскура" была предложена ему в качестве литературной основы будущего фильма. Сюжет "Камеры обскуры" во многом соответствует стандартам бульварной беллетристики и массового кинематографа тех лет. Помимо элементов мелодрамы, в нем наличествуют расхожие атрибуты любовно-авантюрного романа: адюльтерная интрига, стремительно развивающееся действие, мелодраматически экспрессивные сцены бурных скандалов, объяснений, примирений, покушений на убийство по причине ревности и проч. В соответствии с сюжетной схемой предельно упрощены характеры персонажей — в том числе и главных героев, составляющих шаблонный любовный треугольник. В романе практически отсутствуют развернутые пейзажные зарисовки, пространные авторские рассуждения и комментарии, которые могли бы затормозить развитие фабулы. Лаконичные авторские описания напоминают четкие и информативные сценарные ремарки. Роман разбит на большое число маленьких главок, как правило, соответствующих одному сценическому эпизоду. По правилам, сформировавшимся в массовой литературе еще в эпоху газетных романов-фельетонов, действие к концу каждой главки нарастает и часто эффектно обрывается на самом напряженном моменте» (Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общей редакцией Н. Г. Мельникова. Сост. и подгот. текста Н. Г. Мельникова, О. А. Коростелева. Предисл., преамбулы, комментарии, подбор иллюстраций Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 97).
…«Повелительнице» Н. Берберовой… — В номере было опубликовано начало повести Берберовой (С. 84-123).
…Газданов пишет о французах… — В номере был напечатан рассказ Газданова «Счастье» (С. 164-202).
«Чтобы по бледным заревам искусства / Узнали жизни гибельный пожар!» — последние строки стихотворения Блока «Как тяжело ходить среди людей.(1910).
…Мне уже приходилось говорить о «Злой вечности» Георгия Пескова… — В рецензии на 48 книгу «Современных записок» (Последние новости. 1932. 1 февраля. № 3977. С. 2). В 49 книге было опубликовано окончание повести (С. 124-163).
…В отделе стихов… З. Гиппиус… Терапиано,Поплавский и Эйснер… — В номере напечатаны стихотворения З. Н. Гиппиус «Над забвеньем», «Жить», «Большевицкий сон», «В новой» (С. 203-205); Ю. Терапиано «Зимой в снеговом сугробе…», «Дано вам: чудное счастье…», «За что, такое несчастье?..», «Но падают золотые…» (С. 206-209), Б. Поплавского «Рождество расцветает. Река наводняет предместья…» (С. 210), А. Эйснера «Надвигается осень. Желтеют кусты…» (С. 211-212).
…«Над забвением»… Как почти все лучшие стихи русского символизма, оно напоминает Тютчева… Тем более удивительно и тягостно прочесть рядом с ними странное произведение, озаглавленное «Большевицкий сон»… — Стихотворение Гиппиус «Над забвением» напоминает Тютчева весьма отдаленно, а «Большевицкий сон» вызвал недоумение Адамовича, по всей вероятности, тем, что довольно явственно напомнил ему стихи футуристов.
«пронзительно-унылый» — из стихотворения Пушкина «Ответ анониму» (1830).
…По-прежнему интересны мемуары А. Л. Толстой… — С. 213-240.
…«14-е декабря» М. Цетлина… — Под таким названием в журнале был напечатан отрывок из книги «Декабристы» (С. 241-262), которая на следующий год вышла отдельным изданием: Цетлин М. О. Декабристы. Париж: Изд. «Современные записки», 1933.
…«К юбилею Гете» Алданова… — С. 263-270.
…статью П. Бицилли… — В номере была напечатана статья П. Бицилли «К пониманию современной культуры (Проблема универсального языка)» (С. 318-334).
Стихи. — Последние новости. 1932. 11 августа. №4159. С. 3; 18 августа. № 4166. С. 3.
«Le grand siecle, je veux dire, le dixhuitieme» — «Великий век, я всегда говорил, восемнадцатый» (фр.).
«поэт в поэтах первый» — из стихотворения Пушкина «Городок (К ***)» (1815).
…о берлинском сборнике «Роща»… — Адамович ведет речь об издании: Роща: Второй сборник берлинских поэтов. Берлин: Слово, 1932.
…В Париже, на обложке сборников такого рода, указание на возраст стало обычаем… — Имеются в виду Сборники Союза молодых поэтов и писателей в Париже, выпускавшиеся в 1929-1931 годах (всего вышло 5 сборников). Парижские литераторы младшего поколения, видимо, к тому времени и сами почувствовали несолидность слова «молодой» в названии и в декабре 1931 года переименовали Союз молодых поэтов и писателей в Париже (1925-1940) в Объединение поэтов и писателей.
«не так, чтобы слишком толстые, но и не то, чтобы чересчур тонкие» — Адамович имеет в виду гоголевский портрет Чичикова: «господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод» (Гоголь Н. В. Мертвые души. Т. 1. Гл. 1).
«книжка небольшая томов премногих тяжелей» — из стихотворения Фета «На книжке стихотворений Тютчева» (1883).
«unnouveau frisson» — «новый трепет» (фр.).
«ударить по сердцам с неведомою силой» — из стихотворения Пушкина «Ответ анониму» (1830).
…Выделю, все-таки… из числа берлинских поэтов одного — Н. Белоцветова… — В сборнике «Роща» были напечатаны стихотворения Николая Николаевича Белоцветова (1892-1950) «С тем горьковатым и сухим…», «Распахнутого, звездного алькова…», «А вдруг под музыку? А вдруг…», «Элегия», «Так раскрываются лишь Царские Врата…».
…Стихотворный отдел «Чисел» более полон, да и составлен более тщательно, чем в каком-либо другом журнале за время существования эмиграции… — В шестом номере «Чисел» за 1932 год были напечатаны стихотворения «Багровое солнце глядело, как глаз разъяренный быка», «Младенцев во взрослых я вижу…», «На все упреки я смолчу…» Екатерины Бакуниной (С. 5-6), «Теплый запах дерева и мяты…» Анны Берлин (С. 7), «Налетает ветер длиннокрылый…»,« Господи! Умереть бы сразу…» Раисы Блох (С. 8-9), «Когда летящий с крутизны…», «Рыдают кошки, как больные дети…» Александра Браславского (С. 10), «Весною хочется поговорить…», «Дождь идет над Сеной…» Бориса Заковича (С. 11), «Богине», «У статуи» Антонина Ладинского (С. 12-13), «Где снегом занесенная Нева..», «Нет удивления, нет сил…», «Возвращается ветер на круги свои…», «Он — в звездах, ледяной…», «Чтоб сильную и гордую сберечь…»,« От жалости ко мне твоей…» Николая Оцупа (С. 14-16), «Ранний вечер блестит над дорогой…», «Ты устал, отдохни…», «Ты устал, приляжем у дороги…» Бориса Поплавского (С. 16-19), «Тяжело, что явленья так странно похожи…», «Сулил и смерть и холода…», «О неотступной беде…» Софии Прегель (С. 20-21), «Плотник: Баллада (Плюнул в руку: с окаянной…)» Алексея Холчева (С. 22-24), «От зависти, от гордости, от боли…», «Мимоза никогда не завянет…», «Все не о том, помолчи, подожди…» Лидии Червинской (С. 25-26).
«…в кровать / И спать, и спать, подольше спать…» — из стихотворения Оцупа «Нет удивления, нет сил…».
«предоставьте мертвым» — Лк 9, 60; Мф 8, 22.
<«Жизнь Клима Самгина» М. Горького >. — Последние новости. 1932. 25 августа. № 4173. С. 3.
…нового, огромного романа Максима Горького… — К тому времени первые три тома романа «Жизнь Клима Самгина» вышли отдельными книгами (1927-1931).
roman-fleuve — роман-река (фр.).
Новые веяния. — Последние новости. 1932. 15 сентября. №4194. С. 2.
…один из сотрудников московской «Литературной газеты» беседовал на разные темы с популярными советскими юмористами Ильфом и Петровым… — В материале «Под сенью изящной словесности» Ильф и Петров ответили на вопросы, с которыми к ним наиболее часто обращались читатели (Литературная газета. 1932. 23 августа. № 38 (207).
Постановление ЦК партии от 23 апреля… — Имеется в виду ликвидирующее РАПП и учреждающее единый союз советских писателей постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (23 апреля 1932 г.).
…вздрагивал и вскакивал с постели, едва произносили при нем знакомые канцелярские слова: «неоднократно замечено..»…. — из рассказа Достоевского «Господин Прохарчин» (1846).
…памятной резолюции 1925 года, когда партия вмешалась в спор Воронского с напостовцами… — Имеется в виду постановление ЦК ВКП (б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы», в котором объявлялось «свободное соревнование различных группировок и течений в данной области» и утверждалось, что «партия не может предоставить монополии какой-либо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содержанию».
…«союзник — или враг». Лозунг этот явился на смену понятию «попутчик»… Сейчас это «левацкое вульгаризаторство»… — В 1931 году этот лозунг был выдвинут в статье Б. Кора «Не попутчик, а союзник или враг», а уже в мае 1932 года характеризовался как «ошибочный, политически неверный <…> прикрытие "левацко"-вульгаризаторства в критике» (Литературная газета. 1932. 17 мая. № 22. С. 3).
«Современные записки», книга 50-я. Часть литературная. — Последние новости. 1932. 27 октября. № 4236. С. 3.
…П. Н. Милюков в особой статье уже приветствовал редакцию журнала… — В своей статье Милюков писал:
«Наш эмигрантский толстый журнал дожил до своего юбилейного 50-го тома. Если не относить это к одному из "чудес" эмиграции (их, наверное, больше семи), нужно признать этот факт одним из величайших ее достижений <.. .> Труд, вложенный редакторами в этот исторический памятник, не пропадет и столь вышучиваемые теперь эпитеты сеятелей "разумного, доброго, вечного" могут быть с полным правом приложены к журналу и к большей части его постоянных сотрудников» (Милюков П. Н. 50-й том «Современных записок» // Последние новости. 1932. 6 октября. № 4215. С. 2).
«патент на благородство» — из стихотворения Фета «На книжке стихотворений Тютчева» (1883).
…Книга открывается первыми главами нового романа Алданова «Пещера»… — С. 5-73.
…«Жанете» Куприна дан подзаголовок — роман… — «Жанетта», первая часть которой появилась в 50 книге (С. 74-95), впрямь по всем жанровым признакам была повестью, и несоответствие подзаголовка многим бросилось в глаза. В частности, Ходасевич писал: «Даже авторы, наименее склонные к литературному бунту, проявляют полное небрежение к "школьным" подразделениям беллетристических жанров. Из самых недавних примеров укажу на "Жанетту" Куприна, названную романом вполне произвольно и несоответственно ни стилю, ни духу, ни даже просто объему этой прелестной вещи» (Возрождение. 1934. 8 ноября. № 3445. С. 3-4).
…Ремизов дал отрывок из какого-то нового, большого и сложного своего произведения… — Фрагмент ремизовской прозы, напечатанный в «Современных записках» под названием «Кран гиппопотама» (С. 96-112), был позже включен в его «эмигрантскую хронику». «Учитель музыки» (Paris: La Presse Libre, <1983>. С. 233-249).
«sous entendus» — намек (фр.).
…Роман Сирина «Камера обскура»… — С. 113-155.
…Это превосходный кинематограф,но слабоватая литература… — Ходасевич, рецензируя отдельное издание романа, именно в этом находил особое достоинство: «Сказать, что сиринский роман похож на синематограф, — значит сказать о нем слишком мало и слишком мало понять из того, что им подсказывается внимательному человеческому сознанию <…> синематограф руководит вовсе не только литературным стилем автора, но и судьбою действующих лиц. Он подсказывает не только те или иные приемы автору, но и поступки — действующим лицам <…> Сирин вовсе не изображает обычную жизнь приемами синематографа, а показывает, как синематограф, врываясь в жизнь, подчиняет ее своему темпу и стилю, придает ей свой отпечаток, ее, так сказать, синематографирует. Тут не плохая дорога изображена плохими стихами, а ухабистые стихи делают ухабистой самую дорогу: синематографом пронизан и отравлен не стиль романа, а стиль самой жизни, изображенной в романе. <…> Эта-то вот пропитанность жизни синематографом и есть истинный предмет сиринского романа, в котором история Магды и Кречмара служит только примером, образчиком, частным случаем, иллюстрирующим общее положение <…> "Синематографизированный" роман Сирина по существу очень серьезен. В нем затронута тема, ставшая для всех нас роковой: тема о страшной опасности, нависшей над всей нашей культурой, искажаемой и ослепляемой силами, среди которых синематограф, конечно, далеко не самая сильная, но, быть может, самая характерная и выразительная» (Возрождение. 1934. 3 мая. № 3256. С. 3-4).
…О «Повелительнице» Берберовой не скажу ничего. Роман только что вышел отдельной книгой и заслуживает особого разбора… — В номере (С. 156-203) было опубликовано окончание романа Берберовой, который одновременно вышел отдельным изданием (Берлин: Парабола, 1932). Три недели спустя Адамович дал отзыв на это издание: Последние новости. 1932. 17 ноября. № 4257. С. 3.
…небольшой рассказ Газданова… – «Третья жизнь» (С. 204-223).
…стихи Оцупа… Ходасевича… Георгий Иванов… Лaдинский… Поплавский… Раевского… Голенищев-Кутузов… Марина Цветаева… — В книге были напечатаны стихотворения «Jardin de Luxembourg» И. Голенищева–Кутузова (С. 224), «Я люблю эти снежные горы» и «Обледенелые миры» Георгия Иванова (С. 225), «Посвящение» А. Ладинского (С. 226-227), «Снег и снег, не измеришь докуда…», «Не правда ли жемчуг — с душой…» и «Измученный, счастливый и худой…» Н. Оцупа (С. 227-228), «Разметавшись широко у моря…» Б. Поплавского (С. 229– 230), «Открылась дверь. Широкой полосой…» Г. Раевского (С. 230), «Никакими словами, никакими стихами…», «Есть тишина — ей нет названья…», «…А все-таки, наперекор всему…» В. Смоленского (С. 231-232), «Я (Когда меня пред божий суд…)» В. Ходасевича (С. 232-233), «Роландов рог» М. Цветаевой (С. 234).
…Цветаевой же принадлежит статья… — В номере было опубликовано начало большой работы Цветаевой «Искусство при свете совести» (С. 305-326).
…Цитирует она то Тютчева, то Верлена (с ошибкой, конечно, в обоих случаях)… — В статье Цветаева привела строки из стихотворения Тютчева «Она сидела на полу…» (1858): «Брала истлевшие листы / И странно так на них глядела, / Как души смотрят с высоты / На ими брошенное тело». У Тютчева: «Брала знакомые листы / И чудно так на них глядела». Под цитатой из Верлена Адамович, видимо, имеет в виду измененную Цветаевой строку из стихотворения Верлена «Искусство поэзии» (Art poetique): «Et tout le rest n'est que litterature» (Все прочее — не как литература). У Верлена: «Et tout le rest est litterature» (Все прочее — литература).
…Вышеславцев полагает, — правда, неутверждая этого категорически, — что отрывок появляется к печати впервые… — Вышеславцев написал лишь о том, что «настоящий отрывок из записной книжки Достоевского не вошел ни в одно Собрание его сочинений» (Вышеславцев Б. Достоевский о любви и бессмертии (Новый фрагмент) // Современные записки. 1932. № 50. С. 288-304).
…Не буду в короткой заметке полемизировать с Вышеславцевым… Но тут я вступаю в полемику и с С. Гессеном… — Желание полемизировать у Адамовича вызвали, судя по всему, утверждение Вышеславцева: «В приводимом отрывке выступает все философское величие Достоевского» (С. 290), а также заявление С. И. Гессена о том, что «имеется достаточно вполне "современных" русских и иностранных богословов и философов, коих привлекают в Д. не только его психология и его этическая проблематика, но и религиозно-философские взгляды» (С. 464). Сам Адамович придерживался на этот счет иного мнения, которое не раз выражал печатно, наиболее резко в статьях «Сумерки Достоевского» (Последние новости. 1936. 17 сентября. № 5655. С. 3) и «Писатель для юношества» (Русская мысль. 1957. 21 марта).
…рецензируя английскую книгу о Достоевском… — Гессен рецензировал книгу: Edw. Hallett Carr. Dostoevsky (1821-1881). A new biography. London: George Allen & Unvin, 1932.
…«Воспоминания» A. Л. Толстой… — С. 235-270.
<«Повелительница» H. Берберовой. — «Время, вперед!» В. Катаева>. — Последние новости. 1932. 17 ноября. № 4257. С. 3.
…«Повелительница» Н. Берберовой. Роман печатался отрывками в «Современных записках»… — Роман Берберовой «Повелительница» появился почти одновременно в журнальном варианте (Современные записки. 1932. № 49. С. 84-123; № 50. С. 156-203) и отдельным изданием (Берлин: Парабола, 1932).
…Заметно было с первых же ее рассказов сильнейшее, подавляющее влияние Достоевского… — Об атмосфере Достоевского в прозе Берберовой писали почти все эмигрантские критики. Как раз роман «Повелительница» Вейдле расценил как отход от Достоевского к традиции французского романа (Современные записки. 1933. № 51. С. 461).
Шнитцлер , Шницлер Артур (Schnitzler; 1862– 1931) — австрийский драматург, импрессионист, декадент, позже испытал влияние фрейдизма.
…Одна небольшая повесть — «Растратчики» — дала Вал. Катаеву имя… — «Растратчики» были впервые напечатаны в 1925 году и множество раз переиздавались в России, а также в переводах на европейские языки; печаталась повесть и в эмиграции: в 1927 году в Париже с подзаголовком «Повесть из жизни современной России», затем дала название рижскому избранному Катаева (Рига: Литература, 1928).
«Время, вперед! Хроника» (М.: Федерация, 1932) — роман Катаева, до войны переиздававшийся практически ежегодно.
Заметки о советской литературе: После «пленума». — Вечер в Сорренто. — Еще о хронике Катаева. — Психологизм и советский роман. — Последние новости. 1932. 24 ноября. № 4264. С. 2.
Первый «пленум» Союза советских писателей… все говорили о невиданном расцвете советской литературы… — Первый пленум оргкомитета Союза советских писателей прошел в Москве 29 октября—3 ноября 1932 года. На нем присутствовали более 500 писателей из всех республик. Подробнее см.: Советская литература на новом этапе. Стенограмма первого пленума Оргкомитета Союза Советских писателей. М., 1933.
… Авербах… неожиданно обозвал былых своих подчиненных «хамами»… — Выступая на пленуме, Авербахи звал критику по адресу РАПП «проработкой», в которой было много «глупостей и прямого хамства». С. Шешуков в своей книге приводит фрагмент стенограммы последовавшей за этим высказыванием перепалки с председателем оргкомитета И. М. Гронским, который вел пленум:
«Гронский: Это ответ на выступление?
Авербах: Не обязательно хамски выступать на неудачное выступление.
Гронский: Но не обязательно хамски отвечать на выступление Оргкомитета (аплодисменты).
Авербах: Тов. Гронский, видимо, считает, что задачей руководителя является на хамское выступление отвечать по-хамски.
Голоса: Вы десять лет так поступали» (Шешуков С. Неистовые ревнители. М.: Московский рабочий, 1970. С. 322).
«Магнитострои литературы» — партийный лозунг «За Магнитострой литературы» был выдвинут Л. Авербахом в докладе на пленуме правления РАПП 2 декабря 1931 года.
«Пленум дал ярчайшее доказательство гениальной мудрости решения ЦК… единый фронт писателей от Чумандрина до Андрея Белого» — Из итогового отчета о пленуме, напечатанного в «Литературной газете» 11 ноября 1932 года.
…Окончен «Скутаревский»… — роман Леонова печатался в «Новом мире» (1932. №М 5—9).
…Тянется бесконечный, сероватый, скучноватый «Последний из Удэге» Фадеева… — История публикации романа впрямь выглядела почти бесконечной. Главы двух первых частей появлялись в разных журналах, начиная с 1929 года (Октябрь. 1929. № 1-4; 1930. № 4-6; Молодая гвардия. 1930. № 3; Красная новь. № 3-6, 8-10; 1933. № 1-3), а также в «Литературной газете» (1932. 11 апреля и 5 декабря). Параллельно выходили отдельные издания первой (М.: Московский рабочий, 1930) и второй частей романа (М.: ГИХЛ, 1933). На этом история публикации так и оставшегося незавершенным романа не закончилась. Главы третьей и четвертой частей печатались в «Красной нови» (1935. № 9-10; 1936. № 7-8, 12; 1940. № 9-10), в «Правде» (1935. 30 июня и 6 сентября), в журнале «На рубеже» (1935. № 6-7; 1937. № 1-2,1940. № 5), в «Литературной газете» (1936. 15 мая и 5 июля; 1940. 18 августа), в газетах «Рабочий» (1936. 6 марта), «Заря Востока» (1938. 9 августа) и «Советская Киргизия» (1938. 12 и 14 августа). Затем завершенные четыре части вышли двухтомником (М.: Гослитиздат, 1941). Главы из пятой части печатались в «Литературной газете» (1940. 29 сентября), а затем после большого перерыва во втором сборнике «Литературной Москвы» (М., 1956). Целиком все пять частей романа были опубликованы лишь посмертно, через тридцать лет после того, как книга была задумана (М.: Советский писатель, 1957).
«Энергия» — первая книга романа Гладкова была опубликована в «Новом мире» (1932. №№ 1-10), а затем, значительно переработанная, вышла отдельным изданием (М.: Федерация, 1933).
«Баррикады» — повесть Павленко, впервые напечатанная в «Новом мире» (1932. №№ 6-7) и тут же выпущенная отдельным изданием (М.: Федерация, 1932).
«Время, пространство, движение» — роман Л. Никулина, выпущенный двухтомником (М.: Советская литература, 1933).
…Афиногенов… не мог, конечно, удержаться от соблазна побывать у Горького… впечатления от встречи и бесед с «нашим изумительным Максимычем»… — В своем очерке Афиногенов подробно рассказывал о своих волнениях перед встречей: «О чем я буду говорить с Горьким?..» и лишь немного о самих беседах: «21 день я слушал его…» (Афиногенов А . В Сорренто // Красная новь. 1932. № 9. С. 152-156).
…по поводу хроники Вал. Катаева «Время, вперед!»… слово «фетишизм» мелькнуло уже и в советской критке… — Полтора месяца спустя Адамович сообщил о нем в «Откликах»: «Катаевская хроника «Время, вперед» переделана автором в пьесу и поставлена в Москве. Пьеса, по отзывам, получилась живая и довольно увлекательная. Рецензент "Литературной газеты" психически заболел от восторга. Он утверждает, что "после спектакля весь актерский молодняк прямо рвался на стройку, и будь тут же под рукой, на сцене, настоящая бетономешалка, он, может быть, поставил бы новый хозяйственный рекорд, как есть в гриме и париках, под иронические переглядывания старых матерых сценспецов". Это называется — энтузиазм! Песок и щебень на сцену, вместо театра завод, верноподданническая телеграмма Сталину "даешь бетон, долой старых актеров — и все это ночью, после спектакля, "как есть в гриме и париках". Героический век, героические люди» (Сизиф. Отклики // Последние новости. 1933. 5 января. № 4306. С. 3).
<«Счастье» Ю. Фельзена. — «Клетчатое солнце» А. Таль>. — Последние новости. 1932. 8 декабря. № 4278. С. 3.
…У каждой книги — своя судьба. «Habent sua fata libelli», — сказал древний поэт… — Слова из сочинения римского грамматика Теренция Мавра «О буквах, слогах и размерах» (1286 год), ставшие крылатым латинским выражением. Полностью фраза звучала так: «Pro captu lectoris habent sua fata libelli (Книги имеют свою судьбу в зависимости от того, как их принимает читатель)».
Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) – плодовитый беллетрист, популярный у широкой публики в конце XIX века. См. о нем: Струнин Д. Кумир девяностых годов // Русское богатство. 1891. № 10.
«где-то есть душа одна… она до гроба помнить будет» — из стихотворения Некрасова «Внимая ужасам войны…» (1855 или 1856).
….Вячеслав Иванов когда-то заметил, что Анненскийпринадлежит к «скупым нищим жизни»… — В статье «О поэзии Иннокентия Анненского» (Аполлон. 1910. №4) Вячеслав Иванов писал: «Анненский становится на наших глазах зачинателем нового типа лирики, нового лада, в котором легко могут выплакать свою обиду на жизнь души хрупкие и надломленные, чувственные и стыдливые, дерзкие и застенчивые, оберегающие одиночество своего заветного уголка, скупые нищие жизни» (Иванов Вяч. Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. М.: Мусагет, 1916. С. 311).
«Счастье : Роман» (Берлин: Парабола, 1932) — вторая книга Юрия Фельзена, отдельные главы которой ранее печатались в «Числах» (1932. № 6. С. 88-109).
«Сердце мое, исходящее кровью…» — неточная цитата из стихотворения Некрасова «Муж и жена» (1877).
«Клетчатое солнце : Роман» (Берлин: Парабола, 1932) — книга Анны Таль.
1933
<«Скутаревский» Леонида Леонова>. — Последние новости. 1933. 5 января. № 4306. С. 2.
Адамович ведет речь об издании: Леонов Л . Скутаревский: Роман. М.: Федерация, 1932.
…Остается только признать «Скутаревского» роковой и непонятной ошибкой. Критика так и поступает… – в «Откликах» Адамович написал об этом подробнее: «Новый роман Леонова "Скутаревский" возбуждает в России толки и споры. Насколько можно судить по советским отчетам о диспутах и дискуссиях, многие литераторы пользуются тем, что положение Леонова “пошатнулось”, и сводят с ним давние счеты. Иначе трудно объяснить ту настойчивость и даже явную радость, с которой они говорят о “неудаче”, о “срыве” или “необходимости четкой перестройки”. “Скутаревскому” противопоставляется “Соть”. Там Леонов будто бы “нащупал верный путь”. Здесь – сбился, потерял цель из виду, снова дал волю достоевщине… Некоторые критики, впрочем, разбирают "Скутаревского" с чисто формальной точки зрения, — и тоже находят, что "Леонов сдал": Виктор Шкловский, например. Данный им анализ леоновского текста остроумен и убедителен. Но больше всего поражает Шкловского в "Скутаревском" то, что поразит каждого читателя, знакомого с прежними вещами Леонова: "темные, приглушенные тона", в которых ведется роман» (Сизиф. Отклики // Последние новости. 1933. 26 января. №4327. С. 3).
«Числа». Книга 7—8. — Последние новости. 1933. 19 января. № 4320. С. 2.
…Одни утверждали, что «Числа» — это всего лишь забава, роскошь, праздная и чуть-чуть снобическая затея. Другие приветствовали новый журнал… — Подробнее см. тематический номер «Литературного обозрения» (1996. № 2), целиком посвященный «Числам», а также: Летаева Н. В. «Числа» // Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918-1940 / Т. 2. Периодика и литературные центры. М.: РОССПЭН, 2000. С. 496-502; Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956. С. 178-185.
…успех их основан именно на заполнении того «пробела», который давно уже здесь чувствовался, — на широкой, быстрой и притом критической отзывчивости к явлениям общей культуры… – Такой «пробел» особенно ощутимо чувствовался в эмиграции после прекращения «Звена» (1923-1928), которое в меру сил, и порой не без успеха, пыталось эту функцию выполнять. Подробнее см.: Коростелев О. А. История парижского «Звена» // «Звено» (Париж, 1923-1928): Аннотированная роспись содержания; С приложением переписки редакторов / Под общей редакцией О. А. Коростелева. М.: Водолей, 2004
(в печати).
«Не такое нынче время» — из поэмы Блока «Двенадцать» (1918).
…писателям «с именами», — сравнительно редким гостям в журнале… — Из писателей старшего поколения в «Числах» были напечатаны лишь Мережковский, Гиппиус и Ремизов, да и то по одному-два раза.
…эмигрантского «человека тридцатых годов», — которому посвящена одна из статей в последней книжке журнала… — Терапиано Ю . Человек 30-х годов (С. 210– 212). Осмысление этого Терапиано считал одной из главных тем эпохи, гордился своей статьей и два десятка лет спустя, 14 июля 1954 года, писал В. Маркову: «Мне кажется, сейчас нужно подумать нам о "человеке 50-х" годов, как в свое время мы нашли "человека 30-х" гг. Основным ощущением окончившейся сейчас "парижской ноты" была переоценка прежней, дореволюционной лит<ературной> эпохи и вопрос, как и чем может жить современный человек, прошедший через крушение прежнего мира. Этот человек 30-х годов был уединенным индивидуалистом без Бога, сомневался во всем. А каков человек 50-х гг. — вот главный вопрос. Ваша статья о Швейцере касается как раз этого. Вот было бы хорошо поставить вопрос о том, чем жив и чем может жить человек 50-х гг. Тогда и энергия появится, и, б. м., опять возникнет тайный общий заговор, среда, содружество, без которой — Вы правы — литературная среда мертва» («.. .В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда…» Письма Ю. К. Терапиано к В.Ф. Маркову (1953-1966) / Публ. О.А. Коростелева и Ж. Шерона // Минувшее. Исторический альманах. 24. СПб.: Atheneum; Феникс, 1998. С. 260).
…В отделе беллетристики — три автора, до сих пор, кажется, не печатавшиеся или обнародовавшие только стихи… — Рассказы Анатолия Алферова «Дурачье» (С. 27-33) и Анатолия Штейгера «Кирпичики» (С. 141-148), а также фрагмент романа Екатерины Бакуниной «Тело» (С. 34-58) были первыми прозаическими публикациями этих авторов.
le tragique du quotidien — трагическое в повседневном (фр.). Так называлась статья Метерлинка, вошедшая в его книгу «Сокровище Смиренных» (Maeterlinck М . Le Tresor des Humbles. Paris: Mercure de France, 1896).
«возвышающие обманы низким истинам» — измененная цитата из стихотворения Пушкина «Герой» (1830). У Пушкина: «Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман».
…Ю. Фельзен… продолжает свои «Письма о Лермонтове»… — В номере было напечатано (С. 125-140) Письмо 5-е из романа Фельзена. Ранее, в четвертой книге «Чисел» было опубликовано Письмо 6-е.
…«Рассказ медика» В. Яновского… — С. 149-152.
…«Перламутровая трость» З. Гиппиус… — С. 82-124. …Стихи… Н. Оцупа… Георгия Иванова… прекрасные стихотворения поместили: Довид Кнут, Терапиано, Кельберин, Смоленский… — Раздел поэзии в номере составили стихотворения «Если бы можно было…», «Ничем, ничем, ни призрачной улыбкой…» Николая Белоцветова (С. 5-6), «Мы с тобой бродили по старинному городу…», «Когда с рельс сойдя, с легким сладостным свистом…», «Город Нины Александровны (Ваш город, Нина Александровна, — веселый город…)» М. Горлина (С. 6– 8), «Душа человека. Такою…», «Час от часу. Год от году…» Георгия Иванова (С. 8-9), «Сильнее жизни? Горя нет такого…», «И то ненужно, и другое…», «Для жизни, камнем лежит…» Лазаря Кельберина (С.10-11), «Все те же декорации — забытых переулков…», « По твоим виновато-веселым глазам…» Довида Кнута (С. 12-13), «Туманами образы от рая до ада…», « О тишине мельчайшего дробленья…», «Лес, вечер, покой…» Виктора Мамченкo (С. 14-15), «За конторкой бюро…», «Для силы сладострастия…» Николая Оцупа (С. 16-17), «Город детства,
блаженная грусть…», «Притих базара гулкий улей…», «В этом мире стыда и полушек…», «Стучится дождь незначущий и робкий…» Софии Прегель (С. 18-20), «Если ты любишь кого-нибудь больше себя…», «Семь букв, три слога, слово, имя, Ты…», «В томленьи смертном, на смятой постели…» Владимира Смоленского (С. 20-21), «От загара и от ветра бурый…», «Все выпито. Последняя, пустая…», «Я был плохим отцом, плохим супругом…» Юрия Софиева (С. 22-23), «От ненависти, нежности, любви…», «Уметь молиться, верить и любить…» Юрия Терапиано (С. 24-25), «Я за весною пошел…», «Меркнет дорога моя…» Игоря Чиннова (С. 25-26).
…Оцуп… Ему удался фокус: ввести в стихотворную строчку три буквы — Г.П.У., — не нарушая общей гармонии… — Имеются в виду строки стихотворения Оцупа: конторкой бюро, / У прилавка бистро, / В камере Г.П.У. / И на светском балу, / И свободные, и несвободные, / Все мы сердцем и жребием сходные…» (С. 16).
… Г.Иванова…рифмы в ней «царя» и «зря»… — Строки Иванова «Час от часу. Год от году. / Про Россию, про свободу, / Про последнего царя. / Как в него прицеливали, — / Как его расстреливали. / Зря. Все зря» (С. 8).
…Статья П. Бицилли о судьбе романа… — Бицилли П. Венок на гроб романа (С. 166-173).
…Д. Мережковский дал «Числам» новую главу из своего «Иисуса Неизвестного», — о заповедях блаженства… – Опубликованный в номере под названием «Блаженства» (С. 195-209) фрагмент главного труда Мережковского «Иисус Неизвестный» вошел в книгу третьей главой первой части второго тома.
…статьи о живописи и музыке,принадлежащие В. Вейдле и А.Лурье… — Имеются в виду статьи В. Вейдле «О Ренуаре» (С. 213-217) и А. Лурье «Пути русской школы» (С. 218-229).
…заметки А. Формакова… о своем посещении могилы Блока в Петербурге и могилы Есенина в Москве… – Имеется в виду эссе Арсения Ивановича Формакова (1900-1983) «Две могилы: Из впечатлений поездки в СССР» (С. 242-247). Об авторе подробнее см.: Мекш Э.Б . Двинский писатель Арсений Формаков в парижском журнале «Числа» // Российская интеллигенция на родине и в зарубежье: новые документы и материалы: Сборник научных статей. М.: Рос. ин-т культурологии, 2001. С. 176-183.
Стихи Пастернака («Второе рождение»). — Последние новости. 1933. 9 февраля. № 4341. С. 3.
…Недавно появилась новая книга стихов Пастернака… — О книге Пастернака «Второе рождение» (М.: Федерация, 1932) месяцем раньше Адамович писал в «Откликах»: «Книжка небольшая, но в московских литературных кругах появление ее склонны рассматривать как "событие". Пастернак будто бы стал "материалистичнее, революционнее и ближе к строительству"… Некоторые новые его стихи, по мнению присяжного московского ценителя поэзии А. Селивановского, "могут быть понятны даже начинающим ударникам".
В клубе писателей был недавно спор: выше ли Пастернак, чем Маяковский, или должен все-таки уступить ему первое место? Спор длился долго. Голоса разделились. Неожиданно выступило несколько поклонников Сельвинского, которые заявили, что именно ему, Сельвинскому, и принадлежит звание “царя советских поэтов”. Маяковский и Пастернак могут претендовать лишь на второе и третье место.
Собрание не пришло ни к какому выводу. Но большинство оказалось все-таки за Пастернака» (Сизиф . Отклики // Последние новости. 1932. 22 декабря. № 4292. С. 3).
…«Охранная грамота»… О ней мне пришлось писать с год тому назад… — Адамович Г . Литературные заметки //Последние новости. 1932. 28 апреля. № 4054. С. 2.
«геттингенская душа» — Пушкин А. С. Евгений Онегин. Глава вторая. VI.
«Никого не будет в доме…» — стихотворение (1931) Пастернака.
«снеба сорвал налет недомолвок» — из стихотворения Пастернака «Лето (Ирпень — это память о людях и лете…)» (1930).
Игрок.— Последние новости. 1933. 18 февраля. № 4350. С. 3.
…В Висбадене я после проигрыша выдумал «Преступление и наказание»… — Адамович по памяти приводит слова Достоевского из письма к жене Анне Григорьевне от 23 марта (4 апреля) 1868 года. У Достоевского: «Давеча мне хотя и мерещилось, но я все-таки окончательно еще не выяснил себе эту превосходную мысль, которая мне пришла теперь! Она пришла мне уже в девять часов или около, когда я проигрался и пошел бродить по аллее. (Точно так же как в Висбадене было, когда я тоже после проигрыша выдумал "Преступление и наказание" и подумал завязать сношения с Катковым. Или судьба или бог)».
Гроссман Леонид Петрович (1888—1965) — советский писатель, литературовед, профессор Московского педагогического института им. В. П. Потемкина, автор ряда работ о Достоевском, Пушкине, Лескове и др.
«Достоевский за рулеткой : Роман из жизни великого писателя» (Рига: Жизнь и культура, 1932) – беллетризованное исследование Л. П. Гроссмана.
…Не обладая ни талантом, ни вкусом, он беспомощно бьется в потоке напыщенных, ложно красивых слов и эффектных, но не достоверных догадок… — Отзыв Ходасевича о книге Гроссмана был более благосклонен но избранная форма ему также не понравилась: «Книга представляет собою несомненную ценность. К сожалению, ее достоинства в значительной степени понижены тем, что Гроссман не пожелал свои наблюдения и догадки откровенно изложить в форме историко-литературного исследования, а придал им форму биографического романа, введя вымышленные диалоги и прибегнув к целому ряду столь же сомнительных, но хлестких приемов: таково прежде всего хитроумное сюжетосложение с хронологическими сдвигами и перестановками, которым лет десять тому назад под влиянием Шкловского и других формалистов увлекались "Серапионовы братья" и который с тех пор успел порядочно надоесть даже в настоящей беллетристике. Если позволительно попытаться проникнуть в литературную психологию самого Гроссмана, то придется предположить, что все это им сделано с целью популяризировать книгу. Досадно, однако, что он докатился до прямой вульгаризации» (Ходасевич В. «Достоевский за рулеткой» // Возрождение. 1933. 2 февраля. № 2802).
…Книга вызывает интерес самым названием своим… — Адамович, сам заядлый игрок, несколько раз писал о рулетке, как в статьях, так и в прозе, см., например, рассказ «Рамон Ортис» (Числа. 1931. № 5. С. 32-43).
…«Достоевский за рулеткой». В Германии под этим названием издан был несколько лет тому назад замечательный сборник. Существует он и во французском переводе… – Fulop Miller R., Eckstein Fr. Dostoievski a la roulette / Trad. de H/ Legros. Paris , 1926. Французское издание книги несколькими годами ранее рецензировал Вейдле в «Звене»: Лейс Д . Достоевский за рулеткой // Звено. 1926. № 186. 22 августа. С. 5-6.
Заметки о советской литературе: «Баррикады» Павленко. — Советский Ремарк. — О М. Кольцове и фельетоне.— Последние новости. 1933. 23 февраля. № 4355. С. 3.
…Об историческом романе сейчас много спорят… — В эмиграции пик полемики пришелся на 1927 год. Вейдле наивысший расцвет жанра отнес к первой половине XIX века, а падение интереса к нему и вытеснение из основных жанров на периферию литературы объяснял развитием исторической науки, выполняющей ту же функцию: «История нужна отныне романисту только как обстановка для приключений или как вместилище идей. Ее можно сделать средством, но не целью, материалом романа, но не его художественным существом» (Лейс Д. <В. Вейдле>. Об историческом романе // Звено. 1927. 20 марта. № 216. С. 4). Ему возражал М. Кантор, утверждая, что эта концепция Вейдле справедлива лишь для исторического романа XIX века, современный же исторический роман с тех пор претерпел значительную эволюцию и по-прежнему представляет самостоятельный вид художественного творчества, выполняя уже несколько иную функцию, чем та, о которой говорил Вейдле: если прежде читатель «с волнением переворачивал страницы, желая знать что произошло, "чем кончается", то здесь он спрашивает о том, как событие произошло» (Кантор М. Еще об историческом романе // Звено. 1927. 29 мая. № 226. С. 2-3).
…В России… Вопрос о существовании исторического романа, — или, точнее, об оправдании его, — ставится и там… — Два года спустя Адамович писал в «Откликах»: «Увлечение историческими романами растет — и не так давно В. Кирпотин объяснял, чем оно вызвано. Причины, на самом деле, вероятно, гораздо проще, чем те, которые установлены в официальной версии. Писатели боятся касаться современности, не зная, как ее “осветить”, чтобы не случилось неприятностей. С историей дело все-таки проще – особенно теперь, после выхода “руководящего” учебника проф. Шестакова» (Сизиф . Отклики // Последние новости. 1938. 17 марта. № 6200. С. 3).
«Исторический вестник» (СПб., 1880-1917; всего вышло 147 номеров) — ежемесячный исторический научно-популярный журнал консервативно-монархической направленности, издававшийся А. С. Сувориным, затем Б. Б. Глинским. Редакторы: С. Н. Шубинский (1880– 1913), затем Б. Б. Глинский (1913-1917). Помимо статей и материалов по отечественной истории публиковал также художественные произведения, в том числе переводные романы.
Салиас , граф (наст, имя Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир; 1840-1908) — писатель, автор исторических повестей и романов.
Маковский Константин Егорович (1839-1915) — живописец, участник Артели художников (1863), член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок, с середины 1870-х годов все более склонялся к академизму, в 1883 порвал с передвижниками, стал писать внешне эффектные портреты и жанрово-исторические сцены; действительный член петербургской Академии художеств (с 1898).
Семирадский Генрих Ипполитович (Siemiradzki; 1845-1902) — художник польского происхождения, действительный член петербургской Академии художеств (с 1873), профессор исторической живописи (с 1877), крупнейший представитель академизма, автор монументальных композиций преимущественно из античной истории, вызывавших резко отрицательные отзывы со стороны И. Е. Репина, В. В. Стасова и др.
«Баррикады» — повесть Павленко, впервые напечатан в «Новом мире» (1932. №№ 6-7) и тут же выпущенная отдельным изданием (М.: Федерация, 1932).
«Азиатские рассказы» (М.: Федерация, 1928) — первая книга Петра Андреевича Павленко (1899-1951).
Кирпотин Валерий Яковлевич (1898-1997) — советский литературовед, литературный критик, сотрудник аппарата ЦК ВКП (б) (1932-1936), секретарь Оргкомитета СП СССР (1932-1934), позже профессор Литературного института им. М. Горького (с 1956). О стремительной карьере Кирпотина Адамович писал в «Откликах»: «Кирпотин… Месяца два тому назад это имя мало кому было известно. Правда, в журналах попадались его статьи. На съездах, конференциях и дискуссиях Кирпотин выступал с речами. Но был это рядовой "работник пера", звезда третьей величины, померкшая в ослепительном сиянье Авербаха.
Сейчас Кирпотин — вождь, идеолог, "руководящий товарищ", одним словом. На его мнения все ориентируются. К его словам прислушиваются.
Говорят, Кирпотин получает "директивы" непосредственно от Сталина. В свое время то же самое говорили об Авербахе. Насколько это верно — неизвестно.
Но несомненно, теперь начался "кирпотинский период" советской словесности. Поживем, увидим: будет ли он хуже или лучше авербаховского» (Сизиф. Отклики // Последние новости. 1932. 16 июня. № 4103. С. 3).
Тьер Адольф (Thiers; 1797-1877) — французский государственный деятель, историк, член Французской академии (1833), министр внутренних дел (1832-1836), премьер-министр и министр иностранных дел (1836 и 1840), депутат Учредительного собрания (с 1848), один из лидеров монархической «Партии порядка», депутат Законодательного корпуса (с 1863). В феврале 1871 назначен главой исполнительной власти Французской республики, с исключительной жестокостью подавил Парижскую коммуну. Президент Французской республики (1871-1873).
Мак-Магон Мари Эдме Патрис Морис (Mac-Mahon– 1808-1893) — французский военный и государственный деятель, маршал (1859), генерал-губернатор Алжира (1864-1870); командовал армией версальского правительства, которая в мае 1871 подавила Парижскую коммуну» президент Французской республики (1873-1879).
…В «Звезде» с перерывами продолжает печататься «Тяжелый дивизион» А. Лебеденко… — Первая часть романа Лебеденко была опубликована в « Звезде» в 1932 году (№№ 6,10-11), в июле 1933 года были напечатаны главы из второй части романа (Звезда. 1933. № 7. С. 74-110).
…Первые главы этого романа… я позволил себе тогда же обратить на них внимание читателей… — После публикации первых глав романа Лебеденко (Звезда. 1932. № 6. С. 95-109) Адамович писал: «Натолкнуться в советском журнале на вещь интересную, талантливую и притом подписанную новым незнакомым именем — большая редкость. Однако бывают исключения. К ним надо отнести рассказ А. Лебеденко "Тяжелый дивизион" <…> Чувствуется в разработке темы Толстой и еще другой писатель (на мой взгляд замечательный, хотя уже и переживший свою славу) — Ремарк. <…> в "Тяжелом дивизионе" есть след настоящего дарования, есть проблеск той "человечности", сдержанной и глубокой, которую в советской словесности приходится ценить на вес золота. Правда, только проблеск. Автор уклончив, он нет-нет да и сделает уступку в сторону "классовой заостренности" своего повествования» (Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1932. 1 сентября. № 4180. С. 3).
…Кто он, этот неведомый Лебеденко?.. — Александр Гервасьевич Лебеденко (1892-1975), советский писатель, журналист, участник первой мировой и гражданской войны, печатался с 1917 года. Первые опубликованные им книги предназначались для детей и юношества, с середины тридцатых годов получил известность как автор романов на историко-революционные темы.
…«Укатали сивку крутые горки», — выразился недавно Луначарский о Гете… — Подробнее об этом Адамович написал в «Откликах»: «К юбилею Гете Луначарский счел необходимым написать несколько "руководящих" статей. Одну — в первом томе нового издания гетевских сочинений, вторую — в академическом сборнике, третью — для комсомольцев, в "Молодой гвардии". <…> Во вступительной статье к собранию сочинений поэта <…> Луначарский рассказывает, что ему недавно попался в руки экземпляр гетевского "Тассо", который он читал еще в детстве. На книжке оказалась пометка мальчика — Толи:
— Бедный Гете, уходили сивку крутые горки.
Луначарский "не мог не улыбнуться", увидев ее. Золотое далекое детство!.. Но он скромно указывает, что это замечание остается "ближе к истине", чем все философские рассуждения Гундольфа. Напомню, что Гундольф — автор огромного труда о Гете, признанного всеми знатоками за едва ли не лучшее, что о Гете написано… В пятнадцать лет одной фразой гениальный ребенок его предвосхитил, уничтожил и посрамил» (Сизиф. Отклики // Последние новости. 1932. 19 мая. № 4075. С. 3).
Кольцов Михаил (наст. фам. Фридлянд; 1898-1940) — советский журналист, фельетонист «Правды», основатель и редактор «Огонька», редактор журнала «За рубежом», руководитель Журнально-газетного объединения, создатель сатирических журналов «Крокодил», «Чудак».
Гарольд Ллойд (Harold Clayton Lloyd; 1893-1971) — американский кино артист-комик и продюсер.
…Фельетоны свои Кольцов собрал в книгу «Свои и чужие»… — Имеется в виду издание: Кольцов М. Чужие и свои: Фельетоны 1920-1931 гг. М.: Экономгиз, 1932.
«головокружение от успехов» — статья Сталина (Правда. 1930. 2 марта) о «перегибах на местах щенных при коллективизации.
…советские критики давно уже возвели Кольцова в классики. Ему, как «мастеру слова», посвящены даже отдельные исследования… — К тому времени в серии «Мастера современной литературы» вышла книга «Михаил Кольцов» (Л., 1928), появился ряд монографических статей: Ермилов В . В. Заметки о фельетонах Михаила Кольцова // На литературном посту. 1927. № 17-18; Журбина Евг . Михаил Кольцов // Печать и революция. 1928 №2; и др., однако наибольшее количество книг о нем появилось позже, уже в пятидесятые годы.
Дорошевич Влас Михайлович (1864-1922) — фельетонист, очеркист, театральный критик, редактор газеты «Русское слово» (в 1902-1918).
«Современные записки», книга 51-я. Часть литературная. — Последние новости. 1933. 2 марта. № 4362. С. 3.
51 книга «Современных записок» вышла в свет в феврале 1933 года.
«Дом в Пасси» — В номере были опубликованы (С. 5– 45) первые главы романа Зайцева.
…«Пещера» Алданова… — С. 46-104. …Новые главы из «Camera obscura» Сирина… — С.105-141.
…«Древний путь» Л. Зурова… — С. 142-177. Жироду Жан (Giraudoux; 1882-1944) — французский писатель. Набокова с ним никто из эмигрантских критиков не сравнивал.
…стихотворения Бальмонта… — «Сквозная сеть» и «Я люблю тебя» (С. 178-179).
«Будем, как солнце: Книга символов» (М.: Скорпион, 1903), «Только любовь; Семицветник» (М.: Гриф, 1904) — книги стихов Бальмонта.
…стихи Ладинского… Смоленский… — В номере были напечатаны «Стихи о Европе» Антонина Ладинского(С. 181-183), стихотворения «Проклясть глухой и темный мир…» и «Моему отцу» Владимира Смоленского (С. 185-186).
…Берберова в патетическом отрывке из книги «Наше сердце»… — В номере было напечатано стихотворение «Мы потерялись, мы прошли…» (С. 179-181). Книгу «Наше сердце» Берберова так никогда и не выпустила, ее единственный сборник стихов вышел лишь после войны.
…стихам В. Пиотровского… — В номере был опубликован цикл Владимира Львовича Пиотровского (позже Корвин-Пиотровский; 1891-1966) «Стихи о моем столе» (С. 184-185), состоящий из двух стихотворений: «К прохладе гладкого стола…» и «Недомоганья легкий бред…».
…«Дом»… «Искусство при свете совести»… — В номере было опубликовано стихотворение Цветаевой «Дом» (С. 186-187) и окончание статьи «Искусство при свете совести» (С. 251-264).
…«Чинг-Чанг» Ремизова… — Опубликованный в журнале (С. 265-272) фрагмент прозы Ремизова впоследствии вошел в его книгу «Учитель музыки: Каторжная идиллия» (Paris: La Presse Libre, <1983>. С. 499-511).
«человек человеку бревно» — из повести Ремизова «Крестовые сестры» (1909-1910); отозвалось также в его романе «Канава» («Плачужная канава / Ров львиный»; 1914-1918).
…«Жизнь и литература» П. Бицилли… — С. 273-287.
…неожиданно обрывается на сравнении Сирина с новейшими композиторами… — В своей статье П. Бицилли писал: «В классической музыке гармония определялась мелодией. В современной сама мелодия определяется гармонией. Она вычерчивает кривую столкновений гармонических масс. Взятая отдельно, она так же бессмысленна, как кривая рождаемости и смертности или мирового потребления каучука за столько-то лет. Такова мелодия Дебюсси, Стравинского, Прокофьева. Их творчеству, в литературе, соответствует творчество В. Сирина. <…> Великолепны отдельные места в произведениях Сирина. Но мы часто не знаем, к чему они. Они не слагаются в единое целое. У автора нет образа мира, – как нет его у его героев. <…> Этот срыв изумительного, несравненного по мастерству, по богатству своих возможностей художника, – не случайность. Он знаменует собою катастрофу, состоящую в разрыве между “внутренней” жизнью и “внешней”; или – что то же – распаде человеческой личности, в утрате ею своего “ведущего голоса”, мелодии, характера» (С. 278-280).
…а Тэффи с Сервантесом… – «В органичной сочетанности юмора и иронии, в органичной оправданности двойственного отношения к одному и тому же объекту, состоит глубина Сервантеса, освобождающая, очищающая сила его гения. И в этом отношении Тэффи сближается с автором Дон Кихота» (С. 283).
…воспоминаниях Александры Львовны Толстой… — Толстая A. Л. Из воспоминаний (С. 188-227).
Человеческий документ. — Последние новости. 1933. 9 марта. № 4369. С. 3.
«всякую чашу пить до дна» — из стихотворения 3. Н. Гиппиус «До дна» (1901).
«Тело» (Берлин: Парабола, 1933) — роман Екатерины Васильевны Бакуниной (1889-1976).
…Это, конечно, не совсем «литература»… — Через два дня после появления статьи Адамовича появилась в «Возрождении» статья Ходасевича, который в своем разборе романа не скрывал иронии: «Переживание, описанное с величайшею даже точностью, но не подчиненное законам литературного ремесла, не образует художественного произведения. При наибольшей даже правдивости получаем мы в этом случае не стихотворение, не роман, не повесть, а всего лишь человеческий документ. Человеческим документом назвал я года два тому назад стихи г-жи Бакуниной (см. ”Возрождение”, 25 июня 1931 г.). Человеческим документом назвал Г. Адамович недавно вышедшую книгу того же автора — "Тело". Он совершенно прав. Стихи и проза г-жи Бакуниной страдают одним и тем же методологическим дефектом. На ее новой книге читаем подзаголовок "роман". Писанная от первого лица, она, нужно думать, не представляет собою подлинного дневника. Но и предполагаемый элемент вымысла не делает ее подлинным романом. Она остается всего лишь человеческим документом. Это — ее основной художественный порок, явственно ощутимый с первой и до последней страницы и в сущности изымающий ее из компетенции литературной критики. "Тело", однако же, привлекло к себе некоторое внимание читателей, вызвало любопытство, на наш взгляд не совсем похвальное, обусловленное чрезмерною обнаженностью некоторых частностей, обнаженностью, которая, признаемся, особенно неприятно задевает при мысли о том, что книга написана женщиной: даже и в наши грубые времена хотя бы оттенок стыдливости составляет не только эстетически желательное, но и этически необходимое свойство ее пола. Впрочем, оставим это. Как бы то ни было, книга замечена — и конечно не как произведение изящной словесности (какое уж тут "изящество"!), а именно как человеческий документ. Посмотрим же, какова ее ценность с этой стороны.
Ценность такая зависит от философической, так сказать, чреватости документа: от возможности сделать более или менее значительные онтологические выводы из того психологического материала, которым документ вызван к жизни и из которого состоит. Для того, чтобы возникла эта возможность, необходимо два условия. Во-первых, должен быть значителен по существу тот жизненный казус, которому документ обязан своим бытием. Дело в том, что одна только сила, интенсивность, с которой переживается событие, не делает его значительным и объективно интересным. Не всякое страдание делает человека героем трагедии. Эдип, не убивший отца и не женившийся на матери, а просто на протяжении пяти актов страдающий, скажем, зубною болью, достоин сочувствия, но неспособен внушить тот духовный подъем, который есть цель и оправдание трагедии. Если такой Эдип оставит нам правдивейшее и подробнейшее описание своих болей, то мы будем иметь человеческий документ слишком небольшой ценности. Второе условие, еще более необходимое, заключается в личной значительности того субъекта, которым составлен документ, ибо события, которые могли бы образовать истинную трагедию, не образуют ее, если их героем оказывается личность невыдающаяся или вовсе ничтожная. Так, например, и подлинная история того же Эдипа не станет трагедией при условии его моральной нечувствительности или умственной дефективности. Я лично знавал человека, который убил свою мать и троих сестер. Это был один из самых неинтересных людей, каких мне доводилось встречать. Бездарный до убийства, таким же остался он и после. Его история превратилась в уголовный процесс, но не стала трагедией. Обратно: личность, значительная духовно и интеллектуально, конечно, не возведет зубную боль в степень жизненной драмы, но и зубную боль сумеет она пережить несколько хотя бы сложнее, чем личность заурядная.
Несчастие "Тела" как раз в том и заключается, что в книге нет ни значительного, трагически насыщенного казуса, ни значительной личности, которой переживания имели бы высокую объективную ценность. Героиня г-жи Бакуниной сама и с самого начала своих записок откровенно признается в своей духовной и умственной бессодержательности. "Стыд, долг, Бог, нравственный закон — все, с чем пускаются в плаванье, пошло ко дну, а я всплыла, как бочка, с которой сорваны обручи и которую распирает изнутри”. "Я ничего не читаю, кроме литературной дребедени… Я даже не успела переварить тот запас знаний, какой приобретался из своеобразного снобизма —
моды на науку — существовавшего в России… Я тычусь своим умом, как слепой котенок мордой, в непонятное, темное, неизвестное… Мудрые же путеводные книги мне недоступны. Даже в газете я пропускаю первые две страницы и перехожу к происшествиям и фельетонному роману". "В Бога я не верю". Такие и тому подобные признания у нее многочисленны. Высказывает она их даже не без ухарского надрыва, причем, разумеется, обвиняет в своем ничтожестве не себя, а эпоху: ту катастрофу, которая "перевернула Россию вверх дном". Ей даже в голову не приходит, что других, более достойных ее современниц та же самая катастрофа внутренно закалила и просветила.
Нельзя сказать, что героиня г-жи Бакуниной вовсе глупа. Но ее средний, расхожий ум, воистину, как слепой котенок, непрестанно тычется в "вопросы", которых не умеет разрешить прежде всего потому, что и не умеет правильно поставить. Вероятно, читателям с таким же ограниченным умом "вопросы" бакунинской героини могут показаться глубокими и важными. В действительности они просто неинтересны, банальны, как неинтересна и банальна она сама со всею своей биографией <…>
Человеческий документ, предложенный нам героинею г-жи Бакуниной, не очень пристоен — это бы еще полбеды. Беда в том, что он вовсе не интересен. Любопытно при этом (и весьма характерно), что обыденности своей сексуальной истории эта героиня отнюдь не сознает, в то время, как обыденностью своего быта томится до чрезвычайности. Меж тем, строго говоря, эта обыденность, данная автором, как бытовой фон, в действительности составляет самую интересную и даже единственно интересную сторону книги. Тут героиня действительно изранена и измучена; все эти тяжелые, подчас унизительные подробности ее домашнего хозяйничанья пережиты гораздо острее, даже в каком-то смысле трагичнее, нежели мелкие любовные истории, в которых она напрасно ищет трагизма. Мелочные, но мучительные "вопросы" тяжелого быта гораздо ей более по плечу, нежели те "проклятые" вопросы, в которых разобраться она не в силах. Страницы, посвященные хождению на рынок, стирке белья и приготовления пищи, выходят у нее несравненно содержательней, чем страницы, посвященные теме любви. Они и написаны с несравненно большим умением, вкусом, даже пафосом: естественное следствие того, что на этих страницах дело касается сферы, более ей доступной и более продуманной. Тут ей суждены даже некоторые озарения. Ее мысль о необходимости делать полы в кухнях несколько покатыми, чтобы вода при мытье стекала, — чрезвычайно удачна» (Ходасевич В. Книги и люди. «Тело» // Возрождение. 1933. 11 мая).
Дневник Мариэтты Шагинян. — Последние новости. 1933. 16 марта. № 4376. С. 3.
…в ранних декоративно-чувственных стихах, которыми, по чуждым поэзии соображениям, неожиданно восхитился Розанов… — Имеется в виду первое издание книги Мариэтты Шагинян «Orientalia: Февраль-октябрь 1912 года» (М.: Альциона, 1913), на которое Розанов откликнулся благодушной рецензией (Новое время. 1913. 24 марта. № 13302).
…«Гидроцентрали». Кстати, этот роман, признанный почти классическим в советской России… — Полутора годами раньше Адамович писал в «Откликах »: «Славословия и восхваления "Гидроцентрали" Мариэтты Шагинян продолжаются.
В том, что это — крупнейшее произведение советской литературы, все московские критики сходятся. Но в "Молодой гвардии" некто Ф. А., вероятно, от стыда скрывший свое имя под инициалами, прибавляет:
— И даже мировой.
Там же, в "Молодой гвардии", роман Шагинян характеризуется как "величественная поэма, интересное научное исследование и альбом прекрасных портретов"… Оказывается, у Мариэтты Шагинян были очень большие литературные заслуги и в прошлом. Но были "не легко объяснимые ошибки". К таковым надлежит в первую очередь отнести "особую сочувственную книгу о мракобеснической лирике Зинаиды Гиппиус".
Давно, лет двадцать тому назад, вышла эта книга. Шагинян могла рассчитывать, что об этой неприятности забыли.
Но у друзей панегиристов память на такие вещи хорошая» (Сизиф. Отклики // Последние новости. 1931. 24 октября. № 3872. С. 3).
…Г. П. Федотов с сочувствием отозвался об особом «моральном воздухе», будто бы ощутимом в «Гидроцентрали»… – Г. Федотов писал, рассуждая о типах большевиков: «Этот тип идеализма нам всем хорошо знаком по 60-м годам. Идеализм педагогов-просветителей, наивных благодетелей человечества, непременно глуповатых, чуждых высокой культуры, но гуманных и демократически ориентированных. Таковы, по прямой линии из 60-х годов, представительницы старой гвардии: Крупские, Лилины, Бонч-Бруевич и проч. В литературе Сейфуллина и Шагинян. Виринея кажется прямо слетевшей со страниц Шелера-Михайлова. Шагинян сложнее и умнее. Но моральный воздух, который так выгодно отличает "Гидроцентраль" от множества индустриальных романов, того же качества» (Федотов Г . Правда побежденных // Современные записки. 1933. № 51. С. 376).
…дневник Мариэтты Шагинян, только что ею изданный… — Шагинян М. Дневники. 1917-1931. Л.– И писателей в Ленинграде, 1932.
«в гроб сходя, благословил» — из пушкинского гения Онегина» (Гл.8. II).
«Янки в Петрограде» — имеется в виду авантюрный фантастический роман «Месс Менд, или Янки в Петрограде», выпущенный Мариэттой Шагинян в 1924 году под псевдонимом Джим Доллар.
«Маски» Андрея Белого. — Последние новости. 1933. 20 апреля. № 4411. С. 2.
«Маски» (М.: ГИХЛ, 1932) — роман Андрея Белого, второй том трилогии «Москва».
«Серебряный голубь : Повесть в 7-ми главах» (М.: Скорпион, 1910) — книга Андрея Белого.
«Pour prendre position» — «Чтобы занять позицию»
«Московский чудак » (М.: Круг, 1926), «Москва под ударом » (М.: Круг, 1926) — романы Андрея Белого, составляющие первый том трилогии «Москва», вышедший затем в одной книге (М.: Никитинские субботники, 1928).
Путешествие в глубь ночи. — Последние новости. 1933. 27 апреля. № 4418. С. 3.
«Le voyage au bout de la nuit» — Роман Л. Селина «Путешествие на край ночи» (Paris: Denoel et Steele, 1932) вскоре был издан в России в переводе Эльзы Триоле (М.– Л.: ГИХЛ, 1934), а также в «Библиотеке «Огонька» в переводе Сергея Ромова (М., 1934) и несколько раз переиздавался. Отрывок из романа под названием «В колониях» был предварительно напечатан в 4 номере журнала «Интернациональная литература» за 1933 год.
…после присуждения Гонкуровской премии. Получил ее писатель посредственный… — В 1933 году Гонкуровскую премию получил Мазлин за роман «Волки». В России роман вскоре был издан в переводе Н. Г. Касаткиной и И.С. Татариновой с предисловием Б. Песиса (М.: Гослитиздат, 1935).
…что Блок назвал когда-то мировой чепухой… — в стихотворении «Не спят, не помнят, не торгуют…» (1909).
«dulce et decorum est pro patria mori» — «отрадно и почетно умереть за отечество» (лат.), строка Горация (Ноratius, Odes, 2,13).
«Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти» — из книги В. Розанова «Уединенное» (СПб., 1912).
«я не хочу истины, я хочу покоя» — из книги В. Розанова «Уединенное» (СПб., 1912).
«без волненья внимать невозможно» — из стихотворения Лермонтова «Есть речи — значенье…» (1840).
Три пьесы: Вс. Вишневский. «Оптимистическая трагедия». — Ал. Толстой и А. Старчаков. «Патент № 119». — М. Чумандрин. «Естественная история». — Последние новости. 1933. 11 мая. № 4432. С. 2.
«Первая конная» — пьеса Всеволода Витальевича Вишневского (1900-1951), премьера которой состоялась в День Красной армии, 23 февраля 1930, одновременно в Москве в ЦДКА (режиссер П. И. Ильин) и в Ленинграде в Народном доме им. К. Либкнехта и Р. Люксембург (режиссер А. Д. Дикий).
«Последний, решительный» — пьеса Вс. Вишневского, поставленная В. Э. Мейерхольдом в 1931 году.
«Оптимистическая трагедия» (М.-Л.:ГИХЛ, 1933) — пьеса Вс. Вишневского, вскоре поставленная А. Я. Таировым в Камерном театре (премьера состоялась 18 декабря 1933 года).
Субоцкий Лев Матвеевич (1900-1959) — советский литературный функционер, секретарь Оргкомитета Союза советских писателей; в 1935 заведующий отделом литературы и искусства газеты «Правда».
«Патент № 119 : Пьеса в 4-х действиях, 5-и картинах» (М.-Л.: ГИХЛ, 1933) – драма, написанная в соавторстве Ал. Толстым и Александром Осиповичем Старчаковым (1892-1937).
«Естественная история» — пьеса Михаила Федоровича Чумандрина (1905-1940), поставленная в 1933 году.
Стихи:«Невод». — Сборник берлинских поэтов. Берлин, 1933. «Скит». — Сборник пражских поэтов.Прага, 1933. «Без последствий». — Сборник стихов П. Ставрова. Париж, 1933. — Последние новости. 1933. 25 мая. № 4446. С. 2.
«Длянемногих» — Под названием «Fur Wenige» / «Для немногих» В. А. Жуковский выпустил, начиная с 1818 года, несколько сборников стихотворений, предназначавшихся не для широкой публики, но для «избранных», в первую очередь для его ученицы великой княгини Александры Федоровны, жены Николая Павловича, бывшей немецкой принцессы. Название восходит к знаменитым стихам Горация «Не желай удивленья толпы, но пиши для немногих». Подробнее см.: Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского. М., 1975. С. 40.
«Невод : Третий сборник стихов берлинских поэтов» (Берлин: Слово, [1933]).
…стихи Раисы Блох… Белоцветова… Георгия Раевского… — В сборник вошли стихотворения «Наль играет в кости (Позволь почтительнейший дать совет…)» Я. Викермана, «Я научилась лжи последней…», «Кроткой весной осенней…», «Я могу за стол тихонько сесть…», «Я тебя люблю, как бабушка внучонка…», «Помнишь: отец бывало…» Раисы Блох, «Морской разбойник (Мы знаем, что он был широкоплеч…)» Нины Бродской, «Горевать и плакать мало толку…», «Двойник (На миг застыть перед дверью своей…)», «Последнюю листву истерзанных берез…», «Твоя комната (Уродцы-кактусы танцуют на окне…)», «Элегия (Скоро тронется поезд. И как линии нотной тетради…)», «Элинька(Есть имя — Элинька. Оно, как вздох…)» Николая Белоцветова, цикл «Пастораль» Михаила Горлина, «В детстве — так ясно сейчас это помню…»» «В звездную ночь на веселом катке…», «Поздно ночью направляются трамваи…» Юрия Джанумова, «Все тот же вечер мне напомнит пусть…», «Звездным снегом запушило ноги…» Веры Лурье, «На летнем взморье трубачи…», «Тень под мостом. Н. К. (Где ночи нет, а день не нужен…)», «Из ночных прогулок (Когда прожектор в выси черной…)», « Зверь обрастает шерстью для тепла…» Вл. Пиотровского, «Снова в детство бреду наудачу…», «тогда еще смеялась без причины…», «Был выдох труб такой короткий…», «Гудит толпа на галерее…», «Распевали весной канавки…» Софии Прегель, «На резкий звон разбитого стекла…», «Спокойнее, прохладнее, синее…», «Открываю глаза — синева…», «Безумная, в слезах, в цветах…» Георгия Раевского, «Гибель Одиссея (По слову Одиссея…)» Евгения Раича, «Fehrbelliner Platz», «Базилене, когда он расставался с ней (Из П. Флеминга) (Хоть судьба моя решила…)» Николая Эльяшова, «Если грянет вновь война…», «Сухое дерево с зияющим дуплом…» Виктории Эрден.
«Выйдем, девочки, из разных стран…» — из стихотворения Виктории Эрден «Если грянет вновь война…».
…Пражский сборник «Скит» до крайности неровен. Он в меньшей степени представляет какое-то литературное объединение… — Коллективные сборники стихов «Скит» выпускались в 1933-1937 гг. литературным объединением «Скит поэтов» (с 1928 года просто «Скит»), существовавшим в Праге в 1922—1940 гг. под руководством А. Бема, в состав его входили Н. Андреев, А. Эйснер, В. Федоров, А. Головина, Э. Чегринцева, В. Лебедев, С. Рафальский и многие другие. Подробнее см.: Белошевская Л . Пражский «Скит»: Попытка реконструкции // Rossica. Научные исследования по русистике, украинистике, белорусистике. 1996. № 1. С. 61-71; Белошевская Л . «Скит» и литературная Прага // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами…Praha: Narodni knirovna CR, 1995. С. 214-220; Вокруг «Скита» / Публ. О. М. Малевича // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1994 год. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1998. С. 175-247; Белошевская Л. Молодая эмигрантская литература в Праге (Объединение «Скит»: творческое лицо) // Духовные течения русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1919-1939) (Менее известные аспекты темы) / Под редакцией Л. Белошевской. Прага: Славянский институт АН ЧР, 1999. С. 164-203. Адамович ведет речь о первом сборнике «Скита» (Прага, 1933).
Лебедев Вячеслав Михайлович (1896-1969) — участник Белого движения, с 1920 г. в эмиграции, жил в Болгарии, Сербии, Австрии, с 1922 г. в Праге, член «Скита поэтов », литературного кружка «Далиборка» (1924-1933), автор книги стихов «Звездный крен» (Прага: Скит, 1929); после второй мировой войны от литературной деятельности отошел.
«Что,если это проза, да и дурная?» — из пушкинской пародии 1818 года на стихотворение Жуковского «Тленность»: «Послушай, дедушка, мне каждый раз, / Когда взгляну на этот замок Ретлер, / Приходит в мысль, что, если это проза, / Да и дурная?».
Головина Алла Сергеевна (урожд. баронесса Штейгер, во втором браке Жиллес де Пеллиши; 1909-1987), из России увезена в 1920 г., училась в Пражском университете, выйдя замуж за скульптора А. Головина, в 1929 г. уехала с ним в Париж, в начале второй мировой войны переехала в Швейцарию, выйдя вторично замуж в 1952 г., уехала в Бельгию.
Мансветов Владимир Федорович (1909-1974) — поэт, с 1922 г. в эмиграции в Праге, член «Скита поэтов» (с 1928 г.)» литературного кружка «Далиборка», печатался в «Мече», «Воле России», сборниках «Скит», с 1939 г. в США, сотрудник «Нового русского слова» (1940-1943), сотрудник русской службы «Голоса Америки» (1947-1974).
Морковин Вадим Владимирович (1906-1973) — поэт, мемуарист, член «Скита» третьего поколения.
«Без последствий : Стихи» (Париж: «Souslalampe», 1933) — сборник Перикла Ставровича Ставрова (1895-1955).
…Имя новое. В нашей печати оно, насколько мне известно, появляется впервые… — Ставров начал писать еще в Одессе, где принадлежал к тому же кругу начинающих писателей, что и Катаев, Багрицкий, Олеша. Эмигрировав в 1920 году в Грецию, жил затем в Болгарии, Югославии, пока не обосновался в Париже. Сборник «Без последствий», выпущенный в 38-летнем возрасте, был его первым выступлением в эмигрантской литературе.
…Очень заметно влияние Иннокентия Анненского… — Это влияние отмечали все критики. По словам Г. Струве, «Ставров находился под гипнозом поэзии Иннокентия Анненского, которого едва ли не считал величайшим русским поэтом <…> Самому ему не хватало мастерства, равно как и воли освободиться от гипноза Анненского» (Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж: YMCA-Press, 1984. С. 355-356).
«Современные записки», книга 52-я. Часть литературная. — Последние новости. 1933.1 июня. № 4453. С. 3.
52 книга «Современных записок» вышла в свет в мае 1933 года.
…окончание «Воспоминаний» A. Л. Толстой… – С.194-237.
…Продолжения «Жизни Арсеньева»… — С. 5-65.
… С год тому назад в нашей газете впервые появились новые отрывки «Жизни», теперь в «Современных записках» помещено несколько ее глав… – Фрагменты пятой части «Жизни Арсеньева» Бунина были впервые напечатаны в «Последних новостях» (1932. 25 декабря. № 4295; 1933. 15 января. № 4316; 29 января. № 4330).
…толстовскими (чудовищными, но изумительными) страницами, посвященными Шекспиру и Вагнеру… — См. трактат Л. Толстого «Что такое искусство» (1897-1898).
…Айхенвальда, сказавшего в своей давней, но памятной полемике с Евреиновым много верного… — Евреинов в 1910-х годах пропагандировал идею «театрализации жизни», а Айхенвальд провозглашал конец эпохи театра, наиболее резко в статьях «Отрицание театра» (Речь. 1912. 9 декабря) и «Конец театра» (Студия: Журнал искусства и сцены. 1912. № 23).
…Окончена «Камера обскура» В. Сирина… — С. 66-106.
…«Доме в Пасси» Бориса Зайцева… — С. 107-151.
…«Древнем пути» Зурова… — С. 152-183.
…стихотворений З. Гиппиус… Поплавский… Довида Кнута и Штейгера… — В номере были напечатаны стихотворения «Сложности», «О воскресеньи», «Здесь», «Там» З. Гиппиус (С. 184-185), «Над солнечною музыкой воды…» Б.Поплавского (С. 185-187), «Поездка в «Les-Chev-reuse» Довида Кнута (С. 188-192), «Ты осудишь — мы не виноваты…» А. Штейгера (С. 193), а также неупомянутые Адамовичем стихи Е. Бакуниной, И. Голенищева–Кутузова, Ю. Софиева.
…Марина Цветаева напечатала небольшое стихотворение, написанное пятнадцать лет тому назад… — Стихотворение Цветаевой «Стихи растут, как звезды и как розы…» (С. 193) было датировано: «Москва, 1918г.».
…мемуары о Максимилиане Волошине… — В номере было напечатано начало мемуарного очерка Цветаевой о Волошине «Живое о живом» (С. 238—261).
…отрывков из «Иисуса Неизвестного»… – Мережковский Д. С. Царство Божие (С. 262-287).
…содержательные – хотя и очень спорные – статьи М. Аладанова… и В. Вейдле… – В статье Алданова «О романе» (С. 433-437) речь шла о классической традиции в современных романах, в статье В. Вейдле «Борьба с историей» (С. 437-445) об историзме и анахронизмах как литературном приеме.
Пильняк и Бабель. – Последние новости. 1933. 8 июня. № 4460. С. 3.
«в дело славы,в дело чести, в дело доблести и геройства» — Сталин И . Политический отчёт ЦК XVI съезду ВКП (б) 27 июня 1930 г. (Раздел 2, 7).
«Повесть непогашенной луны» — Повесть Пильняка была опубликована в 5 номере «Нового мира» за 1926 год, в ней содержался намек на то, что внезапная смерть М. В. Фрунзе в 1925 году была не случайным стечением обстоятельств. Номер журнала был изъят, Пильняк вынужден был печатно каяться.
«Красное дерево» — повесть Пильняка, впервые опубликованная в одноименном сборнике (Берлин: Петрополис, 1929).
«Рассказы» (М.: ГИХЛ, 1933) — сборник Пильняка.
«слова, слова, слова» — ответ Гамлета Полонию в третьей сцене трагедии Шекспира «Гамлет, принц датский» (1601).
Ходотов Николай Николаевич (1878-1932) — артист Александрийского театра (в 1898-1929), с пианистом Е. Б. Вильбушевичем создал новый вид мелодекламации.
Вильбушевич Евгений — автор мелодекламаций, аккомпаниатор Н. Н. Ходотова.
«словечка в простоте не скажет» — из комедии Грибоедова «Горе от ума» (Действие II. Явление 5).
«О-Кей . Американский роман» (М.: Федерация, 1933) — книга Пильняка, первоначально печатавшаяся в «Новом мире» (1932. №№ 3-6).
«было бы смешно, когда бы не было так грустно» — из стихотворения Лермонтова «А. О. Смирновой (Без вас хочу сказать вам много…)» (1840).
…правдоподобна и та догадка, что Бабель предпочел о своей прославленной «Конармии» не напоминать. Много было полемики вокруг этой книги… — Наиболее яро выступил против «Конармии» командарм Первой конной С. М. Буденный, назвав ее клеветой, автора причислив к «старой, гнилой интеллигенции» и заявив, что рассказы — «вонючие бабье-бабелевские пикантности», «дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти» красных героев (Буденный С . Бабизм Бабеля из «Красной нови» // Октябрь. 1924. № 3. С. 196– 197). Полемика продолжалась несколько лет. За Бабеля вступился Горький: «Товарищ Буденный охаял "Конармию" Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев» (Горький М . О том, как я учился писать // Правда. 1928. 30 сентября; одновременно опубликовано: Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1928. 30 сентября, а также в расширенном виде отдельной брошюрой: Горький М. Рабселькорам и военкорам о том, как я учился писать. М.: Госиздат, 1928). 26 октября 1928 г. Буденный опубликовал в «Правде» «Открытое письмо Максиму Горькому»: «Бабель фантазирует и просто лжет. Фабула его очерков, уснащенных обильно впечатлениями эротоманствующего автора, это — бред сумасшедшего». На следующий день был опубликован ответ Горького: «Такого красочного и живого изображения единичных бойцов, которое давало бы мне ясное представление о психике всего коллектива, всей массы Конармии и помогло бы мне понять силу, которая позволила ей совершить исторический, изумительный ее поход, – я не знаю в русской литературе».
…рассказом, который всем известен: «Король»… — «Король», положивший начало «Одесским рассказам» Бабеля, был впервые напечатан в одесской газете «Моряк» 23 июня 1921 года, перепечатан в 4 номере журнала «Леф» за 1923 год, входил в большинство сборников.
«Отец» (Красная новь. 1924. № 5),«Любка-казак» (Красная новь. 1924. № 3), «История моей голубятни» (Красная новь. 1925. №4), «Карл-Янкель » (Звезда. 1931. № 7) — из цикла Бабеля «Одесские рассказы».
…Олешабольше поэт, больше лирик, но зато он и «декадент» (как совершенно правильно охарактеризовал его недавно Катаев… — В беседе с сотрудником «Литературной газеты» В. Соболевым Катаев сказал: «У нас нарождается целое течение, представляемое группой писателей (между собой не связанных), которые идут — разными путями, правда — к изыску, украшательству и которых я называю советскими декадентами. Некоторые следы декадентства — у Леонова. Весь в декадентстве — Олеша, весь — Вишневский» (Соболев Вл. Изгнание метафоры // Литературная газета. 1933. 17 мая. № 23 (251). С. 4).
«Список благодеяний» — пьеса Юрия Олеши, впервые опубликованная в 8 номере «Красной нови» за 1931 год.
«Суета сует и всяческая суета» — Еккл 1, 2.
«всепоглощающей и миротворной бездне» — из стихотворения Тютчева «От жизни той, что бушевала здесь…» (1871).
Послания читателей. — Последние новости. 1933. 22 июня. № 4474. С. 4.
«под знойным солнцем Аргентины» — строка из «Последнего танго», ставшего популярным в 1910-х годах в исполнении Изы Кремер (1890-1956).
…Лучше всех сказал обо всем этом Рильке, — цитирую его на память… написать несколько строк, которые достойны названия поэзии… — Имеются в виду строки Рильке: «Надо всю жизнь собирать смысл и сладость, и лучше долгую жизнь, и тогда, быть может, разрешишься под конец десятью строками удачными» (Рильке Р. М. Записки Мальте Лауридса Брюгге / Пер. Е. Суриц. М., 1988. С. 29). На эту тему Адамович написал одно из самых известных своих стихотворений: «Нет, ты не говори: поэзия — мечта…» (1919).
«Числа». Книга девятая. — Последние новости. 1933. 29 июня. № 4481. С. 4.
…«Бумага альфа…» В своей варшавской газете г. Философов… посвятил этой несчастной бумаге десять или пятнадцать фельетонов… — Дорогая по эмигрантским меркам бумага, на которой печатались «Числа», не давала покоя не только Философову. Н. Оцуп в статье «Ответ нашим критикам» упоминал, в частности, отзыв A. Лyганова (Хирьяковой) в варшавской «Молве»: «Луганову все еще мешает хорошая бумага, на которой "Числа" печатаются. С наивностью, неудивительной в определенном кругу дореволюционной интеллигенции, Луганов не в силах уловить разницу между праздной роскошью и легко доступным удовлетворением художественного вкуса. Внешний вид "Чисел" смущает его до такой степени, что он договаривается даже до сожалений о цене "Чисел", будто бы недоступных из-за дороговизны рядовому читателю, и не замечает, что, несмотря на "хорошую бумагу", "Числа" в любом магазине стоют почти столько же, сколько любая из тоненьких книжек очередной повести или романа, выпускаемых отдельным изданием» (Числа. 1933. № 7/8. С. 230).
…надежды редакции на возникновение — «само собой» — нового литературного течения не оправдались… — Написанная Оцупом программная статья-манифест в первой книге «Чисел» открывалась словами: «Случается в истории литературы, что какое-то новое мировоззрение или что-то еще неуловимое, но уже чувствуемое – сближает группу людей <…> Было бы нескромно со стороны организаторов “Чисел” утверждать, что вокруг новых сборников непременно возникнет что-то вполне новое и ценное. Но у нас есть надежды на это…».
«Не такое нынче время» – из поэмы Блока «Двенадцать» (1918).
…В этом номере новый дебютант — Самсонов… может быть, он не напишет ровно ничего… — Рассказ Валентина Самсонова «Сказочная принцесса» (С. 84-90) был его единственной публикацией в эмигрантской периодике.
…Отрывок из «Писем о Лермонтове»… — В номере было напечатано (С. 91-106) Письмо 9-е романа Фельзена.
…О Моцарте… помещена в «Числах» прекрасная статья Артура Лурье… — Лурье А. Смерть Дон-Жуана: Из Вариаций о Моцарте (С. 172-175).
…У Шаршуна есть наружная обманчивая беспомощность… — Под названием «Лестница в номере был напечатан отрывок из романа «Долголиков» (С. 107-129).
…Мне посчастливилось прочесть рукопись его романа «Долголиков» целиком… — См. первую книгу наст, изд.: Адамович Г. Об одной рукописи // Последние новости. 1929. 20 июня. № 3011. С. 3.
rirabien, quirira le dernier — хорошо смеется тот, кто смеется последним (фр.).
…Ремизовский «Шиш еловый»… — С. 57-83.
…«Живая улика» Демидова… — Рассказ «Живая улика» (С. 50-56) был единственной публикацией в «Числах» (и одной из его немногочисленных литературных публикаций вообще) представителя старшего поколения Игоря Платоновича Демидова (1873-1946), общественно-политического деятеля, журналиста, депутата 4-й Государственной думы, в эмиграции заместителя редактора «Последних новостей».
…У Бурова… есть страницы удачные, — и рядом другие, полные условностей. Это очень неровный писатель, у которого притом крупные нелады с русским языком… — В номере был напечатан (С. 27-49) рассказ Александра Павловича Бурова (Бурд-Восходов, 1876-1967) «Мужик и три собаки». Рассказ вошел в книгу Бурова «Земля в алмазах», выпущенную одновременно двумя изданиями (Париж: Иллюстрированная Россия, 1937; Берлин: Парабола, 1937). О взаимоотношениях Бурова с «Числами» см. в диссертации С. Давыдова «"Тексты-матрешки" Владимира Набокова» (Мюнхен, 1982. С. 10-51), а также в сохранившихся письмах Адамовича к Бурову 1933-1938 (готовятся к печати).
…Н. Оцуп дал разрозненные размышления… — Оцуп Н. Из дневника (С. 130-134).
…Поплавский — статью о значении дружбы… — Поплавский Б. Человек и его знакомые (С. 135—138).
…Терапиано — правдивую и печальную заметку о состоянии эмиграции… — Терапиано Ю. На Балканах (С. 139-140).
…Особняком стоит Антон Крайний… — В номере была напечатана статья З. Гиппиус «Современность» (С. 141-145).
…М. Кантор, которому едва ли не одному, за весь юбилейный год, удалось у нас сказать о Гете несколько умных, ясных, — хотя и спорных, — слов… — Кантор М. О Гете (С. 146-153).
…«Культура слова как культура лжи» Ландау… — С. 154-167.
…Из стихов выделю три стихотворения Гиппиус… и стихотворение Оцупа… — В номере были напечатаны среди многих других стихотворения З. Гиппиус «Цифры», «На фабрике», «8 ноября» (С. 6-7) и стихотворение Н. Оцупа «У газетчиц в каждом ворохе…» (С. 16).
…. Кое-что крайне любопытно (Алферов, Чиннов, заметка Кельберина о Н. Федорове и др.)… – Алферов А. Эмигрантские будни (С. 200-205), Чиннов И. Отвлечение от всего (С. 206-208), Кельберин Л. Федоров и современность (С. 181-182).
«Энергия» (Новый роман Ф. Гладкова).– Последние новости. 1933. 13 июля. № 4495. С. 3.
Адамович ведет речь о первой книге романа Гладкова «Энергия» – «Прорыв» (М.: Федерация, 1933).
… С мнением Андрея Белого, который в длинной и странной статье приравнял гладковскую «Энергию» к созданиям Толстого и Гоголя, согласиться трудно… – Андрей Белый познакомился с Федором Гладковым 19 июля 1932 года. Статья о романе «Энергия» была написана Белым в конце января – начале февраля 1933 года и напечатана в «Новом мире» (1933. № 4. С. 273-291).
«Дальняя родственница» (М.: Жур. газ. объединение, 1933) — рассказ Валерии Анатольевны Герасимовой (1903-1970), выпущенный отдельной брошюрой.
На разные темы (Диалоги. — Догадки Вал. Катаева. — Советский кумир: Дос-Пассос. — Перечитывая Сологуба). — Последние новости. 1933. 20 июля. № 4502. С. 3.
…наши молодые беллетристы по-своему правы. Их упрекают в подражании: чаще всего, как известно, Прусту… подражание, охватывающее целое поколение илигруппу, не бывает случайным… — О влиянии Пруста на эмигрантских прозаиков младшего поколения говорили многие современные им критики и позднейшие исследователи, но ни одной специальной работы на эту тему до сих пор опубликовано не было.
…нечто странное, в чем отчасти повинен Чехов. Реализм, понятый как дословность, открыл доступ болтовне… — Тезис Адамовича и особенно приводимый им пример гораздо больше напоминает стилистику не Чехова, а Кузмина-прозаика и его многочисленных подражателей, к которым в юности относился и сам Адамович, пытавшийся писать прозу. По определению Р. Тименчика, в прозе «Кузмин стремился приблизиться к прокламировавшемуся им идеалу "вторичной", "непретенциозной" литературы» (Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. Т. 3. М.: Большая российская энциклопедия; Фианит, 1994. С. 206). Адамович некоторое время разделял эти устремления и одобрительно отзывался о прозе Кузмина, который, по его мнению, «ввел несомненное новшество: он додумался записывать человеческую речь не в упорядоченном и сглаженном виде, а во всей ее бессвязности. Оттого его диалоги кажутся необыкновенно живыми» (Звено. 1924. 13 октября. № 89. С. 2).
…Катаев без обиняков назвал Олешу декадентом… — см. прим. к статье Адамовича «Пильняк и Бабель» (Последние новости. 1933. 8 июня. № 4460. С. 3) в наст, книге.
…В России Дос-Пассос сейчас один из двух-трех популярнейших писателей. Пожалуй, даже самый популярный. Успех его огромен, особенно в литературной среде… — По результатам опроса «Что читают советские писатели?» Дос-Пассос оказался на первом месте, опередив Стендаля, Пастернака и Шолохова (Литературная газета. 1932. 21 мая. № 21).
…Вышедшая в этом году в русском издании цвейговская «Мария Антуанетта»… — Роман Стефана Цвейга на протяжении трех месяцев печатался подвалами в газете «Сегодня» (1933. 1 января-25 марта. №№ 1-84), а затем был выпущен отдельным изданием: Цвейг Стефан. Мария-Антуанетта. Рига: Сегодня, [1933].
«Ломать я буду с вами, строить нет» — из стихотворения Брюсова «Близким» (1905). Именно эту строку с негодованием цитировал Ленин, назвав Брюсова «поэтом-анархистом».
…В России особенно любят «42 параллель» и «1919 год»… — Роман Дос-Пассоса «42-я параллель» был напечатан в России в переводе В. Стенича (Л.-М.: ГИХЛ, 1931); роман «1919» также в переводе В. Стенича печатался в журнале «Звезда» (1932. №№ 4-7,10-11) и наследующий год вышел отдельным изданием (Л.: ГИХЛ, 1933).
…«Элита»… в свое время она у нас полностью «отрицала» великого Некрасова и противопоставляла ему Фета… — В начале XX века отношение литераторов к поэзии Некрасова впрямь постепенно менялось в лучшую сторону. В1902 году редакция газеты «Новостей дня» обратилась к писателям и художникам с вопросом «Отжил ли Некрасов?», объясняя это так: «Для Некрасова и его поэзии наступает история. Нам показалось интересным сделать хоть слабую попытку заглянуть в приговор этой истории, угадать, какое место приготовила она ему, сулит ли бессмертие или забвение <…> Кто был ближе к правде, тот ли молодой голос, который во время похорон Некрасова прокричал: "Он выше, выше Пушкина, Лермонтова", или Тургенев, категорически утверждавший, что "поэзия даже и не ночевала в стихах Некрасова", и пророчивший, что "Некрасова забудут очень скоро, куда скорее, чем Полонского"?» Были опубликованы ответы А. П. Чехова, П. Д. Боборыкина, Н. Н. Златовратского, Н. М. Минского, Л. Н. Андреева, И. А. Бунина, В. Я. Брюсова, С. А. Найденова, А. Л. Волынского, И. Е. Репина (Новости дня. 1902. 27 декабря. № 7023). Ср. результаты составленной два десятилетия спустя Чуковским анкеты «Некрасов и мы», на вопросы которой ответили А. Ахматова, А. Блок, А. Белый, З. Гиппиус, С. Городецкий, М. Горький, Н. Гумилев, Вяч. Иванов, М. Кузмин, Д. С. Мережковский и В. Маяковский (Летопись Дома литераторов. 1921. № 3. 1 декабря. С. 3).
…Правда, в поздних стихах есть просветление… – Адамович продолжал утверждать это после всех полемических высказываний Ходасевича 1927-1928 гг., а возможно, просто не обратив на них внимания. Подробнее см. в прим. к статье Адамовича, посвященной кончине Сологуба (Адамович Г. Литературные беседы. Кн. 2. «Звено»: 1926-1928. СПб.: Алетейя, 1998. С. 455-4560.
Советский Ремарк. – Последние новости. 1933. 3 августа. № 4516. С. 3.
Несколько небольших отрывков из этого второго романа промелькнуло в журнале «Звезда» за прошлый год… я тогда же, раза два писал о… Лебеденко… — См. статьи: Адамович Г. Заметки о советской литературе // Последние новости. 1933. 23 февраля. № 4355. С. 3; Адамович Г. Литературные заметки // Последние новости. 1932. 1 сентября. № 4180. С. 3).
…Недавно «Тяжелый дивизион» вышел отдельной книгой… — Первый том романа Лебеденко был выпущен Издательством писателей в Ленинграде в 1933 году и им же несколько раз переиздавался.
…Ремарка, автора в России мало популярного и коммунистической критикой осмеянного… — Об отношении советской критики к Ремарку см. прим. к «Литературным заметкам» Адамовича о книге «На западном фронте без перемен» (Последние новости. 1929.17 октября. №3130. С. 4) в 1 книге наст. изд.
…«дьявольская разница», по пушкинскому выражению… — Имеются в виду слова Пушкина из письма П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 года: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах — дьявольская разница».
Шолохов. – Последние новости. 1933. 24 августа. № 4537. С. 3.
roman-fleuve – рома-река (фр.).
… Мне вспоминается не Толстой, а совсем другой писатель, которого, кстати, с Толстым у нас тоже сравнивали…генерал Краснов… – Пика это сравнение достигло под пером капитана К. С. Попова, который, вступив в полемику с Адамовичем, посвятил целую книгу доказательству того, что эпопея генерала Краснова во всех отношениях превосходит «Войну и мир» (Попов К. С. «Война и мир» и «От двуглавого орла к красному знамени» в свете наших дней. Париж: Возрождение, 1934).
…первый том «Двуглавого орла и красного знамени»… – Имеется в виду роман-эпопея Краснова в 8-ми частях «От двуглавого орла к красному знамени», первый том которого был опубликован берлинским издательством О. Дьяковой в 1921 году. Роман неоднократно переиздавался и долго занимал первое место по популярности у эмигрантской публики.
Не апология. – Последние новости. 1933. 7 сентября. № 4551. С. 3.
… Беломорский канал. Придаю, конечно, этим двум словам общее, нарицательное значение, т. е. отношу к ним всю официальную деятельность советских писателей… – 17 августа 1933 года большая группа писателей во главе с Горьким побывала на строительстве Беломорканала. 36 из них, в том числе Всеволод Иванов, Вера Инбер, Михаил Зощенко, Валентин Катаев, Алексей Толстой, Виктор Шкловский, приняли участие в сборнике: Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства 1931-1934 / Под редакцией М. Горького, Л. Авербаха, С. Фирина. М., 1934.
«Истинный космополит существо метафизическое» — Адамович приводит слова Карамзина из «Предисловия» (7 декабря 1815) к «Истории государства Российского». У Карамзина: «Истинный Космполит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его».
< «Гуляй-Волга» Артема Веселого. — «Львы и солнце» С. Сергеева-Ценского. — «Великий или Тихий» Вл. Лидина >. — Последние новости. 1933.14 сентября. № 4558. С. 3.
«Гуляй-Волга» (М.: ГИХЛ, 1932) — роман Артема Веселого (наст, имя Николай Иванович Кочкуров; 1899– 1939).
«Львы и солнце» — повесть Сергеева-Ценского, впервые опубликованная в «Новом мире» (1930. № 5), неоднократно перепечатывалась в авторских сборниках, впоследствии дала название юбилейному избранному (М.: Советский писатель, 1936).
«от хорошей жизни не полетишь» — из рассказа «Воздушный шар» писателя, драматического артиста Ивана Федоровича Горбунова (1831-1895).
…Вл. Лидин… дебютировал в нашей литературе в годы войны или, может быть, немного раньше, — если не ошибаюсь, одновременно с Юр. Слезкиным, забытый «Помещик Галдин» которого имел в то время такой успех… — Владимир Лидин (наст, имя Владимир Германович Гомберг; 1894-1979) опубликовал первые рассказы в 1908 году, постоянно печатался с 1912 года. Первые публикации Юрия Львовича Слезкина (1885-1947) относятся к 1902 году, повесть «Помещик Галдин» вышла в 1912 году.
«Великий или Тихий» (М.: Сов. лит-ра, 1933) — роман Владимира Лидина, первоначально опубликованный в «Новом мире» (1932. №№ 10-12).
На разные темы: Соперники. — «Стихотворения в прозе» Тургенева. — О мировых тайнах и загадках. — «Профессор Бодлер». — Последние новости. 1933. 28 сентября. №4572. С. 2.
…Еще совсем недавно в двух или трех эмигрантских газетах промелькнули статьи на ту же тему: Блок и Гумилев… — Ходасевич В. Гумилев и Блок // Дни. 1926. 1,8 августа; Иванов Г. Блок и Гумилев // Сегодня. 1929. 6 октября. № 276. С. 5.
…мейерхольдовской постановки «Балаганчика» в Тенишевском зале… — Блоковский спектакль, в который входили «Незнакомка» и «Балаганчик», поставленный Мейерхольдом в своей студии, состоялся 7 апреля 1914 года в зале Тенишевского училища, публика встретила холодно. См. об этом: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 431-432.
«Ночные часы : Четвертый сборник стихов (1908– 1910)» (М.: Мусагет, 1911) — книга стихов Блока.
…во время борьбы за какое-нибудь председательское кресло в союзе поэтов… — В июне 1920 был создано и в июле утверждено Петроградское отделение Всероссийского профессионального Союза поэтов, первым председателем которого стал Блок. По словам Вс. Рождественского, «Гумилев и его группа сразу же почувствовали себя чем-то обиженными и начали "борьбу за власть". На этой почве произошел ряд столкновений, завершившихся уходом Александра Александровича с председательского места в отставку» (Рождественский Вс. Александр Блок // Звезда. 1945. № 3. С. 114). 25 мая 1921 год Блок записал в дневнике: «В феврале меня выгнали из Союза поэтов и выбрали председателем Гумилева» (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.-Л.: ГИХЛ, 1963. Т. 7. С. 420).
VictorHugo,helas! — Виктор Гюго, увы! (фр.)
Аренский Антон Степанович (1861-1906) — композитор, пианист, дирижер, работавший преимущественно в камерно-инструментальных жанрах, автор многих романсов.
«Дело человека. Опыт философии культуры» (Харбин, 1933) — книга писателя и публициста евразийского толка Всеволода Никаноровича Иванова (1888-1971).
Сетницкий Николай Александрович (1888-1937) – философ и экономист, последователь учения Н. Федорова, автор ряда работ о нем. Репрессирован и расстрелян. «О конечном идеале» (Харбин, 1932) — его главный труд»
«Les paradis artificiels» — «Искусственный рай», книга (1860) Шарля Бодлера.
Герои нашего времени. – Последние новости. 1933. 19 октября. № 4593. С. 3.
Ермилов Владимир Владимирович (1904-1965) – советский литературовед и критик. Секретарь РАПП и СП СССР, главный редактор журналов «Молодая гвардия» (1926-1928), «Красная новь» (1932-1938) и «Литературной газеты» (1946-1950).
Мазнин Дмитрий Михайлович (1902-1938) — советский поэт, критик и журналист, ответственный работник РАПП, штатный сотрудник «Красной нови» (с 1932), затем «Известий ЦИК» и Гослитиздата, репрессирован.
…«Господшипник»…Отчет о проделанной работе Ермилова и Мазнина… — В 1933 году редакция «Красной нови» провела ряд бесед с представителями технической интеллигенции и рабочими ударниками московского завода «Господшипник». Результаты были оглашены в докладах Ермилова и Мазнина на совещании писателей в редакции «Красной нови» 19 июня 1933 года, после чего была организована встреча писателей с ударниками на заводе. Расширенные стенограммы докладов были вскоре опубликованы: Ермилов В. Рост пролетарской интеллигенции и вопросы тематики художественной литературы (О передовиках ГПЗ им. Л. М. Кагановича) // Красная новь. 1933. № 8. С. 157-191; Мазнин Дм . Черты героя 2-й пятилетки (О передовиках «Господшипника» им. Л. М. Кагановича) // Красная новь. 1933. № 8. С. 192-218. В бурных прениях по докладам выступили К. Зелинский, А. Сурков, Ю. Олеша, Е. Габрилович, Н. Дементьев, А. Фадеев и другие писатели, а также рабочие завода.
«Не нам, не нам, а имени твоему» — Пс 113, 9.
«рабочему классу нужна своя собственная производственно-техническая интеллигенция» — из речи Сталина «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства» на совещании хозяйственников 23 июня 1931г.
…Ю. Олеша… когда зашла речь о неожиданной любви одного из молодых инженеров завода к Достоевскому, он «весь оживился»… Это заявление А. Герасимова… — Ермилов в докладе рассказал о том, что начальник цеха шариков А. Г. Герасимов «интересуется Достоевским, в частности, типом Раскольникова». Олеша при этом с места подал реплику: «Какая же разница между ним и старым интеллигентом?» (Красная новь. 1933. № 8. С. 221).
«Народ безмолвствовал» — измененная цитата из пушкинского «Бориса Годунова» (1825). У Пушкина финальная ремарка трагедии: «Народ безмолвствует».
…Два молодых инженера, независимо друг от друга, вспомнили о Леонардо да Винчи… — Помимо начальника цеха А. Г. Герасимова, о своем интересе к Леонардо Ермилову говорил зав. подотделом норм расхода инструмента Е. Н. Малючков: «Меня сильно увлекает талант Леонардо да Винчи, я не имею, к сожалению, о нем полных сведений и даже не могу достать хорошего портрета его — книги о таких людях необходимы техническому миру, по ним можно учиться <…> Ведь создание нового человека требует знания всего, что создало человечество» (Красная новь. 1933. № 8. С. 221).
…Паскаль изобрел рулетку… — По одной из версий знаменитый французский философ и ученый-энциклопедист Блез Паскаль (Pascal; 1623-1662) изобрел рулеточное колесо в 1655 году как первый генератор случайных чисел, формулируя основные положения теории вероятности.
«Современные записки», книга 53-я. Часть литературная. — Последние новости. 1933. 2 ноября. № 4607. С. 2.
53 книга «Современных записок» вышла в свет в октябре 1933 года.
…бунинская «Жизнь Арсеньева»… — С. 5-26.
…Окончена «Жанета». Повесть эту нельзя причислить к лучшим созданиям Куприна… — С. 27-78.
…«Доме в Пасси» Бориса Зайцева… — С. 79-112.
…Несколько молодых беллетристов появляются в «Современных записках» впервые… — Для первой половины тридцатых годов появление новых имен в «Современных записках» рассматривалось как редчайшее исключение из правил и большая удача. Лишь постепенно литераторы младшего поколения завоевывают себе место под солнцем, продолжая, впрочем, жаловаться, что их не замечают. В. Яновский вспоминал позже: «Фондаминский и все его близкие друзья помогали нам в меру сил и, действительно, постепенно к концу тридцатых годов протащили в "Современные записки" всю молодежь» (Яновский В. Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983. С. 178). На самом деле это произошло несколько раньше, уже к 1935 году практически всех молодых писателей печатают «Современные записки» и «Последние новости», что по эмигрантским понятиям было окончательным признанием.
…Рассказ В. Яновского… «Преображение»… — С. 113-145.
…«Тело» Бакуниной… — О романе и полемике вокруг него см. в прим. к статье Адамовича «Человеческий документ» (Последние новости. 1933. 9 марта. № 4369. С. 3).
feu continu — вечное горение (фр.).
…Ю Фельзен… Его новый рассказ… — Фельзен Ю. Пробуждение (С. 146-173).
…«Через улицу» Ант. Ладинского… — С. 174-191.
…О «Смерче» А. Гефтера… — С. 192-205.
«непоправимо-белую страницу» — из стихотворения Ахматовой «Вечерние часы перед столом…» (1913).
…вночь идет, и плачет уходя!… — из стихотворения Фета «А. Л. Бржеской» (1879).
…статья Вейдле о «Чистой поэзии»… — С. 310-323.
…впоследних строчках статьи, «под занавес» указано лекарство от болезни… — «В мастерской, при помощи всех тех инструментов, какими работало искусство, изготовляются сложнейшие механизмы, при виде которых рассыпается в прах мечта о чистой поэзии. Капище разрушено. На его месте не будет ничего и развалины порастут травою, если религия, веками оторванная от искусства, не введет его снова в свой подлинный, нерушимый храм» (Вейдле В. Чистая поэзия // Современные записки. 1933. №53. С. 323).
…О «чистой поэзии» без устали писал, как известно, аббат Бремон, недавно скончавшийся… — Книги Анри Бремона «Поэзия и молитва» и «Чистая поэзия» вызвали полемику в эмиграции. Вейдле посвятил им статью, в которой писал: «Самое ценное в книгах Бремона, это то, что они решительно порывают с рационализмом, столь характерным для французской критики и для французского вкуса; слабость их в том, что в этом разрыве они не сумели пойти до конца» (Лейс Д. Поэзия и молитва // Звено. 1927. № 211. 13 февраля. С. 2-3). С Вейдле, в свою очередь, вступил в полемику Бицилли: Бицилли П. О чистой поэзии // Звено. 1927. № 217. 27 марта. С. 6-7.
…неужели можно Поля Валери ставить как поэта, на одну доску с глубоким и оригинальным Маллармэ… — Адамович имеет в виду рассуждение Вейдле: «Прозаические опыты Джойса как бы цинически разоблачают, выводят на чистую воду возвышенные порывы Малларме, Валерии и их учеников» (Вейдле В . Чистая поэзия // Современные записки. 1933. № 53. С. 322-323).
…интересна и порывиста Марина Цветаева в своих воспоминаниях о Макс. Волошине… — В номере было опубликовано окончание мемуарного очерка Цветаевой о Волошине «Живое о живом» (С. 215-250).
…Неизменно интересен П. Бицилли… — В статье П. Бицилли «Трагедия русской культуры» (С. 297-309) речь шла об особенных взаимоотношениях культуры и цивилизации в России.
…М.Алданов в заметках о Тургеневе… — Алданов М. При чтении Тургенева: Несколько заметок (С. 412-417).
…главу, где к ребенку-герою приходит во французский пансион Тушара его застенчивая испуганная мать… — Достоевский Ф. М. Подросток. Часть вторая. Гл. 9. II.
9-го ноября. — Последние новости. 1933. 16 ноября. № 4621. С. 3.
…От радостей мы давно уже отвыкли… — День присуждения Бунину Нобелевской премии, 9 ноября 1933 года, эмигранты склонны были считать своего рода национальным торжеством. «Присуждение Нобелевской премии Ивану Алексеевичу Бунину было воспринято русской эмиграцией как праздник и великая радость» (От редакции // Современные записки. 1934. № 54. С. 195).
…Будьте ж довольны жизнью своей… — из стихотворения Блока «Голос из хора» (1910-1914).
«un homme arrive» — «человек преуспевающий» (фр.).
«Гордый взор иноплеменный» «не поймет», «не заметит»… — из стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья» (1855).
План. – Последние новости. 1933. 23 ноября. № 4628. С. 2.
…слово — «план» — в наше время у всех на устах… — Завершившийся в 1932 году первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР официально был признан удачным. 1933 год открыл вторую пятилетку, а советские газеты без умолку говорили об успехах плановой экономики.
le desarroi des hommes et des choses — дезорганизация людей и вещей (фр.).
«odi et ато» — «ненавижу и люблю» (лат.). Начало эпиграммы Гая Валерия Катулла (87-54 до н. э.), в переводе Фета: «Хоть ненавижу, люблю. Зачем же? — пожалуй, ты спросишь. И не пойму, но в себе чувствуя это, крушусь» (Catulli, LXXXV).
«литература есть часть общепролетарского дела» — из работы Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905). У Ленина: «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела» (Ленин В. И. ПСС. Т. 12. С. 100-101).
…в Каноссу… — Нарицательное обозначение капитуляции. Каносса — замок в Северной Италии, куда в январе 1077 года германский король Генрих IV, отлученный от церкви в ходе борьбы за инвеституру, прибыл просить папу римского Григория VII снять отлучение. По сообщению ряда хронистов и самого Григория VII, он три дня простоял перед внутренней стеной замка босой и в рубище, после чего папа разрешил допустить его к себе и снял отлучение. Выражение «идти в Каноссу» с тех пор употреблялось в значении капитулировать или соглашаться на уступки. Наиболее нашумевший случай употребления в эмиграции — в названии статьи сменовеховца С. С. Чахотина «Мы идем в Каноссу!» (Смена вех. Прага, 1921. С. 159-161).
<«Древний путь» Л. Зурова. — «Как создавался Робинзон» И. Ильфа и Е. Петрова>. — Последние новости. 1933. 30 ноября. № 4635. С. 3.
«Древний путь : Роман» (Париж: Современные записки, 1933) — книга Леонида Федоровича Зурова (1902–1971).
…знаменитая вступительная фраза из «Воскресения»… — Зачин «Воскресения» традиционно считается идейным и художественным ключом ко всему роману: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже и в городе».
«А небо так нетленно-чисто…» — из стихотворения Тютчева «И гроб опущен уж в могилу…» (1836).
…Ильф и Петров издали сборник своих фельетонов… — Речь идет об издании: Ильф И., Петров Евг. Как создавался Робинзон: Рассказы и фельетоны. М.: Сов лит-ра, 1933.
…плоские и жалкие «Птички певчие»… — Адамович имеет в виду вышедшее в серии «Библиотека сатиры и юмора» издание: Катаев В. Птички божьи: Юмористические рассказы. М.-Л.: Земля и фабрика, 1928.
«Отец: Рассказы и стихи» (М.-Л.: ЗИФ, 1928) — сборник В. Катаева. В другом составе сборник под таким названием выходил и в эмиграции: Катаев Б. Отец. Рассказы. Берлин: Книга и сцена, 1930; см. рецензию Адамовича «Рассказы В. Катаева» (Последние новости. 1930. 31 июля. №3417. С. 3).
На разные темы: Второй том «Тяжелого дивизиона». — «Кочевье». — Селин и Андрэ Мальро. — Последние новости. 1933.14 декабря. № 4649. С. 3.
…Недавно в одном здешнем литературном кружке была устроена «устная анкета»: какая советская книга за последний год вам больше всего понравилась… — Такого рода «устные анкеты» и «устные рецензии» обычно проводило «Кочевье», однако именно об этой анкете в газетных отчетах ничего не появлялось.
…Обэтом «советском Ремарке» я сравнительно недавно писал… — Адамович Г. Заметки о советской литературе: «Баррикады» Павленко. — Советский Ремарк. — О М. Кольцове и фельетоне // Последние новости. 1933. 23 февраля. № 4355. С. 3.
…второй части «Тяжелого дивизиона»… — Второй том романа Лебеденко был выпущен Издательством писателей в Ленинграде в 1933 году и переиздан ленинградским отделением Гослитиздата в 1934 году.
…В Москве, будто бы, среди людей, причастных к литературе, упорно держится легенда, которуюмногие считают истиной. Шолохов — не автор первой части «Тихого Дона»… — Версия эта имела широкое хождение в окололитературных кругах уже в двадцатые годы, была создана официальная комиссия в составе Фадеева, Серафимовича и М. И. Ульяновой, и вскоре в «Правде» было опубликовано «Письмо в редакцию», подписанное А. Серафимовичем, Л. Авербахом, В. Киршоном, А. Фадеевым и В. Ставским, для опровержения слухов о том, что «роман Шолохова является якобы плагиатом с чужой рукописи, что материалы об этом имеются в ЦК КПСС или в прокуратуре (называются также редакции газет и журналов)» (Правда. 1929. 29 марта). В семидесятые годы слухи вспыхнули с новой силой, появился ряд публикаций на эту тему, и проблема авторства «Тихого Дона» до сих пор продолжает беспокоить журналистов и литературоведов. Наиболее значительными вехами этой истории стали книги «Д». Стремя «Тихого Дона». Загадки романа Paris: YMCA-Press, 1974; Медведев Р . Кто написал «Тихий Дон»? Paris: Christian Bourg. Edit., 1975; Кеецаа Г . Борьба за «Тихий Дон». Pergamob Press, USA, 1977; Хьетсо Г ., Густавссон С ., БекманБ ., Гил С . Кто написал «Тихий Дон». (Проблема авторства «Тихого Дона»). М.: Книга, 1989; Макаров А. Г ., Макарова С.Э. Цветок-татарник. К истокам «Тихого Дона». М., 1991; «Загадки и тайны «Тихого Дона». Под общей редакцией Г. Порфирьева. Самара: P. S. пресс, 1996; а также статьи Г. Ермолаева, Л. Колодного, Ф. Кузнецова и др.
…B «Кочевье»… устроили вечер, посвященный Селину и «Путешествию в глубь ночи»… — На собрании «Кочевья» в Salle de Societe de Geographie 7 декабря 1933 года Г. Газданов выступил с докладом, посвященным роману Селина (Celine; наст, имя Луи Фердинанд Детуш; 1894– 1961) «Путешествие в глубь ночи». В прениях приняли участие Г. Адамович, В. Варшавский, В. Вейдле, М. Слоним, Ю. Фельзен и др.
«Кочевье» (1928-1938) — парижское литературное объединение, которым руководил М. Слоним, устраивавшее вечера, посвященные как эмигрантским, так и советским писателям, а также доклады, диспуты, «вечера устных рецензий» и коллективных читок, в начале тридцатых выпускавшее коллективные сборники. В работе объединения активно участвовали Б. Поплавский, Г. Газданов, А. Гингер, А. Присманова, В. Андреев и др. По словам современника, «никакой определенной идеологии "Кочевье" не выдвигало, поэтому на его вечерах выступали многие» (Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924-1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос; Третья волна, 1987. С. 133), тем не менее руководитель и некоторые из участников «Кочевья» находились в оппозиции к «Перекрестку» и «парижской ноте», «ориентируясь на Цветаеву, Пастернака и молодую советскую прозу, в первую очередь на "Серапионовых братьев", Бабеля и Леонова» (МалевичО . Три жизни и три любви Марка Слонима // Евреи в культуре русского зарубежья. Т. 3. Иерусалим, 1994. С. 86). Наибольшей популярностью «четверги» «Кочевья» пользовались в первые пять лет, затем, к середине тридцатых годов, активность «Кочевья» снижается.
…Расцвет и упадок «Кочевья» не случайны. Общество это сделало ставку на советскую литературу… А сейчас иллюзии рассеялись… — Многие парижане оценивали причины кратковременной популярности «Кочевья» и последовавшего охлаждения интереса к нему так же, как и Адамович. По выражению В. Яновского, «когда "гайки" были окончательно завинчены первой пятилеткой, говорить больше не о чем стало (в смысле искусства). Мы это сразу поняли; все, за исключением Слонима, человека самонадеянного и самоуверенного. И "Кочевье", захирев, протянуло ноги» (Яновский В . Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. С. 238).
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
АвербахЛеопольд Леонидович (1903-1939), литературно-партийный функционер, критик, публицист, редактор журнала «На литературном посту», генеральный секретарь РАПП в 1926-1932
АверченкоАркадий Тимофеевич(1881-1925), писатель
Азадовский Константин Маркович (р. 1941), литературовед
Айхенвальд Юлий Исаевич (1872-1928), критик
АксаковИван Сергеевич (1823-1886), публицист, общественный деятель
Алданов Марк Александрович (наст, фам.: Ландау; 1889-1957), писатель
Александра Федоровна (1798-1860), великая княгиня, императрица с 1825 г.
Алферов Анатолий (1902?-1954?), прозаик «незамеченного поколения»
Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938), писатель
Андреев Леонид Николаевич (1871-1919), писатель
Андреев Николай Ефремович (1908-1982), историк, литературовед
Анненский Иннокентий Федорович (1855—1909), поэт, критик
Аренский Антон Степанович (1861-1906), композитор
Арцыбашев Михаил Петрович (1878-1926), писатель
Асеев Николай Николаевич (1889-1963), советский поэт
Афиногенов Александр Николаевич (1904—1941), советский драматург
Ахматова Анна Андреевна (наст, фам.: Горенко, в замужестве Гумилева; 1889-1966)
Бабель Исаак Эммануилович (1894-1940), писатель
Багрицкий Эдуард Георгиевич (наст. фам. Дзюбин; 1895-1934), советский поэт
Бакунина Екатерина Васильевна (1889-1976), прозаик «незамеченного поколения»
Байрон Джордж Ноэл Гордон, лорд (Byron; 1788-1824), английский поэт, драматург
Бальзак Оноре де (Balzac; 1799-1850), французский писатель
БальмонтКонстантин Дмитриевич (1867-1942), поэт
Баратынский Е. А. см. Боратынский
Барбюс Анри (barbussse; 1873-1935), французский писатель
Бауман Николай Эрнестович (1873-1905), революционер
Бачелис Илья Израилевич (1902-1951), советский писатель, журналист
Безыменский Александр Ильич (1898-1973), советский поэт
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848), критик, публицист
Белоцветов Николай Николаевич (1892-1950), поэт«незамеченного поколения»
Белошевская Любовь Николаевна, историк литературы
Белый Андрей (наст, имя: Борис Николаевич Бугаев; 1880– 1934), поэт, прозаик, литературовед
БемАльфред Людвигович (1886-1945), критик, литературовед
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807-1873), поэт, переводчик
Берберова Нина Николаевна (1901—1993), прозаик, поэт, мемуарист
БергсонАнри (bergson; 1859-1941), французский философ-интуитивист
Берлин Анна Эмильевна (1898-1935), поэтесса «незамеченного поколения»
БерлиозГектор Луи (Berlioz; 1803-1869), французский композитор
Бертенсон Сергей Львович (1885-1962), театральный деятель
Бетховен Людвиг ван (Beethoven; 1770-1827), немецкий композитор, пианист и дирижер
Бицилли Петр Михайлович (1879-1953), историк, литературовед
Блок Александр Александрович (1880-1921)
БлохРаиса Ноевна (1899-1943), поэт, переводчик, медиевист
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836-1921), писатель
Богданов Е. см. Федотов Г. П.
Боборыкин Петр Дмитриевич (1836-1921), писатель
БодлерШарль (Baudelaire; 1821-1867), французский поэт
Боратынский Евгений Абрамович (1800-1844), поэт
Брайнина Берта Яковлевна (1902-1984), советский литературный критик
Браславский Александр Яковлевич (псевд.: Булкин), поэт «незамеченного поколения»
Бремон Анри, аббат, литературовед, историк
Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924), поэт, прозаик, критик, историк литературы, переводчик
БубениковаМилуша, историк литературы
БуденныйСемен Михайлович (1883-1973), советский военачальник
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789-1859), журналист, писатель
Бунаков-Фондаминский Илья Исидорович (наст. фам. Фондаминский; 1880-1942), общественный деятель, публицист
Бунин Иван Алексеевич (1870-1953), писатель
Бурлюки Давид Давидович (1882-1967), поэт-футурист, художник
БуровАлександр Павлович (Бурд-Восходов; 1876-1967), прозаик
Бюффон Жорж Луи Леклерк (Buffon; 1707-1788), французский естествоиспытатель.
Вагнер Рихард (Wagner; 1813-1883), немецкий композитор
Валери Поль (Valery; 1871-1945), французский поэт
Варварин В. – см. Розанов В.В.
ВаршавскийВладимир Сергеевич (1906-1978), эмигрантский прозаик «незамеченного поколения»
Вейдле Владимир Васильевич (1895-1979), критик, искусствовед
Вербицкая Анастасия Алексеевна (урожд. Зяблова; 1861-1928), прозаик, драматург
Верлен Поль (Verlaine; 1844-1896), французский поэт
Веселый Артем (наст, имя Николай Иванович Кочкуров;1899-1939), советский писатель
ВиньиАльфред Виктор де (Vigny; 1797-1863), французский писатель
Вишневский Всеволод Витальевич (1900-1951), советский драматург
Волошин Максимилиан Александрович (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877-1932), поэт
Вольтер (Voltaire; наст, имя: Мари Франсуа Аруэ; 1694-1778), французский писатель, философ-просветитель
Волынский Аким Львович (наст, имя и фам.: Хаим Лейбович Флексер; 1861-1926), критик, историк и теоретик искусства
Воровский Вацлав Вацлавович (1871-1923), революционер, публицист, литературный критик
ВоронскийАлександр Константинович (1884-1943), критик, писатель
ВулфВирджиния (Woolf; урожд. Стефенс; 1882-1941), английская писательница
ВышеславцевБорис Петрович (1877-1954), философ
Вяземский Петр Андреевич, князь (1792-1878), поэт, литературный критик
Габрилович Евгений Иосифович (1899-1993), писатель, сценарист
ГаздановГайто (наст, имя: Георгий Иванович; 1903-1972), писатель
ГамсунКнут (Hamsun; наст, фам.: Педерсен; 1859-1952), норвежский писатель
Гартман Николай (hartmann; 1882-1950), немецкий философ
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (Hegel; 1770-1831), немецкий философ
ГенрихIV(1050-1106), германский король с 1056 г.
Герасимова Валерия Анатольевна (1903-1970), советская писательница
Герцен Александр Иванович (1812-1870), революционер, писатель, мыслитель
Гессен Сергей Иосифович (Осипович) (1887-1950), филолог, публицист
Гёте Иоганн Вольфганг (Goethe; 1749-1832), немецкий писатель, мыслитель
Гефтер Александр Александрович (1885-1956), прозаик «незамеченного поколения»
Гингер Александр Самсонович (1897—1965), поэт «незамеченного поколения»
ГиппиусЗинаида Николаевна (1869—1945), поэт, прозаик, критик
Гитлер Адольф (hitler; наст. фам. Шикльгрубер; 1889-1945)
ГладковФедор Васильевич (1883-1958), советский писатель
Глинский Борис Борисович (1860– после 1917), писатель
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852), русский писатель
Голенищев-Кутузов Илья Николаевич (1904–1969), поэт «незамеченного поколения»
Головин Александр Сергеевич (1904-1968), скульптор
Головина Алла Сергеевна (урожд. баронесса Штейгер, во втором браке Жиллес де Пеллиши; 1909-1987), поэт
ГорбуновИван Федорович (1831-1895), артист, писатель
Горлин Михаил Генрихович (1909-1943), поэт
Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967), поэт
Горький Максим (наст, имя и фам.: Алексей Максимович Пешков; 1868-1936), писатель
Гофман Виктор Викторович (1884-1911), поэт
Грабарь Игорь Эммануилович (1871-1960), художник
Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 1795-1829), писатель и дипломат
ГригорийVII Гильдебранд (между 1015 и 1020-1085), Папа Римский с 1073 г.
Гронский Николай Павлович (1909-1934), поэт
ГроссманЛеонид Петрович (1888-1965), советский литературовед
Гумилев Николай Степанович (1886-1921), поэт, критик
Гундольф Фридрих (Gundolf; 1880-1931), немецкий историк литературы
Гюго Виктор Мари (Hugo; 1802-1885), французский писатель
Давыдов Сергей, литературовед
Данилевский Александр Алексеевич (р. 1956), литературовед
Дебюсси Клод Ашиль (Debussy; 1862-1918), французский композитор
Дементьев Николай Иванович (1907-1935), советский писатель
Демидов Игорь Платонович (1873-1946), общественный деятель, журналист
Деникин Антон Иванович (1872-1947), генерал, один из руководителей Белого движения
Джанумов Юрий Александрович (1907-1965), поэт
ДжойсДжеймс (joyce; 1882-1941), ирландский писатель
ДикийАлексей Денисович (1889-1955), режиссер, актер 451
Добролюбов Николай Александрович (1836-1861), критик 20
Дорошевич Влас Михайлович (1864-1922), фельетонист 206, 442
Дос-Пассос Джон (Dos Passos; 1896-1970), американский писатель
Достоевская Анна Григорьевна (урожд. Сниткина; 1846-1918)
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881), русский писатель
Драйзер Теодор (dreiser; 1871-1945), американский писатель.
Дэвис Ричард (davies; р. 1949), английский славист
Евреинов Николай Николаевич (1879-1953), театровед
Еврипид (ок. 480 до н. э. — 406), древнегреческий драматург
ЕрмакТимофеевич (?—1585), казачий атаман
Ермилов Владимир Владимирович (1904-1965), советский критик, литературовед
Ермолаев Герман Сергеевич (р. 1924), литературовед
ЕсенинСергей Александрович (1895-1925), поэт
ЖидАндре (gide; 1869-1951), французский писатель
Жироду Жан (giraudoux; 1882-1944), французский писатель, драматург
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852), поэт, переводчик, критик
Загоскин Михаил Николаевич (1789-1852), прозаик, комедиограф
Зайцев Борис Константинович (1881-1972), писатель
Закович Борис Григорьевич (1907-1995), поэт «незамеченного поколения»
Зелинский Корнелий Люцианович (1896-1970), советский критик
Златовратский Николай Николаевич (1845-1911), писатель-народник
ЗоляЭмиль (zola; 1840-1902), французский писатель
Зощенко Михаил Михайлович (1894-1958), писатель
ЗуровЛеонид Федорович (1902-1971), прозаик «бунинской школы»
ИбсенГенрик (Ibsen; 1828-1906), норвежский драматург
Иванов Всеволод Вячеславович (1895-1963), советский писатель
Иванов Всеволод Никанорович (1888-1971), писатель
Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949), поэт-символист
Иванов Георгий Владимирович (1894-1958), поэт
Иваск Юрий Павлович (1907-1986), поэт, критик, литературовед
ИльинВладимир Николаевич (1891-1974), философ
ИльфИлья (наст. имя Илья Арнольдович Файнзильберг; 1897-1937), писатель
ИнберВера Михайловна (1890-1972), поэтесса
КаверинВениамин Александрович (1902-1989), советский писатель
Каганович Лазарь Моисеевич (1893-1991), советский государственный и партийный деятель
Кантор Михаил Львович (1889-1970), критик, редактор, поэт
Карабчевский Николай Платонович (1851-1925), адвокат
Карамзин Николай Михайлович (1766-1826), прозаик, поэт, журналист, историк
Карелин Ю. (наст, имя Петр Абрамович Бронштейн; 1881-1944), поэт «незамеченного поколения»
Карташов Антон Владимирович (1875-1960), общественно-политический и церковный деятель, богослов
КасаткинаНаталья Григорьевна (1902-1985), советский переводчик
КатаевВалентин Петрович (1897-1986), советский прозаик
КатковМихаил Никифорович (1818-1887), публицист, издатель
Катулл, Гай Валерий Катулл (87-54 до н. э.), древнеримский поэт
Каутский Карл (Kautsky; 1854-1938), немецкий социал-демократ, журналист
Кельберин Лазарь Израилевич (1907-1975), поэт
Керенский Александр Федорович (1881-1970), видный российский политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917)
Кирилл Владимирович (1876-1938), великий князь
КирпотинВалерий Яковлевич (1898-1997), советский критик, литературовед
Киршон Владимир Михайлович (1902-1938), советский драматург
КлычковСергей Антонович (наст, фам.: Лешенков; 1889-1937 по др. данным 1940), писатель
Клюев Николай Алексеевич (1884-1937), поэт, прозаик
Кнут Довид (наст, имя: Давид Миронович Фиксман; 1900–1955), поэт «незамеченного поколения»
Коген Герман (cohen; 1842-1918), немецкий философ
КолодныйЛев Ефимович (р. 1932), журналист
Кольцов Михаил Ефимович (наст. фам. Фридлянд; 1898– 1940), советский журналист
Корвин-Пиотровский Владимир Львович (1891-1966), поэт «незамеченного поколения»
Краинский Николай Васильевич, профессор
Краснов Петр Николаевич (1869-1947), генерал от кавалерии (1918), прозаик, публицист
Крайний Антон – см. Гиппиус З.Н.
Кремер Иза Яковлевна (1890-1956), эстрадная артистка
Крученых Алексей Елисеевич (1886-1968), поэт, теоретик футуризма
Кузнецов Феликс Феодосьевич (р. 1931), литературовед
Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936), поэт, прозаик, критик
Куприн Александр Иванович (1870-1938), писатель
ЛавровАлександр Васильевич (р. 1949), литературовед
ЛадинскийАнтонин Петрович (1896-1961), поэт, прозаик
Ландау Григорий Адольфович (1877-1941), философ, публицист, литературный критик
ЛарошфукоФрансуа де (La Rochefoucauld; 1613-1680), французский писатель
Лафайет Мари Мадлен (La Fayette; 1634-1693), французская писательница
Лассаль Фердинанд (Lassale; 1825-1864), немецкий социалист, публицист
Лебедев Вячеслав Михайлович (1896-1969), поэт, прозаик, переводчик, член пражского «Скита поэтов»
ЛебеденкоАлександр Гервасьевич (1892-1976), советский писатель
Левин Борис Михайлович (1898-1940), советский писатель
ЛенинВладимир Ильич (наст. фам. Ульянов; 1870-1924)
Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci; 1452—1519), итальянский живописец, ученый
Леонов Леонид Максимович (1899-1994), писатель
Леонтьев Константин Николаевич (1831-1891), мыслитель, публицист, прозаик, критик
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841), поэт
Лесков Николай Семенович (1831-1895), писатель
Лещенко-Сухомлина Татьяна Ивановна (1905-1998), певица, переводчик
Лидин Владимир Германович (1894-1979), писатель
Ллойд Гарольд (Lloyd; 1893-1971), американский киноартист
Лондон Джек (London, наст, имя Джон Гриффит; 1876-1916), американский писатель Лоренс, Лоуренс Герберт Дэвид (Lawrence; 1885-1930), английский писатель
Луганов Андрей (наст. имя Елена Сергеевна Хирьякова; урожд. Вебер; 1893-1939), журналист, литератор
Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), государственный деятель, писатель, критик
ЛурьеАртур (Артур-Оскар-Винсент) Сергеевич (1891-1966), композитор, пианист, музыкальный критик
Лурье Вера Иосифовна (1901-1998), поэтесса
Мазлин, французский писатель
МазнинДмитрий Михайлович (1902-1938), советский поэт, журналист
МайлстоунЛьюис (milestone; 1895-1980), американский режиссер
Мак-Магон Мари Эдме Патрис Морис (Mac-Mahon; 1808-1893), французский военный и политический деятель
Маковский Константин Егорович (1839-1915), художник
Малевич Олег Михайлович (р. 1928), историк литературы
Малларме Стефан (Mallarme; 1842-1898), французский поэт
Мальро Андре (malraux; 1901-1976), французский писатель
Мамин-СибирякДмитрий Наркисович (наст. фам.: Мамин; 1852-1912), писатель
Мамченко Виктор Андреевич (1901-1982), поэт «незамеченного поколения»
Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938), поэт
Мандельштам Юрий Владимирович (1908-1943), поэт «незамеченного поколения», литературный критик
Мансветов Владимир Федорович (1909-1974), поэт «незамеченного поколения»
Марко Поло (marco polo; 1254-1324), итальянский путешественник
Марков Владимир Федорович (р. 1920), литературовед, поэт
Маркс Карл (marx; 1818-1883)
МаяковскаяЛюдмила Владимировна (1890-1949)
МаяковскаяОльга Владимировна (1890-1949)
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930), поэт
МедведевРой Александрович (р. 1925), историк
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940), режиссер
МережковскийДмитрий Сергеевич (1865-1941), писатель
Метерлинк Морис (Maeterlinck; 1862—1949), бельгийский драматург
Милюков Павел Николаевич (1859-1943), общественно-политический деятель, историк, публицист
МинскийНиколай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1855-1937), поэт, драматург, критик, переводчик
Мирский Д. С. – см. Святополк-Мирский Д. С.
Митрофанов Александр Георгиевич (1899-1951), советский писатель
Мишле Жюль (michelet; 1798-1874), французский историк
Мопассан Ги де (Maupassant; 1850-1893), французский писатель
Моран Поль (Morand; 1888-1976), французский писатель и дипломат
МорковинВадим Владимирович (1906-1973), поэт «незамеченного поколения»
МоруаАндре (Maurois; наст, имя: Эмиль Герцог; 1885-1967), французский писатель
Моцарт Вольфганг Амадей (Mozart; 1756-1791), австрийский композитор
Муссолини Бенито (Mussolini; 1983-1945)
Набоков Владимир Владимирович (1899-1977), писатель
Надсон Семен Яковлевич (1862-1887), поэт
Найденов Сергей Александрович (1868-1922), драматург
Наполеон I (Napoleon; Наполеон Бонапарт; 1769-1821), французский император в 1804-1814 и в марте-июне 1815
Наторп Пауль (natorp; 1854-1924), немецкий филисоф
Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877), поэт, писатель
Никитин Николай Николаевич (1895-1963), писатель
НикитинаЕвдоксия Федоровна (1895-1971), советский издатель, литературовед
Николаев Дмитрий Николаевич, литературовед
Николай II (1868-1918), российский император в 1894-1917 гг.
Никулин Лев Вениаминович (наст. фам. Ольконицкий; 1891-167), писатель
Николюкин Александр Николаевич (р. 1933), литературовед
Ницше Фридрих (Nietzsche; 1844-1900), немецкий философ-иррационалист
Одоевцева Ирина Владимировна (наст. имя и фам.: Ираида Густавовна Гейнике, по первому мужу Попова, по второму Иванова; 1895-1990), поэтесса, прозаик, мемуарист
ОксеновИннокентий Александрович (1897-1942), литератор
Олеша Юрий Карлович (1899-1960), русский советский писатель
Осоргин Михаил Андреевич (наст, фам.: Ильин; 1878-1942), прозаик, публицист
ОцупНиколай Авдеевич (1894-1958), поэт
Павленко Петр Андреевич (1899-1951), советский писатель
ПавловИван Петрович (1849-1936), физиолог
ПаскальБлез (Pascal; 1623-1662), французский математик, физик, религиозный философ и писатель
Пастернак Борис Леонидович (1890-1960), поэт
ПахмуссТемира Андреевна (Pachmuss), американский славист
ПесковГеоргий (наст, имя и фам.: Елена Альбертовна Дейша-Сионицкая; 1898-1977), беллетрист
ПетрI(1672-1725), русский царь с 1682, первый российский император с 1721
Петров Евгений Петрович (наст. фам. Катаев; 1902-1942), советский писатель
Пикассо Пабло (Руис-и-Пикассо; Ruiz-y-Picasso; 1881-1973), испанский художник
Пильняк Борис Андреевич (наст, фам.: Вогау; 1894-1938), писатель
ПиотровскийВ. – см. Корвин-Пиотровский
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868), критик, публицист
Платон (428 или 427 до н. э. — 348 или 347), древнегреческий философ
Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918), философ, теоретик и пропагандист марксизма
ПолонскийАлександр Яковлевич, журналист
ПолонскийЯков Петрович (1819-1898), поэт
Поплавский Борис Юлианович (1903-1935), поэт, прозаик «незамеченного поколения»
ПотапенкоИгнатий Николаевич (1856-1929), писатель
ПрегельСофия Юльевна (1894-1972), поэтесса, издатель
Присманова Анна (наст, имя Анна Семеновна (Симоновна) Присман; в замужестве Гингер; 1892-1960), поэтесса
ПришвинМихаил Михайлович (1873-1954), писатель
ПрокофьевСергей Сергеевич (1891-1953), композитор, пианист, дирижер
ПрустМарсель (Proust; 1871-1922), французский писатель
Пуанкаре Раймонд (Poincare; 1860-1934), французский государственный деятель
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837)
ПшибышевскийСтанислав (Przybyszewski; 1868-1927), польский писатель
Рабле Франсуа (Rabelais; 1494-1553), французский писатель
Рагозина Ксения Олеговна, журналистка, переводчик
Раевский Георгий Авдеевич (наст. фам.: Оцуп; 1897/1898 – 1963), поэт «незамеченного поколения»
Раич Евгений Исакович (наст. фам. Рабинович; 1898-1973), биофизик, поэт
РасинЖан (Racine; 1639-1699), французский драматург, поэт
Ратгауз Михаил Грэйпемович, литературовед
Рафальский Сергей Милич (Милиевич) (1896-1981), литератор, журналист
РетблатАбрам Ильич, историк литературы
Ремарк Эрих Мария (Remarque, Remark; 1898-1970), немецкий писатель
Ремизов Алексей Михайлович (1877-1957), писатель
Ренье Анри Франсуа Жозеф де (Regnier; 1864—1936), французский писатель
Репин Илья Ефимович (1844-1930), художник
РилькеРайнер Мария (Rilke; 1875—1926), австрийский поэт
Рождественский Всеволод Александрович (1895-1977), поэт
Розанов Василий Васильевич (1856-1919), писатель
Романов Пантелеймон Сергеевич (1884-1938), прозаик
Ропшин В. – см. Савинков Б. В.
Рыкачев Яков Семенович (1893-1952), советский писатель
СавинковБорис Викторович (псевд.: В. Ропшин; 1879-1925), политический деятель, писатель
СавонаролаДжироламо (Savonarola; 1425-1498), монах-доминиканец, проповедник аскетизма
Салиас, граф (полное имя Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир; 1840-1908), писатель
Салтыков Михаил Евграфович (псевд.: Н.Щедрин; 1826-1889), писатель
СамсоновВалентин, прозаик
Святополк-Мирский Дмитрий Петрович, князь (1890-1939), критик, литературовед
Северянин Игорь (наст, имя: Игорь Васильевич Лотарев; 1887-1941), поэт
Сегал Дмитрий Михайлович (р. 1938), литературовед
Сейфуллина Лидия Николаевна (1889-1954), прозаик
Селивановский Алексей Павлович (1900-1938), советский литературный критик
Селин Луи (celine; наст. имя Луи Фердинанд Детуш; 1894-1961), французский писатель
Сельвинский Илья (Элий Карл) Львович (1899-1968), поэт
СемирадскийГенрих Ипполитович (Siemiradzki; 1845-1902), художник
Сент-Бев Шарль Огюстен (Sainte-Beuve; 1804-1869), французский критик и поэт
Серафим Саровский(в миру Прохор Мошнин; 1760-1833), православный святой
Сервантес Сааведра Мигель де (Cervantes Saavedra; 1547-1616), испанский писатель
Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875-1978), прозаик
Сетницкий Николай Александрович (1888-1937), философ, экономист
Сирин В. – см. Набоков В.В.
Скобцов-Кондратьев Даниил Ермолаевич (наст. фам.: Скобцов; 1884-1968), общественно-политический деятель, литератор
Скотт Вальтер (scott; 1771-1832), английский писатель
Слезкин Юрий Львович (1885-1947), прозаик
Слоним Марк Львович (1894-1976), литературный критик, редактор журнала «Воля России»
СмитДжеральд (smith), американский славист
СмирновскийПетр Владимирович (1846-?), литературовед
Смоленский Владимир Алексеевич (1901-1961), поэт «незамеченного поколения»
Сологуб Федор Кузьмич (наст, фам.: Тетерников; 1863– 1927), поэт, прозаик
Софиев Юрий Борисович (наст. фам.: Бек-Софиев; 1899-1975), поэт «незамеченного поколения»
Ставров Перикл Ставрович (1895-1955), поэт «незамеченного поколения»
Ставский Владимир Петрович (наст. фам.: Кирпичников; 1900-1943), советский литератор
СталинИосиф Виссарионович (1879-1953)
СтарчаковАлександр Осипович (1892-1937), советский драматург
Стасов Владимир Васильевич (1824– 1906), музыкальный и художественный критик
Стендаль (Stendhal; наст, имя: Анри Мари Бейль; 1783-1842), французский писатель
Стенич Валентин Осипович (наст. фам. Сметанич; 1897-1938), переводчик
СтолыпинПетр Аркадьевич (1862-19110, государственный деятель
СтравинскийИгорь Федорович (1882-1971), композитор, дирижер, пианист, хореограф
СтрувеГлеб Петрович (1898-1985), историк литературы, поэт, переводчик
Суббоцкий Лев Матвеевич (1900-1959), советский литературный функционер
Суворин Алексей Сергеевич (1834-1912), журналист, издатель
Суриц Елизавета Яковлевна, театровед, переводчик
СурковАлексей Александрович (1899-1983), поэт, общественный деятель
Таиров Александр Яковлевич (наст. фам. Корнблит; 1885-1950), режиссер
Таль Анна, писательница
Терапиано Юрий Константинович (1892-1980), поэт, критик, мемуарист
Теренций Мавр (XIII в.), римский грамматик
Тименчик Роман Давидович (р.1945), литературовед
Толстая Александра Львовна, графиня (1884-1979), дочь Л.Н. Толстого, основательница Толстовского фонда
ТолстаяСофья Андреевна, графиня (урожд. Берс; 1844-1919), жена Л. Н. Толстого
Толстой Алексей Николаевич (1882/1883-1945), писатель
Толстой Лев Николаевич (1828-1910), писатель
Триоле Эльза (triolet; 1896-1970), французская писательница
Тургенев Иван Сергеевич (1818-1883), писатель
Тьер Адольф (thiers; 1797-1877), французский государственный деятель, историк
Тэффи Н. (наст, имя и фам.: Надежда Александровна Лoxвицкая, в замужестве Бучинская; 1872-1952), писатель-юморист
Тютчев Федор Иванович (1803-1873), поэт, публицист
УитменУолт (Whitman; 1819-1892), американский поэт
Ульянова Мария Ильинична (1878-1937), революционерка
УткинИосиф Павлович (1903-1944), советский поэт
УшаковНиколай Николаевич (1899-1973), советский поэт
ФадеевАлександр Александрович (1901-1956), советский писатель
Федин Константин Александрович (1892-1977), советский писатель
Федоров Василий Георгиевич (1895-1959), прозаик «незамеченного поколения»
Федоров Николай Федорович (1828-1903), мыслитель
Федотов Георгий Петрович (1866-1951), мыслитель, публицист
Фельзен Юрий (наст. фам. и имя: Николай Бернардович Фрейденштейн; 1894-1943), прозаик «незамеченного поколения»
Фет Афанасий Афанасьевич (наст, фам.: Шеншин; 1820-1892), поэт
Философов Дмитрий Владимирович (1872-1940), публицист, литературный критик
Фирин Семен Григорьевич (наст. фам. Пупко; 1898-1937), майор госбезопасности
ФондаминскаяАмалия Осиповна (урожд. Гавронская; 1883?-1932), жена И. И. Бунакова-Фондаминского
Фондаминский – см. Бунаков-Фондаминский И. И.
ФормаковАрсений Иванович (19000-1983), писатель
Форш Ольга Дмитриевна (1873-1961), писательница
Франс Анатоль (France; наст, имя: Анатоль Франсуа Тибо; 1844-1924), французский писатель
Фрейд Зигмунд (freud; 1856-1939), австрийский врач-психиатр и психолог
ФрунзеМихаил Васильевич (1885-1925), советский партийный, государственный и военный деятель
ХазанВладимир Ильич (р. 1952), литературовед
Хьетсо Гейро, норвежский славист
Хлебников Велимир (наст, имя: Виктор Владимирович; 1885-1922), поэт
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939), поэт, критик, мемуарист
Ходотов Николай Николаевич (1878-1932), артист
Холчев Алексей, поэт «незамеченного поколения»
ЦвейгСтефан (zweig; 1881-1942), австрийский писатель
ЦветаеваМарина Ивановна (1892-1941), поэт
ЦетлинМихаил Осипович (1882-1945), поэт, литературный критик, журналист, издатель
Чакробон,сиамский принц
Чахотин Сергей Степанович (1883-1974), литератор, профессор, сменовеховец
ЧегринцеваЭмилия Кирилловна (урожд. Цегоева; 1904-1989), поэтесса
Червинская Лидия Давыдовна (1906-1988), поэтесса «парижской ноты»
Чехов Антон Павлович (1860-1904), писатель, драматург
Чиннов Игорь Владимирович (1909-1996), поэт
Чуковский Корней Иванович (наст, имя и фам.: Николай Васильевич Корнейчуков; 1882-1969), критик, детский писатель, переводчик, историк литературы
Чумандрин Михаил Федорович (1905-1940), советский писатель
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888-1982), писательница
Шаляпин Федор Иванович (1873-1938), певец
ШаршунСергей Иванович (1888-1975), писатель, живописец
Швейцер Альберт (schweitzer;1875-1965), немецко-французский мыслитель, миссионер, врач, музыковед.
ШекспирУильям (Shakespeare; 1564-1616), английский драматург, поэт, актер
ШеллерАлександр Константинович (псевд. А. Михайлов; 1838-1900), прозаик, поэт
Шерон Жорж (Cheron), американский славист
Шестов Лев (наст, фам.: Лев Исаакович Шварцман; 1866-1938), философ
Шешуков Степан Иванович (р. 1913), советский историк литературы
Шкловский Виктор Борисович (1893-1984), писатель, литературовед
Шмелев Иван Сергеевич (1873-1950), писатель
Шнитцлер,Шницлер Артур (schnitzler; 1862-1931), австрийский драматург
Шолохов Михаил Александрович (1905-1984), советский писатель.
Штейгер Анатолий Сергеевич, барон (1907-1944), поэт
Шубинский Сергей Николаевич (1834-1913), журналист, историк
Шуман Роберт (schumann; 1810-1856), австрийский композитор
Щеголев Павел Елисеевич (1877-1931), литературовед
Эдисон Томас Алва (Edison; 1847-1931), американский изобретатель.
Эйснер Алексей Владимирович (1905-1984), литератор.
Эльяшов Николай, поэт
ЭрденВиктория, поэтесса.
Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967), писатель
Эрлих Виктор, американский славист
Эсхил (ок. 525-456 гг. до н.э.), древнегреческий поэт-драматург
ЭфронСергей Яковлевич (1893-1941), литератор, евразиец, муж М. И. Цветаевой с 1912 г.
Юм Дэвид (Hume; 1711-1776), английский философ
Яновский Василий Семенович (1906—1989), прозаик «незамеченного поколения»
Примечания
1
Борис Пастернак. Второе рождение. M., 1932.
(обратно)2
Ек. Бакунина. Тело. Изд. «Парабола», 1933.
(обратно)3
Лебеденко А . Тяжелый дивизион. Л., 1933.
(обратно)



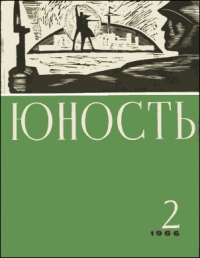

Комментарии к книге «Литературные заметки. Книга 2 ("Последние новости": 1932-1933)», Георгий Викторович Адамович
Всего 0 комментариев