Юрий Мухин ТРИ ЕВРЕЯ или как хорошо быть инженером
ББК 63.3 (2 РОС) М92
В отличие от «Трех мушкетеров», книга повествует о реальных событиях и людях, но показаны и объяснены все события и интриги так, как и А. Дюма не сумел бы изобразить. Книга адресована молодым людям и на судьбе конкретных инженеров объясняет им, насколько интересно быть инженером, насколько важно не бояться в жизни никаких дел и трудностей.
ISBN 978-5-89747-036-5 © Ю. Мухин, 2008
© Крымский мост-ЭД, 2008
© Дизайн переплета — И. Горюнов, 2008
© Фото на переплете — Г. Чертковер, 2008
Предисловие КАК Я ДОШЕЛ ДО НАПИСАНИЯ ЭТОЙ КНИГИ
Мне очень хотелось написать книгу для молодых мужчин, но я долго не находил нужной темы. Почему для мужчин? Потому что мне их жалко.
Мимо меня, как и мимо вас, проходят тысячи из них, тысячи из них видишь за прилавками, в конторах, дрыгающихся на сцене или пялящихся на тех, кто дрыгается. Видишь, что они несчастны, хочешь помочь, а бессилен — не слушают они то единственное, что только и следует слушать мужчине, не хотят понять то главное, что только и стоит мужчине понимать.
И вот идея этой книги пришла мне в голову после того, как Михаил Иосифович Друинский, главный инженер Ермаковского завода ферросплавов, на котором я стал инженером, написал книгу воспоминаний. Ему так казалось, а на самом деле эта его неопубликованная книга была о мужском счастье, хотя сам Михаил Иосифович этот аспект своей книги игнорировал. Ему казалось главным то, о чем он повествовал, а я увидел в его рукописи то, на что он и сам не обращал внимания и не обращал на это внимания своих читателей. Я в его рукописи увидел то, как может быть мужчина счастлив, если он идет по жизни мужским путем, как счастлив мужчина, если он не «устраивается» в жизни, а сам делает эту самую жизнь.
Давайте об этом счастье немного подробнее.
О простом счастье
Какой-то дутый великий сказал банальность, что человек рожден для счастья, как птица для полета. С какой стороны на эту сентенцию ни посмотри — глупость! (Поменяем персонажи: птица рождена для счастья, как человек для ходьбы.) Но идея, которой автор этой банальности пытался поразить читателей, верна.
Действительно, в результате определенных действий человека охватывает эйфорическое (кайфовое, как скажут нынче) чувство удовлетворения, которое мы именуем счастьем. Не в этой книге объяснять что тут и к чему, но в ходе естественного отбора продолжали жить только те живые существа, которые имели способность к этому чувству, поскольку для тех организмов, кто на счастье не был способен, жизнь была постыла и не имела смысла — они гибли. Те, кто интересуется жизнью людей, могли обратить внимание, что человек кончает жизнь самоубийством, когда не видит для себя возможности испытывать именно это чувство удовлетворения от своей жизни — не видит для себя счастья в жизни. Заметим, что все религии мира запрещают самоубийство и считают его грехом, все вместе они требуют от человека бороться за счастье до конца, и в этом они безусловно правы. А то, что они в этом вопросе едины, говорит о том, что эта межконфессиальная догма является осмысленным человеческим опытом, более того — очень точным, очень полезным и очень перспективным опытом, особенно для жизни человека после его смерти, но это опять-таки вне темы этой книги.
То, что счастье является штукой необходимой и желаемой, со мною вряд ли кто осмелиться спорить, но здесь возникает взаимосвязанный вопрос — а какое счастье для вас является достаточным? Вот еврейская поговорка гласит, что большая жопа — тоже счастье, а русская поговорка на эту же тему утверждает: нельзя путать божий дар с яичницей. Да, действительно, особенно когда голоден (а у любителя и просто так), яичница да ещё с сальцом может вызвать чувство удовлетворения, воспринимаемое как счастье. Но надо же понимать, что у Господа Бога в арсенале осчастливливания человечества имеется не только яичница, и на фоне того счастья, которое способен испытать человек по чисто человеческим поводам, яичница за счастье совершенно не воспринимается. Подчеркну, речь идет только о человеке, поскольку у животных перечень поводов для счастья резко ограничен и ввиду этой ограниченности для животного яичница (еда) — это одно из самых больших счастий. Но божья благодать, как известно, на животных не распространяется.
У животных, в том числе и людей, не сумевших подняться над уровнем животных, перечень поводов для счастья очень ограничен, и перечислить его нетрудно:
1. Отсутствие опасности, особенно опасности для жизни. Смерть для животного — это самое большое несчастье и во имя собственной жизни животное готово на всё. Поэтому животных так легко приручать и заставлять делать то, что хочешь. Поэтому и люди, не сумевшие поднять себя над животным — над страхом смерти, так легко становятся рабами. Чтобы остаться в живых и не испытывать предвестницы смерти — боли, животные готовы на всё, поскольку для них в данном случае отсутствие несчастья (смерти) — это счастье, а на что не пойдешь во имя счастья?
2. Вторым поводом для счастья является удовлетворение естественных надобностей и, особенно зримо, еда. Но если просто животные, обладая врождённым здравым смыслом, счастьем считают питательную еду — ту, которую в данном случае требует их организм, то человекообразные животные счастьем считают модную еду — ту, потребление которой их в их глазах возвышает над другими людьми. Еда — сильный фактор животного счастья, поэтому с её помощью также легко заставить животное делать то, что ты хочешь: и через горящий обруч прыгать, и на демонстрации флаги носить. Скажи животному, считающему модным есть колбасу, что его ожидают в магазинах 200 сортов колбасы сразу, и во имя этого счастья животное растопчет и свой ум, и свою честь, и свою совесть.
3. Мощным поводом для счастья животного является удовлетворенное половое влечение — то, что у людей называется любовью. Повод для счастья очень зыбкий, поскольку имеет яркую вспышку, а затем быстро спадает, становясь достаточно обычным делом. У животных этот повод гораздо слабее первых двух, скажем, за кормовую территорию животные вполне могут драться насмерть, а за самку только имитируют бой. У человекообразных животных, как и у обычных животных, это тоже очень слабый повод для счастья. Они обычно очень много болтают о любви, поскольку у них, как правило, мало тем для разговора, но человекообразные животные в отличие от людей любовь ценят очень мало.
4. Существенным поводом для счастья животного является безделье. Безделье — это инстинкт, природе важно, чтобы животное не тратило понапрасну энергию и тем самым не уменьшало количество животных, живущих на единице кормовой территории.
5. Поводом для счастья являются развлечения. Чтобы безделье не привело к гибели животного, поскольку бездельник и мало знает, и мало умеет, природа заложила в животных и повод для несчастья — скуку. Ликвидируется это несчастье развлечениями, которых у животных два — игры и зрелища. Подчеркну, подавление скуки у собственно животных является способом совершенствования животного: зрелища дают полезную для жизни животного информацию, а игры — навыки. Вспомним далеких предков: в древней Греции, где зародился спорт, все его виды — бег, прыжки, кулачные бои, метание копья (ядра, диска) — имели прикладное значение: всё это помогало человеку победить на охоте или в бою.
И только по мере того, как человек, точнее, часть людей стали себя чувствовать на Земле более комфортно, человекообразные животные стали потреблять игры и зрелища сугубо для подавления своей скуки: следствие стало целью. Более того, в развлечения вошло и то, что для животных развлечением никак не является — половые контакты. Как это ни парадоксально звучит, но человекообразные животные (т. е. люди, которые в процессе воспитания остались на стадии животных) более животные, чем настоящие животные. У них развлечение только ради развлечения, а секс только ради секса.
А человек это всё же больше, чем животное. И отличает его от животного то, что он, благодаря развитости своего мозга, не имеет оснований для скуки, умному человеку некогда скучать, поскольку он и может, и обязан познавать мир непрерывно. И это познание может быть и его делом, и его развлечением в то время, когда человек не занят исполнением своего дела или долга.
Я не буду утверждать, что развлечения — даже те, что человечество уже придумало — вообще не нужны, просто если ими только подавляется скука, то для человека это такое «счастье», которое по своему примитивизму даже ниже того счастья, которое испытывает животное при своих играх или зрелищах.
Под этим следует подвести черту, поскольку у животного поводов для счастья больше нет, и этот список исчерпывает их все.
Беда человечества в том, что органы формирования общественного мнения практически во всем мире заполнили не люди, а организмы, называющие себя людьми. И эти организмы убеждают остальную толпу, что других поводов для человеческого счастья и вовсе не бывает, что человек родился именно для того, чтобы пожрать, потрахаться, поразвлекаться и подохнуть в мучениях от старческого маразма. И чем больше и многообразнее (до того времени, как подохнуть) человек успеет сожрать, потрахаться и развлечься, тем, якобы, он более счастлив.
Это обман, и те, кто так утверждают, или осознанно и подло, или в силу собственного идиотизма, обманывают людей, обманывают тем, что не дают им получить счастье в полной мере — в человеческой мере.
О счастье человека
Ведь человеку доступны все виды счастья, которые я перечислил выше, и если они ему нужны, то он получает удовольствие и от них. Но человеку также доступны и такие виды счастья, о которых животное даже не подозревает. Мало этого, человеческие виды счастья намного сильнее, нежели примитивные удовольствия животных, настолько сильнее, что человек вполне может отказаться от любых видов животного счастья, чтобы получить счастье человека.
Животное не понимает, как можно быть счастливым по тем поводам, по которым счастлив человек, не понимает потому, что никогда не испытывало настоящего человеческого счастья. Животное искренне не представляет, как можно отказаться от животных удовольствий — от единственного счастья, доступного животному, в том числе и человекообразному животному. И в глазах таких человекообразных животных настоящий человек очень часто выглядит глупцом, поскольку человекообразное животное не в состоянии понять, зачем и почему человек в ряде случаев отказывается от возможности получить животное удовольствие? Посему животное часто приходит к единственному выводу, что это потому, что человек глупее его, животного.
Поводов для человеческого счастья два, возможно их больше, но мне достаточно и этих.
1. Счастье от исполнения долга.
Причем, чем тяжелее долг исполнить, чем больше труда и мужества требует его исполнение, тем больше счастья. Человекообразному животному этот вид счастья недоступен совершенно, оно его никогда не испытывало и абсолютно уверено, что исполнение долга это несчастье, которого нужно избегать при любом удобном случае. Человекообразное животное ведь тоже исполняет свой долг, например, ходит на работу или не ворует все, что попадется под руку. Но животное исполняет свой долг только потому, что его исполнять заставляют силой — силой денег, которые дают возможность получить животные удовольствия, или угрозой наказания. Само, по своей воле животное свой долг никогда не исполнит, и в этом вся причина. Чтобы получить счастье от исполнения долга, долг нужно исполнить по своему желанию, без любого насилия, руководствуясь только своей моралью. Без этого счастье от исполнения долга равносильно счастью лошади, которой после пахоты дают вкусненького овса, и только.
2. Счастье от творчества.
По своей внутренней сути оно аналогично предыдущему, поэтому для его получения вредно думать о том, какие материальные блага принесет тебе твое творчество, тут нужно руководствоваться жаждой познания жизни, жаждой проверить себя, внутренним честолюбием — сознанием, что ты это смог! Творчество — получение нового полезного результата — многоступенчато: сначала результаты творчества внове только для тебя — тебе предстоит освоить то, что уже могут другие. Потом предстоит достичь то, что могут немногие. Потом предстоит получить тот результат, который никто до тебя получить не мог.
Творчество это то, для чего человек нужен природе, и счастье, которое природа дарит за него, превосходит все виды животного счастья.
Тут есть еще один нюанс. Все виды животного счастья имеют свойство приедаться: при длительном повторении животных удовольствий они перестают таковыми быть. И тогда, как говорится, хочется чего-нибудь остренького, как правило, того, на что у животного ума хватит.
А вот человеческие виды счастья никогда не приедаются: сколько бы ты ни повторял творческие успехи, а любой новый результат дает не меньшую радость, чем и полученный впервые. Сколько бы ни шел на риск ради исполнения долга, можно притупить только свой собственный страх, а радость победы будет такая же, как и от первой победы.
Вот я и ставлю задачей этой книги — обратить внимание мужчин на то, что они сегодня имеют для счастья, вполне возможно, далеко не все то, что они могли бы иметь.
Безвольное животное скажет: «А зачем это мне? Пусть я и животное, а ведь счастливо: имею работу «не бей лежачего», сладко кушаю, гладко какаю, перепробовал все приемы из «Камасутры» и поэтому счастлив в самой полной мере. И ничего больше мне и не требуется!»
Ну что же поделать — эта животная позиция прочная, ее трудно пробить, да, откровенно говоря, нет и желания. Судьба подарила человеку жизнь человека, а он хочет прожить свою жизнь еще примитивнее, нежели животное. С одной стороны, обидно за него, но с другой стороны, если у него такое умственное развитие, то может быть пусть получит хотя бы то счастье, которое ему по уму?
Поэтому я хочу заинтересовать этой книгой тех, кто по своему умственному развитию превосходит быдло и кто понимает, что жизнь у него одна, повторения ее не будет, и если уж взялся жить, то нужно получить от жизни все причитающееся тебе счастье в полной мере.
Отечества отец
Можно об этом и дальше говорить абстрактно, но я не люблю абстракций, мне трудно воспринимать то, что мозг не сопровождает образами. И меня впечатлила жизнь Михаила Иосифовича Друинского — человека, сумевшего получить от жизни все виды человеческого счастья и получить их сполна. Правда, многие со мной не согласятся, поскольку в жизни Михаила Иосифовича было достаточно разного рода трагедий. Ну так ведь это жизнь, и не будь в ней несчастий, счастье стало бы серыми буднями. Не будь в жизни проблем, не будет и радости по случаю их решения. Пример Друинского тем и впечатляющ, что, терпя даже тяжелейшие поражения, он не отчаивался и не терял жажды жизни, а вместе с нею и жажды человеческого, а не животного счастья.
Многих ли вы знаете, кто бы в 55 лет, имея уже 5 лет право на пенсию, начал бы свою карьеру практически заново и достиг в ней высоких результатов? А Михаил Иосифович это смог.
Мне грех не то что жаловаться, а даже сетовать на свою Судьбу — она у меня женщина умная. Множество раз в своей жизни я пытался поступить наперекор ей, сделать так, как мне казалось будет лучше, а моя Судьба властной рукой направляла меня туда, куда считала нужным она. И уже после, обдумав, что произошло, я приходил к выводу, что она умнее меня и точнее меня знает, что мне будет лучше, и я ни разу не ошибся, подчинившись ей. Так что я свою Судьбу ни на какую другую не променяю и завидовать кому-либо не собираюсь.
Но предположим, что моя Судьба оказалась бы мне недоступной и мне предложили бы выбрать между Судьбой М.И. Друинского и Судьбой какого-нибудь самого счастливого человекообразного животного, скажем, олигарха Ромы Абрамовича. Я без колебаний выбрал бы Судьбу Друинского. Мне могут сказать, что я лицемерю и вообще не вправе рассуждать о том неведомом мне счастье, которое постигло миллиардера Рому, и что если бы я его счастья попробовал, то уже бы ни на какую другую Судьбу не согласился.
Вы знаете, а я как раз пробовал всё то счастье, ради которого наворовал миллиарды этот бедняга. С конца 80-х до середины 90-х я объездил пол-Европы и другие мировые закоулки. Мне приходилось живать в самых фешенебельных номерах самых фешенебельных гостиниц, посетить сафари в Южной Африке, пытаться обыграть самое крутое казино в Монте-Карло, попробовать еду в самых дорогих ресторанах мира. И что бы такого Рома ни имел, он меня ничем не удивит: я практически во всем компетентен. Ведь, понимаете, нет необходимости есть все яйцо целиком, чтобы убедиться, что оно тухлое. Для Ромы то, что он имеет, надо думать, счастье, но для меня это кретинизм. Сотворить со своей жизнью то, что сотворил Абрамович, может только идиот.
Хотите, верьте мне, хотите, нет, но у меня есть основания перефразировать строфу из Маяковского:
Юноше, обдумывающему житье, решающему — сделать бы жизнь с кого, скажу, не задумываясь: «Делай ее с товарища Друинского».Меня могут спросить: «Неужели Друинский такой идеал?»
Знаете, нет ничего глупее, чем тратить усилие на поиски идеального человека. Если уж так в этом вопросе свербит, то попробуйте начать поиски с себя. Люди есть люди, работать и жить нужно с теми людьми, которые есть. А я же хочу сказать совершенно не о том: идеал Друинский или не идеал — это вопрос десятый, Дзержинский тоже на иконы не годился. Речь идет о вашей жизни: хотите прожить счастливую жизнь — возьмите себе в пример жизнь Друинского. Он, в отличие от нынешних негодяев во власти, «не соорудил палат каменных», но прожил счастливую жизнь.
И чтобы прожить такую жизнь, не нужен папа-миллиардер или мама Алла Пугачева. Нужен только ты сам. Мужчина.
Не устраивайся в жизни, а делай ее! Не цепляйся за родственников и знакомых, а смело и быстрее становись на собственные ноги! Не бойся работать руками — это развивает твой ум: болтать без мозгов можно (и магнитофон болтает), а работать руками без мозгов нельзя! Не бойся никакой работы: пока ты работаешь, ты живешь, кончил работать — коротаешь жизнь в ожидании смерти! Поэтому — живи!
Начиналась эта книга так.
Михаил Иосифович прислал мне рукопись и попросил помочь ее набрать и помочь опубликовать. Я набрал, прочел, и мне не понравилось, что он не показал в своей жизни главного. И я решил стать соавтором Друинского — дописать к книге свой комментарий. Кстати, он долго об этой радости не знал, а я не знал, согласится ли он с нею.
Но право дело, ну ведь уже давно необходимо было ответить на вопрос: «Где, укажите мне, Отечества отцы, которых должно нам принять за образцы?» (Цитирую по памяти).
Не эти же, «грабительством богаты»!
О названии книги
В течение семи лет из 22 лет моей работы на ЕЗФ (Ермаковский завод ферросплавов) главным инженером на заводе был Друинский и, пожалуй, половину этого семилетнего срока я был уже достаточно квалифицирован, чтобы Михаил Иосифович и давал мне задания лично, и обсуждал их со мною. То есть я не был посторонним человеком ни для него, ни для тех событий на заводе, которые он описывал, посему у меня были основания полагать, что из моего подвала эти события могут быть оценены несколько по-иному, чем оценивал он со своей колокольни. Я не хочу сказать, что мой взгляд более правильный (хотя я-то в этом уверен), он просто иной. Поэтому я и считал себя вправе прокомментировать тот очень тяжелый период, составивший приличную часть и моей жизни, и моих товарищей, и, само собой, жизни Друинского, а удобнее всего этот комментарий было сделать прямо в его книге.
Может, мне и не пришло бы в голову «втискиваться» в его книгу соавтором, если бы не «дефект» практически всех мемуаристов, в том числе и Друинского: они очень жалостливы. Пишут книгу вроде бы для всех, а ориентируются только на тех своих знакомых, о которых пишут в воспоминаниях. А чтобы их не сильно обидеть, пишут о них, как о покойниках: или хорошо, или ничего. (Между прочим, мало кто знает, что эта древняя поговорка оборвана, а на самом деле наши предки не были такими глупцами, и полный текст поговорки звучит так: «О покойниках либо хорошо, либо ничего, либо правду».) А я считаю, что в данном случае нужна правда, поскольку те события, которые я брался комментировать, и интересны, и поучительны только в случае, если о них говорить прямо.
В конце жизни Друинский жил в Германии и, как я только что написал, рукопись своей книги он прислал мне с просьбой отпечатать ее и попробовать опубликовать. На его просьбу я никак не мог ответить отказом. Но, написав свои комментарии, я предложил ему название совместной книги «Еврей Советского Союза», однако он категорически отказался.
Понять его можно.
— Какой еврей?! — возмущался он. — Да я ни на свою, ни на чью иную национальность никогда не обращал внимания. Да меня в СССР никто «жидом» ни разу не назвал!
Но надо понять и меня.
Сегодня СМИ России засижены уродами без совести, без чести, наглыми, самовлюбленными, презирающими всех, кто не в их кагале, которые слово «Россия» брезгуют выговорить и употребляют вместо него выражение «эта страна». Если подходить к этому вопросу с позиции истины, по-научному, то это не евреи, это жиды. Это те, кто немедленно вызывают к себе отвращение в любой стране, в которой бы они ни находились, и по вине которых коренное население начинает ненавидеть всех евреев. Усугубляет дело то, что жиды старательно убеждают всех, что все евреи такие же, как и они, жиды, поэтому слово «жид» это не определение им, сволочам, а ругательство для всех евреев поголовно. Пожалуй, в мире нет другого примера, когда бы человеческий мусор так нагло прикрывал свою подлость целым народом. Не буду обсуждать мотивы, по которым евреи терпят жидов, но я жидам ничего не должен. А евреям я должен, поскольку они были и остаются моими соотечественниками.
Из-за жидовского засилья в СМИ складывается впечатление, что евреи в СССР были только паразитами. Как-то в «Дуэли» я давал чью-то статью с эпиграфом, по-моему, из Максима Калашникова: «Я не имею в виду тех евреев, которые каждый день спускаются в шахты и гонят плоты по сибирским рекам». (По памяти.) И мне тут же пришло несколько писем с ехидным вопросом: «Где это ты видел евреев в шахтах и на плотах?» Вы не видели, а я видел — вот он, М.И. Друинский, который большую часть своей жизни проработал в металлургии, которая по вредности и опасности работы была в СССР приравнена к работам в шахтах.
И мне очень хотелось и хочется показать читателям зримую разницу между жидами и евреями: жиды паразитировали в СССР, а евреи Советский Союз строили, для жидов гибель СССР в радость, а для евреев — горе, как и для всех остальных народов, поскольку не может не быть для человека горем гибель его Родины. И поскольку я лично знал Михаила Иосифовича, то, даже не читая его рукописи, был уверен, что такое название для его книги — «самое оно». А уж с моим комментарием — тем более.
Короче, нашла коса на камень, мы не сговорились, и он забрал свою уже набранную рукопись, чтобы опубликовать ее за свой счет, а я остался со своими комментариями, которые без его текста были теперь ни к селу ни к городу.
Но тут я подумал, а почему я должен ограничиться только Друинским? Ведь я могу написать и еще об одном выдающемся руководителе советской экономики — С.А. Донском, который тоже, кстати, еврей. Вот уж кто отец, которого должно принять за образец! Кроме этого я ведь могу подробно описать суть работы заводского инженера, а о ней молодые люди практически ничего не знают, а посему боятся (чего греха таить, я и сам ее побаивался).
Но теперь автоматически стало понятно название книги — «Три еврея».
Почему три? Потому что, как оказалось, я в определенных случаях до трех считать не умел.
Глава 1 БАЛБЕСЫ
Я пишу книгу для молодых мужчин — для тех, у кого есть мужские задатки. Я хочу убедить их заниматься практической инженерной работой, а для этого сегодня требуют диплом, а для его получения нужно окончить ВУЗ. И сегодня десятки тысяч молодых людей его заканчивают, и я тоже учился и получил диплом. Поэтому я начну книгу с того, как в мое время это происходило, поскольку у нас писатели и мемуаристы пишут много, а представить себе жизнь даже предшествующего поколения из этих их произведений невозможно: писатели игнорируют обычные жизненные темы, как-то стесняются их. А как ты представишь себе жизнь без сведений, к примеру, о том, сколько кто получал и сколько что стоило?
Вот как-то в 80-х я попытался расспросить отца.
Спрашиваю:
— Папа, расскажи, как жилось до войны?
— Да, в общем, тяжело.
— А продукты сколько стоили?
— Дешево… Пойдешь на базар с 15 рублями, полную сумку принесешь и мяса, и овощей.
— А получал ты сколько?
— …Наверное, рублей 700.
— А, скажем, костюм, сколько стоил?
— Рублей 200–300.
— Значит, ты мог каждый месяц покупать по костюму?
— …Получается, мог.
— А сколько у тебя их было?
— Один.
— Так на что ты деньги тратил?
— …Наверное, проедали…
Так это я расспрашивал о времени, о котором в то время и не сильно брехали. А ведь сейчас мое время забрехивается в СМИ нагло и по-хамски. И голодные, якобы, мы были, и рабы, и ездить никуда не могли, и сидели по домам и боялись, чтобы нас КГБ в ГУЛАГ не отправило. А сегодня у нас такое счастье!
Ну и сравните свое нынешнее счастье с тем «несчастьем», что довелось «пережить» мне.
Выбор вуза
Когда я в 1966 году окончил среднюю школу (43-ю СШ в г. Днепропетровске), то, разумеется, очень плохо соображал, «где работать мне тогда, чем мне заниматься».
А это было время побед в космосе советского ума и трудолюбия, естественно, мне пришла в голову мысль поступить в Днепропетровский университет на физтех, о котором говорили, что он готовит кадры для космической отрасли. Однако в университете на физтех у меня не приняли документы на том основании, что у меня плохое зрение. Это основание и тогда выглядело бредом, думаю, однако, дело в том, что я окончил школу в год, когда одновременно выпустились в средних школах 11-е и 10-е классы, то есть на советские ВУЗы упала двойная нагрузка по абитуриентам.
Названия никаких других специальностей в университете меня не прельщали, я вышел на улицу, поднялся вверх по проспекту Карла Маркса, равнодушно прошел мимо Горного института (романтика геолога меня, домоседа, не очень трогала), свернул направо на проспект Гагарина и подошел к ДМетИ — Днепропетровскому металлургическому институту. Тут ознакомился со списком предлагаемых специальностей и решил остановиться на ПА — промышленной автоматике. (Ну, знаете, в то время тоже тарахтели про кибернетику, роботов и т. д., романтика, короче.) Начал сдавать вступительные экзамены. Физику и устную математику сдал на 5, письменная математика оказалась очень легкой, я буквально за 20 минут решил все задачки, сдал листок и первым покинул аудиторию. И когда закрыл за собой дверь, то понял, какую ошибку сделал в одной из задач. Но было поздно, получил тройку. Как написал сочинение, не помню, поскольку оценка за него в сумму проходных баллов не входила, а 13-ти баллов по математике и физике мне не хватило.
Поступил на завод им. Артема учеником слесаря-инструментальщика в инструментальный цех, стал слесарем, и эта работа мне очень понравилась. Я даже думал до армии обучиться на резчика-сварщика, чтобы комплексно взять на себя все заготовительные работы (я хорошо читал чертежи и поэтому хорошо делал разметку). Но мой старший брат Геннадий не имел высшего образования и не собирался его иметь, средний, сводный брат Валера окончил только техникум и в институт тоже не стремился, а отец чуть ли не делом чести считал необходимым дать высшее образование хотя бы одному сыну. Пришлось мне и летом 1967 года снова сдавать экзамены.
На этот раз я выбрал специальность МЧ-3. Поскольку она расшифровывалась как «электрометаллургия стали и ферросплавов», а у меня на слуху было, что в радиоделе применяются какие-то ферриты, вот я и полагал, что тут речь идет о чём-то, связанном с радиотехникой. (Сейчас просто умиляюсь тогдашней своей глупости.) Химию и математику сдал на 5, физику тоже сдал бы на 5, но, разыскивая аудиторию, где её сдают, начал расспрашивать об этом довольно симпатичную девушку, причем так её и называл — «девушка». Девушку это почему-то сильно покоробило, а минут через 10 я понял почему: экзамены по физике принимала она. Я не помню, как сдавал первые два экзамена, а вот физику запомнил. Я ответил на все вопросы билета без замечаний, и «девушка» начала методично задавать дополнительные вопрос за вопросом. Поскольку я впервые встретил такую обидчивую заразу, то вопросов через 10–15 меня это обозлило, тем более, что до меня всем, даже плохо отвечавшим, она задавала только один-два добавочных вопроса.
— Единица индуктивности?
— Генри.
— Размерность?
— Вольт-ампер в секунду.
— Физический смысл?
— Не помню! — зло ответил я.
— Тогда я не смогу поставить вам 5.
— А я это понял. Вы ставьте 4, у нас проходной балл 12, а у меня после двух экзаменов уже 10, обойдусь вашей четверкой.
Обойтись-то я обошелся, но с трудом, так как получил за сочинение двойку. Самое страшное было в том, что я очень расстроил отца, хотя сам я переживал как-то мало и с удовольствием вернулся к верстаку, благо, что с завода я и не увольнялся. Отец, однако, не сдавался: вместе с моим троюродным дедом П.А. Шкуропатом нашел какие-то ходы в институте, дал взятку в 150 рублей, и мою двойку исправили на что-то повыше.
Из-за этой аферы я до первой сессии учился с комплексом неполноценности: мне все казалось, что я учусь на месте какого-то более умного парня, который из-за меня не поступил в институт. Помню, накануне первой в моей жизни зачетной недели я заболел ангиной, но в этот день был коллоквиум по химии, я утром заглотнул по упаковке аспирина и норсульфазола и едва досидел до трех часов, когда он начался. Как ни странно, из всей группы я один сдал этот коллоквиум на 5, прямо с него пошел в находившуюся наискосок от института студенческую поликлинику, там мне замерили температуру, вызвали «скорую», и хотя я отчаянно упирался (у меня забрали ботинки, чтобы не удрал), отвезли меня в больницу, из которой, впрочем, я через три дня все же ушел. Зачет по черчению сдал на 3 (на 5-м курсе пересдал), а сессию сдал опять же лучше всех в группе. Это меня успокоил: хоть и поступил за взятку, но все же оказался не хуже товарищей.
Понимай!
В своей жизни я встретил столько дубин с дипломами об окончании вузов, что прямо-таки считаю своим долгом дать хотя бы один совет тем, кто хочет такую штуку получить. Дело не в том, что у меня красный диплом, т. е. диплом с отличием — это, по сути, чепуха, а дело в том, что я умудрился вместе с дипломом вынести из института и кое-какие знания, которые пригодились мне (и до сих пор они не лишние) в дальнейшей работе и жизни. А вот это, как я понимаю, не часто случается.
Поэтому давайте поговорим о моих достоинствах, которые (и это абсолютно точно) являются продолжением моих недостатков. Поскольку речь будет идти о моих учебе и работе, а не о моих моральных устоях, то главным своим недостатком в этом плане я вижу плохую механическую память. Это надо понимать так, что я плохо запоминаю то, что нужно просто запомнить. К сожалению, я это понял очень поздно, иначе не стал бы после института терять год на спецкурс по изучению английского языка. Это — не моё! Просто так запоминать большой объем слов, которые являются просто словами, мне трудно, и я такую информацию быстро забываю. Причем такое впечатление, что забываю навсегда. Это довольно неприятно, когда речь идет о людях, с которыми я познакомился и даже какое-то время с ними чем-то занимался, и которых потом я не могу вспомнить даже после не очень длительного промежутка времени.
Поэтому мне достаточно легко давалась и дается учеба только в случае, если я понимаю, чему меня учат, если я образно могу представить себе то, о чем речь, если я вижу, как данные знания применяются там, где их можно использовать. Между прочим, такие знания я тоже довольно быстро забываю, но штука в том, что я также быстро вспоминаю их тогда, когда они требуются. Но я вспоминаю их не механически, не по каким-то ключевым словам, не так, как извлекает из своей памяти информацию компьютер, а по принципиальным положениям той ситуации, в которой эти знания нужны. Чтобы не запутывать тему, из своей производственной практики пример того, о чем я только что написал, дам потом, а сейчас несколько забавных случаев из моей учебы в институте.
С математикой у меня никогда проблем не было, хотя, пожалуй, это та наука, где нужно много запоминать механически. Математику в моем случае спасало огромное количество задачек, которые нужно было решить в ходе обучения, а решать задачки мне всегда нравилось, это интересно. Без понимания сути того, что делаешь, решать задачки трудно, поэтому в математике у меня были успехи именно потому, что я понимал суть формул, а не просто запоминал их. Вот, к примеру, бином Ньютона, т. е. формула того, чему равняется степень суммы двух чисел. Я и сейчас этой формулы не помню, но чему равно (а+b)2 или (а+b)3 напишу немедленно, поскольку сам выведу эту формулу, перемножая в одном случае (а+b) на (а+b), а во втором (а+b) на (а+b) и на (а+b). А в физике еще легче. Мне нет нужды, к примеру, запоминать формулу второго закона Ньютона, я просто представляю себе, что мне нужно разогнать стоящую на рельсах тележку. От чего будет зависеть та сила, которая мне потребуется для этого? Чем скорее я её разгоню, т. е. чем больше буду придавать ей ускорение, тем большая сила от меня потребуется. И чем тяжелее будет тележка (чем больше будет её масса), тем большее усилие мне придется приложить. Ну и много ли тут ума надо, чтобы самому сформулировать: сила равна произведению массы на ускорение?
Но вернемся к математике в институте. Её нам читала Масаковская, как я сейчас понимаю, читала плохо: сухо, равнодушно, неинтересно. Может, я не прав, и все зависело от моего разгильдяйства, но мне на её лекциях было очень скучно, я не улавливал сути того, о чем она говорила, а механически записывать её слова в конспект было очень неинтересно. Спасали практические занятия, т. е. необходимость решать задачки, и думаю, что именно благодаря им я два семестра все же сдавал Масаковской математику на четверки. В третьем семестре все было как в предыдущих, и вот как-то решаю я домашнее задание и что-то плохо у меня получается. Я уже забыл суть, по-моему, надо было взять интеграл, а для этого выполнить алгебраические преобразования до вида табличного интеграла. А я хотя и пытался заучить табличные интегралы, но хорошо их не помнил и, как я потом понял, просто не замечал, когда в ходе алгебраических преобразований получал нужный результат. А при интегрировании получается и некая постоянная «С», сути её я не понял и только запомнил из объяснений Масаковской, что эта «С» может быть любым числом. А что, думаю, если я вместо «С» поставлю нужное для алгебраического преобразования конкретное число? Поставил то ли 1/2, то ли 2, не помню, преобразовал выражение уже вместе с этим числом, взял интеграл, посмотрел в ответы: сходится. Решаю таким образом второй пример, третий — ответы сходятся. На мою беду или на моё счастье, моё домашнее задание никто в институте не проверил, и я пребывал в наивной уверенности, что решил эти задачки правильно. Наступила сессия.
Мне уже 59-й год, и я могу на Библии поклясться, что чем дальше идет жизнь, тем в общественном плане она становится глупее и глупее. Уже СССР в моё время руководили если не прямо подлецы, как Хрущёв и Горбачёв, то полуподлецы, как Брежнев или Андропов, если не прямо идиоты, то полуидиоты. Сейчас же хоть у нас в России, хоть на Западе, что ни правительство, то идиоты в квадрате и подонки в кубе. И уже в мое время это оглупление (а вызвано оно обюрокрачиванием общества) нарастало заметно. Я начал учиться в институте, когда преподаватели были, на мой взгляд, ещё достаточно свободны, и они могли использовать эту свободу, чтобы хоть чему-то научить студента. Ректором у нас был старенький Исаенко, и при нём дело с этим обстояло так.
Если, по мнению преподавателя, студент знал явно меньше, чем на удовлетворительно, то преподаватель возвращал ему чистую зачетку и предлагал прийти в другой раз. Никаких допусков к переэкзаменовке не требовалось. Попытки сдать экзамен можно было делать до бесконечности, у нас были упрямцы, которые сдавали какой-нибудь экзамен по году, и ходили они его сдавать раз 18–20. При таком подходе к делу преподаватель добивался, чтобы студент действительно выучил его дисциплину, а студента стимулировало отсутствие стипендии в период, пока у него есть задолженность.
А потом мудрецы решили «усилить дисциплину» и где-то в конце моей учебы ввели такое положение, что для пересдачи экзамена с двойки нужно было взять в деканате официальный допуск, причем количество допусков ограничивалось пределом, за которым следовало отчисление из института. И в какое положение попали преподаватели? Если они пару раз не поставят студенту оценку, то того выгонят из института, а кого тогда учить, за что деньги получать, если студентов не будет? Кроме того, получается так, что это преподаватель виноват, так как в ходе семестра не сумел студента научить. Другие ему поставили тройки, значит, сумели, а ты ставил двойку — не сумел. Раньше это было чем-то вроде личного дела между студентом и преподавателем, а теперь оно приобрело официальные и очень неприятные формы, причем скорее даже для преподавателя, нежели для студента. И стали преподаватели не выгонять бездельников с экзамена, заставляя их хоть что-нибудь выучить, а ставить им тройки. Кто от этого «укрепления дисциплины» выиграл?
Экзамены
Но я, слава Богу, учился ещё до этого маразма, и были тогда в ДМетИ оригиналы-преподаватели, которые гоняли нашего брата-студента как Сидоровых коз. Нам из этих оригиналов достались двое, но, правда, очень оригинальных — заведующий кафедры сопротивления материалов профессор Павленко и доцент кафедры теплотехники Аверин. Но о них позже. А с математикой нашей группе повезло с Масаковской, поскольку на этой кафедре был, по-моему, тогда доцент Кисель. Этого студенты тоже боялись как огня.
И вот наступила сессия после третьего семестра, готовлюсь я к экзамену по математике, чувствую себя в ней не ахти как, но не особо боюсь, поскольку Масаковская и экзамены принимала как-то равнодушно, авось, думаю, опять как-нибудь отхвачу у неё четвёрку. Бодренько прихожу на экзамен и ещё издалека вижу, что у аудитории как-то много народу толпится. Выясняю, что Масаковская заболела, что экзамен у нас будет принимать Кисель и что толпа студентов не из нашей группы — это жертвы Киселя, которых он уже успел выгнать с экзамена и которые теперь пришли на очередную попытку. Ну, думаю, влип! Теперь, думаю, и тройку придётся обмывать как орден.
Захожу, взял билет, сел. Кисель принимал экзамен вдвоем с ассистентом, их столы были сдвинуты. Ну, думаю, есть шанс — надо попасть к ассистенту. Начинаю готовиться и слушаю, как принимает экзамен Кисель, а делал он это не так, как все. Все сначала слушают ответ студента на теоретические вопросы в билете, а потом смотрят, как он решил примеры, а Кисель — наоборот: начинает с примеров, и если там ошибка, то выгоняет беднягу, не слушая ответов по билету. По сути он прав: если не умеешь применить математику на практике, то кому нужны твои теоретические знания? Прав-то он, может, и прав, но бедному студенту от этого не легче.
Что-то я по вопросам в билете вспомнил и написал, начинаю решать задачки, и первая из них такая, какие я решал доморощенным способом. Ну я её так и решил. Решил как-то и остальные и затаился. Смотрю, удобный момент: ассистент взял зачетку, чтобы вписать оценку, а Кисель только что выгнал студента и к нему сел очередной. Я мигом подскакиваю к ассистенту, а тот вписывает оценку в зачетку так медленно, как малограмотный. Кисель же в это время трах-бах — почиркал задачки и отпустил жертву, а я как дурак уже стою и изображаю готовность сдать экзамен. Ну он, само собой, показал мне властным жестом, что нужно садиться к нему. Берёт у меня листок с решенными примерами и сразу же:
— Это что за двойку ты здесь намалевал?
— Это я вместо «С».
— Что?? Да ты понимаешь, что такое «С»? Как ты вообще с такими знаниями посмел явиться на экзамен?
Но я уже был не салага-первокурсник, меня так просто с экзамена не выкинешь.
— А я именно таким способом решал эти задачи и раньше, и решение у меня всегда сходилось с ответом.
— Чепуха! — и двигает ко мне мою зачётку.
И вот тут случилось то, в чем я, как полагаю, силён. Поскольку я всё же из-за решения задач понимал эту часть математики, то вспомнил тот табличный интеграл, который мне был нужен, в мозгу моментально всплыло, как правильно этот пример нужно решить. Я беру у Киселя свой листок, разворачиваю к себе и начинаю под своим неправильным решением решать правильно. И что поразительно, я не только получил тот же ответ, но случилось и то, чего я не ожидал, — мое дурацкое решение оказалось короче правильного! И я говорю Киселю:
— Вот видите: мой способ гораздо эффективнее вашего!
Было очевидно, что я ошарашил Киселя, он сбавил тон, начал искать у меня ошибки в алгебраических преобразованиях, но их не было, начал объяснять мне смысл этой постоянной «С», говорить про то, что совершенно дико и неправильно заменять её произвольным числом, поскольку это число определяется при решении конкретных практических задач. Мы поменялись ролями, теперь не он мне, а я ему задал вопрос, на который у Киселя не было ответа. Теперь мне впору было выгонять его с экзамена, поскольку, как ни крути, но не может быть совершенно неправильным способ, который дает правильный результат! Кисель не стал больше ни о чем меня спрашивать, он взял мою зачетку и вписал «отл.».
По сей день я не знаю, разобрался ли Кисель в том, что произошло, в том, почему при всей глупости моего решения ответ получался правильным, а решение короче. Мне-то это было уже «по барабану». Получить у Киселя «5» — это было ого-го!
Не знаю, то ли инстинктивно, то ли в силу какого-то природного любопытства, но я в институте стремился понять те лекции, которые нам читали. Из-за близорукости я сидел обычно на передней парте и никогда не стеснялся перебить преподавателя и попросить его объяснить то, что мне было непонятно. Должен сказать, что помню только одного, который был этим недоволен, но он был молод, и думаю, что и сам по-настоящему не понимал, что читает. Остальные же преподаватели относились к этому очень спокойно и даже благожелательно.
(Спустя много лет я сам читал лекции бригадирам и понял, как тяжело это делать молчащей аудитории. Ведь не имеешь обратной связи и не понимаешь, в чем дело: то ли ты так хорошо читаешь, что всем все понятно (чего быть не может), то ли ты читаешь так плохо, что тебя вообще никто не понимает и все тихо дремлют.)
Помню случай с профессором Павленко. Мне он помнится крупным седым стариком, который вечно ходил, как апостол Петр — со связкой ключей. На экзаменах тоже зверствовал, одному студенту нашей группы за наглость зачетку выбросил в форточку, и тому пришлось искать её в сугробах, правда, кафедра сопромата была на первом этаже, и далеко зачетка не улетела. Сижу у него на лекции, он на доске выводит какую-то формулу и объясняет, откуда что берется. Вроде все понятно, я записываю, и вдруг после третьего или четвертого преобразования у него неизвестно откуда появляется коэффициент «7». Он продолжает преобразования и снова пишет этот коэффициент. Я бросил писать и спрашиваю:
— А откуда это у вас взялась семерка? — Павленко разворачивается, бросает мел на стол и, обращаясь к аудитории, гремит: — Балбесы! Вы что это переписываете с доски, не понимая что! Слава Богу, что нашелся хоть один, который следит за мыслью и пытается меня понять!
Хорошо, что я успел его спросить, а то бы он и меня в балбесы записал. Я получил по сопромату пятерку, хотя уже не помню, сдавал ли я его Павленко или его ассистенту.
А с Авериным было совершенно по-другому. Ветеран войны, инвалид, читал он лекции хорошо, пытаясь донести до нас свой непростой предмет — теплотехнику. Вопросы ему можно было задавать в любое время лекции, отвечал он охотно. И вот однажды он выводит на доске какую-то формулу, я записываю череду символов и вдруг перестаю понимать смысл сделанного им преобразования. Я был уверен, что тот интеграл берется не так, но вместо того, чтобы спросить, почему он взял его по-другому, бросил записывать дальнейший вывод и записал только конечную формулу. Перед экзаменом Аверин сообщает нам, чтобы мы не трудились писать шпаргалки, поскольку он на экзамене разрешает пользоваться всем, чем угодно: конспектами, учебниками и т. д. Кроме того он объявил, что в качестве дополнительного вопроса он задаст один из двух: расчет тяги дымовой трубы или расчет производительности методической печи, при этом он написал на доске необходимые уравнения. Мы уже знали, что сдать Аверину экзамен очень непросто, и в его послаблениях видели какой-то подвох, но не понимали, в чем он.
Готовлюсь к экзамену и отмечаю, что у меня в конспекте оборвана запись вывода одной из формул. Пытаюсь вывести сам — не могу. Ну, думаю, это всего лишь один из 70–80 вопросов, содержащихся в билетах. Какова вероятность, что выпадет именно он? У меня была привычка тянуть с подготовкой к любому экзамену до последнего вечера, с него я начинал и заканчивал в 4–5 часов ночи. С теплотехникой тоже так получилось. Прихожу на экзамен с распухшей головой, Аверин приглашает первых. А я имел примету: никогда не идти на экзамен ни первым, ни последним. Заходят 6–7 человек первых, берут билеты, и Аверин уходит с кафедры, пообещав вернуться через полчаса. Действительно, в его отсутствие можно было переписывать с чего угодно, разложить билеты так, чтобы взять нужный, ребята выходили в коридор советоваться, короче, как будто знали всё, что надо. Минут через 40 вернулся Аверин, начал принимать экзамен, и бах-бах-бах — все первые вышли с двойками. Ну ничего себе! Что же ему надо? Народ жалуется, что Аверин всех валит дополнительными вопросами, но как, если он обещал задать один?
Захожу, беру билет, и, надо же, какая подлянка — попадает именно тот, где у меня не дописан вывод! Сел, смотрю, все книги и конспекты под партами держат, а я свой вынул и начал открыто листать, но что толку, этот вывод за ночь сам по себе не появился. Аверин заметил мое чуть ли не демонстративное листание конспекта и спрашивает:
— Что, чего-то в конспекте нет?
— Да нет, Сергей Иванович, — отвечаю я, — в Греции все есть. Смотрю, как он принимает экзамен, и понимаю, в чем дело.
Садится к нему студент, Аверин берет у него написанные ответы, равнодушно просматривает и откладывает в сторону не спрашивая. После этого задает свой дополнительный вопрос, и тут начинается то, о чем Аверин, правда, тоже предупреждал перед экзаменом. Он начинает спрашивать смысл всех величин, входящих в уравнение дополнительного вопроса, требует написать уравнения того, как они получаются, а потом физический смысл и входящих в эти уравнения величин. В результате нужно написать штук 20 формул и, по сути, продемонстрировать знание принципиальных основ всего начитанного им курса теплотехники.
Ладно, но раз он не дает отвечать на вопросы в билетах, то какой смысл их писать? Я как-то быстро смекнул, что если я не буду их переписывать в экзаменационный листок, то Аверин вынужден будет слушать мой устный ответ, и тем самым я часть экзамена буду отвечать то, что только что освежил в памяти по конспекту. Сажусь я к нему.
— А где ответы? — спрашивает Аверин. — Ты же говорил, что они у тебя есть.
— Да что их писать, Сергей Иванович, там и устно говорить-то не о чем.
— Ну тогда говори.
И я бодро рапортую ему первый вопрос и по ходу ответа пишу на листке выводы необходимых формул, объясняю их. Так же бодро приступаю ко второму, дохожу до злосчастного уравнения и делаю попытку перехитрить Аверина. Бодро пишу исходную формулу, а дальше говорю, что путем длинных преобразований из этой формулы получается «вот эта» — и пишу её. Ага, так тебе Аверин и купился! Он мне так ласково предлагает эти «длинные преобразования» написать. Деваться некуда: я бодро пишу несколько начальных дробей вывода, поясняя, что и откуда берется, дохожу до места, после которого бросил писать, и говорю:
— А вот здесь, Сергей Иванович, вы непонятно почему взяли интеграл вот таким образом, — я написал последнюю дробь, которая была у меня в конспекте, — однако он-то ведь берется по-другому! — И я написал свое предположение, как это должно быть.
Аверин развернул к себе мой листок бумаги и, объясняя мне, почему я не прав, сам дописал вывод нужной формулы до конца. Вряд ли я его по-настоящему обманул, но, во всяком случае, я ему отвечал уже минут 10 и в целом отвечал хорошо. Наступило время дополнительного вопроса, и Аверин решил завалить меня дымовой трубой. А я, слушая его лекцию о ней, чтобы легче было понять, пытался происходящие в ней процессы представить образно, и образ у меня получился вот какой.
— С дымовой трубой все просто, — начал я. — Чтобы рассчитать её производительность, нужно представить себе рычажные весы, на одной чаше которых стоит столб горячего, легкого воздуха, равный по высоте дымовой трубе, а на другой чаше стоит такой же по высоте столб холодного, тяжелого воздуха. Разница в весе между ними — это тяга дымовой трубы, теперь нужно подсчитать потери тяги на сопротивлениях в боровах, на поворотах, в самой трубе…
Мысль эта очень простая, и мне казалось, что она каждому должна была придти в голову, но Аверин меня прервал.
— Молодец! И хотя на настоящую пятерку ты не ответил, но я тебе её поставлю.
— Ну, Сергей Иванович, а я-то думал, что в последний раз повезло идиоту: сесть без билета на тонущий пароход, — брякнул я глупость от неожиданности. Аверин усмехнулся.
Потом вышел Алик Барановский и сказал, что Аверин поставил и ему пятерку с добавлением, что Алик отвечал даже «лучше, чем Мухин». Игорь Тудер тоже получил пять баллов, и еще пара человек сдала на тройки, а остальных Аверин заставил придти еще раз. И, между прочим, это ведь и ему самому была дополнительная неоплачиваемая работа, но он её делал. Да, были люди…
Спрашивай!
Думаю, что где-то после пятого семестра пришла мне в голову мысль — а почему бы не стать отличником? Дело в том, что после сессии оказалось, что у меня четыре пятерки и всего одна четверка по физхимии. Деньги, правда, не велики: стипендия поднималась с 35 до 42 рублей, а кровь на донорском пункте можно было сдавать раз в два месяца, и стоила порция 13 рублей, т. е. добыть такие деньги не представляло никакого труда. Но зато я сделал бы приятное отцу, поскольку я уже знал, что в конце учебного года институт рассылает родителям отличников благодарственные письма. Я пошел в деканат, взял допуск на пересдачу физхимии (его приходилось брать, поскольку четверка уже стояла в зачетке и в ведомости), сходил к преподавателю и тот, немного поспрашивав меня, исправил четверку на пятерку. А дальше, как говорится, дело техники, поскольку сущая правда в том, что первый курс студент работает на зачетку, а потом зачетка работает на него — у преподавателей не поднимается рука поставить четверку отличнику. И к концу учебы насобиралось у меня этих пятерок 82 %, а для получения красного диплома требовалось 75 % и отсутствие троек. Я, как уже писал, пересдал единственную тройку, защитил дипломный проект на отлично и получил красный диплом (он, вообще-то, у меня темно-вишневый).
Так вот, с позиции бывшего отличника, то есть не какого попало, а заслуженного студента, хочу дать хороший совет тем, кто учится или собирается где-либо учиться. Для этого взгляните на процесс обучения моими глазами — со стороны.
Ни в одном учебном заведении и ни один преподаватель не дает студентам что-либо такое, чего еще нет в опубликованном виде. Поэтому ходить на лекции, чтобы запомнить, что говорит преподаватель, нет никакого смысла, лучше сходить в пивбар, а потом выбрать свободное время, прочесть и запомнить то, что написано в учебнике. (Про пивбар я даже и не очень шучу, поскольку начиная со второго курса мы первого сентября именно в нем начинали занятия, а так как пивбар в парке им. Шевченко был оборудован автоматами по продаже пива, то он имел у нас кодовое название «кафедра автоматики».)
Между прочим, М.И. Друинский был заочник, он не слушал лекции, а прекрасно закончил институт и, мало этого, был прекрасным инженером в полном смысле этого слова.
Посещать лекции имеет смысл только с одной целью — не просто механически запомнить, а понять то, что читает преподаватель. Вот для этого он и нужен, поскольку самому доходить до того, что написано в учебнике, бывает очень трудно. Всегда используйте преподавателя по назначению: он не магнитофон, а тот, кто обязан вам растолковать непонятное. Тут препятствием служит толпа остальных студентов — они сидят молча, и складывается впечатление, что все они преподавателя прекрасно понимают, и только ты дурак, и только тебе непонятно. Плюньте на это, черт с ним, пусть о вас так думают, потом выяснится, кто из вас дурак, а раз вам преподаватели что-то взялись объяснять, то добейтесь того, чтобы вам было это понятно.
(Тут есть момент. Может сложиться так, что как преподаватель ни силится вам объяснить, а вам все равно как о стенку горох — для того, чтобы его понять, не хватает у вас понимания предшествовавших школьных базовых вещей. Не знаю, что тут посоветовать — на всякий случай сходите и набейте морду своему директору школы за то, что он деньги за ваше обучение получил, а выпустил вас из школы идиотом. Он будет кричать, что вы сами не хотели учиться, а вы молотите его и приговаривайте: «Не надо было мне аттестат зрелости выдавать!»)
Чего вы добьетесь пониманием того, что прослушали на лекции, что потребуете у преподавателя объяснить вам непонятное?
Самое малое, но тоже не пустячок — вы станете ближе преподавателю, поскольку он, как правило, ценит и уважает предмет, который преподает. Он считает его важным и интересным, и если он увидит, что и вы им интересуетесь, то можете рассчитывать по меньшей мере на плюс к своей реальной оценке или на минус к той, которую вы не заслужили.
Потом, вам будет на лекции или занятиях не менее интересно, чем при просмотре дурацкого телесериала, поскольку в сериале даются глупые и убогие по содержанию фантазии автора, а знания о технике или реальной жизни, как правило, точны и гораздо более увлекательны, нежели интеллектуальные потуги сценариста и режиссера. Но это, еще раз повторю, если понимать преподавателя, а не просто механически запоминать, что он говорит.
Какой бы работой вы ни занимались после окончания ВУЗа, делать вы её будете лучше, поскольку для осмысливания работы будете иметь гораздо большую базу. Умники будут утверждать, что общеобразовательные предметы никому не нужны, я же скажу, что это иллюзия тех, кто эти предметы учил, но не понял, в связи с чем он их в дальнейшем забыл напрочь. Никогда нельзя сказать, какие знания тебе потребуются в будущем. Не хочу в данном случае далеко уходить от студенческой темы, поэтому подробности расскажу позже, но у меня был случай, когда я сделал очень полезную для завода сугубо инженерную работу, а смог её сделать только потому, что вспомнил знания из области организации передвижения войск, случайно полученные на военной кафедре.
При этом не имеет значения, если вы понятые знания забудете, я их порою забывал чуть ли не сразу же после того, как захлопывал зачетную книжку. Понятые вами знания тоже хранятся в глубокой памяти, но если вы их поняли, то их принципы как бы заносятся в быстро просматриваемый каталог. И когда вам придет нужда в каких-то знаниях, то вы быстро просмотрите в уме этот каталог и поймете, какие именно знания вам нужны. А дальше не составит труда заглянуть в библиотеку или Интернет и восстановить подробности — формулировки законов, числа и прочее. А вот если вы что-то зазубрили механически и даже получили пятерку на экзамене за то, что в ответ на ключевое слово оттарабанили зазубренное, то можете с этими знаниями проститься — применить их в жизни вам уже не удастся. Они как были, так и останутся для вас бессмысленным набором слов.
Зачем тебе это
И, наконец, вам будет несравненно интереснее жить, поскольку неинтересным является то, чего вы не понимаете. И чем больше вы не понимаете, тем меньше остается того, что может быть интересным для вас. А в мире бесконечное число того, что может представить собой предмет увлечения. Такого увлечения, которое может сделать вашу жизнь насыщенной, а посему счастливой, но надо для начала хоть немного понимать, о чем идет речь. (Потом, когда вы увлечетесь, вы будете специалистом в своем увлечении.)
Если ситуацию примитизировать, то человеческую жизнь можно представить как некий Диснейленд, в котором тысячи зданий с увлекательнейшими аттракционами. Жизни не хватит, чтобы по-настоящему получить удовольствие от посещения хотя бы нескольких из них. Но толпа не понимает смысла этих зданий, не понимает, зачем они, и толпится у двух площадок, на одной из которых увешанная цацками полуобезьяна под барабанный грохот что-то орет в микрофон, а на другой её подруга показывает публике голый зад. А на экране телевизора сменяют друг друга дегенераты (называющие сами себя «интеллектуалами»), объясняющие толпе, что толпа сделала правильный выбор, что секс и зрелища — это и есть единственные источники счастья человека.
Есть и еще одна причина стремиться понимать получаемые знания, а не механически запоминать их: уж очень быстро мир тупеет, несмотря на формальное возрастание процента «образованных» людей. Дипломы-то у них есть, вот только со знаниями проблема. В результате сегодня мошенник, которому создан имидж «профессионала», может впарить этой «высокообразованной» толпе что угодно, «обуть» её в каком угодно вопросе. Я даже теряюсь, какой пример дать, чтобы он был покороче.
Наверное, вы слышали о проблеме «озоновых дыр», из-за которых «может погибнуть все живое на Земле»? Озвучивается эта проблема так: в атмосфере Земли есть некий озоновый слой, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца, но из-за газа фреона, используемого в холодильных агрегатах и спреях, в этом озоновом слое появляются дыры, через которые Солнце испепелит на Земле все живое, и со временем настанет страшный «аллее капут».
Время от времени в печати появляются статьи и выступления, которые, впрочем, не оказывают никакого влияния на «высокообразованную» толпу. В основе «проблемы озоновых дыр» стоит простое стремление фирм, производящих холодильное оборудование, запугать покупателей и заставить их при еще работающих старых холодильниках купить новые. История эта абсолютно банальна, и такие «истории» были даже в СССР. К примеру, у нас в бытовой электрической сети напряжение 220 В (вольт), но при отключениях больших групп потребителей электроэнергии оно может подняться и до 240–250 В. Если использовать электрическую лампочку накаливания, рассчитанную на 220 В, то её спираль будет перегреваться и быстро выйдет из строя. Посему в СССР начали выпускать лампочки, рассчитанные на напряжение 230–240 В. И действительно, они стали меньше перегорать, но при этом их стали меньше покупать, соответственно заводы, выпускающие лампочки, снизили производство и перестали выполнять план. Эти заводы следовало бы перепрофилировать на другую продукцию, но главк, руководивший этими заводами, пошел по легкому пути: дал приказ снова начать выпуск лампочек на 220 В. Начался дефицит лампочек, заводы заработали на полную мощность, но это было в СССР: дело вскрылось, начальника главка посадили и надолго, а заводы заставили все же выпускать лампочки под высокое напряжение. А на Западе с их рыночными отношениями стремление фирм любым путем заставить покупателя отказаться от еще годного товара и заставить его купить новый — обычное дело. Но удивляет наглость, с которой «образованному человечеству» впаривается эта чушь с озоном.
Давайте я предметно покажу вам, что имею в виду, когда говорю про умение пользоваться знаниями.
Прежде всего, что такое озон? Это известно из школьной химии, но кому нужно помнить эту химию? Я-то металлург, т. е. химик высоких температур, я-то могу помнить, что такое озон, а вам-то это зачем? Поэтому вам надо взять энциклопедию и освежить в памяти, что в атмосфере Земли, состоящей (грубо) на три четверти из молекул азота и на четверть из молекул кислорода, молекула кислорода имеет вид двух соединенных между собой атомов, грубо — двух шариков, слепленных вместе. Но если молекулу кислорода подвергнуть интенсивному облучению, к примеру, электрической дугой, молнией или облучению ультрафиолетовым спектром солнечного света, то три молекулы двухатомного кислорода вступают в реакцию друг с другом и образуют две молекулы кислорода, в которых уже не по два, а по три атома. Этот трехатомный кислород называется озоном.
Первое, что отсюда следует, что не озон защищает Землю от ультрафиолета, а обычный двухатомный кислород, а озон — побочный продукт этой защиты. Уберите из атмосферы весь озон, но пока Солнце светит, оставшийся кислород (и азот) будет защищать Землю, при этом кислород, защищая Землю от ультрафиолетового света, снова и снова будет образовывать озон.
Молекула озона в полтора раза больше молекулы обычного кислорода и лучше двухатомной молекулы поглощает ультрафиолет. Ну и что? Самолеты дают тень гораздо более плотную, нежели облака, ну и когда это у нас было пасмурно из-за самолетов? Вы скажете, что самолетов мало, а облаков много. Хорошо, а сколько того озона, чтобы о нем плакать? Опять заглянем в энциклопедию.
От поверхности земли до высоты 10 км простирается тропосфера, в ней озона нет, поскольку ультрафиолетовое излучение Солнца в основном задерживается более высоким слоем атмосферы — озоносферой, простирающейся от высоты 10 км до высоты 50 км. Вот в этом слое есть озон. Сколько? Если с толщины озоносферы в 40 км собрать весь озон, то будет слой примерно в 2 мм. Давайте считать грубо, по мужицкому счету: лапоть туда, лапоть сюда — даже если мы и ошибемся на порядок (в 10 раз), то это ничего не изменит. В тропосфере находится 80 % атмосферы, будем считать, что в озоносфере содержатся остальные 20 % и что плотность воздуха в озоносфере равна плотности его в слое тропосферы толщиной в 2 км. По отношению к 2 км воздуха слой озона в 2 мм составляет 1 миллионную часть. Если мы будем считать, что молекулы азота, кислорода и озона имеют диаметр в 1 мм, плотненько их сложим в квадрат, то в квадрате со стороной 1 метр будет миллион молекул, и среди этого миллиона будет одна (!) молекула озона, т. е. в этом зонтике будет одна дырочка диаметром в 1 мм! Ну и какую тень даст одна молекула озона на миллион остальных — больше, чем самолет на фоне облаков, или меньше?
Я считал очень грубо, не исключено, что точный подсчет даст 10 молекул озона на миллион, но что это изменит? Это все равно такой мизер, о котором глупо говорить. Пыль над городом защищает от ультрафиолетового излучения в десятки раз лучше, чем весь озон.
Есть люди, которые воспринимают то, что говорят другие, возможно, им и не обязательно листать энциклопедию каждый раз, но те, кто вещают про странную опасность озоновых дыр, обязаны были бы в нее заглянуть! Несколько лет назад по «Евроньюс» показали огромные склады исправных холодильников в Великобритании, которые перепуганные британцы сдали для утилизации, чтобы не погибнуть от ультрафиолетового излучения. Соответственно, они купили новые холодильники, и возникает вопрос, куда девалось образование этих английских баранов? Ведь даже бессмысленная трата денег не заставила зашевелиться в их мозгу ни одну извилину.
Вдумайтесь, ну зачем вообще тратить деньги и время, чтобы получить образование, если потом не уметь им пользоваться?
Мой совет: понимать то, чему вас учат. Это очень хороший, умный совет. Беда, однако, в том, что как раз умным советам никто не следует… Но это не значит, что их не нужно давать!
О передвижениях
Но вернемся к моему студенчеству. После первого курса наш поток МЧ — металлургов — повели на металлургический завод им. Петровского на ознакомительную практику, и тут я, наконец, понял, куда попал. Доменный и сталеплавильные цеха были грязными, дымными, пыльными и жаркими. (Такой вид имеют эти заводы, надо сказать, во всем мире.) Нас сразу предупредили, что есть правило для этих цехов: если что-то хочешь взять голой рукой, то лучше сначала на это плюнуть: если слюна зашипит, то лучше не трогать, иначе обожжешься. Короче, внешний вид моего будущего места работы хотя и поражал огромностью и даже циклопичностью, но особого энтузиазма не вызывал. Правда, ферросплавного производства в Днепропетровске не было, но я начинал догадываться, что и оно не сильно отличается от увиденного. В потоке у нас было четыре группы МЧ. Мы были МЧ-3 и обучались «электрометаллургии стали и ферросплавов». МЧ-1 были доменщиками, МЧ-2 — сталеплавильщиками мартеновских и конверторных цехов и МЧ-4 были агломератчиками. Если черную металлургию представить в виде армии, то мы должны были стать в этой армии пехотой.
Вообще-то я поступал на МЧ-3 еще и потому, что на МЧ в ДМетИ всегда меньше конкурс, и хотел после первого курса перевестись все же на ПА — промышленную автоматику. После ознакомительной практики это решение должно было бы выглядеть еще более соблазнительным, но я уже сдружился с группой, обзавелся в ней друзьями, и переход из МЧ мне уже казался неким предательством. Я прижился и никогда впоследствии не жалел об этом, тут моя Судьба тоже лучше меня знала, что мне делать.
Поскольку я пишу это для молодых людей, то хотел бы рассказать из своего студенчества несколько больше о бытовых подробностях, о том, что сегодня переврано нынешними пропагандистами не то что до неузнаваемости, а просто до наоборот.
В результате у молодых людей складывается дикое впечатление о Родине их родителей — об СССР.
Возьмите, к примеру, вопрос с паспортами. Населению вдалбливается в голову, что СССР, особенно сталинский, был страной рабов, в которой крестьянам даже паспортов не выдавали, чтобы держать их в колхозах в крепостной зависимости.
Поразительно то, что антисоветская пропаганда всегда эксплуатировала эту тему наоборот, и лишь в 80-х буквально в несколько лет нагло поменяла ориентацию на 180°. Еще в конце 70-х годов «Голос Америки» вдалбливал в головы советских радиослушателей, что они рабы именно потому, что имеют паспорта! А вот в славной свободной Америке никто не обязан иметь паспорт внутри США, и только если американец хочет съездить за границу, то он посылает в Госдепартамент 19 долларов и две фотографии, и ему по почте присылают паспорт. Во-де, какие мы свободные! — гордились США отсутствием документов, удостоверяющих личность. А в 80-х эта бодяга нагло развернулась: про себя американцы заткнулись и стали вещать про бедных советских колхозников, не имевших при Сталине паспортов.
А тут дело обстояло так. При царе в России все, кроме дворян-мужчин, были намертво привязаны к местам своего жительства. Они не имели права покидать его, не запросив разрешения у чиновника, который, если разрешал, выдавал такому человеку паспорт, причем на полгода. Беспаспортных отлавливали, наказывали и водворяли на места жительства. Большевики же сделали из России самую свободную страну (имеется в виду свобода большинства населения) и, само собой, сразу после революции большевики упразднили все паспорта и удостоверения личности. Отсутствие паспорта — признак свободы в стране!
Но это резко осложнило работу всех структур власти, поскольку стало очень трудно, скажем, выдать деньги на почте (поди узнай, тот ли это, кому прислали?), выдать продуктовые карточки (а может, он их уже получил в другом месте?), учесть место работы человека, обложить его налогом и т. д. И, начиная чуть ли не с момента упразднения паспортов, тогдашняя милиция начала просить Правительство СССР ввести в стране паспорта. Семнадцать лет большевики отказывались это делать, и только в 1932 году, в виде исключения, и только для городских жителей начали вводиться паспорта. А в сельской местности до конца 70-х годов, когда заставили иметь паспорта и крестьян, паспортов никто не требовал, и по всей территории СССР вне городов можно было ездить, куда хочешь, и селиться, где хочешь. Если колхозник ехал в город и ему нужно было в каком-либо учреждении удостоверить свою личность, то сельсовет на этот случай выдавал ему справку, кто он есть, если же он не собирался осесть в городе на постоянное место жительства, то и она не была ему нужна.
Даже во времена моего студенчества можно было объехать весь СССР, не имея паспорта, поскольку он был нужен только для полетов на самолетах, а на всех остальных видах транспорта он не требовался. За всю мою жизнь в СССР милиция никогда не проверяла у меня документы, и я ни разу не видел, чтобы она это делала у кого-либо другого. Попробуй она это сделать — граждане СССР завалили бы все инстанции жалобами: какого черта милиция цепляется к свободным людям? Заметьте, в те годы, к примеру, в Москву ежедневно приезжало 2 миллиона человек. Только из Днепропетровска в Москву шло два скорых поезда и четыре пассажирских, а сегодня только один.
Точно такое же положение с описанием всей остальной жизни в СССР. Послушаешь телевизор, так мы все ходили голые и голодные, только то и делали, что тряслись от страха при страшном слове «КГБ». Вы, телевизионные умники, в какой стране жили, уроды?
Сокурсники
Итак, поток металлургов состоял из четырех групп, в каждой из которых было около 25 студентов (в начале, а закончили МЧ-67-3 в 1972 году 23 человека). В нашей группе сначала были 4 девушки (единственные на потоке), потом Коля Кретов женился, и к нам перешла его жена Рита. Из девчат особенно памятны Полина Кравченко и Надя Жучкова. Полина и учившаяся в нашей же группе Люда Ноздря были баскетболистками и играли за институт, а потом и за днепропетровскую «Сталь». Полина, между тем, училась очень неплохо, но для меня в данном случае главное то, что она была близкой подругой девушки, на которой я через 8 лет женился, мы и дочь назвали в честь ее крестной — Полина. Надя Жучкова была небольшого роста, плотненькая и заводная хохотушка, по крайней мере, такой она стоит у меня в памяти.
Группа в основном была или из Днепропетровска или из других городов и сел Украины. Самым дальним был актюбинец Валера Малиновский, Ваня Потапов был из Тамбова, да потом прибавился Цезарь Кацман откуда-то из Белоруссии. Деток высокопоставленных родителей у нас не было (тогда их называли «блатными»), самого высокопоставленного отца имел, как мне помнится, Коля Кретов, отец которого был подполковником милиции.
В целом группа была дружная, хотя некоторые все же были как бы особнячком, но на практиках, в каком бы составе мы ни оказались, держались мы вместе. Из группы в студенческой общаге жили человек 6–7, остальные жили дома. Думаю, что среди тех, кто жил в общежитии, авторитетом был никопольчанин Толик Борисов, он же, язва, и надавал всем кличек. Это тоже, между прочим, талант, у меня так никогда не получалось. Тудер, разговаривая, часто бормотал под нос, Толька пытался внедрить ему кличку Барматудер, но не получилось — сложно, в конечном итоге стал Игорь «Барсом». Потапов, само собой, стал «Потапом», Жучкова — «Жучкой», Бобров — «Бобер», но почему он мне дал кликуху «Митя», убей — не помню! Наверное, по ассоциации с героем какого-нибудь фильма. Кацману он силился дать кличку по начальным буквам имени, отчества и фамилии: Цезарь Львович Кацман — Цэлка. Не прижилось: грубовато — остался Цезарь «Цаликом» или «Цалом». Володя Дробах, коренастый крепыш, стал «Быком», сам Борисов, несмотря на навешивание друзьям кличек, имел между тем вполне приличную кличку «Брат».
Думаю, что на первых курсах из группы ушло, кроме Малиновского, еще человека 4, поскольку пришли Тудер, Кацман и Рита, но ушедших я плохо помню, даже не помню, у нас ли в группе был Шалимов — мой сокурсник по подготовительной группе. Он купил тогда мотоцикл «Ява» и несколько раз отвозил меня домой, однако потом пропал, вновь встретились мы уже в институте, он тоже поступил, но сильно хромал. Неохотно рассказал, что случилось: на трассе Днепропетровск — Новомосковск ехал с девушкой, на большой скорости пошел на обгон, не справился с управлением, сам сильно сломал ногу, а девушка погибла. Потом, когда Вовка Дробах купил себе «Яву» и возил меня в Запорожье и обратно, я, помня Шалимова, просил его: «Бычок, ты того, поаккуратнее!»
Из ушедших из института сокурсников, пожалуй, стоит вспомнить вечного студента. Он подошел к нашей группе 1 сентября, когда мы начинали второй курс, познакомился. Мы все пошли на «кафедру автоматики» — в пивбар отмечать встречу и начало учебного года. По ходу знакомства выяснилось, что он учился уже чуть ли не 6 лет и чуть ли не во всех вузах города, к нам он попал, по-моему, из Днепропетровского института инженеров транспорта. Учился 2–3 года, а потом переходил в другое учебное заведение. Странный был парень, думаю, что он чем-то промышлял, а учеба в институте для него была чем-то вроде «крыши», и, надо полагать, у него был и какой-то блат, иначе я не представляю, как так можно было «учиться». Попив с нами пива, он пропал и появился в разгар зачетной недели, выпрашивая конспекты и спрашивая, что, где и кому надо сдать. Как ни странно, но он сдал кое-какие зачеты и начал сдавать сессию, но, конечно, не по графику группы, а самостоятельно, являясь к нашим преподавателям, принимавшим экзамены у других групп. Иногда мы с ним сталкивались в коридорах, и тут он рассказал, как сдал сопромат самому Павленко.
Он пришел на кафедру сопромата, когда Павленко принимал экзамен, как потом оказалось, у какой-то группы третьего курса — у тех, у кого его преподавание шло не как у нас — два семестра второго курса, а начиналось со второго семестра второго курса и заканчивалось в первом семестре третьего. Зашел, взял билет, сел, вынул под партой учебник, нашел по оглавлению темы билета, нашел нужные страницы, послюнявил их у корешка, чтобы не трещали при отрыве (я о таком способе впервые услышал от него), положил вырванные страницы на парту, переписал и пошел сдавать. Что-то отрапортовал Павленко, ни на один дополнительный вопрос, естественно, не ответил, но Павленко был в благодушном настроении, открыл его зачетку и вписал в нее «уд.». А потом упрекает:
— Сессия уже заканчивается, а у тебя только первый сданный экзамен.
— Почему первый? У меня еще и философия сдана, — не догадался промолчать вечный студент.
— Какая философия? — удивился Павленко. — А вы на каком курсе?
— На втором.
Павленко начал листать зачетную книжку назад и понял, что он у второкурсника принял экзамен за третий курс. Вот тут, как я уже писал, дед рассвирепел, поднялся и выбросил зачетную книжку в форточку.
После этой сессии мы вечного студента уже не видели; может, его выгнали навсегда, а может, он перевелся в университет, в котором ещё, как мне помнится, не учился.
В целом же, когда состав группы к третьему курсу устоялся, она была довольно ровная, были ребята слабее других, но сессии, как мне помнится, мы сдавали в основном в полном составе. И каких-либо уродов — хулиганов или спекулянтов — у нас тоже не было. А то как-то захожу на нашу кафедру электрометаллургии к Е.И. Кадинову, доценту, своему руководителю по СНО (студенческому научному обществу) и куратору нашей группы, а он расстроен и ругается вот по какому поводу:
— На кафедре распределяли студентов группы МЧ-3 выпускного курса между руководителями проектов, а меня не было, и профессор Чуйко нагло подсунул мне обоих балбесов из этой группы, за которых диплом надо самому писать. Я на следующем заседании кафедры возмутился, и Чуйко вынужден был одного балбеса забрать к себе. И надо же, позавчера его балбес нажрался в общежитии водки и помочился в лестничный пролет, и прямо на поднимавшегося с проверкой общежития замдекана. Теперь этого чуйковского балбеса уже отчислили из института, ну почему мой балбес не догадался сделать что-нибудь подобное?!
О материальной стороне учебы
Теперь, думаю, следует рассказать хотя бы вкратце о материальной стороне учебы в институте. Она, если кто-то забыл, была бесплатной. (Большевики строили общество справедливости, и для них была нетерпимой сама мысль, что кто-то не сможет учиться из-за отсутствия денег.) Все учебники брались в институтской библиотеке, реальным личным расходом на обучение была покупка ручек, карандашей, тетрадей, логарифмической линейки и т. п. Этот расход на курс вряд ли превышал 3 рубля.
Спортсменам и еще некоторым категориям студентов выдавались талоны на бесплатное питание, я к этим категориям не относился, посему и не знаю, о каких суммах шла речь. Никогда не был в студенческом профилактории, в котором кормили и лечили бесплатно или почти бесплатно, посему и здесь ничего не могу сказать. Не помню и стоимость проживания в общежитии, но полагаю, что если в заводском общежитии это стоило от 4 до 6 рублей в месяц, то в студенческом проживание должно было стоить еще дешевле.
Стипендия была 35 рублей (половина минимальной зарплаты), кроме этого по положению она платилась, если на члена семьи приходилось менее 110 рублей в месяц. Но я не помню, чтобы когда-то сдавал справки о доходах своей семьи, поэтому думаю, что это положение существовало только на бумаге, а фактически стипендию платили всем, кто успешно сдавал сессию. Отличники получали стипендию на 20 % больше и вне зависимости от доходов семьи.
Может быть, на 35 рублей и возможно было прожить, но вряд ли кто из студентов это пробовал: всем либо помогали родители, либо они подрабатывали, либо то и другое вместе. Загрузка или разгрузка одного вагона с мукой или сахаром стоили 60 рублей, у нас были ребята, которые вдвоем за ночь грузили два вагона. Я пробовал вчетвером — очень тяжелая работа, к концу загрузки вагона уже Толик Борисов, сманивший меня на это, меня подгонял. После нее меня уже не радовали и 15 рублей, заработанные за 2 часа. Конечно, загрузи я 4–5 вагонов, то привык бы, но мне денег вполне хватало и без этой карусели. Давайте подробнее о моем финансовом положении.
Я жил и ел дома, у родителей, кроме этого они покупали мне дорогие вещи — пальто и костюмы, иногда обувь, рубашки, белье. Всю стипендию они оставляли мне на карманные расходы. Строго говоря, уже этого было достаточно, чтобы жить припеваючи. Но я работал на кафедре на полставки лаборантом. Это, правда, было нерегулярно, а только тогда, когда подворачивалась подходящая хоздоговорная работа. О сути работы скажу потом, а пока только о том, что она давала мне около 40 рублей в месяц дополнительно. Кроме этого, каждое лето я где-либо работал или подрабатывал: либо в стройотряде, либо на заводе, на котором проходил практику, либо шабашил на стройках у дачников. Поэтому сам покупал себе всю мелочевку от туфлей до рубашек, иногда и кое-что подороже. Недостатка в деньгах у меня не было, может, я и не был особо богатеньким Буратино, но трояк в кармане у меня всегда был, а это давало возможность примкнуть к любой компании в любой момент.
Кроме того тайно ото всех (а то они не остановятся, пока не пропьют) в пистоне брюк (это маленький кармашек у ремня) я носил 10 рублей на непредвиденные обстоятельства. А это, поверьте, были серьезные деньги: чуть ли не девять бутылок вина, рубашка или летние туфли, проезд в плацкарте до Москвы или 100 км на такси. В 1973 году мы с Женькой Ивановым в Запорожье на практике после курсов английского языка пригласили в ресторан «Интурист» двух индусов, сидели весь вечер, выпили две бутылки водки, заплатили и за индусов, и обошлось нам это вместе с чаевыми по 10 рублей. Помню, стою на крыльце института и о чём-то спорю с Вовкой Хижняком и еще кем-то. Подходят Коля Кретов и Толик Шпанский.
— Митя, дай десятку!
Я, не прекращая спора, вынимаю из пистона червонец и отдаю, Хижняк удивленно спрашивает:
— А чего ты не спросил, зачем Кольке 10 рублей и когда он вернет?
— А зачем? Раз просит, значит, ему надо.
Дело в том, что с Колей Кретовым, Толиком Шпанским и Борисом Бобровым мы к тому времени были очень близкими друзьями, но это был именно тот случай, когда мне следовало бы спросить, зачем Кольке десятка. Он дружил с Ритой Осьмухиной, учившейся на другом факультете, нам, его друзьям, она нравилась, но я, к примеру, и в мыслях не имел, что, будучи студентом, можно жениться. Я говорил друзьям так: «Я сам на содержании у своего отца, что же, я посажу ему на шею еще и свою жену?» Я твердо считал, что для женитьбы надо иметь, по крайней мере, такой доход, чтобы можно было без проблем содержать жену в период, когда она будет кормить ребенка, а студентом иметь такой доход было проблематично. Видимо, такое же мнение было и у родителей Кретова и Осьмухиной, вот Коля с Ритой и сочетались браком без их согласия. Червонец оказался нужен Коле для оформления каких-то брачных процедур, а Толик поехал свидетелем. Меня они в курс дела не ввели, зная, что я буду отговаривать. К сожалению, брак оказался неудачным, чужие семейные дела это потемки, но Рита, на мой взгляд, была прекрасной женщиной. Посему думаю, что в разводе виноват все же Колька, хоть он мне и был другом.
Но давайте еще немного о шмотках. У меня есть проблема — не по росту длинные руки, в то время я шутил, что такими руками хорошо деньги загребать. Однако покупать костюмы с такими руками было плохо: при росте 176 см мне требовался пиджак роста 186 см, отсюда в костюме и полы пиджака были длиннее, чем надо, и брюки приходилось укорачивать. И вот как-то по инициативе мамы родители купили мне отрез тонкой коричневой шерсти в полосочку золотистой нити и послали шить костюм. Для меня это было внове, но я пошел. Закройщик, уже пожилой мужчина, понравился мне своими идеально сидящими брюками, и я вверил ему себя. Он снял мерку, замерил ткань и сообщил, что она лишняя: мне хватило бы и 2,80 метра, а родители купили мне 3,20. Он предложил доплатить еще пару рублей, чтобы пошить мне «тройку». Я не знал, что это такое, он объяснил, что пошьет еще и жилетку, соответственно костюм будет состоять из трех частей, почему его и называют «тройкой». Жилетка мне казалась лишней, но я вспомнил, что Ленин на всех фотографиях в жилетке, и если Ленин её носил, то и я поношу, а будет народ смеяться, то и снять недолго. Сходил я пару раз на примерку, принес костюм, надел, а он как влитой. Раньше купишь костюм, так месяц надо разнашивать, чтобы к нему привыкнуть, а тут как будто в нем родился. Прихожу на кафедру, а Кадинов так с интересом посмотрел.
— Какой приятный летний костюмчик! (Это он потому, что шерсть была тонкой.)
В группе Надя Жучкова подошла, одобрительно за борта пиджачка подергала.
— Чешский или гэдээровский?
Тут я понял, что если мой костюмчик привлекает внимание девушек, то я на правильном пути. С тех пор, пока был студентом, я костюмы только шил, лишь изредка покупая отдельно пиджаки и брюки. Правда, когда я летел из Ермака домой жениться, то боялся, что пошить не успею, посему купил в Москве два костюма, заплатил своему закройщику десятку вне кассы, и он мне подогнал их по фигуре.
Хорошие (парадно-выходные) туфли стоили от 16 до 18 рублей (обычно из стран народной демократии), свои повседневные стоили дешевле, порой можно было купить примитивные летние и за 6 рублей. Рубашки от 3 до 8 рублей, носки — 30 коп., трусы (семейные) — 50 коп., но я на всякий случай (мало ли кому придется их показать) покупал спортивные за 1,5 рубля, майки тоже стоили около 1,5 рублей.
Обед в студенческой столовой (салат, первое, второе и компот) стоил около 60 коп., сладкий чай — 2 коп., кусочек хлеба — 1 коп., пирожки жареные с ливером — 4 коп., с повидлом — 5 коп., беляши -12 коп., 200 г сметаны — 30 коп., 0,5 литра лимонада — 13 коп., пива — 22 коп. Сахар стоил 78 коп. за килограмм, карамель — от 1,20 до 2,2 рубля, шоколадные конфеты — до 3,6 рубля, мясо было неактуально, поскольку студентами мы не готовили сами, но стоило оно: 1,1 руб. — баранина, 1,9 — говядина, 2,2 — свинина. Вареная колбаса — 2,2; одесская — 3,6; сырокопченые — до 6 рублей, но они были дефицитом. На базаре мясо стоило в 1,5 раза дороже. Фрукты: яблоки — от 30 до 90 коп., виноград — 90 коп., апельсины — 1,1 руб., бананы (в Днепропетровске редко, но продавались) — 90 коп. Вишни, абрикосы, персики и прочее продавались только в сезон и стоили дешево, не вспомню точно цену, поскольку у нас во дворах их росло достаточно. В Крыму же, помню, мы покупали прекрасные персики от 30 до 60 коп. за килограмм.
Как ни прискорбно об этом говорить, но масса денег у нас шла на выпивку, и не потому, что выпивка была дорогая. Хорошая водка («Столичная») стоила 2,87, прочая — от 2 рублей. В старом фильме «Бриллиантовая рука» на автомобиле номерной знак «28–70 ОГО». Сейчас, думаю, мало кто оценит этот юмор (до деноминации рубля в 10 раз в 1961 году «Столичная» стоила 28 руб. 70 коп.). С этими цифрами связан и еще один несколько утративший актуальность анекдот. При стоимости поллитровой бутылки 2 рубля 87 копеек «четвертинка» стоила 1 рубль 49 копеек. Кто-то дотошный подметил, что стоимость четвертинки (1,49) в степени стоимости поллитра (2,87) равно числу «пи» (3,14159) с точностью до четвертого знака после запятой (разность равна 0,00076). Остряки делали из этого вывод, что при коммунистах цены не берутся с потолка, а устанавливаются на научной основе. Водку пить было бы выгоднее, поскольку и спирт в ней чище, да и стоил он в ней дешевле. Но в нашем студенческом понимании водка была для уже совсем взрослых мужиков или для алкашей, а мы, студенты-интелигенты, пили «биомицин». Биомицин — это тогдашний довольно распространенный антибиотик, его, конечно, мы пили только по предписанию врача, а сами покупали портвейн «белый крепкий», по-украински это звучит «билэ мицнэ», отсюда и кличка «биомицин». Было еще и красное вино того же рода — «Солнцедар». Оно считалось гадостью, поскольку было забористым, посему имело презрительную кличку «чернила», но их тоже пили, когда не было «биомицина». Он стоил 1,22 рубля, «Солнцедар» — 1,62 рубля, совсем не уважаемые нами плодово-ягодные вина стоили от 90 коп., сухие вина, которые мы пили эстэтствуя или за неимением лучшего, стоили около рубля. (Цены за 0,5 литра с бутылкой, стоившей 12 коп. и принимавшейся зачастую в самом винном отделе.)
Досуг
Но сначала я хотел бы сказать просто о студенческих развлечениях. Если весь мир выстроят для занятий спортом, то я буду в этой очереди последним — это не моё. Мне бы на диване поваляться, книжку почитать. Тем не менее на первом курсе всех заставляли заниматься спортом. Я ходил в секцию классической борьбы и даже участвовал в каких-то факультетских соревнованиях, на которых, помню, одного положил на лопатки. Но то ли на этом соревнования и закончились, то ли потом меня положили на лопатки, этого я уже не помню. Дальше мои занятия спортом ограничивались лузганием семечек на стадионе «Металлург» во время ответственных игр родного «Днепра».
Но не все были такими, как я. О девчатах-баскетболистках я уже писал, Леша Дамаскин был мастером спорта по самбо, Бык тоже имел в этом виде спорта разряд, мой друг Коля Кретов не упускал случая погонять в футбол. Однако, пожалуй, самым массовым видом спорта, который настойчиво внедрял Толя Борисов, был преферанс, хотя и на него особенного времени не тратили.
Я изобрел спортивный тотализатор к чемпионатам мира по хоккею. Каждый участник должен был предсказать счет во всех матчах предстоящего дня. Утром я обходил участников (а играл порой чуть ли не весь поток) и собирал по 2 копейки за каждую неугаданную шайбу. По условиям тотализатора половину собранных денег получал тот, кто лучше всех угадал (меньше всех заплатил), по второй половине я назначал время и место встречи, и мы её совместно пропивали.
Проблем не было в посещении разных зрелищ — театров, концертов и прочего. Но дело в том, что я их не люблю. Конечно, когда я стал человеком женатым, то тут уже не только твое мнение главное, но в студенчестве я не помню, чтобы хоть раз посетил театр или концерт даже самого модного певца. Он же певец, в нем главное — его песни, они есть на пластинках и пленках, какого бы черта я ходил смотреть на его физиономию? Что, я не могу найти себе более интересное занятие?
Кино — это другое дело. Фильмы я смотрел все. Порой (а мне кажется, что и часто) мы пропускали занятия и шли смотреть что-нибудь в кинотеатр, который мы звали «Сачок» — от слова «сачкануть». В нем было два небольших зала, в которых шли повторные показы, так что можно было попасть на старый, но хороший фильм. Вывеска кинотеатра смотрела не на проспект (на него выходило кафе, которое тоже звали «Сачок»), и я как-то выяснил, что совершенно не знаю, какое у этого кинотеатра официальное название. Смотрю в «Вечерке» программы кинотеатров города, вижу, что в «Октябре» интересный фильм, но не могу вспомнить, где находится этот кинотеатр. Наконец, по адресу догадался, что это «Сачок». В любом случае в кино — и в компании, и с друзьями, и с девушками, и сам — я ходил очень часто.
Долгое время я прекрасно развлекался в СТЭМе института — в студенческом театре эстрадных миниатюр. Вообще-то я еще на заводе участвовал в самодеятельности в клубе и играл там в драмкружке. Причем играл в старой, еще времен войны юмореске глупого немецкого солдата, для чего мне из какого-то театра привезли настоящую немецкую форму с заплаткой на левой стороне груди — явно от пули или осколка. А тут узнаю, что и в институте есть что-то подобное. Прихожу к ним на репетицию во дворец студентов, спрашиваю, не примите ли в свою компанию? Руководил СТЭМом аспирант Владик Кацман, он просит меня для пробы спеть на мотив арии князя Игоря строчку из какой-то их миниатюры. Нет проблем, я тут же заорал: «О дайте мне диплом свободный, я место здесь сумею получить…» — за мотив не ручаюсь, с этим у меня всегда было не очень, а слова были такие. Все засмеялись, а Владик махнул рукой — принят!
Много лет спустя моя жена встретила однокурсницу, и та поинтересовалась, вышла ли Люся замуж. Жена сообщила, что вышла за Мухина из МЧ-67-3.
— За этого придурка! — ужаснулась однокурсница. Оказывается, она дала мне такую оценку по моим выступлениям в СТЭМе.
СТЭМ был хорош тем, что мы сами выдумывали репертуар, иногда «с чистого листа», иногда брали старые забытые фельетоны, скажем, В. Катаева, и переделывали их на новый лад. Чтобы было понятно, какие основания были у однокурсницы моей жены для столь грустного для меня диагноза, расскажу одну свою юмореску. Я принес из дому валявшуюся во дворе позеленевшую латунную ступку и тяжелый стальной пестик, а также найденную в столе старую неработавшую авторучку. На выступлениях в институте преподаватели сидели в первых рядах, и я подкараулил декана нашего факультета B.C. Гудыновича и, не вводя его в курс дела, попросил подыграть мне. В начале моего номера на сцену вынесли столик со ступкой и пестиком, а меня объявили фокусником. Я вышел и объявил, что мне для фокуса нужен какой-нибудь предмет, и попросил у декана авторучку. Гудынович вынул из кармана мою и подал. Я сунул её в ступку и начал долбать её пестиком, причем перестарался — от первого же удара осколки разлетелись по сцене, и мне пришлось их собирать и снова вкладывать в ступку. Поработав, я накрыл ступку носовым платком и сделал надлежащие пассы со словами «брэкс, фэкс, пэкс». Закончив, перевернул ступку, высыпал на столик обломки ручки и после паузы сопроводил это возгласом:
— Во, зараза! И раньше не получалось, и опять не получилось!
Хохмочка незамысловатая, но зал лег в хохоте, однако больше всего мне понравилось, что на кресле лежал и, вздрагивая животом, хохотал Гудынович, который, видимо, сам не ожидал такой развязки. А мне пришлось смеяться несколько дней, поскольку в коридоре ко мне все время подходил любознательный народ и наивно интересовался, правда ли, что я раздолбал авторучку самому Гудыновичу?
Но вообще-то у нас были и злые юморески, так что и в родном институте, и на гастролях в других вузах города нас принимали очень хорошо — смеялись, а это было главным.
Вспоминая, однако, те времена, прихожу к выводу, что, пожалуй, главным моим личным развлечением, более того, переходящим в увлечение, было чтение. Причем, судя по некоторым книгам, купленным уже тогда, я стал меньше увлекаться выдуманными произведениями и больше историческими или просто документальными. Надо сказать, что тогда практически все много читали: на нашем потоке всегда можно было найти кого-либо и даже несколько человек, с кем можно было обсудить даже очень узкую тему, например, особенности конструкции наших и заграничных самолетов, или оружия, или подробности какого-либо события. У них можно было взять почитать такие раритеты, которые далеко не во всякой библиотеке или спецхране найдешь.
Но я, пожалуй, буду лицемером, если закончу на этом и не освещу еще несколько тем о наших развлечениях.
О выпивке
Прежде всего следует сказать о наших пьянках, тема, вроде, и пустяковая, но и у нас времени и ресурсов пьянки забирали прилично. Однако задумываясь над тем, что было 35 лет назад, и над тем, что вижу сегодня, надо, пожалуй, отметить несколько различий.
Во-первых. И в нашей среде, и даже в среде немного приблатненной молодежи, с которой я тоже был знаком, совершенно не было наркоманов. В приблатненной среде я знал только одного по кличке «Куба», виртуозного карточного шулера при игре в буру, в которой, если кому неизвестно, правилами разрешен обман. Вот про него говорили, что он курит план, но ни что это такое, ни самого Кубу в обкуренном виде я не видел. Помню, однокурсник Жора Паршин рассказал мне анекдот, где было слово «таска». Я не понял смысла этого слова, Жора пояснил, что это «кайф» на жаргоне наркоманов, но для меня и наркоманы были где-то на Луне, да и смысл слова «кайф» мне пришлось вспоминать. Между тем это ведь Украина, вокруг и мака, и конопли было навалом. Более того, наркотические свойства мака всем были известны со школы, поскольку в одном из хрестоматийных произведений украинской литературы есть эпизод, в котором мать, чтобы усыпить больного сына, поит его отваром мака и, передозировав, травит ребенка. Но в те годы в кругу моих друзей не было никаких попыток получить кайф таким дешевым способом. Почему? Это вопрос.
Взглянем на него с другой стороны. Меня просто выворачивает, когда я вижу, как сегодня пьют пиво — «из горла» и на ходу. Это же неуважение к пиву, выраженное с крайним цинизмом! Мне вообще-то оно довольно безразлично, как и остальные напитки, сейчас я его пью по случаю и вряд ли чаще, чем 2–3 раза в год, но как же нужно деградировать, чтобы пить пиво «из горла» и на ходу!
Вот я вспоминаю пивбар «круглый» в парке Шевченко. Сдвигаем пару столов, кто-то собирает по другим столам пустые кружки, которые вечно в дефиците, кто-то занял очередь, я приметил нужного мужичка (за это гоняли), покупаю у него за 5 рублей огромную вяленую щуку, садимся, сдуваем пену, кромсаем мелкими кусочками щуку. Приятный напиток, приятная компания, приятный разговор — вот так надо пить пиво! Помнится, я тогда выпил 6 кружек, и это был мой рекорд. Но «из горла» и на ходу — это маразм!
Поражают эти американские придурки и их последователи в эсэнговии. Ну что такое барная стойка как не изобретение для умственно-недоразвитых идиотов? Сидят рядком, а как разговаривать? Как увидеть лицо собеседника, его реакцию? Да ведь они и не разговаривают! Сидит такой кретин и тупо пялится, как в его стакане с 60 граммами неочищенного самогона («двойное виски») тает лёд. Не спорю — человек, как и свинья, ко всему привыкает, можно, конечно, привыкнуть и к такому способу питья. Но зачем?! Чем старый был плох?
Возможно, нам потому и было наплевать на наркотики, что кайф как таковой в принципе никогда не был целью наших попоек. Мы не американцы, кайф для нас был всего лишь средством — средством развязать языки и убрать смущение перед каким-нибудь разговором, средство сделать этот разговор откровеннее, средством убрать застенчивость при знакомстве и при общении с еще малознакомыми девушками (поскольку слишком застенчивые и им надоедают, как эту застенчивость ни расхваливай). Мы были людьми общественными, пить в одиночку, чтобы просто «поймать кайф», для нас было противоестественно, поскольку это уже болезнь — это алкоголизм.
Были же мы, конечно, глупы и по глупости устраивали соревнования — кто кого перепьет. Не буду делать умный вид — и я допивался до состояния, когда последнее, что запомнилось, была кровать, которая вдруг встала на дыбы и ударила меня подушкой по голове. (Это мы как-то своей неразлучной четверкой собрались у Толика Шпанского черешен покушать — у него во дворе росли две прекрасные желтые черешни.)
Чтобы убедить самого себя в том промежуточном выводе, который хочу сделать, надо бы рассказать случай нашей студенческой пьянки побезобразнее, чтобы заодно передать и дух свободы того времени. Но начну, пожалуй, с путешествий.
Крым
Страна наша была огромной, свободной, с изумительно развитым транспортом, и передвигаться по ней на любые расстояния не составляло никаких проблем. На море мы ездили в Крым, так как он был ближе всего. Три рубля билет, ночь в поезде, и наша четверка — Кретов, Шпанский, Бобров и я — в Симферополе. Еще 30 коп. на троллейбус — и в Ялте. Хотя в первый раз мы были, по-моему, в Евпатории. Летом на Черном море был весь Советский Союз, в гостиницы мы даже не совались. На вокзалах ожидали те, кто сдавал кровати в частном секторе, стоило это рубль в сутки. Поскольку нас было четверо, то мы, как правило, получали комнату с четырьмя кроватями в каком-нибудь частном доме, набитом отдыхающими. В одном, помню, даже сын хозяев с молодой женой спал в коридоре за занавеской. Отдыхали мы, само собой, самым неправильным образом, хотя вставали в общем-то рано — по холодку. Шли в сторону пляжа, по пути из автоматов наливали 200 г «Рислинга», опустив монету в 20 коп., выпивали по стаканчику. Заходили в «Чебуречную», брали по 4 чебурека (по 12 коп.) и по два стакана какао (по 6 коп.). Перед этим на всякий случай заглядывали в «Шашлычную», и если там была машина, которую требовалось разгрузить, то мы быстро скатывали бочки с вином или снимали ящики и в оплату получали по миске уже снятого с шампуров и густо посыпанного луком мяса и по стакану сухого вина. У пляжа покупали рубля на 2 на всех персики, виноград, арбузы и т. д. — килограмма по 1,5 на брата — и шли расталкивать народ на песочке, чтобы расстелить и свои пляжные полотенца. Купались, загорали, знакомились, «писали пулю» до 6–7 вечера, потом, выстояв очередь, обедали горяченьким в столовой (около рубля) и шли немного отдохнуть до танцев. В этом тоталитарном СССР столько советских рабов отдыхало в Крыму, что даже в кино было невозможно попасть. Помню, что всего однажды, и то потому, что Коля встретил каких-то высокопоставленных друзей отца, мы попали в ресторан-варьете, в котором, впрочем, мне почему-то запомнились не выступающие девушки, а мясо в горшочках. (Удивительных встреч было много, к примеру, в одну из поездок мы встретили Валеру Малиновского, которого уже года два не видели и который приехал отдохнуть с женой из Актюбинска.)
Не помню уже где, но перед танцами мы подходили к киоску с мороженым. Толя, хранивший общую кассу на текущие расходы, давал киоскерше 5 рублей, а та разливала в четыре стакана две бутылки лимонной водки и добавляла из трехлитровой банки по соленому огурцу. Мы дружно «вздрагивали», закусывали и бодрые и веселые шли на площадку искать приключений. Вспоминается атмосфера какой-то семейной доверчивости, помню, в одну из первых поездок я познакомился с очень симпатичной девушкой откуда-то из Белоруссии (мы потом даже переписывались). Я приходил со свиданий уже заполночь с распухшими от поцелуев губами, но дверь дома была не заперта, я тихо входил, нырял под простынь и засыпал с надеждой, что меня начнут расталкивать не слишком рано.
Вообще-то для меня такой отдых на пляже был скучноват, запомнился только шторм. Спасатели ходили по берегу и кричали в репродукторы, чтобы никто не заходил в море. Но мы, конечно, полезли, правда, не совсем по-дурному: кто-то нам рассказал, как нужно действовать. Чтобы войти в море, нужно погнаться за откатывающейся волной и нырнуть в основание новой, тогда идущее понизу от берега течение вынесет тебя на глубину. Но главная проблема — выйти из штормящего моря. После того, как получишь удовольствие, взмывая на волне вверх и падая вниз, просто грести к берегу не стоит. Нужно энергично плыть только вниз, т. е. тогда, когда волна тебя поднимает, а когда она прошла, нужно отдохнуть, поджидая очередную. Когда же приблизишься так, что дно уже недалеко, то при откате волны надо нырнуть и цепляться за дно, стараясь, чтобы волна не сильно отнесла тебя в море. А при накате волны снова на ней двигаться к берегу. И настанет момент, когда при откате ты окажешься по колено в воде, вот тут надо, прыгая, удирать на берег изо всех сил, чтобы очередная волна тебя не сбила и не утянула в море. Но главное — не паниковать. (Впрочем, я не знаю случая, когда бы паника помогала.) Однако я не такой уж инструктор по плаванию, чтобы давать такие советы, посему мои рекомендации лучше уточнить у знающих людей.
В целом отдых стоил дешево. Питание, как вы видели, не стоило больше трояка, выпивка, сигареты, танцы — ну пусть еще два. Да рубль жилье, да четыре на совершенно непредвиденные расходы. Итого — десятки в сутки за глаза хватало. Мы отдыхали дней по 10, а в те годы для парня, не боящегося физического труда, заработать за год сотню на отдых — вообще чепуха, не стоящая упоминаний. Поэтому и был Крым в этом рабском, тоталитарном СССР набит народом безо всяких реклам и цивилизованных турагентств.
Ленинград
А в Ленинград мы ездили так. Организовывал поездку профком института: он оплатил проезд в плацкарте в оба конца и договорился с Горным институтом в Питере, чтобы тот дал нам ночлег. Это было в зимние каникулы, ехало нас вагона два, найти всем место в комнатах общежития хозяева не смогли, и человек сорок, в том числе и мы, спали в каком-то клубе: кресла поставили к стенкам и на сцену, а в зале расставили раскладушки.
Начали с Эрмитажа, отстояли очередь (в Ленинграде тоже было туристов — не дай бог!), начали основательно все осматривать с умным видом. Прошли залов 10 и поняли, что так дело не пойдет, что так мы за всю поездку только Эрмитаж и посмотрим. Поэтому на следующий день мы просто побежали по нему, останавливаясь только там, где что-то нас заинтересовало: в залах Петра I, у выставок старинного оружия, орденов, монет и т. д. К живописи я отношусь сугубо утилитарно; мне главное, чтобы похоже было на то, что изображено. И на картинах меня, само собой, интересовал сюжет, детали костюмов, быта, оружия, строений, и посему я рассматривал только такие картины, где это было, а лица мне были безразличны — я с этими людьми все равно не встречусь, что же мне на них пялиться? (Надо сказать, что во всех посещенных музеях меня впечатлил образ монашки, увиденный тогда же в Исаакиевском соборе в музее религии. Картина называлась, по-моему, «Искушение» или «Жизнь зовет», и художник очень четко передал в лице монашки, чего, собственно, ей хочется. Еще в Третьяковке я увидел где-то в углу за дверью портрет женщины пастелью, если не ошибаюсь, художницы Серебряковой, вот он тоже был какой-то такой, что не оставлял равнодушным. А вместо всех остальных картин, я предпочел бы увидеть фотографии.)
Когда меня спрашивали потом, что мне особо понравилось в Эрмитаже, я отвечал и сейчас отвечу — полы и двери. В те годы, кстати, ходить по Эрмитажу надо было в специальных тапочках, чтобы не портить изумительный по тщательности работы паркет. Такого же качества были и двери. Я просто восхищался столярами, которые так красиво сделали свою работу. На одном камине стояли две малахитовые колонны метра полтора высотой и сантиметров 15–20 в диаметре. На цоколе одной прочел, что мастер «Иван какой-то» делал эту колонну то ли 6, то ли целых 9 лет. Я не понял, поскольку не представлял, зачем так долго нужно было обтачивать, шлифовать и полировать этот кусок малахита. Остановил экскурсовода, спросил, и оказывается, что малахита таких размеров не бывает, что этот Иван сначала склеил из маленьких кусочков малахита эту колонну так, чтобы прожилки одного кусочка совпадали с другими, чтобы вместе эти кусочки составляли естественный рисунок, чтобы создалось впечатление, что это колонна из единого куска. Вот это работа! А то бегают, в уши жужжат: «Пикассо, Пикассо!» Работать надо, а не мазню за шедевры выдавать.
В начале 90-х я был во Франции, мы проезжали мимо Версаля и заехали в королевский дворец на пару часиков. Поразила убогость именно этих деталей дворца: полы были даже не паркетные, а из едва отфугованных дубовых досок, двери современной работы. Мебель — тоже (имеются в виду скамейки, чтобы посетители могли сидя любоваться картинами). Во всем дворце была единственная дверь той эпохи, и та была защищена оргстеклом, надо думать, чтобы посетители не испортили её. У нас во Франции переводчицей была внучка того самого командира броненосца «Потемкин», которого восставшие матросы утопили в 1905 году, и она пояснила, что французы чрезвычайные сквалыги. Во время революции они досконально разграбили дворец, но потом известный еврейский банкир Ротшильд скупил всю мебель и детали интерьера и преподнес Франции в подарок, но парламент отказался его принять, поскольку в этом случае за всем этим пришлось бы ухаживать — ремонтировать, чистить, охранять и т. д. В результате Версаль имел вид не королевского дворца, а заштатной картинной галереи, которую даже близко нельзя было соотнести с Зимним дворцом. Я еще тогда подумал — и они считают себя более цивилизованными, нежели СССР!
Однако тогда в Ленинграде меня поразил не Эрмитаж, а Музей инженерных войск и артиллерии, на который мы случайно наткнулись, посещая «Аврору». Я до того еще никогда не видел столь огромной и столь хорошо подобранной тематической коллекции. Мы его осматривали, пока нас не выгнали, но так и не успели досмотреть до конца даже артиллерию. Изумительный музей!
В последний день мы решили заняться покупками. Среди нас был профессионал, т. е. спекулянт. Дело это в студенческой среде считалось презренным и недостойным, у нас на потоке их не было, но я знал несколько человек, которые подрабатывали именно так. К примеру, ездили в Ригу, скупали там модные бюстгальтеры, а потом перепродавали их студенткам. Этот профессионал разложил карту Ленинграда и, как полководец, отметил все крупные универмаги и магазины, которые, с его точки зрения, нужно было посетить. Поскольку их было много, то он разработал самый короткий маршрут их посещения. Утром он нас поднял, чтобы успеть к открытию первого в списке, и мы двинулись. «Шоппинг» выглядел так: мы заскакивали в магазин и с удобной точки осматривали этаж: есть ли очереди. «Очередей нет, смотреть нечего!» — командовал профи, и мы поднимались на следующий этаж. Дело в том, что магазины были доверху забиты советским товаром, но этот товар можно было купить везде. А спекулянтам переплачивали за какой-нибудь импортный, модный товар. За такими товарами обычно выстраивались в очередь модники, вот наш профи их и разыскивал. Если были очереди, то мы подбегали и смотрели, что дают. Спекулянт комментировал, стоит ли это покупать, но делал это со своей колокольни. Мы же, а иногда и он, становились в очередь и покупали, но чаще галопом мчались по этажам, на метро — и в следующий универмаг.
Где-то на третьем универмаге мне это осточертело, мы с Витей Цокуром остановились и стали спокойно осматривать все подряд. Витька искал модную сумочку своей девушке и требовал от меня совета, в конце концов мы ей что-то купили на мой вкус, а потом увидели очередь за импортными сумочками. Бедный Виктор взял еще одну, и теперь пытался первую кому-нибудь продать, но женщины отказывались, а меня, советчика, это огорчало: на мой взгляд, сумочка была вполне и даже лучше импортной, но, правда, такие сумочки свободно стояли в отделе кожгалантереи. В конце концов Витя решился осчастливить подругу двумя сумочками сразу. Я же купил к джинсам красивую рубашку из тонкого поплина в клеточку и осеннее полупальто из нейлона ленинградского производства. Оно, между прочим, служило мне лет 15, правда, не столько из-за своего качества, сколько из-за особенностей климата Северного Казахстана.
В последний день поезд уходил днем, и Толик Борисов уговорил плюнуть на бесплатный проезд, вечером «хорошо посидеть», а улететь назавтра самолетом. Меня это соблазнило, поскольку я еще не летал. Мы купили билеты, напротив общаги был пивной яарек, но слякотная погода сменилась морозцем, и хотя продавщица подогревала пиво в чайнике на электроплите и доливала в кружки, чтобы не простудить клиентов, но пить на улице не хотелось. Находчивый на такие вещи Брат навешал лапшу на уши кладовщице общежития необходимостью постираться и выпросил у нее на эти цели два чистых 12-литровых алюминиевых ведра, вот в них-то мы и купили пивца. К пивцу была балтийская салака, и мы, человек 8, славно посидели. Не помню, во что мы разливали пиво из ведер, может, прямо из них и отпивали (нас бы на это хватило), но проснулись мы поздновато, было уже не до завтрака, и мы поехали на аэровокзал, где едва успели зарегистрироваться на наш рейс.
Автобус из аэровокзала привез нас в аэропорт минут за 20 до вылета, и Брат заявил, что мы вполне успеем позавтракать и опохмелиться в местном буфете. Я благоразумно отговаривал словами, услышанными как-то от отца, что на поезд лучше приехать на час раньше, чем на минуту опоздать, но Борисов в таких случаях на благоразумных людей внимания не обращал и увел несколько человек с собою в аэропорт. Кончилось это тем, что, когда наш ТУ-134 повернул, чтобы вырулить на взлетно-посадочную полосу, я в иллюминатор увидел, что вслед за самолетом бегут наши ребята. Впереди бежал Брат, губы его энергично шевелились, и было понятно, что он материт летчиков и требует остановить самолет, за нашими ребятами бежали два работника аэропорта и тоже явно не стихи декламировали.
Толя Борисов был большим мастером добавлять к самым невинным мероприятиям приключения, причем совершенно ненужные. (Прилетели они в Днепропетровск следующим рейсом.)
Москва
А в Москву я в первый раз попал так. Мы были на преддипломной практике в Челябинске. Когда я туда улетал, мой руководитель дипломного проекта, все тот же Е.И. Кадинов, дал задание разузнать насчет продувки жидкой стали через дно ковша. Сталь продувается самыми разными газами, но до этого продувка осуществлялась только фурмой — медной трубой, которая охлаждается водой, чтобы не расплавиться при погружении в жидкую сталь. Возьмите стакан с водой и через трубочку для коктейля дуйте в воду воздух — вот так примерно в ковш с жидкой сталью вдувается кислород, аргон или различные газовые смеси. А тут получили сведения, что челябинцы продувают через дно ковша, но как? Ведь если сделать в футеровке дна любые отверстия, то в него немедленно зальется жидкая сталь. Это, само собой, и мне было интересно.
Однако в техотделе ЧМЗ мне ничего не сказали, мотивируя это тем, что способ продувки через дно на тот момент патентовался, вернее, на него оформлялось авторское свидетельство на изобретение. Думаю, что поэтому я поступил на практику не в цех со 100-тонными электросталеплавильными печами, которые закладывал в свой дипломный проект, а на шихтовый двор в цех, в котором была внедрена эта самая продувка через дно. Цеховые мастера мне её показали и сказали, что ковш имеет двойное стальное дно, в полость которого и подается аргон, но как он дальше проходит через футеровку, внятно не объяснили. Однако как-то на шихтовый двор в мою смену вышел постоянный рабочий, и начальник смены перевел меня на работу подручным каменщика. Дня три я помогал тому футеровать ковши, в том числе и нужные. Я прекрасно рассмотрел всю конструкцию, понял принцип и сделал эскиз. Главным были пористые швы футеровки дна ковша, а получались они при кладке шамотного кирпича на специальном растворе, состоящем из корунда и жидкого стекла. Я записал рецепт этого раствора, пачкаться жидким стеклом, довольно известным материалом, не стал, отметив его плотность, а вот образцы корунда килограмма по полтора отобрал и вынес с завода.
Кроме этого цех плавил исключительно редкие стали, и на шихтовом дворе я готовил к даче в печи чуть ли не всю таблицу Менделеева. Во всяком случае, я вынес с завода и образцы, по-моему, ниобия и тантала — прутики сечением где-то 25x25 мм и весом килограмма по 3 каждый. Мне хотелось привезти их на кафедру, чтобы преподаватели могли не просто говорить о том, что эти металлы легируют сталь, но и показать студентам, как эти металлы выглядят. Короче, по своей хохлацкой жадности, я к отъезду из Челябинска натаскал в свою комнату в общаге много разного груза, но проблема была в том, что сам я любил путешествовать налегке (что в жизни у меня случалось очень редко).
Стал я просить приятелей по комнате разобрать мой груз, но они отказались — сам наворовал, сам и вези! Пошел к Игорю Тудеру, но Барс тоже отказался, мотивируя это тем, что полетит не прямо в Днепропетровск, а сначала в Москву, где родственники пообещали устроить его на несколько дней в гостинице. Мне эта измена интересам кафедры совсем не понравилась, я подождал, пока Барс выйдет из комнаты, взял прутки ниобия и тантала и аккуратно заложил ему в портфель (тогда модно было ездить с большими портфелями). Квадратные прутки как влились в складки дна портфеля, а сверху я их прикрыл уже сложенными Игорем вещами. Я полагал, что в Днепропетровске, когда он их обнаружит, то и принесет на кафедру.
(Идея оказалась неудачной. В Москве Барс, оказывается, вместо того, чтобы ходить с легкой сумочкой, таскался с портфелем, а когда стал портфель переукладывать, чтобы сложить покупки, то обнаружил мою закладку и выбросил ее. Еще и ругался, что три дня не мог понять, почему у него к вечеру «руки отваливаются».)
В результате я рассказал ребятам, что Барс собирается несколько дней погулять в Москве. Загорелся Вовка Дробах — Бык, я не знаю, почему он не сумел воспламенить Толика Борисова (а то бы это путешествие было полно приключений), поскольку Брат все же собрался лететь прямо в Днепропетровск. И тогда Бык налег на меня. Мне, конечно, было интересно посмотреть Москву, но ведь по территории СССР постоянно перемещались миллионы человек ежедневно, купить билет было трудно, а уж об устройстве в гостиницу, да еще в Москве, и мечтать не приходилось. О своих родственниках в Москве я тогда не знал, ночевать же несколько ночей на вокзале, стоя или приткнувшись задом к подоконнику, не хотелось, однако Бык уверял, что у него все схвачено. Во-первых, у него в Москве живет такой верный друг, что почти брат, прошлым летом они дома у Бычка пили, и тот слезно просил Вовку навестить его в первопрестольной. Во-вторых, у Быка в Москве живет двоюродная сестра, которую он, правда, никогда не видел, но которая его очень любит, поскольку еще в раннем детстве очень любила его на руках носить. Зная, что Брат с Быком отчаянные авантюристы, я на всякий случай заглянул Бычку в записную книжку — там действительно были два адреса, начинавшиеся словом «Москва».
«Дом Коммуны»
Купили билеты и полетели с Бычком в Москву. Перво-наперво купили карту, отыскали адрес его верного друга и поехали. Это оказалась коммунальная квартира, набитая народом, но никто из жильцов и слыхом не слыхивал о верном друге Быка. Мне это не понравилось, я предложил поехать на вокзал, сдать вещи в камеру хранения, самим посетить Кремль и что еще успеем, а вечером постараться выехать в сторону Днепропетровска.
Однако Бык настаивал на поездке к любимой сестре, которая его в детстве на руках носила. Адрес у него был записан так: «Орджоникидзе, 8/9» и подозрений не вызывал, поскольку складывалось впечатление, что это Вовка для скорости сократил «Орджоникидзе, дом 8, квартира 9». Нашли на карте и поехали, вышли на Ленинском проспекте и расспросили дорогу. Заворачиваем за угол и видим большую круглую железобетонную башню без окон и дверей — точь в точь силос зернового элеватора. На башне прилеплена табличка «ул. Орджоникидзе», а ниже большими цифрами обозначено «8/9».
— Э, Бычок, а сестра-то у тебя почище друга…
Мы зашли со стороны, это оказалась не башня, а округлый торец здания, всем своим видом напоминавшим какой-то завод. Во-первых, здание было очень длинным, во-вторых, в центральной части в него были вписаны три круглые башни, тоже без окон. Но главное, на этажах, а их было 7 или 8, окна были как у нежилых зданий: вдоль этажей на всю длину тянулись остекленные простенки — ну вылитая швейная фабрика или радиозавод! Здание стояло на опорах и под ним можно было пройти. Мы и прошли: из центра большого здания (из центральной башни) перпендикулярно выходило здание поменьше и заканчивалось еще одним зданием поменьше, но уже параллельно основному. И все эти здания имели вид первого, а на маленьком параллельном тоже были закруглены торцы. Через застекленный первый этаж виднелась проходная с турникетами и будкой, в которой сидела вахтерша. Мимо шел мужик, мы его спросили:
— Это что за фабрика?
— Это не фабрика, это «Дом Коммуны».
— А что тут делают?
— Студенты тут живут.
Фортуна, похоже, поворачивалась к нам передом. Мы двинулись в проходную, и Володя назвал фамилию сестры вахтерше. Та сначала не поняла, так как мы ставили ударение по-украински — на первом слоге, а потом подтвердила, что та действительно здесь Живет и даже сейчас в общаге. Вовка побежал в указанном вахтершей направлении, а я стал рассматривать вывешенные в коридоре стенгазеты и распоряжения и почти немедленно выяснил, что мы в общежитии МИСИСа — Московского института стали и сплавов — родственного ДМетИ института, готовящего те же самые специальности. Удача нам улыбалась — теперь уж мы не пропадем! Прибежал Вовка.
— Бросай вещи, побежали за бутылкой!
Мы купили бутылку какого-то хорошего (дорогого) вина, коробку конфет, что-то еще закусить и вернулись в общагу. Сестра Быка уже нажарила картошки, и мы славно перекусили. Володя Дробах был приземистый здоровяк, который, когда сердился, смотрел исподлобья, за что и получил от Борисова кличку Бык. А его сестра оказалась довольно высокой, стройной и очень симпатичной девушкой, и хотя она была замужем за длинным студентом, но учились они всего на третьем курсе, то есть она была младше Быка минимум на два года. Я, конечно, потешался над ним, ибо получалось, что если искомая сестра носила его в детстве на руках, то тогда мы не ту сестру отыскали. Но тоже хорошо получилось!
Теперь следует описать «Дом Коммуны», каким я увидел его в 1972 году. Построен он был до войны и был задуман архитектором как прототип жилья будущих жителей Коммунизма. В нем были огромными все общие помещения — коридоры, столовые, фойе и прочее. В нем тогда был свой кинотеатр и два магазина. Предполагалось, что люди будут все время вместе, а посему им нужно пространство. А вот в своих комнатах они будут только спать. Поэтому собственно жилье в главном здании имело вид длиннющего коридора, по обе стороны которого были расположены комнатушки размером с купе железнодорожного вагона, у них и двери так открывались — откатывались вбок. Мало этого, «Дом Коммуны» в плане имел форму двухмоторного самолета: большое здание олицетворяло крыло, почему и торцы были закруглены, а три башни, встроенные в него, обозначали кабину и два мотора. Какого-то полезного смысла башни не имели, в них была винтовая даже не лестница, а аппарель — просто наклонный пол. Студенты пользовались обычной лестницей, а мы с Быком из любопытства спустились по этим «моторам», и там на каждом витке стояло по парочке целующихся студентов — и только.
Поперечное здание изображало фюзеляж, в нём, если память мне не изменяет, и располагались общественные помещения, а маленькое продольное здание было хвостом, на тот момент сохранившимся еще в первозданном виде. Под одной стеной этажа в три, а то и в четыре были эти комнатушки, добираться к которым надо было по крутым железным лестницам и узким проходам вдоль дверей. С пола эта стенка имела вид внутренностей машинного отделения большого корабля. Вдоль противоположной стены на полу было несколько кухонных плит и раковин — здесь готовили. Пол был кафельный, от стенки с плитами до лестниц жилых «кубриков» было метров 8, поперек была натянута волейбольная сетка, две девушки через нее играли в бадминтон. Окон «кухонная» стена не имела, весь «хвост самолета» освещался сверху, поскольку крыша была устроена по типу фонарей в цехах. Мы вышли на балкон — на проход вдоль комнатушек — и я обратил внимание, что с самого низу до потолка идут трубы, которые под потолком заканчиваются воронками. Я поинтересовался у супруга, зачем это. Оказалось, что по замыслу архитектора, когда крыша начнет течь, эти воронки надо подставлять под струи и собирать воду внизу в специальном резервуаре. При этом в «Доме Коммуны» не были предусмотрены душевые помещения, и МИСИС выдавал студентам талоны на бесплатное посещение бани. Видимо, этот предусмотрительный архитектор предполагал, что при Коммунизме мыться не имеет смысла.
Живущие там студенты утверждали, что когда «Дом Коммуны» построили, то он немедленно был заселен неизвестно кем, в том числе и большим количеством уголовного элемента, поскольку в нем очень легко было организовать полную темноту, разбив лампочки в коридорах, после чего скрыться среди массы живущего народа. По легенде, именно «Дом Коммуны» послужил Ильфу и Петрову прототипом «общежития имени монаха Бертольда Шварца». В войну в «Доме Коммуны» прятались дезертиры, а после войны его всучили МИСИСу под общежитие. Тот долго и безуспешно боролся за наведение порядка и, в конце концов, начал реконструкцию. В то время все перегородки в «крыле самолета» уже были снесены, вдоль одной стены построили обычные четырехместные комнаты, вдоль другой шел коридор, освещаемый из окон дневным светом. Но до «хвоста самолета» МИСИС еще не добрался, и это было большим благом для студентов-молодоженов. Снять комнату в Москве было дорого (около 30 рублей или больше, не помню точно), а МИСИС предлагал эти конурки молодым то ли за 2, то ли за 4 рубля в месяц, правда, с условием, что муж сам её отремонтирует. И мы действительно видели, как в двух или трех комнатках молодые мужья делали ремонт — вили себе семейное гнездышко. У ребят в комнатке супруг сделал главное — кровать, которая как раз была по длине одной из стен, и полати над ней, чтобы хранить вещи. В небольшом проходе между кроватью и стенкой было что-то вроде столика или шкафчика. Нам вчетвером было тесновато: крайнему надо было тянуться, чтобы достать вилкой до сковородки с картошкой. Но все это было чепухой по сравнению с тем, что мы с Володей уже Имели в Москве пристанище.
Жили мы так: утром завтракали у молодых и уезжали смотреть Москву, вечером, после ужина у молодых, супруг вел нас в главное здание — туда, где жили холостяки. Мы шли по коридору, он заглядывал в двери и спрашивал, есть ли свободные койки. На первые пустые мы и ложились. В одну из ночей меня согнал хозяин койки, который неожиданно вернулся, но он же, правда, и нашел пустую кровать в другой комнате.
Кстати, среди студентов бытовало мнение, что архитектор «Дома Коммуны», по одной версии, стал ректором Московского архитектурного института, а по другой — его расстреляли. Как бы то ни было, но мы с Дробахом остались ему благодарны.
В день приезда мы рванули посмотреть Кремль, но было уже поздно, и из Кремля выпроваживали посетителей, однако у Дворца съездов торговали с рук билетами во Дворец, и мы купили, чтобы посмотреть это сооружение изнутри, раз уж мы сюда приехали. Шла опера «Риголетто», мы сидели где-то сзади, далеко на сцене какие-то персонажи что-то голосили, мелодия была скучной, слов не разобрать, короче — нас разбудили зрители, идущие на антракт. Мы мигом к ним присоединились, набрали в буфете бутербродов с черной и красной икрой, по паре бутылочек пива, удобно устроились за столиком и уже начали думать, что мы не напрасно сюда попали, но работницы буфета стали требовать, чтобы мы шли слушать это чертово «Риголетто». Спорить с ними не хотелось, посему мы допили пиво и доели бутерброды на подоконнике в фойе. Потом походили, все осмотрели, удивились, до чего красиво смотрелись туалеты, спустились в гардероб, там вместе с гардеробщиками еще немного посмотрели какой-то детектив по телевизору, оделись и поехали в «Дом Коммуны», закончив этим первый день пребывания в Москве.
Потом мы уже утром поехали в Кремль, все осмотрели, но в очереди в Алмазный фонд стоять не захотели. А в Мавзолей я не пошел по принципиальным соображениям: я слишком уважал (и уважаю) Ленина, чтобы в толпе откровенных зевак смотреть на его останки, идею с бальзамированием его тела я считал и считаю очень неудачной, особенно если представить, какие уроды ходят в Мавзолей поскалить зубы.
По магазинам как знаток этого дела нас возила сестра Быка, посему мы как-то по окраинам объехали все фирменные магазины стран народной демократии, но что мы там покупали, не помню. Помню, что она уговорила меня купить шампунь, а он только начал появляться на рынке СССР, и был в тюбиках, как зубная паста. До этого мы мылись кусковым мылом, и какого-то преимущества шампуня я в упор не видел. Потом как-то летом я помыл им под рукомойником голову, а отец утром попытался почистить им зубы и ругал меня, что я разбрасываю свои вещи где попало, ну я этот тюбик и выбросил, чтобы не путался под руками.
Вообще-то я давно хотел купить толстый свитер, но без воротника или с вырезом, чтобы можно было выпускать воротник рубашки или носить её с галстуком, который я научился завязывать, надо сказать, еще на первом курсе. Но он никак не попадался, все свитера были со стоячим воротником. А у меня короткая шея, и голова быстро превращает такой воротник в некое подобие толстой веревки на шее. Родители знали о моем желании, но тоже не могли подобрать мне нужной вещи и в конце концов купили мне толстую распашную кофту. Она мне не совсем нравилась, поскольку имела все же некий стариковский вид. Поэтому я шарил в Москве по всем отделам трикотажа, товара было много, но все не то. И я решил купить самые, на мой взгляд, красивые кофты отцу и матери, хотя, наверное, их можно было бы приобрести и в Днепропетровске, но не возвращаться же из столицы с пустыми руками. (А проблему со свитерами мне решила уже жена, которая покупала свитер со стоячим воротником, распускала его и вязала маленький.)
В ту первую поездку в Москву наиболее запомнилось посещение ВДНХ. Помимо, разумеется, павильона космонавтики мы, само собой, внимательно осмотрели и павильон металлургии — как-никак, а без пяти минут инженеры. Приятно было видеть, что наши старшие коллеги умели, особенно в цветной металлургии. Да, в те годы страна гордилась не только гнусными уродами, не слезающими с телевизионных экранов, но и своими мастерами…
На ВДНХ продавали прекрасные сочные шашлыки, мы взяли по паре, отошли к пивному ларьку и взяли и по паре пива. Продавщица была веселой и бойкой, мы сказали ей, что из рук такой веселой продавщицы и пиво в два раза приятней, на что она сказала фразу, которая запомнилась мне на всю жизнь и частью которой я воспользовался для названия 8-й полосы газеты «Дуэль»: «В стране Советов места нет унылым рожам!»
Киев
Теперь о безобразной пьянке. Вообще-то, их было много, но эта запомнилась по длительности и размаху с точки зрения географии.
Началось все в Запорожье, где мы проходили летнюю практику и где я на Запорожском ферросплавном заводе подрабатывал дозировщиком в цехе безуглеродистого феррохрома. Профсоюз искал желающих съездить на экскурсию в Киев. Он оплачивал автобус и экскурсовода, а питаться надо было самому. Автобус выезжал в пятницу в обед, приезжал в Киев в субботу утром, а уезжал из Киева в понедельник утром и приезжал в Запорожье в тот же день к ночи. Меня и, по-моему, Толика Шпанского эта поездка соблазнила, и мы записались.
Автобус должен был подъехать часам к 12 прямо к нашему общежитию, чтобы забрать нас и других работников завода, а часов в 11 явились Брат, Бык и Потап с «биомицином», чтобы проводить нас в путешествие, вместе с ними или отдельно — уже не помню — подошел и Цал — Цезарь Кацман. Провожают, а автобус запаздывает, пришлось бежать в магазин, потом ещё. Провожающие при этом отчаянно нас убеждают, что ехать не надо, что это глупость, что в Запорожье можно провести время гораздо лучше, а в этом Киеве ничего интересного нет. Короче, когда подъехал автобус и выяснилось, что у него все заднее сидение пустое, то Брат, Бык, Потап и Цалик решили, что отпускать нас, неразумных, в такое опасное путешествие одних нельзя, поэтому залезли в автобус вместе с нами. При этом опытные Брат с Бычком сбегали в свои комнаты и загрузили в автобус свои постели вместе с матрасами, несмотря на протесты дежурной по общежитию. Так мы вместе с провожающими и поехали.
Мы с Толиком Шпанским осмотрелись. В автобусе было до половины пассажиров — супружеские пары, а остальная половина — девушки и молодые женщины, молодых людей представляли только мы шестеро. Это было довольно интересно, и мы с Толяном начали знакомиться, прощупывать почву и наводить мосты, а наши «провожающие» сидели охламонами сзади на своих матрасах и «писали пулю», требуя нашей явки, когда у них получался мизер и они разливали. Ехать было километров 700, мы несколько раз останавливались, какой-то добродушный металлург угостил нас техническим спиртом, который я пил первый раз и после которого осталось неприятное ощущение того, что он, якобы, потек по подбородку.
Короче, мы с Толиком хорошо раззнакомились с попутчицами, сидели уже рядом с симпатичными девушками, что было особенно интересно, когда наступила ночь. Правда, в такой тесноте даже поцелуи были бы вызовом обществу, но ведь у нас впереди было еще две ночевки где-то на просторе, так что я был доволен, что поехал любоваться достопримечательностями матери городов русских. А наши охламоны позорно «писали пулю», и все мои призывы к их совести и требования сделать переезд до Киева не столь скучным и остальным девушкам в автобусе успеха не имели.
Утром в Киеве подъехали к турбюро, которое располагалось у какого-то рынка, позавтракали в столовой, взяли экскурсовода и поехали по маршруту. В тот день запомнился мне только какой-то собор, по-моему, Владимирский, и мозаичная икона Божьей матери вверху под куполом с пояснениями экскурсовода, что для того, чтобы снизу фигура смотрелась пропорционально, художник должен был выложить смальтой непропорционально большие голову и верхнюю часть туловища.
Остановились пообедать в какой-то столовой, с этого и начались приключения. Брат с Быком презрительно запротестовали и потребовали пойти и найти приличное кафе. Кафе вообще-то в Киеве было много, но мы как-то так шли, что минут 15 не встретили вообще никакой забегаловки, потом наткнулись на заведение «Кулиш» — это такая украинская степная то ли жидкая пшенная каша, то ли густой пшенный суп. Пришлось довольствоваться кулишом и жареной украинской колбасой на второе. К несчастью, в заведении оказалось пиво. Мои доводы, что нас ждут остальные в автобусе, были тщетны, То лик Борисов нагло заявил, что подождут. Выпили по две бутылки, пошли обратно и выяснили, что нашла коса на камень: в автобусе оказался лидер, еще более наглый, чем Брат, и этот лидер решил, что это не автобус нас, а мы автобус подождем. Они уехали с нашими вещами, не оставив для нас сообщения и нагло уверенные, что никуда мы от этой столовой не денемся, пока они пару часиков погуляют по магазинам.
А надо сказать, что до этого в Киеве была прекрасная солнечная погода, но как только мы выяснили, что автобус нас бросил, небо немедленно затянуло тучами, и пошел грозовой дождь. Половина из нас была в рубашках с длинными рукавами, половина, в том числе и я, — с короткими, посему нам сразу стало неуютно. Ждать автобус нам, конечно, и в голову не приходило, и мы бросились его искать. В СССР промтоварные магазины по воскресеньям не работали — должны были отдыхать все, поэтому мы без труда вычислили, что наши попутчики поехали за покупками. Но в какие магазины Киева? Мы бросились в ЦУМ, но там их не было. Съездили еще куда-то — пустой номер.
Тут вспомнили, что киевский экскурсовод советовал остановиться на ночь на турбазе Гидропарка. Мы сориентировались по карте: Гидропарк оказался островом на Днепре практически в Центре Киева, на нем была станция метро. Мы поехали туда. Турбаза оказалась частью острова со стоянками для автобусов и массой брезентовых палаток. Администрация турбазы размещалась на вытянутой на берег бывшей самоходной барже, мы поднялись по сходням и в надстройке нашли директора, который сообщил, что да — он недавно принял автобус из Запорожья, но сейчас автобус уехал в город на экскурсию. Мы успокоились, поскольку теперь осталось только подождать. Оказалось, что и ждать есть где — с другой стороны надстройки был буфет, а в нем торговали «биомицином». На палубе баржи были сколочены длинные столы со скамейками, мы устроились, собираясь скоротать время за вином в интеллектуальной беседе.
Через какое-то время, когда Бык и Брат пошли покупать очередную партию бутылок, от буфета послышалась ругань — к нашим ребятам приставали трое жлобов хулиганистого вида, и Брат уже кого-то хватал за грудки, а Бычок насупился и прищурился, явно прицеливаясь. Мы быстро окружили жлобов, но те, увидев, что им не светит, почему-то ретировались в помещение администрации турбазы. Оттуда вышел директор и начал нас выгонять, мотивируя тем, что он ошибся и что автобус, оказывается, был не из Запорожья, а из Воронежа. Все возвращалось на круги своя, и мы начали выяснять, где еще останавливаются автобусы с туристами, приезжающими в Киев. Нам сказали, что, возможно, в кемпинге. (На самом деле оба раза наши попутчики ночевали, разбивая палатки в лесу под Киевом.)
Мы сориентировались по уже размокшей карте (прикрывались ею от дождя) — возле кемпинга тоже была станция метро. Мы поехали, в кемпинге наших не было. Тогда я собрал у ребят двушки (двухкопеечные монеты, использовавшиеся для звонков из телефонов-автоматов, причем время разговора на 2 копейки не лимитировалось) и начал звонить сначала в справочную, а потом в турбюро в надежде, что наш автобус мог подъезжать к этому известному нам ориентиру. Но в турбюро ответили, что экскурсовод вернулся, но где сам автобус, они не знают. Я объяснил ситуацию и попросил устроить нас на ночлег на одну ночь, а завтра мы уж сами уедем из Киева. Приятный женский голос выяснил, сколько нас, потом с кем-то посовещался и сообщил, что если мы подъедем до 9 вечера — до их закрытия, то они нас на одну ночь разместят.
Вопрос, вроде, разрешился, и мы поехали, но оказалось, что эта линия метро проходила через Гидропарк, и Брат вдруг заявил, что нам нужно тут сойти, поскольку на турбазе и буфет работает до 10 вечера, и «биомицин» в нем есть. Мои доводы здравомыслящего человека, что нам сначала нужно увидеть свои кровати, а потом уже ехать хоть в Гидропарк, хоть в «Интуристе» коньяком залиться, имели успех только у Шпанского и Кацмана. Брат опять нагло заявил: «Они нас подождут», и Дробах с Потаповым были с ним. Подъехали к остановке «Гидропарк», мы со Шпанским и Цалом заслонили своими телами двери, но они прорвались. Нам пришлось тоже выйти и идти на эту проклятую баржу. Я встал в очередь, но оказалось, что «биомицин» уже весь выпили, остался только «Солнцедар», и я взял всего три бутылки. Брат с Быком возмутились и пошли докупать, а рядом сели два парня, третий пошел в буфет. Мы с ними заговорили, отвечали они на ломаном русском — оказались эстонцами. Мы им налили из своих бутылок для улучшения произношения, пришел с бутылками их третий — они налили нам. Пришли Брат с Бычком — мы налили им. Они — нам, мы — им.
Была уже ночь, и тут я как-то стал плохо понимать: смотрю, а с эстонцами я сижу один, а снизу, с дорожки вдоль баржи, несется ругань, по которой можно определить, что Брат и Бык уже дерутся. Я рванул к ним, но, сбегая по сходням, забыл об инерции, и меня пронесло мимо дерущихся и занесло в кусты. В них оказался Цезарь, мы спина к спине какое-то время отбивались от жлобов, которых оказалось почему-то очень много, но тут женщины догадались и начали кричать: «Милиция, милиция!»
(Дело не в милиции, это сейчас в Москве на каждом углу мент с пистолетом, а за каждым поворотом омоновец с автоматом — свобода, блин, свобода! А тогда, помню, в Ялте в последний день отдыха задрались мы на танцах с курсантами какого-то местного морского техникума, вышли с танцев осторожно, но никого не было, а потом, уже в темной аллее, меня какой-то морячок сзади развернул и так врезал с правой в челюсть, что я улетел в живую изгородь и потом пару недель не то что жевал, а говорил с трудом. Так вот, мы тогда начали вспоминать, сколько мы в Ялте за 10 дней видели милиционеров, и выяснили, что за это время видели одного полковника. И всё!
Но драку не только надо начать, её нужно и закончить, а как закончить, если ни одна сторона не сдается? Вот тут и нужна женщина, которая начнет криком предупреждать: «Милиция!» Тогда можно без потери чести разбежаться, вроде, потому, что иначе «мусора всех в ментовку загребут».)
Мы с Цалом выскочили из кустов, но дерущихся как корова языком слизала. Мы начали бегать вокруг — никого нет! Мы побежали к станции метро, но и там пусто. Мы начали прочесывать турбазу вдоль палаток — не валяются ли тут где-нибудь наши товарищи — никого нет!
А надо сказать, что когда мы сидели в буфете и были еще не очень, то подсел к нам мужик, мы ему налили, он выпил, и выяснилось, что он водитель автобуса. Брат его и попросил пустить нас в свой автобус переночевать, поскольку пассажиры автобусов ночевали в палатках, но водила нагло ответил, что он уже договорился с бабой, приведет её в салон трахать, а мы ему будем мешать. Так вот, идем мы с Цалом мимо автобусов, а этот водила тащит в автобус женщину, а та сопротивляется. Может, и не стоило этого делать, да жаль было упускать такой случай, мы водилу немного поколотили. Обычно женщины заступаются за бедолаг, а эта просто ушла, значит, мы не ошиблись.
Бросили водилу лежать под автобусом, а сами пошли дальше, и тут я чувствую, что на пределе, что еще чуть-чуть, и проклятый «Солнцедар», которым я залился по самые ноздри, сейчас меня вырубит. Я залез в кусты и насильно слил всё, что еще не успело усвоиться организмом — полегчало, но не очень. Оздоровительные мероприятия следовало продолжить, и я направился к Днепру, чтобы искупаться и немного протрезветь. Цал меня отчаянно отговаривал. Вышли на берег, я разделся, но мысль работала и сообщила мне, что, если я искупаюсь в трусах, то они долго останутся мокрыми, и по такой свежей погоде я окоченею. Я начал снимать трусы, но Цал почему-то за них уцепился, не давая мне этого сделать, однако он тоже был пьян, и я победил.
Гроза закончилась, небо было без облачка, погода тишайшая — на воде ни рябинки. Ярко светила полная луна, оставляя на поверхности воды четкую лунную дорожку. Я разбежался и головой вперед, красиво так, в эту дорожку и прыгнул. И почти не замочился, так как в этом месте оказалась какая-то мель, и воды было сантиметров 10. Плыть было нельзя — живот за дно цеплялся. Я встал на четвереньки и по лунной дорожке полез в поисках места поглубже. Метров 30 лез, а чертова мель не кончается, наконец уровень воды стал как в ванне, и я лег немного отмокнуть. На берегу метался Цезарь с криками: «Вернись, утонешь!» Постепенно в голове прояснилось, стало гораздо лучше, я встал и вышел на берег. Тут-то я и выяснил, почему Цал пытался не дать мне снять трусы. Я-то думал, что нахожусь на пустынном берегу, а оказалось, что я в центре смотровой площадки: вокруг были вкопаны лавочки, лежали перевернутые шлюпки. С этого места туристам полагалось любоваться красотами Днепра и огнями ночного Киева. И, надо сказать, они это и делали в довольно большом количестве. А я им своим стриптизом добавил в это полотно Куинджи свежий мазок. Ужас!
Я оделся как по тревоге, и мы быстренько очистили сцену, но, удаляясь от места моего позорища, мы вновь наткнулись на шофера, которого недавно слегка побили. Он либо протрезвел, либо еще усугубил, поскольку, узнав нас, начал извиняться и пригласил в свой автобус переночевать. (Вот что значит правильно выбранный прием в воспитательной работе!) Мы, разумеется, согласились, в автобусе было жутко холодно, мы поснимали со спинок сидений плюшевые чехлы, в одни залезли ногами, другие натянули на себя сверху и так клацали зубами часов до 5 утра, когда от холода стало уж совсем невмоготу.
Мы вышли из автобуса, солнце едва поднялось над горизонтом, Цал взглянул на меня и начал хохотать. Я тоже посмотрел на место, куда он смотрел, но смешно мне не стало: оказывается, на моей светло-голубой махровой бобочке прямо на животе красуется огромное фиолетовое пятно — сюрприз от «Солнцедара». Я взглянул на Цезаря и тоже начал хохотать: в драке Цезарю оторвали воротник рубашки почти полностью, и он висел у него на груди. Цал начал заглядывать в палатки и спрашивать иголку с ниткой, везде в ответ ругались, наконец, одна добрая женщина, вынесшая ребенка пописать, сжалилась и дала Цалу необходимый припас. Он сел на пенек и быстро приметал воротник на место, мою проблему так быстро разрешить было нельзя, и я до момента, пока не купил себе рубашку, ходил как Наполеон — с руками, сложенными на груди.
Теперь мы были уже дважды потерянные — не знали, ни где автобус, ни где ребята. Поскольку мы накануне обсуждали, что местом встречи могло бы быть турбюро, то мы, для начала, первым же поездом метро поехали туда в надежде, что потерянная четверка тоже догадается выбрать турбюро местом встречи. На мое счастье, на базаре возле турбюро, несмотря на воскресенье, открылся магазин уцененных товаров, и продавщица довольно быстро нашла мне приличную рубашку кремового цвета. Рукава, как водится, были коротковаты, но по лету их можно было и подвернуть. Я заплатил 3 рубля, продавщица мне её выгладила, я надел её поверх своей опозоренной бобочки, и мне стало тепло и уютно. (Удивительной прочности оказалась эта моя единственная покупка в Киеве — и через 15 лет отец носил эту рубашку во время дежурств на пасеке.)
Ребят не было, и за них было тревожно, но открылась столовая, мы зашли в числе первых, и я взял с пылу с жару огромный свиной эскалоп с пюре, Цал по инерции тоже им соблазнился, но ему было плохо: он попытался ковырнуть еду, но сразу позеленел. Пришлось другу помочь: я съел и свою, и его порцию, после чего у меня жизнь стала лучше, жить стало веселее. Появилась надежда, что черную полосу жизни сменила белая.
Стали совещаться, куда может поехать экскурсия запорожцев сегодня? Пришли к выводу, что быть в Киеве и не посетить Киево-Печерскую лавру нельзя, следовательно, нужно ехать туда и надеяться, что у Брата тоже на это ума хватит. Сели в троллейбус, доехали: на площади перед Лаврой стоят в ряд несколько десятков туристских автобусов, и мы немедленно увидели наш. Дело в том, что он в Запорожье возил французов, и справа на лобовом стекле у него красовался большой плакат с француженкой и украинкой в национальных одеждах с надписью на французском и русском языках: «Общество франко-советской дружбы». Ура! Одних нашли! Подходим, возле автобуса толпа зевак что-то рассматривает. Расталкиваем толпу, в которой перекатывается уважительный шепот: «Французские хиппи!» — и видим: в тени от автобуса на асфальте лежат матрасы, вокруг бутылки с пивом, а на матрасах наша потерянная четверка. Лежат молча и вид у них такой, что краше в гроб кладут. Брат нас заметил: «Е… вашу мать, вы где шлялись?!» Толпа немедленно посуровела и стала расходиться с гневными тирадами: «Хулиганье! Развалились тут! Куда милиция смотрит!» Я, конечно, тоже Брату высказал за то, что они нас в Гидропарке бросили, но радость встречи нейтрализовала все претензии.
Выяснилось, что дрались мы с теми же жлобами, которые задирались и днем, но было их больше. Опасаясь милиции, ребята побоялись и оставаться на турбазе, и ехать на метро, и как-то пешком добрались до Киева, и там переночевали в троллейбусах, оставленных на ночной отстой. Цал присоединился к умирающим, а я смог убедить только Шпанского собрать волю в кулак и идти осматривать Киев. Тем более что нам надлежало загладить вину перед девушками, если их еще не увели у нас туристы из каких-нибудь других автобусов. И мы добросовестно осмотрели всё, что полагалось по программе экскурсии — и пещеры лавры, и булаву Богдана Хмельницкого и т. д. и т. п., что, кстати, было очень интересно. По пути мы всячески обращали внимание наших подруг на то, какие мы хорошие, а то, что мы их прошлой ночью бросили, так это просто несчастный случай, который больше не повторится. К Аскольдовой могиле девчонки уже позволяли угощать себя мороженым, а ночью оправдали все наши смелые надежды.
Потом, когда я часто в компаниях рассказывал эту историю, Борисов только ухмылялся и авторитетно говорил:
— Если бы мы тогда не напились, то тебе бы, Митя, и вспоминать о Киеве было бы нечего.
Отчасти это так.
Я стараюсь обо всем этом писать с юмором, понимая, что помимо молодежи это могут читать и умные люди, а они ужаснутся вместе со мной — боже, какими же балбесами мы были!
Лет через 15 после описываемых событий меня послали в командировку в Никополь на один день, вернее, в сумме других заданий по командировке мне нужно было сделать какое-то дело и на Никопольском заводе ферросплавов. В течение, пожалуй, десятилетия после окончания института часть нашей группы почти регулярно встречалась на День танкиста. Часто инициатором был я, для чего и подгадывал себе отпуск под эту дату. Помню, что однажды встречались в доме моих родителей, однажды у Коли Кретова, несколько раз, по-моему, в ресторанах. В этом плане особо дружной нашу группу назвать трудно, некоторых мы вообще ни разу не видели, хотя они и работали недалеко, в том числе я ни разу после института не встречал Толю Борисова, хотя и знал, что он работает на Никопольском ферросплавном, т. е. достаточно недалеко от Днепропетровска. Во всяком случае к моменту моей командировки я уже много лет не имел о Брате никаких сведений.
Я сделал порученное дело и начал расспрашивать заводских ребят, где работает Борисов, и представьте мое удивление, когда выяснилось, что Брат, оказывается, второй секретарь Никопольского горкома КПСС! Надо же! В институте была проблема затащить его на комсомольское собрание, а тут второй секретарь горкома! Пошел в партком, узнал номер, звоню, его нет, сообщил о себе секретарю Борисова. Через час она разыскала меня по телефону где-то в цеху, а Брат быстро выяснил, зачем я приехал и насколько.
— Так, Митя, в гостиницу не устраивайся, будешь жить у меня. В пять часов жди у заводоуправления.
Подъехал на своих «Жигулях», расцеловались, сели в машину, и вижу, что у него кисть правой руки, сейчас не помню, то ли в свежей гипсовой лангете, то ли стянута эластичным бинтом, во всяком случае, он морщится при переключении скоростей. Спросил, в чем дело, но он уклонился от ответа. По дороге с завода до города расположено городское кладбище, Толя сообщает, что посадил на могиле отца курайчик, а погода сухая, и Брат боится, что курайчик засохнет, поэтому ему нужно заехать и полить его. Начинает вытаскивать канистру с водой из багажника и снова морщится. Я подхватил канистру, спрашиваю: «Так все же, что с рукой?» — а он опять уклонился от ответа.
Приехали к нему домой (он жил в частном доме своих родителей) и прекрасно посидели. После обязательных воспоминаний и выяснения, кто где сейчас обретается, я отвел душу в жарких спорах, причем сразу и с Толей, и с его симпатичной женой-учительницей: ему я разъяснил неправильный курс КПСС, а ей — неправильность воспитания детей. Когда допили водку, принялись за вино из винограда, росшего на участке, спать легли, когда охрипли. И когда Толю немного развезло, я все же в третий раз задал вопрос, что у него с рукой. Он рассказал. Оказывается, накануне вечером он был в ресторане на юбилее своего друга, по-моему, главного механика НФЗ. За соседним столиком какие-то уроды стали хамски тащить женщину танцевать, Толян за нее вступился, однако уроды ждали его на выходе, и Брату пришлось отмахиваться. «Потерял квалификацию, — сетовал второй секретарь Никопольского горкома КПСС, — целился в челюсть, но попал по черепушке и сломал палец». При этом Толя переживал не о руке, а о том, что в горкоме и обкоме из-за того скандала могут узнать, что он посетил ресторан. Оказывается, партийным работникам это негласно было запрещено. «Ага, — думаю, — это мне повезло, а если бы приехал на день раньше, то участвовал бы еще в одном приключении Брата».
Драки
Теперь, пожалуй, следовало бы поговорить о драках, поскольку я сам удивляюсь, сколько их у меня в студенчестве случилось. Во всяком случае больше, чем в школьные годы, хотя район наш был довольно беспокойный, а я, так или иначе, входил в компанию местных ребят. Думаю, что это вот почему.
Драки в районе были все же больше хулиганскими драками, а хулиганы, несмотря на строгое преследование в то время, все же могли использовать оружие, а посему и сами хулиганы этих драк боялись, если полагали, что могут встретить соответствующий отпор. Хулиганье — оно и есть хулиганье: за исключением отморозков, оно подлое и трусливое. Помню, как-то в 9-м или 10-м классе меня на мосту зажали человек 5 наших конкурентов из соседнего района, но пока стояли лицом к лицу, мы ограничивались перебранкой. В конце концов они меня пропустили, но как только оказались у меня за спиной, об мою голову сломали черенок от лопаты, который я, к сожалению, вовремя не заметил. Удар был настолько сильный, что сбил меня на колени, а на бедрах у меня лопнули по швам джинсы. Шишка была, как банан, и наверное было сотрясение мозга, но мы на такие пустяки особого внимания не обращали. Я вскочил на ноги, а уроды тут же сбежали на свою территорию (дело было, так сказать, на «ничейной земле»).
А в студенчестве драки имели какой-то другой характер — как между нормальными людьми и, надо признать, почти всегда по пьяному делу.
Как-то встречали Новый год на квартире у Коли и Риты Кретовых. Мы (я со Шпанским и Бобровым) не привели с собой никаких девушек, кроме того, Коля сообщил, что после 12-ти должен подойти его двоюродный брат, с которым мы не были знакомы, но тоже без девушки. Рита была единственным украшением праздника, который обещал превратиться в обычную холостяцкую посиделку с неумеренной выпивкой. Встретили Новый год и высыпали на улицу, и тут Коля увидел двух знакомых девушек, которые, как оказалось, праздновали в квартире на первом этаже. Коля их пригласил, и они охотно поднялись к нам на пятый. И дело пошло веселее, мы начали танцевать. Где-то через час девчонки засобирались, но пригласили и нас к себе. Мы с Бобром спустились с ними на первый этаж и начали со своими подружками танцевать там, поскольку видно было, что в той компании эти девчонки лишние. Но тамошние парни их лишними не считали, посему чуть ли не после первого танца выкинули нас с Бобром в подъезд, а двери закрыли. Мы начали барабанить в двери, требуя выйти поговорить, а тут спускаются Коля с Толиком и бутылкой, чтобы крепче подружиться. Они поставили бутылку в уголок и присоединились к нам, однако хозяева упорно не выходили. Но тут, как потом выяснилось, Коля выскочил на улицу и разбил в этой квартире окно, после чего хозяева и выскочили. Мне досталось больше всех, поскольку после первой неразберихи какой-то крепенький амбальчик загнал меня в тамбур противоположного конца лестничной клетки и, когда ребята снова вбили хозяев в квартиру, мы все ещё, не видимые остальным, старательно молотили друг друга до тех пор, пока Колька нас не разнял, поскольку этот амбальчик и оказался тем самым его двоюродным братом. Я ему расквасил нос, а он мне, помимо прочего, разбил губу и навесил «фонарь» под глазом. Короче, к обеду проснулись в квартире Кретовых на коврике, тесно прижавшись друг к другу, причем и Колька был с нами, а не в спальне, видимо, Рита не очень одобрила его энтузиазм в этом деле. Прихожу домой, отец посмотрел.
— Да, чувствуется, хорошо погуляли…
— А как же!
Повторю, балбесы мы были ужасные, и многое из того, что мы делали, делать было нельзя, и драки — это единственно полезное, это то, что делать было нужно. Понимаете, чем больше тебя бьют, тем больше ты понимаешь, что все эти синяки и шишки являются чепухой по сравнению с самоуважением от того, что ты не струсил, не сбежал и отстаивал свою честь даже в условиях насилия над собой.
Что-то мне подсказывает, что те, кто называет себя «культурными людьми», со мною не согласятся и будут утверждать, что «культурные люди не дерутся». Может быть, но я не уверен, что за всю жизнь видел хотя бы одного культурного человека среди тех, кто называет себя «культурным». Культура — это совокупность человеческих достижений, в том числе в общественной и духовной жизни. Да, априори я могу согласиться, что культурный человек, владеющий всеми достижениями общественной и духовной жизни, найдет способ, как выкрутиться из ситуации, требующей драки, без драки и без потери самоуважения. Но я не могу представить, как без личного опыта можно быть уверенным в том, что ты не трус, в том, что ты способен защищать свою честь в условиях опасности хотя бы для здоровья? А ведь это надо делать и в условиях опасности для жизни!
Нынешние «культурные люди» — это, как правило, тупые, трусливые и подлые болтуны, и следовать их советам могут только такие же, как и они.
Далее, драка, война — это всего лишь способ достижения какой-либо цели. И как только вы от него отказываетесь, то достижение вами цели становится сначала проблематичным, а потом и невозможным. Драка и война — это способ достижения цели в конфликтах, и если вы их исключите, то сначала окажется, что вы исключили самый эффективный способ и что другими путями цели достичь невозможно. Но еще страшнее, когда противная сторона в конфликте поймет, что вы трус, вот тогда она угрозой драки или войны и будет творить с вами, что захочет.
Я понимаю, что все вышесказанное трусы считают словесами, не имеющими прикладного значения в повседневной жизни, либо имеющими значение только в сфере политики. Поэтому давайте разберем пример из моей жизни, показывающий, как глупо исключать драку из перечня жизненных приемов.
Культурный способ
Было это в конце 80-х, я уже работал заместителем директора Ермаковского завода ферросплавов и был человеком достаточно известным не только на заводе, но и в городе Ермаке, в котором из 50 тысяч жителей взрослых было всего 35 тысяч. Тот, кто не жил в таких городах, вряд ли сможет представить себе эту жизнь — жизнь, когда все знают всех. Это, казалось бы, очень хорошо, но у всякого аверса есть и реверс.
Моя жена преподавала в вечернем институте города, кроме того она имела ученую степень, а таких у нас в городе было всего трое. Город был молодой, насыщен энергичными людьми, которые уже занимали различные должности, но не имели формального образования. Поэтому в институте всегда и охотно училось много жителей города, в связи с чем моя жена, как и другие преподаватели, была известным в городе человеком, долгое время даже более известным, чем я. Мне понравился такой случай: купил в магазине что-то у знакомой продавщицы, с которой поболтал и отвернулся, а за моей спиной подруга этой продавщицы спрашивает у неё:
— Кто это?
— Муж Мухиной.
Так что мне пришлось еще постараться, чтобы из мужа Мухиной дорасти до просто Мухина.
Так вот, в то время в институте учился майор, начальник пожарной части города, а у него служил старший лейтенант, как потом выяснилось, урод, который достал и МВД Казахстана, и все инстанции в республике непрерывными кляузами на всех и вся. Это присказка.
Возвращаюсь я утром в воскресенье из командировки, жена меня кормит, но вижу, что она несколько не в себе: что-то хочет мне сказать, но не решается.
— Ладно, мать, не тяни, что там у тебя случилось?
— Ты знаешь, у (называет фамилию майора, которого я тоже, само собой, знал) служит какой-то негодяй, так он написал в горком заявление — а моя жена была членом партии — что этот майор мой любовник, а поэтому я поставила ему хорошую оценку.
— М-да… — сказать мне было нечего. — Ладно, мать, как-нибудь с этим разберемся.
Доел, поехал на завод, решил накопившиеся оперативные вопросы и задумался, что делать. Вернее, что делать, подсказывала ярость, но надо было продумать технологию, как это сделать.
Появилась мысль, так себе — мыслишка, основанная на том, что этот старлей — говно, а, следовательно, и будет себя вести как говно, или, если хотите, как «культурный человек». Но никому говорить о своих планах было нельзя.
В понедельник разобрался с утренними делами и звоню в горком: правда ли, что у них есть такое заявление? Второй секретарь начала меня успокаивать, дескать, они этого негодяя знают, значения его писанине не придают и т. д. и т. п. Ага, значит, заявление есть, а значит, есть у меня и основания суетиться. Посылаю своего секретаря Наташу к юристу завода принести мне Уголовный кодекс с комментарием. Пришел с кодексом сам обеспокоенный юрист, но я сказал, что по такому пустячному вопросу он не нужен, мне нужно просто кое-что уточнить. Уточнил.
Еду на обед, командую своему водителю Федору подъехать к пожарной части. Захожу, сидят две женщины, здороваюсь, спрашиваю, где этот старлей. (Мне надо было, чтобы мне на него указали, поскольку я его не знал в лицо.) Отвечают, что в части его нет. То, что они не спросили, как меня зовут, понятно — они меня знали, но вот то, что они не спросили, зачем мне нужен старлей, мне не понравилось: значит, сплетни уже гуляют вовсю. Во вторник опять командую Федору свернуть к пожарной части, и опять все повторилось — старлея опять не было. После обеда возвращаюсь на завод, и через некоторое время звонок — этот урод мне сам звонит. Сообщает, что узнал, что я его ищу и что он тоже хочет со мною встретиться, так как у него есть много чего, что мне нужно знать. Я, сдерживаясь, предлагаю ему подождать, а я немедленно приеду.
Захожу, обе женщины тут (что мне и надо), посередине стоит мурло в форме и сапогах. Спрашиваю вежливенько, он ли это, мурло подтверждает: ошибки нет. Подхожу и, вкладывая в удар весь вес, бью его открытой ладонью по щеке. Мурло стояло перед своим столом, а посему на стол и упало. Я его беру за лацканы мундира, прижимаю к столу и вежливо, но громко, чтобы свидетели слышали, сообщаю, что если он еще хоть один раз упомянет имя моей жены, то я утоплю его в Иртыше. После этого я его отпустил, отступил и подождал, не полезет ли он драться: мне это было бы некстати, но что поделать, нужно было это проверить. Однако старлей не обманул моих ожиданий — говно есть говно — он лежал, свесив ноги, на столе и перепуганно на меня пялился. Дело было сделано, и я ушел.
Тут нужно понять меня тем, кто не понял. Я не мстил, мне было не до этого, да и не стал бы я мстить этому говну. Хотя, положа руку на сердце, конечно, и мстил, но месть эта была сверх 100 %, чем-то вроде премии за образцовое выполнение задания. Цель была в другом, и только эта цель не давала мне покоя: я — муж и отец, на мне лежит обязанность защиты моей жены. А этот гад не только оскорбил мою жену, но и посмеялся надо мной, полагая, что я свою жену не сумею защитить. Так вот, главная задача, которая стояла перед мной, — защитить её от уже разошедшейся по городу клеветы, а все остальное не имело значения. Я даже не думал о последствиях, вернее, я знал, что мой план может не получиться, и тогда последствия будут для меня неприятными. Но меня душила ярость, и все эти два с половиной дня я только и думал о том, как поаккуратнее дать ей выход в том направлении, которое решит стоящую передо мной задачу.
Я не думал, как на это будут реагировать другие, пусть он меня извинит, но я даже не подумал, как на это прореагирует директор завода. От пожарной части до завода ехать было минут 5, и мне кажется, что как только я зашел в свой кабинет, так он тут же вызвал меня по прямой связи чуть ли не криком: «Немедленно зайди!» Я зашел. Шеф был красный.
— Ты что творишь?! Ты когда-нибудь будешь думать, что ты делаешь, или нет?!
— Вы это о чём, Семен Аронович? — на всякий случай спросил я, поскольку недоумевал, как директор мог так быстро узнать об этом старлее, который, как мне казалось, всего еще 10 минут назад валялся на своем столе.
— Да ты понимаешь, что это хулиганство?! Звонил прокурор города и порадовал меня тем, что возбуждает против тебя уголовное дело! — отчаивался Донской.
Теперь я понял, что мы с ним имеем в виду одно и то же, хотя меня по-прежнему удивляла та прыть, с которой этот старлей оказался у прокурора.
Отвлекусь немного на прокуроров. И старый прокурор города, и сменивший его молодой меня не любили. Старого потрепал обком из-за составленного мною коллективного заявления, вернее, жалобы на его беспредел в делах техники безопасности, а молодого обком тоже уже успел потрепать из-за моей статьи в «Правде». А молодой прокурор был злопамятным. Много лет тому назад я сдавал в автошколе экзамены на права, и когда мы уже и вождение сдали, подошел кто-то и сказал, что в школе есть обычай, чтобы курсанты на прощание сбросились по 5 рублей на подарки преподавателям. Я, разумеется, тоже сдал. Спустя некоторое время прокуратура возбудила уголовное дело против директора автошколы, молодого казаха, за взяточничество, меня вызвали свидетелем, и показания у меня брал этот молодой прокурор, который тогда был следователем. Но ведь я деньги дал добровольно, следовательно, если на то пошло, и я виноват, так как же я при своей вине мог помогать обвинять этого казаха? Я и заявил, что пять рублей я действительно сдавал, но на коллективную выпивку, и ни о каких деньгах для преподавателей школы и слыхом не слыхивал. Следователя это разозлило, он достал бланк допроса, громко зачитал мне предупреждение об ответственности за отказ от показаний, дал подписаться под этим предупреждением и снова задал тот же вопрос о 5-ти рублях. Теперь это разозлило меня, и я ему ответил, что его предупреждение меня сильно перепугало, у меня нервный срыв, и теперь я вообще не помню ничего и даже того, учился ли я когда-нибудь в автошколе. Следователь еще некоторое время давил мне на психику, но хохла, если он уперся, столкнуть не так просто, поэтому ему пришлось обойтись без моих показаний. А уже потом, когда он стал прокурором города, мы как-то разговорились в горкоме, и он мне сказал, что помнит ту мою наглость на допросе. Такое отношение ко мне прокурора города, конечно, не могло радовать в связи с этим старлеем, но я, стараясь быть спокойным, сказал директору:
— Не волнуйтесь, Семен Аронович, все будет в порядке, я сам кашу заварил, сам из нее и выкручусь.
— Как?!
— Вы напрасно считаете, что я не думал перед тем, как дать этому уроду в морду. Я думал и полагаю, что ничего серьезного со мною не сделают.
На самом деле я не был уверен, как оно все будет, поэтому раскрывать свой замысел прежде времени не хотел, но мой спокойный тон успокоил немного и Донского.
— Ну-ну… Что же, пробуй выкрутиться, но помни, при малейшей угрозе того, что тебя отдадут под суд, беги ко мне, чтобы и я успел что-нибудь сделать.
— Спасибо!
Я поднялся в свой кабинет, и тут же зазвонил городской телефон — помощник прокурора города вызвала меня для получения объяснений. Ну скорость! Привозит меня Федя в прокуратуру, на втором этаже в коридоре сидят те две женщины-свидетельницы, и меряет коридор шагами старлей. Увидев меня, метнулся в противоположный конец — осторожный стал! Захожу в кабинет помощника, это была молодая, лет 30-ти, красивая женщина, здороваюсь.
На её лице аршинными буквами написано сожаление, и вместо ответа на мое приветствие она чуть не руками всплеснула:
— Юрий Игнатьевич, что же вы наделали!
— А что же мне было делать? — удивился я.
— Ну, в таких случаях в суд подают.
— Ничего себе! Да вы понимаете, о чем говорите? Этот же урод на суде под видом слухов выплеснет на мою жену ведро помоев, и что толку, что он эту клевету не докажет? А теперь пусть он подает на меня в суд и докажет, что не писал в горком грязь о моей жене и что я ему почистил рожу по ошибке.
— Не будет он подавать в суд, поскольку прокурор собирается возбудить против вас уголовное дело по статье о хулиганстве.
— А вот это вряд ли. Я ни одного нецензурного слова не произнес, так что даже мелким хулиганством тут не пахнет.
— Но вы же его ударили!
— Нет, я его не бил — я дал ему пощечину, спросите у свидетелей — я ударил его по щеке открытой ладонью.
— Но он же упал!
— Ну, это уже его проблемы: раз начал клеветать на мою жену, то обязан был крепче держаться на ногах. А я нанес ему всего-навсего пощечину.
— Ну и что, что пощечину, какая разница, ведь вы все равно его ударили.
— Есть разница — по Уголовному кодексу Казахской ССР пощечина является всего-навсего оскорблением, и хулиганство тут никак не привяжешь.
Помощник прокурора с пару секунд молча смотрела на меня, осмысливая, что я сказал, затем взяла книжечку Уголовного кодекса, нашла статью «Оскорбление», пробежала её глазами, и лицо её посветлело. Она тут же быстро и деловито взяла с меня объяснение и отпустила.
Теперь поясню свой план.
Я уже написал, что у меня неважная память, но если я что-то понял, то в необходимый момент могу это вспомнить. Первые годы в Ермаке я жил в общежитии и перечитал всю имевшуюся там библиотеку. В том числе я почитал и Уголовный кодекс. На мой взгляд, там было довольно много несуразностей, которые и осели у меня в памяти. И когда я начал думать, что же мне сделать с этим мерзавцем, нужное из УК всплыло в памяти.
Просматривая в УК малоинтересную статью «Оскорбление», я зацепился тогда взглядом за слово «пощечина», которое попало в эту статью, надо думать, в порядке ностальгии по дворянству.
Но на самом деле «пощечина» — это когда тебя обиженная девушка мягкой ладошкой хлопнет по щеке, а когда такое же повторит разъяренный мужик, то это уже оплеуха. Но, надо думать, в СССР уголовные дела за оскорбление были исключительной редкостью, поскольку их обычно решали гражданские суды по жалобам оскорбленных, а оскорблений с пощечинами вообще, наверное, никогда не было. Посему Уголовный кодекс никак не объяснял, где кончается пощечина и начинается оплеуха, по Кодексу все удары ладонью по щеке были пощечинами.
(Между тем, оплеуха передает голове избиваемого практически такую же энергию удара, как и удар кулаком, единственно, удар кулаком больше повреждает лицо, поскольку площадь ударных частей кулака меньше площади ладони.)
Как только я вспомнил про пощечину, стало ясно, что делать: надо было бить ладонью внезапно (от пощечины легко уклониться) и очень сильно, поскольку бить в идеале надо было один раз, ведь если бы урод начал защищаться, то от статьи «Хулиганство» уже трудно было бы увернуться. Мне, правда, было все равно, и, идя на встречу с этим уродом, я все равно готовил себя к драке, но хотелось бы до хулиганства дело не доводить, почему я и написал выше, что старлей не обманул мои надежды.
Тут уместен вопрос, а насколько велика разница между оскорблением и хулиганством, ведь и то, и то — уголовные преступления? В Казахстане такая разница была. Это второе, что я заметил в этой статье УК. По целому ряду статей в Уголовном кодексе уголовные преступления могли не рассматриваться как таковые, т. е. не рассматриваться народным судом, а передаваться в товарищеские суды. Но по этим статьям решение о том, передавать дело в народный суд или передать его товарищескому суду, решала прокуратура. И только в статье «Оскорбление» было прямо указано, что при первом случае оскорбления дело подлежит рассмотрению товарищеским судом, т. е. прокурор города, даже если бы захотел, то не смог бы сделать из меня уголовника — закон не позволял.
Помощница прокурора это поняла и быстренько подготовила дело так, что прокурору осталось переслать его в товарищеский суд по месту работы преступника, т. е. меня.
Дня через четыре мне озабоченно сообщают, что мой урод лежит в больнице с сотрясением мозга. Я звоню своему другу Григорию Борисовичу Чертковеру, заведовавшему травматологическим отделением нашей больницы.
— Гриша, у тебя лежит такой-то?
— Да, с тяжелым сотрясением мозга.
— Гриша, я его ударил ладонью по щеке, он даже на пол не упал, откуда у него может быть тяжелое сотрясение?
— Так это тот?!
— А кто же!
— Я тебе перезвоню.
Через полчаса рассказывает: «Нашел его, сказал, чтобы шел в палату, поскольку сейчас его сотрясение мозга будет устанавливать комиссия. Пока ходил за заведующей и невропатологом, он сбежал из больницы».
Недельки через две заходит ко мне заместитель начальника планового отдела Нина Мелешина, она же председатель товарищеского суда заводуправления, и конвоирует меня на суд, заседание которого было назначено в актовом зале. Но суд как-то так удачно повесил объявление о своем заседании, что я о суде не знал, и мой секретарь мне не сказала, и в зале не было никого, кроме еще двух женщин-судей, работниц заводоуправления.
Начали заседание, сообщили, что потерпевшего вызывали, но он не хочет приезжать, огласили решение: назначить мне общественное порицание. Однако я потребовал себе высшей меры наказания, на которую способен товарищеский суд, а максимум, что он мог — 30 рублей штрафа в доход государства. Немного поторговались: они — за общественное порицание, я — за высшую меру. Я их убеждаю:
— Товарищи! Это же такое говно, что оно не даст нам жить. Если вы не дадите мне максимум, что можете, то он всем напишет, что вы необъективны и боитесь меня как своего начальника. Поэтому без колебаний приговаривайте меня к высшей мере и не бойтесь, поскольку для меня всего за 30 рублей побить морду подонку — это же почти даром.
Уговорил. Но когда выходил, они мне все же сказали: «Юрий Игнатьевич! Вы все же в следующий раз бейте ему морду без свидетелей!»
Однако, думаю, что в протокол они это свое требование не занесли.
Старлей еще с полгода засыпал жалобами все инстанции, я даже интервью давал какой-то алмаатинской газете, но дело было законным образом рассмотрено, и возвращаться к нему никто не собирался.
Думаю, что я достаточно подробно тут нахвастался, давайте теперь весь мой рассказ, абсолютно реальный, разложим по полочкам.
Анализ ситуации
Итак, возник конфликт, в котором участвовали две противоборствующие стороны, имеющие разные цели. В основе конфликта было желание «культурного человека» задавить своего начальника на основе тех «достижений в общественной и духовной жизни», которые он освоил. Конкретно: он решил обвинить своего начальника в аморальном поведении и тем самым встать в ряды борцов за чистоту партийных рядов. Это действительно достижение общественной жизни, поскольку негодяй полагал, что если даже моя жена и подаст на него в суд, то он встанет в позицию верного «партейца», который просто «перебдел», зная, что «не бывает дыма без огня».
«Культурный человек» несколько раз ошибся, поскольку на самом деле «достижения общественной жизни» знал не очень хорошо. В частности.
Он совершенно безосновательно считал, что будет иметь дело с моей женой, поскольку еще с давних времен — с тех пор, когда она дала мне понять, что ей нравятся мои ухаживания, подобные вопросы перешли в мое ведение. И от нее требовалось всего лишь сообщить мне немного сведений о своем обидчике, чтобы я мог быстро его отыскать. Он несколько преждевременно начал считать её вдовой.
Далее, он совершенно безосновательно записал и меня в число «культурных людей», после чего размечтался, что я буду решать возникшую проблему «цивилизованными методами». Вернее, он недоучел, что у нормального человека этих самых «цивилизованных методов» гораздо больше, чем у «культурного». По отношению к людям у нормального человека одни методы, по отношению к скотам — другие, причем в средствах он себя не ограничивает, если их оправдывает цель.
И, наконец, самая распространенная ошибка, присущая всем: мы всех равняем по себе. И он уравнял меня с собою, между тем, если у него и было сотрясение мозга, то это только вследствие его мечты обсудить со мною поведение моей жены.
Теперь о второй стороне конфликта — о «некультурном человеке», который не освоил всех «достижений общественной и духовной жизни» и до сих пор считает, что драться полезно и нужно.
Ну, предположим, что я пошел бы путем, который «культурные люди» считают единственно правильным, то есть отдал бы жену для обозначения полезной деятельности юридических и партийных крючкотворов и на потеху праздных зевак. Причем, учитывая писучесть того урода, это шоу растянулось бы на годы. А так один удар, но сколько преимуществ!
Во-первых, и это главное, клевета о моей жене сразу потеряла актуальность даже у сплетников: донесет кто-нибудь Мухину, что ты трепался о его жене, и что будет? Предположим, что обком по жалобе старлея заставил бы горком разобрать его клевету, так горком бы ответил обкому: ага, мы разберем, а потом Мухин всем морды понабивает. Шутки шутками, но ведь я в этом деле был главным судьей. По сути и в глазах всех, если я рассмотрел дело, вынес приговор и привел его в исполнение, то дело закончено и потеряло всякий интерес. А доказать инстанциям и миру, что я действительно это дело рассмотрел, можно было только так — дать в морду, наплевав на последствия для себя. Ничему другому люди не поверили бы.
Второе. Конфликт закончился очень быстро, причем обошелся мне всего в 30 рублей, не считая нервов. Но нервы человеку для того и даны, чтобы их расходовать, а то помрешь с полным запасом нервов, а кому это надо?
В-третьих. Я об этом совершенно не думал и начал догадываться только тогда, когда увидел разницу отношений к моему поступку мужчины-директора и женщины-помощника прокурора: на мою сторону неожиданно для меня встала лучшая половина населения. А если учесть, что эта половина умеет задолбать оставшуюся половину, то это не только приятно, но и кое-что.
И, наконец, в прокуратуру обращался не я, и это в глазах подавляющего числа людей было большим плюсом, поскольку дела частной жизни должны решаться частным порядком, а моя решительность показала мою правоту. Напротив, мой противник, не ставший со мною драться и вместо этого пытающийся достать меня сквалыжными способами, в глазах людей четко определился в то, чем он и был, — в говно. Посему он начисто лишался каких-либо перспектив в этом деле.
Поэтому удар по морде подонка — это хорошее достижение в области «общественной и духовной жизни», т. е. по сути — очень культурное решение вопроса.
Мне могут сказать, что начал я за здравие, а кончил за упокой — начал с хулиганских драк в студенчестве, а окончил даже не дракой, а реализацией тщательно разработанного плана. Естественно! А кто сказал, что драться нужно без мозгов? Где-где, а в атом деле они очень нужны. А то, что в студенческие годы драки были по пьяному делу, так что же тут поделаешь, надо думать, Что по трезвому мы не всегда на них решались. Но я не уверен, что пошел бы на описанный выше поступок, если бы никогда не знал боли и последствий от синяков и шишек, если бы никогда до этого не находился в ситуации, когда страх требует удрать, а чувство долга — присоединиться к дерущимся товарищам.
Мы же поколение без войны, на чем нам было испытать себя?
О сексе
Есть еще вопрос, который раньше никто не стал бы обсуждать, но сегодня его сделали главным мерилом счастья в жизни. Помню, где-то в середине 90-х, когда очень активно рекламировали виагру, показали репортаж из США, и там какой-то древний пенсионер на восьмом десятке, захлебываясь соплями от восторга, сообщал всему миру, что теперь у него «стоит как гвоздь». Это же надо, какой овощ — прожить всю жизнь и иметь в этом единственную радость! То, что он к своему возрасту плохо может творить (если творил когда-нибудь), его не волнует, что не может одерживать побед, его не волнует, то, что он никому не нужен, его не волнует, а вот то, что он снова может делать возвратно-поступательные движения — вот это для него вся радость и весь смысл жизни. И вот эта убогость называет себя человеком!
В мои студенческие годы недопустимо было обсуждать вопросы секса открыто, публично. Никакого запрета на это не было, как никто и не разрешал эти вопросы обсуждать в пору «гласности», просто выпустили в прессу и на ТВ субъектов с умственным развитием обезьяны, а этим обезьянам и говорить-то больше было не о чем. Ну о чем бы депутатка Лахова в Думе говорила, если бы не было секса? Она что, что-то знает о том, как управлять народным хозяйством, как защищать свое государство или как воспитывать детей? Если бы знала, то об этом бы и говорила, но за всю жизнь она научилась понимать толк только в траханье, вот об этом у нее душа и болела, вот отсюда и её революционные идеи в сексуальном воспитании. О таких, и о таких, как он сам, в те годы очень точно написал журналист Радзиховский: не люди, а «двадцать метров кишок и немного секса». Эти «двадцать метров» ни о чем понятия не имеют и тупо повторяют модные мысли, а в сексе и жратве они и сами кое-что смыслят, посему это и является их любимой темой. Раз уж выпустили обезьян, чтобы они вели нас в «цивилизованное общество», то не стоит и удивляться, что у этих убогих все счастье ограничивается сексом после той жратвы, в модности которой их убедила реклама.
Повторю, что у нас это было не так и секс не был вопросом публичного обсуждения, но, что поразительно, мы в вопросах секса знали всё, что необходимо для счастья. Меня не так давно и самого это удивило. Случилось так, что мы с товарищем моих лет похвалили замужнюю женщину лет 30-ти за то, что она все же родила ребенка, посетовав, что в наше время это было обязательной целью брака. Неожиданно состоялся диалог, который она начала довольно заносчиво.
— Это потому, что у вас презервативов не было, а в сексуальном плане вы были неграмотны, вот и штамповали детей, — безапелляционно заявила она, и мы рты открыли от удивления «достижениями» нынешнего сексуального воспитания.
— Во-первых, презервативы у нас были, они в каждой аптеке валялись по 4 копейки пара, но мы действительно ими не пользовались. Но, послушай, если бы дело было в отсутствии презервативов, то у нас дети рождались бы каждый год, между тем у нас рождалось всего по 2–3 ребенка, и только тогда, когда мы этого хотели.
— Ваши жены делали аборты.
— Было и такое, куда же денешься, 100 % гарантии и презервативы не дают, но аборты — это несчастные случаи, и только. А практика в целом гарантировала контроль беременности. Неужели вы, молодые, сегодня уже не умеете её контролировать так, как мы?
— Да кому нужно ваше высчитывание дней, когда нельзя забеременеть?
— ??? Да с чего ты взяла, что мы занимались этой арифметикой? Она же плохо совместима с любовью и страстью. Неужели твой муж действительно не знает, что делать, чтобы предохранить тебя от нежелательной беременности в любой момент, когда вам захочется близости?
Мы окончательно смутили женщину, и она прервала разговор, понимая, что показала себя довольно глупо, начав разговор с таким апломбом. Мы же остались в полном недоумении. Конечно, и в наши дни случались люди малокомпетентные в таких вопросах, но тогда же не было «сексуальной революции», не было этого пресловутого «сексуального воспитания», о котором уже 20 лет только и болтают. И в жизни с любимым человеком презервативами не пользовались. Этого я, правда, определенно утверждать не могу, но я почему-то в этом уверен. Я 14 лет подписывал больничные листы сначала где-то 120–130 женщинам своего цеха, а потом примерно такому же количеству женщин заводоуправления. Да, попадались с диагнозом «медаборт по желанию», отводилось на это, если мне память не изменяет, три дня. Но этот диагноз был редким, не бросался в глаза и не составлял проблемы — не надо забывать, что любая потеря трудоспособности подчиненными была в СССР заботой начальников. Увеличение случаев или длительности любых болезней требовало от нас мер. Скажем, предупреждение главврача медсанчасти завода о начале эпидемии гриппа заставляло начальников цехов следить за тем, чтобы все работники цеха сходили на прививки, а директор немедленно давал распоряжение, чтобы ОРС во всех столовых бесплатно раскладывал на столах лук и чеснок, и бухгалтерия счета ОРСа на них без разговоров оплачивала.
Простите, но если женщина «залетела» и вынуждена сделать аборт, а подруги не объяснили ей, что нужно делать, чтобы «не залететь» в следующий раз, то какие же они, к черту, после этого подруги? У нас на заводе коллектив был, видимо, достаточно дружным, чтобы не мордовать начальство подписанием больничных с таким диагнозом.
Поразительно и другое. Интимная близость с любимой доставляет удовольствие, и чем эта близость дольше длится, тем, само собой, дольше и удовольствие. Так вот, при том способе, который в мое время использовали мужчины, чтобы предохранить любимую от нежелательной беременности, мужчины испытывали несколько оргазмов, и сам секс, соответственно, длился дольше. И для меня это вообще непонятно — с одной стороны, вопить о «радости секса», а с другой, не знать элементарного о том, как эту радость продлить?!
Хотя понятия общества в наше время запрещали публичную болтовню о сексе, но в дружеском кругу эти вопросы обсуждались во всех аспектах и передавались, так сказать, из поколения в поколение. Мне, к примеру, что там и к чему объяснил брат Валера, когда мне было лет 11, а ему 15. Дальше я слушал рассказы более взрослых парней в уличных компаниях, в основном это, конечно, были те еще педагоги, но и у них узнать можно было довольно много. И последние нюансы мне нежно объяснила любящая меня женщина, в которую мне посчастливилось влюбиться на 19 году. Она была замужем, у нее был ребенок, и она была существенно меня старше — ей было 22.
Существует мнение, что женщины ужасные сплетницы. Не знаю — сплетни в их компаниях мне подслушать не удалось. Но достаточно много зная о мужских компаниях, должен сказать, что мужики тоже не молчуны. Правда, следует заметить, я не помню случая, чтобы кто-то из мужей обсуждал интимную жизнь с женой, даже с разведенной. Может, и в женских компаниях так, повторяю, я этого не знаю, но в мужских компаниях действует правило, о котором я узнал значительно позже, — интимные подробности жизни с женщиной, знакомой хоть кому-нибудь из членов компании, не обсуждаются. Вообще-то это правило естественно — достаточно пару раз «проколоться», чтобы понять, о ком можно говорить, а о ком — нет.
Я уже упомянул, что моя первая любовь была к замужней женщине, правда, она забеременела в 17, скоропалительный, вызванный её беременностью брак счастливым не был, и на тот момент её муж проходил срочную службу. Мое предложение жениться она с благодарностью отклонила, и мы свою любовь скрывали настолько, насколько это было возможно, я, по крайней мере, держал язык за зубами. Около года длилась наша близость, расстались мы накануне возвращения из армии её мужа, сохраняя друг к другу признательность и нежность. Несколько месяцев спустя после нашего расставания в компании ребят из нашего района один хвастун, развлекая нас своим затейливым враньем о любовных победах, вдруг упомянул и её. Я не мог его оборвать, чтобы не раскрыть нашу, пусть уже и оконченную связь, и не мог терпеть эту брехню. Что-то я такое сказал, что заставило его насторожиться и свести все к шутке, но мне было по-настоящему очень больно.
А в другом случае я, по глупости, оказался виновником последствий, последовавших за нарушением правила мужского молчания. В стройотряде я сдружился с одним парнем, мы довольно откровенно раскрывали друг другу подробности наших любовных историй, но он вдруг похвастался близостью с одной девушкой из нашей группы. Были ли эти подробности правдой или нет, я не знаю, но ему не следовало рассказывать их мне. Потому что пару месяцев спустя мы сидели с ней за одной партой на какой-то скучной лекции, я развлекал её разными историями и, упомянув в одной из них этого парня, начал о нем рассказывать, а потом нечаянно сказал:
— Ах да, ты же его знаешь, вы же дружите.
— С чего ты взял? — вдруг насторожилась она.
— Да он сам мне говорил, — не подумавши, ответил я. Как я сейчас понимаю, такие слухи, видимо, доходили до нее и раньше. Её лицо вдруг сделалось злым.
— А что он еще про меня говорил? — прищурившись, спросила она, и я понял, что мне нужно срочно менять тему.
— Да ничего особенного, говорил, что встречаетесь или встречались, вот, собственно, и всё.
— Врешь! Он говорил, что трахал меня? — эта грубость была неожиданна, поскольку в нашей среде ни мы с девушками, ни, тем более, девушки с нами так не разговаривали. Эта прямота, видимо, меня ошарашила, и я не сумел соврать убедительно.
— Да ты что?! Ничего подобного он не говорил.
— Врешь! — подытожила она и замкнулась в себе.
Мне этот разговор не понравился, и я решил, что парня нужно предупредить. На перерыве я нашел по расписанию аудиторию, в которой занималась его группа, нашел его и еще только обдумывал, как бы ему об этом рассказать так, чтобы моя глупость была не сильно видна, как подошла она и со словами: «Так значит, ты все рассказываешь, что трахаешь меня», — влепила ему пощечину. Повернулась и ушла, оставив меня выслушивать его упреки в моей болтливости. Я-то, конечно, виноват, но и ему надо было помнить, что нельзя трепаться о женщинах, знакомых собеседникам.
Вот и я встал перед дилеммой при описании секса в тоталитарном, рабском СССР — описание секса без подробностей малоинтересно, а давать подробности не разрешает мужское правило. Поэтому я остановлюсь на принципиальных его особенностях. Начать, пожалуй, надо с места секса в системе наших тогдашних ценностей.
Конечно, он был желанным, поскольку нес удовольствие, но он в нашей системе ценностей не только не был единственным удовольствием из тех, которые мы получали от жизни, но он не был главным даже в отношениях между мужчиной и женщиной. Можно сказать и так: мы были слишком гордыми людьми, чтобы принимать подачку там, где могли получить все счастье сразу.
Ведь счастье любви на порядки превосходит счастье только от секса, а для любви требуется вся женщина целиком, а не отдельная её часть. Посему, полагаю, для большинства советского общества вопрос любви рассматривался по максимуму. И для мужчин, в частности, его можно сформулировать так: добиться, чтобы женщина тебя полюбила, а не просто отдалась. «Просто отдалась» — это для животного большое счастье, а для человека этого маловато будет. Поэтому нет ничего удивительного, что в то время было нормой, когда люди влюблялись и в этой любви были счастливы всю жизнь. Составной частью такой любви был секс, но он был лишь составной частью, а не целью.
Я был знаком с одним писателем, ныне покойным, об имени которого умолчу, так как сейчас не вспомню, написал ли он то, что рассказывал мне, так вот, он влюбился и прожил со своей женой в счастливой любви всю довольно долгую жизнь, смерть жены подкосила и его. При этом, как он мне признался, за всю жизнь он ни разу не видел свою жену обнаженной — она его стеснялась. Наверное, их секс был без рацпредложений «Камасутры», ну и что из того, если он не был в их счастье главным?.. Он жил в Москве, и при желании в очередь к его дивану выстроились бы толпы московских интеллигенток только за счастье похвастаться, что они спали с дважды лауреатом Сталинской премии. Но ему они с их сексом не требовались — у него в этом плане было больше, чем все они могли дать — у него была любовь. Любовь, повторю, не сопоставима по своей величине с удовольствием оргазма, даже если этот оргазм получен каким-то эдаким способом.
Представьте эту ситуацию образно: какой-нибудь племенной хряк имеет с отборными по внешнему виду свинками оргазмов гораздо больше, чем какой-либо свихнувшийся на этом деле повеса. И что же теперь — счастье племенного хряка считать идеалом счастья для человека? Так считать может только племенной хряк, мы считали по-другому, даже когда нам и не пришлось, как этому писателю, влюбиться сразу на всю жизнь.
Понятия, главенствовавшие в советском обществе, требовали от девушек отдаться только мужу, эти понятия и на тот момент были уже существенно поколеблены и фактически, и в идейном плане, но полагаю, были все же основополагающими для очень многих девушек. К парням общество было всегда в этом вопросе снисходительным, но и с нами не все было так просто. И для нас стремление к «голому» сексу без любви было унижением, такой секс и нас в наших собственных глазах равнял с животными. Был, конечно, и просто секс, но того, кому нужен только он, презирали. Вот пример моего собственного восприятия этого.
На преддипломной практике в Челябинске нас, студентов-металлургов из Днепропетровска, подселили в два рабочих общежития, сугубо мужских. Как-то в воскресенье я купил бутылочку винца и пошел во второе общежитие навестить однокашников. Их в комнате не нашел, заглянул в соседнюю, в которой жил, назовем его Генка, студент технологического факультета, живший в моем районе, а посему в какой-то степени приятель. У них выпивала небольшая компания студентов, к которой я присоединился. Вместе с Генкой жил еще один дипломник, которого, как вскоре выяснилось, Генка просто третировал, называя его исключительно или «жидком» или «пархатым», тот же это сносил так безропотно, что было даже противно. Тут надо сказать, что Генка когда-то лежал в психлечебнице (а может, и врал, что лежал) и теперь в нужных случаях «косил под психа». Про него рассказывали, как уже в этой общаге он устроил очень громкую пьянку, комендант общежития, женщина средних лет, поднялась успокоить их. Пока она читала нотацию, Генка напускал на губы слюни, а затем выдал ей примерно следующее:
— Я — псих! У меня жизнь дала трещину, — тут он повернулся к ней задом, нагнулся, сдернул с себя трико и трусы, показав ей голые ягодицы. — Видишь трещину? Я тебе сейчас нос откушу, и мне за это дадут путевку в санаторий. Хочешь?
Бедная женщина пулей выскочила из комнаты.
Может, Генка этой своей трещиной запугал и своего соседа, но даже это не было оправданием терпеть Генкины выходки. Но сейчас речь о другом. «Жидок» этот как-то непонятно суетился: то выбегал куда-то из комнаты, то вновь садился с нами. Наконец он привел мужичка-работягу и налил ему стакан. Мужичок выпил с большим достоинством и гордо, после чего они удалились. Минут через 10 «жидок» вернулся с очень довольным видом, и было видно, что его распирает похвастаться. Мы заинтересовались, и он нам самодовольно сообщил, что живущие в общаге работяги еще с пятницы провели в общагу женщину и теперь по очереди её сношают. Тот мужичок, оказывается, содержал эту женщину у себя в комнате и следил за очередью. «Жидок» свел с ним знакомство, подпоил его, и мужичок без очереди, так сказать, допустил его к этому телу. Меня чуть не стошнило, да и по виду остальных было видно, что этот рассказ их не воспламенил, а у меня к этому «жидку» возникла такая брезгливость, что в мозгу засела одна мысль — не пил ли я из его стакана? О причинах этой брезгливости несколько позже, а сейчас о двух сопутствующих моментах такого секса.
Вообще-то такие женщины были нередки, особенно часто они крутились возле воинских частей. Я много слышал о них, но никогда до Челябинска их не видел и полагал, что слухи об их психической ненормальности сильно преувеличены и что на самом деле по внешнему виду эти женщины, скорее всего, такая «срань божья», что на них без слез смотреть нельзя, посему они только таким сексом и могут заниматься. Однако спустя некоторое время уже в нашем общежитии были устроены танцы, и в красный уголок на первом этаже пришли девчонки. Мы танцевали до конца, а потом провели девчат до стоявшего рядом женского общежития. Я вернулся, поднялся к себе на этаж и начал открывать ключом дверь, в это время резко распахнулась дверь напротив, в проеме её стояли трое пьяных полураздетых парней и пьяная девушка, босиком (в общаге было в то время страшно холодно) и в незастегнутом платье, натянутом на голое тело. Девушка в достаточно грязных выражениях объясняла парням, что ей нужно в туалет, а те в таких же выражениях объясняли ей, что сейчас комендантша пойдет с обходом общежития и обнаружит её. Девушка у них вырвалась и пошлепала босыми ногами по коридору по направлению к мужскому туалету (других в мужской общаге, само собой, не было). Так вот, девушке было не более 20, и была она изумительно красива — очень стройная, с красивыми ногами и с правильными чертами лица.
Венерины болезни
Впервые же с подобным случаем и с отношением к нему наших ребят я столкнулся на втором курсе. Утром перед лекцией, которую слушал весь поток, зашел студент из какой-то другой группы МЧ, и наши парни, жившие в общаге, стали о чём-то тихо, но презрительно переговариваться. Я заинтересовался, и мне в двух словах сообщили, что с неделю назад каких-то два старшекурсника провели в общагу подобную женщину, и этот студент тоже соблазнился, а теперь выяснилось, что этот любитель «хорового пения» подхватил триппер. Причем, чтобы сильнее унизить бедолагу, наши парни утверждали, что те двое уродов не пользовались презервативами, и с ними ничего не случилось, а этот пользовался — и всё-таки заболел. Я посмотрел на парня, вид у того был как у побитой собаки.
На перерыве он внезапно подошел ко мне, отвел в сторону и, страшно смущаясь, спросил, не знаю ли я, где в городе находится вендиспансер. Я не знал, но домой я всегда возвращался вниз по проспекту Карла Маркса, а в районе ЦУМа садился на троллейбус. А поскольку мне время от времени требовалось слить выпитое пиво, то я заходил в общественный туалет, находившийся за «Детским миром». И там я однажды обратил внимание на вывешенную у писсуаров табличку, в которой был дан адрес вендиспансера. Мне осталось посоветовать бедолаге сходить помочиться в этот туалет для расширения полезных знаний о городе Днепропетровске.
Между прочим, это тоже тема для разговора. За всю мою студенческую жизнь это был единственный парень из сотен моих знакомых, который заболел венерической болезнью, я даже слухов о том, что ею кто-то заразился, не помню, не помню также ни малейшего страха по этому поводу, и это при полном отсутствии в разговорах упоминаний о презервативах! В этом плане СССР был исключительно чистым, и неудивительно — со сталинских времен у государства была почему-то особая неприязнь к этим болезням.
Мало кто знает, что нашествие вшивой Европы на СССР в ходе Великой Отечественной войны вызвало, по сути, эпидемию венерических заболеваний на оккупированных немцами территориях. (Слово «вшивая» в данном случае, что называется, медицинский факт. Нет места пояснять примерами вшивость Европы, достаточно сказать, что в зиму 1941–1942 годов в госпиталях у немцев лежало столько же больных сыпным тифом, распространяемым вшами, сколько и раненых на фронте. Потом они завозили на фронт дуст эшелонами, но что толку от дуста, если нет навыков такой личной гигиены как у русских?) Когда Красная Армия начала освобождать оккупированные территории, то и над ней нависла угроза венерической эпидемии, оставленной европейским воинством. И в 1943 году Государственный комитет обороны принял решение о срочном увеличении производства презервативов, причем были разработаны особо прочные «резиновые изделия № 2», на которые не жалели крайне дефицитного по военному времени каучука. («Резиновое изделие № 1» — маска противогаза). А когда вошли в Европу, то и контакт с тамошними женщинами не замедлил сказаться, и можно утверждать, что немцы боролись с большевизмом своим бактериологическим оружием не менее эффективно, чем фаустпатронами.
В этом плане интересны показания антисоветчиков. Некий Ф.Я.Черон сдался немцам в плен, а после окончания войны перебежал на Запад, где стал кормиться борьбой за «демократию» против «советского тоталитаризма». В «Имка-пресс» в Париже издал воспоминания, из которых видны мотивы подобного рода действий демократов и то, почему они сбежали на Запад.
Во-первых, немалое значение имело презрение советского народа, особенно советских солдат, к сдавшимся в плен. Причина понятна: советский народ умирал на полях боев, сутками не выходил из цехов, чтобы победить врага, а эти уроды решили перехитрить всех — сдаться в плен и безбедно пересидеть войну в тылу у немцев. Кроме этого, они еще и работали на них, то есть фактически помогали немцам убивать советских людей. Но для этих подонков презрение не было главным, они к нему привыкли, поскольку их в первую очередь презирали сами немцы. Главное было в другом.
Советский Союз почти поголовно призывал в армию всех освобожденных из немецкого плена, поскольку одновременно проводил демобилизацию из Красной Армии старших возрастов и раненых. А перед окончанием войны с немцами, 5 апреля 1945 года СССР денонсировал договор о нейтралитете с Японией, и стало ясно, что война с нею неизбежна. Тех, кто попал к немцам в плен, эта война радовала, так как они могли в ней смыть позор своего плена, но тех, кто сдался немцам в плен, предстоящая война ужасала — они ведь и немцам сдались из-за трусости. Они на самом деле не хотели бежать на Запад и сбежали туда исключительно из-за трусости. Однако первоначально они хотели просто задержаться в Европе в надежде, что на Дальнем Востоке СССР обойдется без них. Черон пишет, как после войны они ехали на пункт сбора военнопленных.
«Я ехал на велосипеде рядом с грузином, тоже бывшим военнопленным. Воевать я определенно не хотел. Поделился с грузином своими мыслями и предложил ему бежать на первой же остановке. Он отказался. Он совсем не был против армии и говорил, что пойдет воевать и, может быть, искупит свою «вину». Я не стал его отговаривать, пусть воюет. За собой я никакой вины не чувствовал».
Интересен и способ, каким Черон первоначально хотел задержаться в Европе и избежать призыва: «Существовал еще один выход, чтобы задержаться в Германии на некоторое время. Заболеть венерической болезнью. Не помню точно месяца, мне кажется, что это было уже в конце июня, — был отдан приказ: никого с венерической болезнью на родину не пускать. Это касалось в первую очередь военных, как солдат, так и офицеров. Но скоро этот приказ был распространен на всех, включая остовцев и военнопленных. Для лечения этих болезней созданы были специальные лагеря, потому что речь шла о тысячах людей».
Однако трус есть трус: Черон не рискнул избрать этот способ и удрал на Запад вот по каким причинам: «А как этих «прокаженных» лечили в Германии? Очень старыми и ненадежными методами. Гонорею лечили уколами скипидара и морфия, перемешанными в определенной пропорции. Укол делали в ягодичную мышцу длинной иголкой с расчетом, что впрыскиваемое дойдет до надкостницы. Этот укол вызывал температуру выше 38 градусов, и если температура продерживалась хотя бы два дня, то она убивала гонококков. Это было адское лечение, очень болезненное и часто безуспешное. У мужчин отнималась нога, в которую был сделан укол, и две недели надо было учиться ходить с помощью костылей».
Так что если бы у СССР был в то время пенициллин, то Черон вернулся бы на родину, а после смерти Сталина корчил бы из себя героя-мученика фашистского плена.
Однажды и я столкнулся с советским отношением к венерическим болезням. Я, если вы помните, оканчивал школу в год, когда одновременно выпускались 10-е и 11-е классы, двое моих одноклассников не смогли пройти по конкурсу в мединститут и устроились работать в медицинских учреждениях. И где-то весной следующего года я встретил девушку из своего класса, которая как раз и хотела поступить в медицинский, идущую со стороны общежития строителей. Мы разболтались, вспомнили друзей, поделились своими планами, и я поинтересовался, что она делала в этой общаге. Она замялась, я настаивал, и она под большим секретом и предупредив, что если начальство узнает об этом разговоре, то её выгонят, сообщила, что работает в венерологическом диспансере на довольно своеобразной работе. Оказывается, что за всеми переболевшими сифилисом (который, в общем-то, не излечивается) установлен контроль, и они должны регулярно являться в вендиспансер для обследования своего здоровья. Но чтобы их не компрометировать, все это — и их болезнь, и медобследования — держалось в строгой тайне. Если пациент вовремя не являлся, то ему не посылали повестку, опять же из-за соображений тайны, а посылали человека, который должен был встретиться с пациентом под каким-либо благовидным для семьи или окружающих предлогом, а потом наедине убедить его явиться на очередное обследование. Вот она и работала таким курьером, в том конкретном случае она выяснила, что этот пациент вендиспансера послан в длительную командировку и его в общежитии пока нет. Во всяком случае, эти примеры показывают, с какой настойчивостью, дотошностью и, в то же время, деликатностью Советский Союз старался победить венерические заболевания. И, на мой взгляд, получалось это у него довольно успешно. Но хватит о грустном.
О девушках
Вернемся к тому, почему у нас вызывали презрение наши товарищи, стремившиеся к сексу любыми путями. Видите ли, мы, студенты, были элитой молодежи страны. Мы были официально умны — сам факт поступления в вуз это удостоверял. Мы были потенциально перспективны, поскольку могли в будущем стать любыми самыми большими начальниками в стране. Иными словами — мы были завидными женихами. Ни у одной девушки в стране не было никаких оснований отвергать наши ухаживания, кроме оснований какой-то нашей внутренней мерзости. Но ведь по идее никто не знает человека лучше, чем он сам, и если он сам не надеется добиться расположения приличной девушки и обращается к услугам какой-то психически ненормальной, то, значит, он видит в себе какую-то мерзость, которую не видим мы. Вот это стремление получить не всю любовь, а только оргазм, явно указывало на то, что внутренне этот человек дерьмовый. И нам свой статус элиты и счастье любви променять на оргазм и статус дерьма было непросто.
Думаю, что подход к тому, что от общения мужчины и женщины нужно брать все счастье целиком, а не только удовольствие от возвратно-поступательных движений таза, был определяющим и для девушек, с которыми мы общались. О требовании общества, чтобы девушка отдалась только мужу, я уже писал, но и девушки, которые имели интимную связь без замужества, тоже не теряли в наших глазах уважения, если их поведение ясно показывало, что секс для них не главное. Думаю, что такие девушки не имели каких-то проблем с замужеством и в отношениях с мужем.
Если же девушка явно давала понять, что ей достаточно секса, то она переходила в разряд бляди и, становясь внешне более желанной для многих мужчин, теряла у них всякое уважение. Да и за что её было уважать, если она сама себя не уважала? Ведь была же какая-то известная только ей причина, по которой она не надеялась найти парня, с которым получила бы все счастье полностью, и теперь хотела, по крайней мере, хоть потрахаться досыта? Тогда существовал анекдот. Армянское радио спрашивают, что лучше: красивая женщина с сотней любовников или верная женщина, но некрасивая? Ответ звучал так: лучше торт в обществе, чем дерьмо в одиночку. Но этот ответ смешон только в анекдоте, да и то с одной стороны, а в жизни и с другой стороны, он выглядит иначе: что лучше — сотня мужиков, видящих в тебе только кусок хорошо упакованного мяса и ни на грамм тебя не уважающих, или один любящий? И, знаете, ответ на этот вопрос уже не такой смешной.
В нашей уличной компании был совсем отморозок Вовка Сынков, хулиган по натуре, с ним и по улицам ходить было опасно из-за непрерывного мата и его непредсказуемой задиристости. Но когда он приводил в компанию своих девушек, то его отношение к ним было хотя и покровительственным, но вполне джентльменским — никакого мата и ни намека на неуважение. Ну сами посудите: кем бы он выглядел в наших глазах, если бы считал своей подругой какую-то дешевую дрянь?
Я могу привести и свой пример в ответ на вопрос, что для тогдашних наших женщин было желаннее — секс или уважение мужчины. У меня была знакомая со времен работы на заводе до поступления в институт. Девушка она была, мягко скажем, предосудительного поведения, причем это не только я знал, но и она знала, что я это знал. Там дело было так. Когда я влюбился в первый раз, то это была осень, и природа с её укромными уголками была очень неприветливой. Приходилось проявлять всю изобретательность, чтобы найти место для встречи, поскольку бедного студента всегда преследуют два несчастья: или не с кем, или негде. Однажды мы переночевали у заведующего клубом после вечеринки по какому-то поводу. А в соседней комнате была и эта девушка с довольно случайным и уже пожилым любовником. Причем обе наши пары ночью вышли перекусить, и тот тип предложил мне поменяться женщинами. Я полез драться, хозяин квартиры меня задержал до момента, когда тип, перепугавшись, извинился и сказал, что он не знал, что у нас любовь.
Тем не менее, та девушка была мне безразлична, и отношение у меня к ней всегда было ровное. Мы не имели общих друзей, круг знакомых у нас был разный, но сталкиваясь, мы не ограничивались приветствием, а немного болтали. Более того, я уже расстался с первой любовью, и как-то вечером я возвращался с первого свидания с новой девушкой, а её поведение на свидании вызвало у меня недоумение. На остановке я встретил эту свою старую знакомую, проводил её домой и довольно откровенно рассказал ей, опытной, о моем недоумении. Она тоже довольно откровенно высказала предположение, что тут может быть, и даже подсказала, как мне следует себя вести с новой подругой. То есть наши отношения были на уровне отношений давних хороших знакомых, причем с моей стороны они были вполне уважительными.
И вот как-то, уже на третьем или четвертом курсе, я возвращался домой и снова её встретил. Мы давно не виделись, разболтались, я повел её домой провожать, а поскольку я был крепко выпивши, то показалась она мне достаточно симпатичной, и в голову пришла мысль: а почему бы мне не заиметь и случайную связь? И я ей прямо это и предложил, она, однако, категорически отказалась, я настаивал, а она мягко меня отстраняла со словами: «Мы этим испортим наши отношения». Поскольку у нас не было никаких таких отношений и портить было совершенно нечего, то оставалось только одно предположение: она ценила мое доверительно-уважительное отношение к ней, возможно, редкое со стороны мужчин, и совершенно не хотела менять мое уважение к ней на секс со мной. Так я и не смог испортить с ней отношения и завести случайную связь.
Что же касается девчат нашего круга, то им бы я такое предложение не сделал ни в пьяном, ни в бессознательном состоянии, поскольку был уверен в реакции на это даже тех, для которых секс уж точно был не в диковинку. Такого неуважения к ним они бы не простили. Может, я и слишком хорошо о них думал, но думал тогда я именно так.
Они, в общем, и меньшей наглости по отношению к себе не прощали. Как-то был я в студенческом стройотряде, строили мы жилые дома в совхозе. Я был комиссаром, было нас человек 30, и положение обязывало меня быть лучшим, по меньшей мере, укладывать кирпича не меньше других, а если добавить, что, учитывая мои рабочие навыки, прораб ставил меня класть углы, то это было непросто. С нами работали кухарками две студентки, а поскольку я выделялся и по должности, и вообще, то с самого начала мне удалось обратить на себя внимание самой симпатичной из них, и дело у нас двинулось, по-моему, мы уже успели поцеловаться. Но тут пошел дождь, почва размокла, грязь была ужасная, а только я догадался захватить с собой в отряд сапоги своего брата, накануне вернувшегося со службы. И поздно вечером мы всем отрядом выпили в столовой и вышли на улицу. Нужно было перейти дорогу, а на ней была лужа метров 50 в длину, и всем нужно было это водное пространство обходить. А я предложил своей пассии её перенести. Она охотно согласилась, я подхватил её на руки, она ко мне доверчиво прижалась, обхватив за шею, но мне надо было бы идти, нащупывая ногою почву перед собой, а я смело пошлепал по луже. А под водной гладью были две колеи, которые наездили колесные трактора, и я сходу наступил на боковую стенку первой, нога ушла по этой стенке назад, а меня с девушкой по инерции понесло вперед, и я аккуратно так положил её во вторую колею, а там глубина была чуть меньше, чем в ванне. Что поделать — несчастный случай, но мне, дураку, надо было бы тут же вымолить у нее прощения, а я вместо этого (на виду остальных ребят) попытался перевести все в шутку. Эта шутка мне боком вылезла — девушка переоделась и с этого момента мало того, что смотрела на меня, как Ленин на буржуазию, но и демонстративно начала оказывать знаки внимания другому парню.
Странности любви
Может быть, я слишком идеализирую наших тогдашних девушек, но в среднем и в целом их подход к вопросам отношения с парнями и наше отношение к ним давали возможность получить такое счастье от близости друг с другом, по отношению к которому просто секс, даже частый, не шел ни в какое сравнение. Поэтому, повторю, я даже завидую тем, кто девственно объединился и прожил всю жизнь. У меня так не получилось, и, может, у меня от этого больше опыта, но зато у них освобождалось время от бегания на свидания, и освобождалось оно на другие интересные дела.
Мою холостяцкую жизнь, пожалуй, нужно считать от первой любви в начале первого курса и до того момента, когда я понял, что люблю свою будущую жену. Думаю, что это около 7 лет. В это время у меня была близость с семью девушками (женщинами, если уж быть биологически точным). Много это или мало? Если бы у меня не было других интересов, то это очень мало, но поскольку у меня были другие интересы, то это очень много — уйму времени я на это убил. Двух девушек я очень любил: одна на первом курсе дала мне огромное счастье, желанное в то время и ничем незамутненное; а вторая любовь, уже на пятом курсе, дала мне черт знает что и большую занозу в сердце, которую, по сути, выдернула только моя будущая жена. Я не могу написать, что у меня с этими девушками был секс, пусть так пишут врачи в медицинских карточках. У меня со всеми была близость, и ни с одной я не начинал встречаться, имея в виду только секс, то есть я никогда не мог заведомо сказать, куда нас эти встречи заведут, и вполне мог жениться на любой. Мой опыт говорит, что как ты это ни планируй, а предсказать развитие событий между мужчиной и женщиной трудно, если вообще возможно. Давайте немного об этом.
Анализируя свое прошлое, я как-то по-новому взглянул на содержание прочитанных романов и фильмов о любви — они все как «штаны с одного плеча». Сюжетная линия возникновения любви практически всегда одинакова: он увидел её — возникло чувство — ухаживание — счастливая любовь по американскому шаблону и трагический конец любви по советско-российскому шаблону. Из романа в роман и из фильма в фильм схема сохраняется, меняются только детали и перипетии. Как правило, это схема секса: он пришел в место сбора проституток — увидел её — она понравилась — заплатил — «любовь». Не спорю, что настоящая любовь тоже так может возникнуть. Но у меня по этой схеме любовь ни разу не возникла, однако я никогда не читал и не видел на экране схемы, подобной моим. Вот смотрите.
Я — ученик слесаря-инструментальщика инструментального цеха завода им. Артема. Мне 18-й. На механическом участке цеха работает крановщица, она старше меня, однако мне она ужасно нравится. Но я стесняюсь специально к ней подойти, а «случайно» не получается — она то на кране, то в компании более старших парней, и с работы идет с ними. Не встанешь же под краном, чтобы на нее посмотреть — работяги засмеют. Помню, мне дали нетипичную работу — на механическом участке сверлить какие-то тяжелые станины. Она мне их краном подавала и снимала — такое было счастье! Но она имела какое-то отношение к художественной самодеятельности, не помню уже какое, но надо же как-то объяснить хотя бы самому себе, как я оказался в драмкружке заводского клуба. Она, наверняка, догадывалась, что я к ней «не ровно дышу», но никаких знаков мне не подавала, а я «ходил вокруг нее кругами», стесняясь как-то объясниться. Довольствовался как пес в мультике: «меня не видят — это минус, не прогоняют — это плюс».
А у этой моей прекрасной крановщицы была подружка, ужасная стерва. Худая, ехидная, вульгарная блондинка. Она ситуацию вычислила и начала меня все время подначивать и подхихикивать. Тут и так стесняешься, а еще эта зараза приблизиться к подруге не дает. Возненавидел я эту стерву, смотреть на нее не мог. И вот как-то (я уже учился) мы отыграли в клубе какой-то концерт, наверное, к Октябрьским. Завклубом организовал вечеринку для участников, потом начались танцы, и эта стерва подходит и приглашает меня. Послать её подальше — высмеет! Ну и я положил ей руку на талию, положил с большим отвращением. А к концу танца был влюблен в нее по уши. Ну, может и не к концу танца, но к концу вечера мы уже в каком-то закутке целовались, и я был где-то на седьмом небе. Говорят, что от любви до ненависти один шаг, но я-то сделал этот шаг в обратном направлении. Кстати, когда моя прекрасная крановщица узнала, что я встречаюсь с её подругой, то тут же нашла способ дать мне понять, что я очень интересный мальчик. Ага! Поздно, мне уже никто иной не был нужен.
А любовь на пятом курсе возникла так. Я эту девушку знал до этого года два. Наш СТЭМ выступал вместе с вокально-инструментальным ансамблем — так было легче и нам, и зрителям. А в ансамбле пели, по-моему, человек пять студенток младших курсов, в том числе и эта девушка. Она была симпатичной, но не более того, вместе с ней пели девушки гораздо красивее. Кроме того, вскоре выяснилось, что она встречается с гитаристом, а я подобных пакостей товарищам не делаю. Короче, она была мне совершенно безразлична, хотя в течение этого времени мы виделись очень часто, и выпивали вместе, и в Ленинград ездили в одной компании.
Перед началом пятого курса поехала наша самодеятельность в наш спортивный лагерь, самим развлечься и тамошний народ повеселить. И чуть ли не в последний день стало мне после обеда скучновато, смотрю, у сторожа лодочной станции удочка стоит. Попросил, тут же нашел пол-литровую стеклянную банку, выкопал пару червей, сел в свободную лодку и подгреб к противоположному берегу Самары. Приткнулся в камышики и забросил. Клевало хорошо, но один бубырь. Это такая рыбка, похожая на бычка, но о-очень маленькая. Её обычно ловят как живца для окуня и судака. Ладно, думаю, дай, половлю, если сторожу не потребуется, то отпущу. Помыл банку, налил воды и складываю в нее добычу. Сижу, никому не мешаю, вижу, через Самару ко мне плывут две головки — эта девушка и её подружка, очень симпатичная. Наплыли мне на поплавок, я их обругал за то, что они мне рыбу распугали, они, конечно, посмеялись над тем, что я называю рыбой (когда я из-под них выдернул очередного буГлавабыря), но все же отплыли, недовольные таким приемом. Однако подружка успела стрельнуть по мне пару раз глазками и попала. А я в те годы был любопытным: «Чего это, думаю, они Самару переплывали? Надо будет, думаю, вечером на танцы сходить, с этой подружкой потанцевать и узнать, что там и к чему».
Пошел вечером на танцы, они действительно там, стоят возле оркестра, в котором как раз играл парень этой девушки. Я начал проталкиваться, но когда подошел, то подружка уже танцевала с каким-то студентом, мне ничего не оставалось, как пригласить эту девушку. Потанцевали, она мне рассказала, что её подружка танцует со своим постоянным другом, и я понял, что в стрельбе глазками я увидел то, что сам хотел, а не то, о чем мне сигнализировали. Мне стало скучно, я решил вернуться в лагерь и переплыть на другой берег Самары — мы там ночью жгли костер, и на огонек к нам залетали разные симпатичные существа. А эта девушка сказала своему парню, что уходит в лагерь, и мы вместе пошли. Чтобы спрямить дорогу, надо было перелезть через невысокий забор, сначала я перепрыгнул, а потом она. Я, чтобы помочь ей, принял её, она упала мне в объятья, и мы как-то сразу поцеловались. И пошло-поехало! Месяцев пять. Со всеми приличествующими атрибутами: дикой радостью, страшной ревностью, бессонными ночами и т. п.
Вот я и пишу, что когда начинаешь встречаться с девушкой, то никогда толком не знаешь, чем это кончится, может быть, как и с сексуальной партнершей — оргазмом или несколькими, а может, чем-то таким, что будет для тебя огромным счастьем.
Женщина — это не только тело, это и нечто, что называется душою. Обычно женщины очень следят за тем, как выглядит тело, и это, безусловно, правильно. Но мужчины любят их в комплексе, и тело является далеко не определяющим фактором. Уж если мужчина полюбил, то ему в женщине кажется прекрасным всё, и все это достойно любви. Не буду приводить примеры этому, тут можно опереться на общее положение: если бы это было иначе, то любимыми были бы только какие-то топ-модели, однако в жизни любимыми становятся (или, по крайней мере, раньше становились) почти все женщины, а топ-модели, боюсь, в последнюю очередь. Ведь за что любить тело, пусть даже ослепительно красивое, — это всего лишь мешок с мясом и костями. Желать этот соблазн, это мясо можно, а любить-то за что? Сегодня женщины очень много уделяют внимания тому, как они выглядят, но очень мало тому, за что их можно полюбить. Так мне кажется…
В связи с этим я хочу обратить внимание на то, что некоторые читатели, возможно, пропустили, — я подчеркнул, что все семь женщин, с которыми у меня была близость в холостяцкие годы, не были девственны к моменту, когда мы начали встречаться. И одновременно я писал, что в мое время очень многие девушки берегли девственность до замужества. Как же так? Получается, что, либо девственниц не было, либо я с ними специально не встречался?
Ближе к истине второе. Я же пишу не вообще о любви, а специально о сексе в то время. На груди у наших девушек не было табличек, девственна она или нет. И встречался я, разумеется, со всеми. Вернее, начинал встречаться. И от свидания к свиданию мы целовались все жарче, и ласки были все смелее, и когда я чувствовал, что подхожу к пределу высшего доверия, то я предупреждал о наличии у меня принципа — предупреждал о том, что не смогу жениться, пока не окончу учебу и не стану самостоятельным. Для девушек это никогда не было веской причиной, Поскольку вокруг было полно женатых студентов, и ничего — жили. Для девушек это было моим признанием в том, что я их не люблю. Такой, которая готова была бы мне на этих условиях отдаться, которой так уж хотелось бы секса, не нашлось. Они были свободными людьми, а посему считали, что если я оставляю себе свободу жениться, когда захочу я, то и они оставляют себе свободу подождать с сексом до момента, когда они его уж очень захотят, а вернее — еще поискать, нет ли кого получше меня, понадежнее, чем я, и любящего их больше, чем я. Что мне было делать — обманывать их? Но во имя чего? Во имя какого-то дурацкого секса? Но для этого мне самому надо было признать себя животным, не контролирующим себя.
С другой стороны, такая расчетливость и у меня вызывала сомнения в том, любят ли меня. И если бы нашлась такая, которая и на этих условиях доверилась мне, т. е. показала, что я для нее значу очень много, то, думаю, что я женился бы на ней обязательно. В конце концов это ведь был мой принцип — я его установил, я бы его и отменил.
По тем же девушкам, с которыми у меня была близость, статистика такова. С первой моей любовью у нас не было выбора — тогда обстоятельства заставили нас расстаться. С одной девушкой расстался я, когда понял, что она хочет ребенка и мое мнение по этому поводу её не интересует. Я не мог себе представить такую жену даже в перспективе. Еще одну девушку я оставил потому, что влюбился в другую. Остальные оставили меня, думаю, именно потому, что не верили, что я их люблю, тем более, что я никому из них этого слова и не говорил, не верили в то, что я женюсь на них в будущем. Тогда мне часто было обидно, что меня бросают, но как я могу их за это осуждать, если фактически следовало бы осудить себя? Все они, кстати, вышли замуж. Не уверен, что все они вспоминали обо мне добрым словом, но я искренне благодарен им всем за то счастье, которое они мне подарили. Даже той, которая устроила в моем сердце погром, черт с ним, я его пережил, да и погром этот был, надо думать, не без моей вины.
Поскольку у меня все же тлеет надежда, что эта книга хоть кому-то будет полезна, то мне полагалось бы дать совет, но в главе о сексе я его дать не могу. Опыт-то мой применим к прошлому — к тем парням и тем девушкам. К людям с той мерой ответственности, которая была тогда, и с тем представлением о ценностях жизни.
Одно, пожалуй, пока вечно: не ищите вы себе «сексуальных партнеров», не ограничивайтесь телами, а задевайте своими чувствами души друг друга — не обворовывайте себя в счастье.
Давайте, я на этом закончу свои рассказы на тему, которая одна только и интересует наших «мастеров пера» и «инженеров человеческих душ».
А заодно и закончу рассказ о том, какими же балбесами мы были.
Глава 2 О СВОБОДЕ И «ЕВРЕЯХ С МОЕГО КОНЦА СЕЛА»
Товарищи преподаватели
Я уже упоминал, что в институте мы застали порядки еще сталинского свободного Советского Союза. Ректором у нас был Николай Фомич Исаенко, я его совершенно не помню, поскольку не встречался, а издалека он выглядел уже довольно слабым стариком. Говорили, что он учил еще Брежнева, тогдашнего Генсека КПСС, и мы этим гордились.
Как-то я услышал, что слово «товарищ» происходит от слова «товар». Россия всегда страдала от протяженности своих дорог и отсутствия местных материалов для их строительства на почти повсеместно мягкой, хорошо впитывающей воду почве. Весной, летом и осенью ездить по России было очень трудно. К примеру, императрица Елизавета, взойдя на престол, послала на Камчатку своего курьера Шахтурова, чтобы он не позже чем через полтора года, к её коронации, привез «шесть пригожих, благородных камчатских девиц». Императрица слабо представляла себе размеры государства и трудности передвижения по его просторам: только через 6 лет гонец с отобранными девицами на обратном пути смог достичь Иркутска. Там у него кончились деньги, да, видимо, и девиц он действительно отобрал пригожих, так как к тому времени они уже все были или с детьми, или беременны. Несчастный гонец, понимая, что он безнадежно запоздал, запросил из Иркутска Петербург: что же ему делать с «девицами»?
Но товар-то в России перевозить надо было! И делалось это зимой крестьянами, когда пути шли по льду рек или по накатанным снежным дорогам, на санях, поскольку зимой ни крестьяне, ни их лошади не были заняты. На дорогах была масса опасностей, начиная от метелей, кончая татями-разбойниками. И крестьяне, занявшиеся извозом, получив товар, объединялись в обозы, вместе везли товар и защищали его от опасностей. Их не объединяла ни взаимная приязнь, ни общие увлеченья, делающие людей друзьями и приятелями, их объединяла только необходимость довезти товар до пункта назначения. Посему они и называли себя «товарищи», то есть товарищи — это люди, объединенные делом или событием («товарищи по несчастью»).
Так вот, с точки зрения исконного значения этого слова, в те времена наши отношения с преподавателями были товарищескими безо всякой натяжки. Было общее дело — дать стране инженеров-металлургов, мы это дело делали вместе: мы учились, они учили. Делали они это в основном твердой рукой, порою жестко, я ведь писал, что могли выгонять с экзамена по многу раз и до тех пор, пока студент не начинал понимать их предмет. От очень уж слабых избавлялись на первых курсах, а остальных учили добросовестно, безо всяких увлечений бюрократической показухой и отчетностью. Мы, соответственно, тоже обязаны были не диплом получить, а действительно выучиться.
В остальном нам предоставлялась полная свобода, на нас смотрели как на взрослых людей; какой-то назойливой опеки не было, и отношения со студентами у преподавателей были очень простые, без какой-либо заносчивой придури, требований «уважать» и т. п. Среди преподавателей люди, конечно, были разные, но я говорю об общем впечатлении: к нам, студентам, преподаватели относились как к товарищам по учебному процессу.
Вот эпизод, который я помню, правда, по другим причинам. Где-то на первых курсах в конце осени наша группа поехала на субботник в колхоз. Убирали мы столовую свеклу, машин для её вывоза было мало, и мы складывали её здесь же, на поле, в бурты и укрывали ботвой. Возглавлял группу преподаватель нашей кафедры Александр Вольфович Рабинович, он тогда был очень молод, только защитился, и на кафедре его все звали Шуриком. Мы, само собой, тоже его так звали, но, конечно, за глаза. Собираемся у очередного бурта перекурить, и вдруг кто-то подвернул ногу, наступив на свеклу, и внятно выматерился. Это было недопустимо не столько даже потому, что с нами был преподаватель, сколько потому, что были девушки. Возникла пауза — все ждали, как Шурик прореагирует: будет читать нотацию или сделает вид, что не услышал. А Рабинович, улыбнувшись, прервал паузу анекдотом.
Армянскому радио задают вопрос: чем отличается интеллигентный человек от неинтеллигентного. Радио отвечает: интеллигентный человек, наступив ночью на кошку, воскликнет: «О, кошка!» Мы засмеялись, даже не оценив тогда, как естественно Шурик сделал втык грубияну, не делая его.
Я же запомнил этот эпизод по другому поводу. Дома у нас жила собачка: мне подарили её еще щенком и я назвал его Тюльпаном. Пес был храбрый, чуткий и очень звонко облаивал всех незнакомых, заходящих к нам во двор. Но он был маленький: одна моя подруга, увидев его, сострила: «У меня тоже был такой пёс, но его кошка съела». Конечно, пес был крупнее кошки, но не очень. Жил он во дворе, и на тот момент ему понравилось спать на коврике перед входной дверью веранды. И в тот же день, вернувшись с субботника, я поздно вечером выходил в туалет, забыл о Тюльпане и наступил на него. Пес взвизгнул, и я, надо сказать, успел кое-что крикнуть ему, пока вспомнил анекдот, рассказанный Рабиновичем, и рассмеялся еще раз.
Но больше всего в той атмосфере товарищества мне запомнилась встреча Нового года, которая была то ли на втором, то ли на третьем курсе. Преподаватели и студенты отмечали его вместе, правда, приглашались только активисты и отличники. Билет стоил недорого, и я с некоторым недоверием пошел на такое непривычное мероприятие. Все происходило в здании института, что тоже было довольно необычно. Столы были накрыты в большом спортивном зале — внизу, на площадке, и на балконах зрителей. В актовом зале до полуночи шел концерт, в затемненном конференц-зале всю ночь показывали мультики, в фойе танцевали, в борцовском зале были сложены маты, и на них отдыхали те студенты, кто забыл, что водка и коньяк — это не «биомицин». Никогда в жизни у меня не было такого веселого и такого трогательного по своей дружелюбности праздника. Некоторые утверждают, что я, раздвигая туфлями тарелки и салатницы, залез на стол и сказал тост для всех собравшихся. Не верьте — я такого Не помню! Во всяком случае, даже если такое и было, то принят этот тост был хорошо. Увы, такая встреча Нового года, длившаяся тогда до 6 утра, до начала движения городского транспорта, больше никогда не повторялась — ушел на пенсию Исаенко, уходили старые кадры, вместе с ними уходил дух коллективизма и навыки общенародных веселий.
Тот Новый год был памятен мне и по другой причине. Девушка, которая через много лет стала моей женой, была отличницей и тоже была на этом празднике. Она мне понравилась еще с первого знакомства, но все как-то не было случая познакомиться с ней поближе. Мы иногда болтали с ней в коридорах, но пригласить её на свидание я опасался из-за неуверенности, примет ли она это предложение. А нарываться на отказ не хотелось. Праздник же предоставил прекрасный случай для предварительного общения. Мы много вместе танцевали, утром я пошел проводить её до общежития и перед входом в него своими губами поймал её губы, мы довольно долго целовались, пока нас не спугнули, и она ушла. Домой я ехал окрыленный, а после праздника сразу же разыскал её и пригласил на свидание. Она сослалась на занятость. Я на следующий день повторил попытку. Она опять сослалась на занятость, но по её тону я уже понял, что мне дан отлуп. Я, конечно, догадывался, почему, и потом это подтвердилось — я не только целовался в новогоднее утро, у меня и руки не висели без дела — слишком я оказался шустрым. Но все равно — было очень обидно. Поэтому, чтобы не доставлять ей слишком много радости своими огорчениями по поводу её отказа, я до окончания института старался принимать в её присутствии вежливо-равнодушный вид — типа «ну и мне не очень хотелось».
Общественные работы
Судя по всему, в институте я был комсоргом, каким комсоргом — не помню. Скорее всего, комсоргом группы, а может, и потока МЧ. К этой мысли меня приводят некоторые воспоминания, в которых я фигурирую как бы в какой-то общественной должности. К примеру, я был в составе общественных наблюдателей комиссии по распределению или, скажем, была же какая-то причина у парня, заболевшего гонореей, обратиться ко мне, а не к какому-нибудь другому студенту из местных? Но, с другой стороны, я совершенно не помню того, что должно было сопровождать эту должность: собраний, бюро и т. д. Но если я действительно был комсоргом, то тогда мои товарищи столкнули на меня эту должность правильно. Во-первых, я был по характеру тем, о ком мой дядя Илларион говаривал: «Такой среди своих не потеряется!» Во-вторых, я был убежденным коммунистом. Я не просто верил, а я был убежден и убежден в этом и по сей день, что коммунизм — это единственная коллективная человеческая цель, которая обязана стоять перед человечеством. Только сейчас я понимаю, что без этой цели сообщество людей — это стадо животных, а тогда мне устройство страны казалось абсолютно правильным, посему и цель страны — коммунизм — не вызывала сомнений. Я, безусловно, по этому вопросу читал больше своих товарищей и был уверен, что марксизм — это наука, то есть он своей теорией описывает объективную реальность. По молодости и отсутствию опыта я еще не знал, как подтасовкой одних фактов и умолчанием о других можно создать любую теорию. Но мне нравилось, что коммунизм — это справедливость, и та несправедливость, которую я видел, в моем понимании к коммунизму отношения не имела, впрочем, так оно и было.
Помню, как-то летом наша четверка взяла винца и поехала загорать. У Коли Кретова была отцовская лодка с мотором, поэтому мы заплыли на какую-то днепровскую косу с чистеньким песочком и совершенно безлюдную. Там выпили и начали спорить о коммунизме и о житье-бытье. Я доказывал правильность происходящего, а мне совали в нос разные фактики из нашей жизни. Спорили-спорили, и я вызвал Толика Шпанского на поединок по правилам классической борьбы. Мы долго барахтались в песке, пока я все же не уложил его на лопатки. После этого, выплевывая песок, пошли купаться, этим и завершив мою политическую работу.
Особый вопрос — демонстрации на 1 мая и 7 ноября. Надо думать, что в этом деле я, как комсорг, должен был как-то работать, но я этого не помню, поскольку те, кто на демонстрацию не являлись, вызывали у меня искреннее недоумение. И по сей день для меня этих праздников как праздников без демонстрации не существует. Это просто пьянка по непонятно какому поводу. Оказаться слитым с тысячами, а в масштабах Днепропетровска — с сотнями тысяч человек, — это же непередаваемое чувство! Ведь от Сталина идет требование единения людей, стремление соединить их вместе, люди должны были видеть, как их много и какие они все — свои. Это сейчас уроды у власти боятся скопления обычных людей, а тогда этого и не боялись, и приветствовали.
Думаю, что движение колонн рассчитывали и организовывали военные комиссары города, поскольку военные руководили их прохождением. Милиция в парадной форме тоже вся была на улицах — в опасных местах она выставляла заграждения, чтобы одни толпы людей не пересеклись с другими и не возникла давка. Надо думать, что опробованный вариант движения людей во время демонстрации повторялся из года в год, поскольку двухчасовое движение к трибунам осуществлялось чуть ли не с точностью до минуты. Не было необходимости запасаться выпивкой, поскольку мы точно знали, что через 15 минут от начала движения нашей колонны мы будем минут 10 стоять у гастронома, в котором все купим. А еще минут через 5 наша колонна остановится у одного старого дома, во дворе которого нас ждут старушки со стаканами и с мешками под пустые бутылки, иногда даже с кусочками огурца на закуску (за пустые бутылки шла конкурентная борьба). Здесь мы разливали вино по стаканам, выпивали и дальше шли веселые и с песнями.
(Интересно, что когда я приехал в Ермак, то там в первый год еще застал эти реликты сталинского времени. Ермак — город маленький, как по нему ни ходи, а через 10 минут окажешься у трибуны и демонстрация закончится. За такое время человек не успеет опьянеть и развеселиться. Поэтому уже за час до демонстрации в месте сбора колонны завода ОРС расставлял прилавки и разливал водку в бумажные стаканчики вообще без каких-либо наценок. В остальные дни водка «на разлив» не продавалась нигде, кроме ресторана.)
Изначальный замысел демонстрации был не в том, чтобы демонстрировать что-то кому-то на трибунах — кому это надо? Люди должны были демонстрировать сами себя своим согражданам и от увиденного веселиться — ведь это праздник! И никто не стеснялся «подогреть» это веселье. Кстати, если в обычные дни милиция, подобрав пьяного и поместив его в вытрезвитель, потом выставляла ему счет в 15 рублей и сообщала об этом по месту работы, то в праздники вытрезвление шло, так сказать, «за счет заведения», и никому об этом не сообщалось.
Пожалуй, необходимо сказать пару слов о советской милиции. Милиционеры служили всему народу, а не деньгам или начальству, и даже по их внешнему виду это было сразу заметно. К примеру, увидеть милиционера даже с оружием самозащиты — с пистолетом — было очень трудно, поскольку, даже патрулируя, они были безоружны, редко кто-то один из патруля мог иметь пистолет. Они служили народу, и эта служба их и защищала — при появлении милиционера все безобразия прекращались, и милиция занималась разбором происшествия и составлением протокола. А милиционера с оружием нападения — с дубинкой — мы не могли себе представить даже в страшном сне. Мы же не на Западе — это там люди — скоты и позволяют себя бить. А мы — свободные советские люди, кто посмел бы нас бить?! Что интересно, в 1966 году, одновременно с выходом Указа об усилении борьбы с хулиганством, дубинки были поставлены на вооружение милиции и тем не менее я никогда их не видел у советского милиционера.
В те годы в Днепропетровске была пара народных возмущений, я помню, что как-то на Южмаше быстро собралась многотысячная толпа. Милиция, конечно, на такие случаи выезжала, но уж точно безо всякого оружия. Дело в том, что народные выступления были смертельны для партийного и советского начальства — его за это гнали с должностей. Посему эти толпы успокаивали лично самые высокие начальники, клятвенно обещая немедленно во всем разобраться и решить конфликт по справедливости.
Но вернемся к праздничным демонстрациям.
Итак, распевая (а может, горланя) песни, мы шаг за шагом продвигались к месту нашей главной хохмы — к трибуне с руководителями города. Дело в том, что подходили мы к ней по проспекту Карла Маркса, а он разделен газоном. По ближней к трибуне стороне проезжей части шли мы, колонна металлургического института, а по дальней — колонна медицинского училища — несколько сот симпатичных девушек в белых халатах. А на площади перед трибуной наши колонны сходились в одну, и мы шли рядом. Я говорил, что вариант движения колонн не менялся, и так было каждый праздник. Не менялся и список здравиц на трибуне — они тоже всегда были одни и те же. Сначала, увидев нашу колонну, с трибуны провозглашали здравицу советским металлургам, после нашего «ура!» — здравицу советским медикам, которым мы тоже кричали «ура!» с удовольствием, затем шла здравица советской молодежи, тут уж поорать сам бог велел, но затем трибуна отдавала дань девушкам и кричала здравицу советским женщинам. Но по-украински здравица «Да здравствует советская женщина!» звучит как «Хай жывэ радянська жинка!», что в дословном переводе звучит как «Пусть живет советская женщина!», с чем наша колонна радостно соглашалась, хором крича «С кем хочет!». К этому моменту шедший впереди наш замдекана, следивший за нашей дисциплиной, Никита Саввич Худолей уже шел боком, грозя передним рядам снизу кулаком, но не помогало — это «3 кым хочэ!» звучало от демонстрации к демонстрации, причем мы позаимствовали эту хохму у старшекурсников.
Ну и чем заменишь эти пару часов веселья в кругу десятков тысяч радостных и веселых лиц? Какой-нибудь попсой, прыгающей на экране?
После того, как я столько страниц посвятил описанию наших гулек, я уже и сам стал забывать, зачем в 1967 году поступил в Днепропетровский металлургический институт. Напомню: я поступил туда, чтобы выучиться на инженера-металлурга.
Будет и об этом, но сначала я закончу тему о свободе.
О свободе
Повторю, вспоминая то время, порою удивляешься, каким же балбесом ты был, но при этом каким же счастливым ты был балбесом.
Ответственность и вызванные ею заботы ограничивают свободу, а наша единственная забота — учеба — была необременительной и нашу свободу ограничивала незначительно. Для осуществления своей свободы очень часто нужны деньги, скажем, ты свободен куда-то поехать, но у тебя нет на это денег, так что свобода есть, но реализовать ее невозможно. Такой свободе будет радоваться только идиот. В СССР студенты считались самым бедным слоем общества, была масса анекдотов о студенческой бедности. При всем при этом мы совершили неописуемое количество глупостей, требующих денег, а сколько бы мы их совершили, если бы не были самым бедным слоем? Страшно подумать! Это было время счастливой, совершенно беззаботной свободы, и совершенно естественно воспринимаются слова песни сталинских времен: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек».
Чепуха, скажут мне, это Западная Европа и США свободные страны, а в СССР был страшный тоталитаризм, и все люди были рабами. Очнитесь! Я вам описал реальные эпизоды своей жизни, дал реальные фамилии своих друзей и знакомых, спросите их, лгу ли я. И что, из этого моего описания следует, что мы были несчастными рабами?
Как же, скажут мне, в СССР все боялись КГБ, никто не мог поехать за границу, не было никакой свободы слова. Давайте по порядку об этом хотя бы вкратце.
Мы любили свое государство, мы любили его за то, что оно дало нам беззаботную, счастливую, но при этом осмысленную жизнь. (У меня был довольно хороший знакомый, фактический владелец фирмы «Минрэ» с годовым торговым оборотом в 1 млрд. долларов, «сделавший себя сам» еврей из Люксембурга Роже Эрманн. Где-то в 1992 году мы сидели с ним в каком-то московском ресторане, обсуждали текущие события, и он мне сказал: «Юра, вы совершили страшное дело: убив социализм, вы убили смысл жизни своих детей».) Расшифрую для идиотов: КГБ — это Комитет государственной безопасности, т. е. люди, которые защищали безопасность нашего государства, нашу безопасность. Подлые уроды, посягавшие на свободу, целостность и независимость нашего государства, КГБ боялись, это так. Но нам-то чего было его бояться?!
Я, работая еще в СССР, объездил по делам завода пол-Европы, Беловежский сговор 1991 года застал меня в Японии. Мои друзья, врачи Гриша и Таня Чертковеры, большие любители путешествий, почти каждый год проводили отпуск за границей, после круиза по Средиземному морю долго переписывались с приятелем, которого завели в Италии. Мой троюродный дядя, сварщик Виталий Шкуропат, в общей сложности лет 10 работал в Индии, а потом в Иране на строительстве металлургических заводов. Мой родной брат Гена 11 лет служил в Германии. Мой сосед по родительскому дому Валера Краснощеков, слесарь-сборщик, раз пять был в длительных командировках за границей, собирая там бумагоделательные машины, созданные на заводе им. Артема. Но если ты тупой баран, ничего полезного не умеешь ни здесь, ни там, то зачем ты нужен за границей? Ты и тут-то не особо нужен, если вдуматься. Как-то в Москве разговариваю с французами, и они спросили, сколько от Москвы до места моей жизни и работы — до города Ермака. Я ответил, что 3,5 тысячи километров, и они ужаснулись: «Это же дальше, чем от нас до Канарских островов!» А мой брат, когда служил в ГДР, каждый отпуск из Дрездена сначала летел порыбачить к свояку на Камчатку и только потом прилетал к нам на Украину. Посмотрите по карте расстояние от Германии до Камчатки — это почти половина окружности земного шара!
Теперь о свободе слова. А вам было что сказать? Вы знали что-либо такое, что остальным полезно было бы услышать? Вот уже 20 лет как у нас пресловутая свобода слова, что же мы от вас, свободолюбцы, ничего путевого до сих пор не услышали? Со мною не согласятся, и хотя со мною не будут спорить, но будут утверждать, что с началом перестройки мы наконец-то услышали всю правду. Однако давайте оценим в долларах, во что обошлась советскому народу эта «правда».
Это прикинуть не очень сложно. По данным «Российского статистического ежегодника», в 1990 г. в Советской России проживало 148 млн. человек, а валовой внутренний продукт составлял 1102 млрд. долларов США (число занижено, но возьмем его — официальное!). На душу советского населения Советской России приходилось 7446 долларов. А в Южной Корее в этом же 1990 г. — 5917 долларов. То есть средний гражданин РСФСР был богаче среднего южного корейца на 26 %. А в 1993 г. средний душевой валовой продукт заболтанной «свободой слова» России составил 1243 доллара — в шесть раз ниже, чем в 1990 г. и уже в шесть раз ниже, чем в Южной Корее в 1993 г.! По данным ЦРУ (теперь уже завышенным), в 1999 г. душевой валовой продукт России — 4200 долларов, а Южной Кореи — 13300. Если бы подонкам пасть заткнули и Россия оставалась советской и в составе СССР, то нет оснований полагать, что соотношение 1990 г. сильно бы изменилось не в пользу СССР. То есть сегодня у среднего российского гражданина душевой валовой внутренний продукт был бы на четверть выше, чем у южного корейца, или в пределах 16000 долларов, а это в четыре раза больше, чем сегодняшние 4200. Но свобода слова — это полная и достоверная информация, поскольку только анализ полной и достоверной информации должен привести к правильным решениям, а правильные решения — к улучшению жизни. Но если материальный уровень жизни сегодня стал в 4 раза хуже, чем в СССР, то что понимать под свободой слова — ситуацию в Советском Союзе или свободой слова нужно называть тот бесполезный информационный мусор, который СМИ льют на голову отупевшего обывателя?
Я много поездил по миру и могу привести много примеров их пресловутой «свободы»: чего стоит, к примеру, тот факт, что в Европе осуждено и посажено в тюрьмы уже более 50 историков, заметьте, даже не политиков, а историков, всего лишь за попытку исторических исследований. Но я сосредоточу примеры на простой до примитивности стороне нашей жизни — на быте.
Наши приятели Андрей и Тамара Матиссы выехали на постоянное место жительства «на историческую родину» — в свободную и цивилизованную Германию. Андрей — инженер-электрик, по менталитету — советский трудяга, поэтому у него и у таких, как он, возникла обычная для СССР мысль построить дом — пяток лет попашешь, зато потом будешь жить в своем доме, а не как эти ленивые немцы, всю жизнь арендующие жилплощадь. Внешне препятствий нет: и участок можно недорого купить, и ссуду взять на приемлемых условиях. Вот только самому построить нельзя. Нет, никто не запрещает — строй, но начнешь строить сам — и никаких денег не хватит. Вот, скажем, Андрей может купить кабель, приборы и установить в доме электропроводку (он же инженер-электрик), и по затратам это будет раз в 5 дешевле, чем заплатить фирме за её установку. Но электропроводку надо будет подключить к общей сети, а для этого нужно, чтобы её приняла некая контрольная организация. Так вот, если ты установил проводку сам, то этой контрольной организации за право подключения дома заплатишь больше, чем фирме, устанавливающей проводки. И так на всех этапах строительства. Но тут хотя бы явных запретов нет.
В Германии Андрей и Тамара разошлись, она снимает крохотный летний домик с участком в три сотки, на котором, благодаря климату, живет почти весь год, выращивая по привычке для детей огурцы, помидоры и т. д. Я советую: заведи 3–4 курицы, помимо яиц, которых тебе за глаза хватит, они будут съедать остатки со стола и с участка, кроме этого, будут давать немного, но очень сильных удобрений. Тамара только вздохнула: нельзя, никакой живности на участке держать нельзя. Такая у них свобода.
Мой отец в 1948 году сам построил дом (в СССР это поощрялось) на участке в 4 сотки, но почти до конца 70-х был и сосед, так что фактический участок был в пределах 2,5 соток. Мы всегда держали курей, иногда уток или кроликов. Я одно время держал голубей. У нас всегда были собака и кошка. И если бы кто-то сказал нам «нельзя», мы бы, советские люди, его даже не поняли, поскольку не обязаны были понимать придурка, в такой степени покушающегося на нашу свободу.
Сейчас я живу в Москве в обычном 14-этажном доме, и у соседей по подъезду полно собак — от огромной овчарки до пики-несса с ладошку. А вы присмотритесь хотя бы к американским фильмам — в США держать собак в квартирах большинства домов запрещено. Да что квартиры. Мой товарищ живет сейчас на юге США в своем доме на огромном, по нашим меркам, участке земли в половину акра, т. е. в 20 соток. Спрашиваю, какой породы собачку держит? Отвечает: нельзя! Кто бы нам в СССР на 20 сотках запретил держать хоть стадо коров? Живет мой товарищ на берегу океана, спрашиваю, как часто он в нем купается? Отвечает: нельзя, хочешь купаться — заплати и купайся в специально построенном на берегу бассейне.
Корреспондент «Дуэли» в Вене А. Дубров собрал со страниц австрийских изданий «Kurier» и «Der Standard» такую информацию об уровне свободы в США.
«Недавно в Вашингтоне полицейский повалил на землю беременную женщину, которая, по его мнению, слишком громко разговаривала по мобильнику. После этого он надел женщине наручники. Аналогичный случай произошел в вашингтонском метро. Подросток откусил от плитки шоколада, а есть и пить в метро запрещено. Полицейский надел на него наручники и отвел в участок. В городе Окала, штат Флорида, девятилетний мальчик нарисовал в школе рисунок, который, по мнению учительницы, содержал «элемент насилия». Учительница вызвала полицию, те надели на мальчика наручники и повезли в участок. В 1999 году соседка лживо донесла на 11-летнего мальчика, что тот сексуально преследует свою маленькую сестру. Мальчика вытащили из постели ночью, надели наручники и бросили на 6 недель в тюрьму, пока не выяснилось, что соседка наврала. Во Флориде за плохое поведение в детском саду полиция задержала пятилетнюю девочку. Девочке надели наручники и доставили в участок».
Мне опять скажут, что зато в США свобода слова и свобода Передвижений. Но если у них свобода передвижений, то почему же они не уедут из этой паршивой страны, а если у них свобода слова, то почему же они не используют её, чтобы изменить свои собачьи порядки? Потому, ответят мне, что им такие порядки нравятся. Все правильно: если человек по своей натуре раб, то его и такие порядки устроят.
Есть старый анекдот. Маленький мальчик поздно вечером подкрался к спальне родителей и заглянул в замочную скважину. После чего развел руками и удрученно сказал:
— И эти люди запрещают мне ковыряться в носу?! Так и мне остается сказать:
— И эти задолбанные рабы учат нас, советских людей, свободе?!
Кругозор
А теперь, с позиции свободы, вернемся к учебе в институте — к тому, зачем, собственно, я в него и поступал.
На мой взгляд, система нашего высшего образования крайне неэффективна и требует коренного изменения, но я обсуждать это изменение не буду, чтобы не уходить от темы. А неэффективность заключена в крайне низком выходе полезной продукции — инженеров, юристов, учителей и прочих. Людей с дипломами о высшем образовании море, а тех, кто действительно является специалистом, соответствующим, к примеру, званию инженера или юриста, капля в море, ну, может быть, десять капель. Уже в мое время в вузы косяками ломились детки с единственной целью — сделать всё, чтобы во взрослой жизни не работать руками. В стране победившего пролетариата пролетарский труд вызывал ненависть и презрение пролетарской интеллигенции, а поскольку именно эта интеллигенция оккупировала СМИ по велению ЦК КПСС, то вслед за интеллигенцией презирать работу руками стал чуть ли не весь народ. В вуз поступали, чтобы потом не стоять у станка, в принципе, этого и не скрывали: родители не стеснялись напутствовать детей словами: «Учись сынок, а то работать придется». И получение высшего образования становилось способом не работать, соответственно, миллионам людей диплом дал возможность не работать, но не сделал их счастливее ни на копейку. Вместо того чтобы получить счастье творца как человек, они прозябали с 8-00 до 17–00 как животные. Немудрено, что движущей силой перестройки явились люди с «верхним» образованием: диплом дал им непомерные амбиции, глупость дала уверенность в том, что они умные, а умишко при отсутствии труда остался детским. Ну да ладно о грустном.
Я уже писал, что тот объем знаний, который можно получить в институте, влияет главным образом на кругозор человека и, если человек действительно научился пользоваться полученными знаниями, то для него нет ничего, в чем бы он не сумел разобраться при необходимости. Но штука-то в том, что все эти знания при желании можно получить самому, без вуза, и еще бабушка надвое сказала, что легче. Возьмите, к примеру, Сталина, я уже в нескольких книгах использовал этот пример, но, думаю, что и в этой он будет к месту.
В нашем дегенеративном мире редко находится историк или журналист, который бы не попенял Сталину на отсутствие образования («недоучившийся семинарист») и не противопоставил ему его политических противников «с хорошим европейским образованием». Эти журналисты и историки, надо думать, очень гордятся тем, что имеют аттестат зрелости и дипломы об окончании вуза. А между тем, что такое это самое «европейское университетское» образование? Это знание (о понимании и речи нет) того, что написано менее чем в 100 книгах под названием «учебники», книгах, по которым учителя ведут уроки, а профессора читают лекции.
Изучил ли Сталин за свою жизнь сотню подобных книг или нет?
Начиная с ранней юности, со школы и семинарии, Сталин, возможно, как никто стремился узнать все и читал очень много. Даже не читал, а изучал то, что написано в книгах. В юности, беря книги в платной библиотеке, они с товарищем их просто переписывали, чтобы иметь для изучения свой экземпляр. Книги сопровождали Сталина везде и всегда. До середины гражданской войны у Сталина в Москве не было в личном пользовании даже комнаты — он был все время в командировках на фронтах — и Сталина отсутствие жилплощади не беспокоило. Но с ним непрерывно следовали книги, количество которых он все время увеличивал.
Сколько он в своей жизни прочел, установить, видимо, не удастся. Он не был коллекционером книг — он их не собирал, а отбирал, т. е. в его библиотеке были только те книги, которые он предполагал как-то использовать в дальнейшем. Но даже те книги, что он отобрал, учесть трудно. В его кремлевской квартире библиотека насчитывала, по оценкам свидетелей, несколько десятков тысяч томов, но в 1941 г. эта библиотека была эвакуирована, и сколько книг из нее вернулось, неизвестно, поскольку библиотека в Кремле не восстанавливалась. (После смерти жены Сталин в этой квартире фактически не жил). В последующем его книги были на дачах, а на Ближней под библиотеку был построен флигель. В эту библиотеку Сталиным было собрано 20 тыс. томов!
Это книги, которые он прочел. Но часть этих книг он изучил с карандашом в руке, причем не только подчеркивая и помечая нужный текст, но и маркируя его системой помет, надписей и комментариев, с тем чтобы при необходимости было легко найти нужное место в тексте книги — легко вспомнить, чем оно тебя заинтересовало, какие мысли тебе пришли в голову при первом прочтении. Сколько же книг, изученных подобным образом, было в библиотеке Сталина? После его смерти из библиотеки на Ближней даче книги с его пометами были переданы в Институт марксизма-ленинизма (ИМЛ). Их оказалось 5,5 тысяч! Сравните это число (книг с пометами из библиотеки только Ближней дачи) с той сотней, содержание которых нужно запомнить, чтобы иметь «лучшее европейское образование». Сколько же таких «образований» имел Сталин?
Есть основания считать, что Хрущев, Маленков и Игнатьев убили самого образованного человека XX столетия. Возможно, были и вундеркинды, прочитавшие больше, чем Сталин, но вряд ли кто из них умел использовать знания так, как он.
Такой пример. Академик Российской академии образования доктор медицинских наук Д.В. Колесов после рецензии другого академика РАО, доктора психологических наук В.А. Пономаренко, выпустил пособие для школ и вузов «И.В. Сталин: загадки личности». В книге Д.В. Колесов рассматривает роль личности Сталина в истории. Книга очень спорная, в том числе и с точки зрения психологии. Но есть и бесспорные выводы, и такие, каким приходится верить, исходя из ученых званий автора и рецензента. Вот Колесов рассматривает такой вопрос (выделения Колесова):
«Принципиальный творческий характер имеет и работа Сталина «О политической стратегии и тактике русских коммунистов» (1921) и ее вариант «К вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов» (1923).
…Если оценивать содержание этих работ по общепринятым в науке критериям, то выводов здесь больше, чем на очень сильную докторскую диссертацию по специальности «политология» или, точнее, «политическая технология». Причем своей актуальности они не утратили и спустя много лет. Здесь нет «красивых» слов, ярких образов «высокого» литературного стиля — только технология политики».
То есть по существующим ныне критериям Сталин по достигнутым научным результатам был доктором философии еще в 1920 г. А ведь еще более блестящи и до сих пор никем не превзойдены его достижения в экономике. А как быть с творческими достижениями Сталина в военных науках? Ведь в той войне никакой человек, даже с десятью «лучшими европейскими образованиями», с ситуацией не справился бы и лучшую в мире армию немцев не победил. Нужен был человек с образованием Сталина. И с его умом.
Я же, в отличие от Сталина, базовые знания получил в вузе. Что я о них могу сказать? Теоретическая механика и сопромат мне не пригодились. На заводе был проектно-конструкторский отдел, посему, что бы ты ни рассчитывал в каких-то новых узлах и механизмах, как бы ты сам ни использовал знания того же сопромата, но когда конструктор по твоему предложению будет делать рабочие чертежи, то он все равно сам пересчитает, поскольку несет за свои чертежи ответственность. И так со многими дисциплинами, изученными в институте, — специализация и разделение труда есть специализация и разделение труда. Единственно могу сказать, что, когда я к концу своей карьеры технолога начал создавать общую теорию ферросплавной (правильнее — рудно-термической) печи, то вынужден был обновить кое-какие знания из высшей математики, поскольку выяснил, что без интегрирования мне не обойтись.
Учитывая специфику моей работы, я остался благодарен институту за четкое понимание принципов химии, физхимии и теории металлургических процессов. Тут даже дело не в том, сколько ты сделал благодаря этим знаниям, как в том, сколько ты не сделал, понимая противоречие того или иного предложения теоретическим основам. Идей возникает много, и далеко не всегда надо тратить силы на их опробование — достаточно в них разобраться.
У меня есть изобретения, которые я сделал на основе практических наблюдений, например, за колошником печи. Но есть и такие, в основе которых лежит только знание теории, допустим, физической химии.
При выплавке ферросилиция для производства очень небольшого сортамента сталей требуется марка ФС-75 с очень низким содержанием алюминия. В мое время, а, возможно, и сейчас снижение алюминия в требуемых объемах этого сплава было довольно большой головной болью. Кварциты Советского Союза — то, из чего извлекается кремний в ферросилиций, — всегда имеют примеси глины, а в глине всегда содержится глинозем — окись алюминия. При восстановлении кварцита в ферросплавной печи восстанавливается не только кремний из кремнезема — из окиси кремния, но и алюминий из глинозема, и советским ферросплавщикам деться от этого было некуда — чистого по глинозему сырья для ферросилиция в СССР было мало и стоило оно очень дорого. Соответственно, выход виделся в том, чтобы убрать алюминий из уже полученного жидкого ферросилиция. Традиционным реагентом для того, чтобы убрать нежелательный элемент из жидкого металла, в черной металлургии является кислород. И жидкий ферросилиций ФС-75 продували кислородом, если требовалось снизить в нем алюминий с его обычных 2,0–2,5 % до 1,0 % или даже до 0,1 %. Но при этом горел (окислялся) и кремний — то, за что мы деньги получаем. Причем кремний горел в непропорционально больших количествах: его за продувку угорало 7-10 %.
И вот я как-то просматривал новый справочник термодинамических величин различных химических соединений — книгу, состоящую из таблиц, заполненных числами. Посмотрел теплоту соединения с кислородом алюминия и кремния — у алюминия она была больше, т. е. алюминий соединялся с кислородом охотнее и прочнее, чем кремний. Если бы это было не так, то тогда выжечь алюминий из сплава кремния было бы нельзя до тех пор, пока мы не выжгли бы кислородом весь кремний. А так, при попадании в ферросилиций кислорода он в первую очередь соединялся с алюминием, превращался в глинозем и удалялся из сплава. Но беда в том, что в ферросилиции алюминия всего 2 %, а кремния до 80 % и, упрощая процесс, можно сказать так: если атом кислорода подходит к находящимся рядом атомам алюминия и кремния, то кислород соединится с алюминием, более того, если атом кислорода соединится с кремнием, а рядом будет атом алюминия, то алюминий отберет у кремния кислород. Но за счет того, что количество атомов кремния в ферросилиции очень большое и химическая активность их очень велика, при продувке ферросилиция все же горит не только алюминий, но и кремний.
Так вот, просматривая таблицу теплоты соединения кремния и алюминия с кислородом, я обратил внимание, что разница этих теплот велика в общих числах, но не велика в относительных, скажем (числа «с потолка»), теплота соединения с алюминием — 100, а с кремнием — 80. Возникла мысль: а нет ли еще какого-либо химического элемента, который бы, как и кислород, тоже соединялся с кремнием и алюминием, но с большей относительной разницей. Тогда, если рафинировать (очищать) ферросилиций этим элементом, то на единицу удаленного алюминия кремния должно удаляться меньше, чем при рафинировании кислородом. Начал шуршать страницами и нашел, что сера, химический аналог кислорода, при соединении с алюминием дает тепловой эффект (тоже «с потолка») 50, а с кремнием — 30. Соответственно возникла идея очищать ферросилиций от алюминия серой, и мои первые авторские свидетельства на изобретение выданы мне именно за эту идею. Но об этом позже, поскольку сейчас я хочу подчеркнуть только этот момент — идея изобретения возникла из знания теории вопроса.
Кто-то сказал, что нет ничего практичнее хорошей теории. Данный афоризм — это обычная глупость, которой наши ученые привыкли подменять отсутствие результатов для практики, а на самом деле нет ничего практичнее, чем понимать суть того, чем занимаешься, а не быть тупым исполнителем заданного тебе перечня операций.
Мы, металлурги, по своей сути химики-неорганики, поэтому в институте нам давали чисто ознакомительный курс органической химии, однако специфика моей карьеры была такова, что мне однажды потребовались даже эти знания. Тут, пожалуй, нужно немного предыстории.
Я уже упомянул нашего тогдашнего люксембургского торгового партнера Роже Эрманна, фактического владельца фирмы «Минрэ». Я знал его, вернее, был знаком с ним лет 15, к описываемому времени ему было лет 55. Повторю, он был евреем, который сделал себя сам. Мальчишкой сидел в немецком концлагере, потом занялся торговлей и вывел свою фирму где-то на 3–4 место в мире среди фирм, торгующих сырьем металлургической промышленности. Счастливый человек — он жил своей работой. Его работа как торговца должна была иметь результатом прибыль, и он её имел, но, по моему мнению, деньги для него были желательны, но не обязательны — он получал удовольствие от работы своего ума, от различных новых комбинаций.
Его слово было крепче стали, но это не значило, что он не пытался нас объегорить — результатом работы его ума были деньги, и ему доставляло удовольствие шевелить мозгами. Как-то мы заключили с ним договор, по которому отдавали только ему одну марку ферросилиция, но взамен он был обязан регулярно повышать закупочную цену. А тут спад на рынке, цены на ферросилиций падают, но договор есть договор, и я требую у его представителя в Москве, чтобы «Минрэ» подняло цену хотя бы на 1 доллар. Тот не может, так как у него четкие инструкции от Роже удержать прежнюю цену. А речь шла о пустяковой продаже, что-то около 3000 тонн. Я настаиваю, представитель звонит в главный офис в Люксембурге, Роже болен гриппом и сидит дома.
Роже Эрманн
В офисе не решаются поднять цену и звонят больному Эрманну, тот упирается, я тоже упираюсь. Часа через два Роже все же приезжает в офис и начинает мне рассказывать про спад на рынке, я все это знаю, но договор есть договор. Мне уже стало смешно, так как мы уже часов 5 торговались, в конце концов хохол передавил еврея, Роже повысил цену на 50 центов, т. е. он не уступал мне, по сути, 1,5 тысячи долларов. Это Роже с одной стороны. А вот с другой. Гуляли мы с ним по Ермаку, я показал стадион, сказал, что у завода есть различные любительские спортивные команды. Он ничего не сказал, но через месяц приходит в адрес завода контейнер с абсолютно полным комплектом спортивной формы для всех видов спорта. То есть для футболистов — бутсы, кроссовки, гетры, комплект футболок и трусов, летний и зимний тренировочные костюмы. Все фирмы «Адидас», на всей форме надписи, свидетельствующие, что это команда Ермаковского завода ферросплавов. Все это в подарок.
Как-то в Ермаке стало плохо его сотруднику, по-моему, у того был приступ аппендицита. Наши врачи оказали помощь, но от операции иностранцы отказались и увезли больного в Люксембург. Через месяц на завод, но в адрес больницы, приходит контейнер, забитый медикаментами. Врачи только руками развели — годились аспирин и одноразовые шприцы, а на подавляющую массу остальных медикаментов не было разрешения нашего Минздрава. То есть деньги для Роже не были фетишем, он жил своими идеями.
И во второй половине 90-х у него возникла идея объединить в тесном сотрудничестве СССР и ЮАР. Его доводы (цифры помню неточно, но порядок их сохранен): СССР и ЮАР вместе обладают чуть ли не 90 % мировых запасов хрома и марганца, около 60 % железных руд и угля и чуть ли не все запасы золота и алмазов у них. Если вы объединитесь, — горячился Роже, — то монопольно установите цены на это сырье и задвинете эту сраную Америку на то место, которое она заслужила. Кроме этого, у ЮАР нет нефти, а у вас она есть, — развивал свою мысль Эрманн, — кроме этого, товары промышленности СССР неохотно берут на внешнем рынке, а в ЮАР есть 30 млн. негров, которые этот товар возьмут.
Эрманн, конечно, понимал, что это вопрос не нашего и его уровня, но логично считал, что если сближение СССР и ЮАР начнется на уровне фирм, то это будет способствовать и сближению политиков. И он начал финансировать этот свой проект. Сначала он пригласил и финансировал приезд к нам на завод двух ферросплавщиков из ЮАР, мы их приняли, показали завод, тепло посидели и пообщались. В ответ они пригласили нас, и Роже повез в ЮАР Донского и меня.
Это был 1990 год, и мы там были чуть ли не первыми настоящими русскими, на нас как на чудо морское смотрели даже белые, с которыми мы встречались, а со стороны негров отношение было такое, что меня просто распирало от гордости, что я гражданин СССР. Захожу в магазин купить сувениров, это был большой универмаг, но оказалось, что в нем работают только негры, возможно, он и был для негров. Объясняюсь с продавщицей, и она меня спрашивает, кто я. Я отвечаю, что русский. Она отнеслась к этому довольно равнодушно, но спросила, где я живу. Я ответил, что в СССР. Она переспросила, я опять подтвердил, что в СССР. У девушки глаза на лоб полезли, и она начала кричать, созывая всех остальных, а те, когда поняли, что я не эмигрант, а настоящий гражданин СССР, начали пожимать мне руку каким-то особенным способом и вообще смотрели на меня с обожанием, как на полубога. Я уже и не рад был купленному малахиту. Но это присказка.
Кроме ознакомления с ферросплавным производством ЮАР и установления дружеских контактов у нас с Донским была и другая идея. Я отвечал на заводе за производство товаров народного потребления и поэтому был в постоянном поиске — что бы такое полезное людям произвести, используя то, что получается на заводе (подробнее об этом позже). У нас был в избытке ферросплавный газ, мы порою даже зимой дожигали его на свече, так как котельные и зимой обеспечивались им полностью, а летом вообще большая часть этого газа сжигалась бесполезно. Сначала идеи по его использованию двигались именно в этом направлении — использовать его как топливо в производстве, требующем затрат тепловой энергии. Однажды я даже съездил в город Щучинск на стекольный завод и осмотрел печь для производства стекла — была идея начать его производство у нас на заводе. Рассматривали и проекты керамического производства.
И тут я вспоминаю из лекций по органической химии, что угарный газ (а ферросплавный газ это почти чистый угарный газ) является основой синтез-газа — основой того, из чего органическая химия получает массу своих продуктов. Пошел в техбиблиотеку, начал освежать в памяти, чему учили в институте. Правда, самому мне мучиться не пришлось, так как я подключил начальника химлаборатории Е.П. Тишкина. А Петрович был редким кадром, он в свое время окончил химфак МГУ, я думаю, что он вообще в Павлодарской области был единственным выпускником этого университета, ведь выпускники московских вузов и тогда предпочитали гнить в московских конторах, но не терять московскую прописку. Химию Петрович знал отлично, и начали мы вместе с ним прикидывать, на чем выгоднее остановиться. Конкурировать с химической промышленностью СССР было бессмысленно, и мы решили, что моторное топливо еще долго будет в цене, поэтому выгоднее всего получать из ферросплавного газа бензин.
Начал я писать письма в отечественные химические институты, пытаясь выяснить, кто может разработать технологию получения бензина. Выяснилось, что когда вскоре после войны Л.П. Берия в десятки раз увеличил добычу нефти, то в СССР все работы по получению синтетического бензина были свернуты. Самыми большими специалистами в этом деле были химики нацистской Германии, но после войны США посадили и немцев на иглу арабской нефти, и там эти работы были свернуты. По идее нам надо было заново восстанавливать технологию полувековой давности. Но тут оказалось, что в не имеющей нефти ЮАР химики продолжали совершенствовать технологию производства синтетического бензина, и на тот момент в этом деле ЮАР была самой передовой страной. Вот я попросил Роже Эрманна включить в план нашей поездки переговоры на предмет покупки там технологии производства бензина.
И в один из дней мы полетели на завод синтетического бензина в Сосоле, но уже при подъезде к этому заводу, оценив на глаз мощность идущих к нему линий электропередач, Донской выразил сомнение, что от нашей поездки будет толк. Действительно, завод оказался колоссальным по мощности, он перерабатывал 60 миллионов тонн угля в бензин, дизтопливо и еще в 70 химических продуктов, включая аспирин. Экибастуз добывал больше, но такой глубокой переработки угля Экибастуз не делал.
Было очевидно, что на этом заводе нас боятся, поскольку нас провезли по главным проспектам завода, но ничего внутри не показали. Начальник маркетингового отдела молчал как партизан на допросе. Думаю, что работники этой фирмы растерялись, поскольку не ожидали от нас предложения купить не продукцию, а технологию. Но так как фирма большая и бюрократов на ней много, то последние, чтобы не брать на себя ответственность, запутали вопрос, так и не придя ни к какому мнению относительно нашего предложения. Фирма отвезла нас в какой-то гостевой домик и дала обед, и на нем был главный инженер Сосола. Поели, начали выпивать, я взял бокал и переводчика и оттеснил главного в угол. Там я ему сказал, что не буду выпытывать у него никаких секретов, но у меня есть производство стольких-то миллионов кубометров закиси углерода в год. Я хочу получить из них бензин с помощью их завода. Стоит ли мне этим заниматься?
Он попал в сложное положение: с одной стороны, мы были хотя и необычные, но потенциальные покупатели, но, с другой стороны, я ему за обедом задал слишком много специальных вопросов по технологии, чтобы он мог долго пудрить мне мозги. Он подумал и ответил так: «У нас три линии производства, и каждая по мощности в десятки раз больше того, что вам надо. Так что готовую технологию и оборудование мы вам продать не сможем, нам надо будет специально разработать технологию для вас, спроектировать к ней оборудование и испытать его применительно к очень маленькому для нас объему. Вам могут это предложить, когда фирма официально рассмотрит ваше предложение, но это будет стоить таких огромных денег, что вам выгоднее сжигать ваш газ где-нибудь в котельной электростанции и не заниматься этим вопросом».
Мы с Донским и сами к такому выводу пришли, но Главный сообщил нам все же ценную информацию, что готовых маленьких производств у фирмы нет. Так что на этой идее пришлось поставить крест.
Маяковский как-то писал, что подыскивание слов для стиха равносильно добыче радия. В технике тоже так — сотни идей проработаешь, пока отсеется та, что внедрится. Но в отличие от стихосложения в технике проработка каждой идеи требует творчества, а посему очень интересна. Но напомню, в основе описанной выше работы по синтетическому бензину лежало то, что я вспомнил какие-то азы, вложенные мне в голову на лекциях по органической химии.
Так что я благодарен преподавателям Днепропетровского металлургического института за то, что они давали мне не сильно много поблажек и кое-что в голову все же вложили, но во много раз больше я благодарен им за другое. Но, прошу прощения, сначала мне требуется высказаться о евреях.
Два фланга еврейской толпы
Еврейскую тему мне необходимо осветить в контексте этой книги, хотя мне очень не хочется ею заниматься, в сущности, по очень простой причине — она мне надоела до смерти!
Дело в том, что я на момент написания этих строк уже свыше 10 лет главный редактор газеты «Дуэль», а эта газета не имеет журналистов, её авторы — это её читатели. И я даю в газете всё, что они пишут, если написанное читаемо и выглядит не слишком глупо. Если мне то, что я публикую, лично не нравится, если я с этим не согласен и у меня есть время, то я вступаю с такими статьями в полемику, если времени нет, то оставляю её читателям, которые тоже достаточно охотно оспаривают идеи, с которыми они не согласны. Зависимость газеты от читателей, невозможность указать им, о чем писать (я могу лишь задать им тему собственными статьями), приводит к тому, что уже 10 лет еврейская тема не сходит со страниц газеты и рассмотрена чуть ли не во всех аспектах. Кроме газеты я уже в нескольких книгах касался проблем еврейства, и дело дошло до того, что в июле 2005 года фашиствующие еврейские расисты начали кампанию по изъятию из продажи моих книг «Тайны еврейских расистов» и «Евреям о расизме». Короче, этих уродов я допек. Но с другой стороны, есть достаточно антиеврейски настроенных деятелей, которые считают «Дуэль» жидовской газетой, а меня агентом «Моссада» и тоже не хотят с «Дуэлью» знаться. И этих уродов я тоже допек.
Казалось бы, я уже сделал для Отечества всё, что мог, и могу заняться чем-нибудь поинтереснее, вроде той задачи, которую я ставлю перед этой книгой, но, к несчастью, я не смогу объяснить вам, что произошло с М.И. Друинским, если забуду, как и он, о его национальности. Поэтому я и вынужден написать хоть немного о проблеме евреев, как я её вижу, а вижу я её правильно.
Как и любой народ, евреи — это толпа. Как и любая толпа, еврейская толпа имеет два фланга: на одном очень способные и деятельные люди, на другом — тупые и ленивые. Такое положение у всех народов. Более того, нет ничего удивительного и в том, что тупые и ленивые у многих народов объединяются в расистские сообщества, то есть пытаются иметь прав больше, чем остальные живущие с ними народы. А как еще тупым и ленивым добиться вожделенного «места под солнцем», если не иметь преимуществ, не связанных с их умом и трудолюбием? Тупость и лень — это база любого расизма, хоть негритянского, хоть англосаксонского, хоть немецкого. И не надо говорить мне об уме и трудолюбии немцев или англосаксов — и у умной и трудолюбивой в среднем толпы тоже есть фланги, и самый мерзкий фланг может заразить всю толпу алчностью к получению «халявы».
Умным и трудолюбивым расизм отвратителен. Объясню почему. Наверное, никто не будет возражать против того, что каждый человек стремится к тому, чтобы его уважали. Но дурака отличает от умного то, что, стремясь вызвать к себе уважение всех, дурак не озабочен уважением одного единственного человека — самого себя. Дурак ведь самостоятельно мыслить не может, он поступает «как все», и если все его уважают, значит, он и в своих глазах «уважаемый человек». Умный человек мыслит самостоятельно, и его оценка себя не зависит от мнения толпы, поэтому умному очень важно уважать самого себя. Поясню, что здесь происходит.
Вот умный добился какого-то уважаемого положения среди других людей, в том числе и других народов, добился своим умом и трудолюбием. И на самом деле не важно, насколько высоким является его положение, каким бы оно ни было, но оно полностью его. И только его. Это положение зависит только от его ума и труда и ничем не обязано блату, происхождению, родственникам или его национальности. Добавьте умному что-либо из этих преимуществ, и умный не будет знать, что в его положении определил он сам, а что досталось ему на «халяву». Умный, получив преимущество перед другими, теряет возможность оценить себя, а посему теряет уважение к себе.
Образный пример. Вы только трудом и умом добились руководства коллективом в 100 человек. На самом деле это не очень большая радость, тем не менее, если вам это было нужно, если такова была цель ваших трудовых усилий, то как вам себя не уважать? Вы достаточно умный и деятельный человек. В кругу руководителей коллективов в 100 человек и меньше вы будете чувствовать себя по меньшей мере как равный среди равных — вы как личность ничуть не хуже их.
А теперь представьте, что родственники поставили вас руководить 10 000 человек. Если вы дурак, то захлебнетесь восторгом от «уважения» окружающих, ну, а если вы такой же умный, как и в вышеприведенном примере, то что тогда? Как вы определите, что в этом вашем положении ваше, а что — родственников? Вы же не сможете определить, как вы сами себя обязаны уважать: как руководителя 10 000 человек? 100 человек? 10 человек?
Это можно представить и так. Вы летчик-истребитель и сбили 10 самолетов противника, но вас никак за это не наградили. Но вы же знаете, что сбили 10, вы знаете, что вы за летчик! Другой случай, вы не сбили ни одного, но вам приписали 20 и сделали вас Героем. Для окружающих вы Герой, но если вы умный человек, то вы же понимаете, что по сравнению с первым летчиком без наград, вы дерьмо, а не летчик. И если вы умный, то куда вы от этого знания денетесь?
Вот «лучшему асу» Второй мировой Эрику Хартманну приписали аж 352 сбитых самолета, но его биографы удивлялись — после войны Хартманн совершенно не общался с другими немецкими летчиками, честно сбивавшими самолеты противника. А чему удивляться — он их ненавидел за то, что те его презирали. И главное то, что Хартманн ведь тоже сбивал самолеты, но как теперь определить сколько: 5? 10? 100? С кем из остальных честных летчиков он сравним, какого уважения заслуживает?
Расизм зиждется на неуважении к себе, поскольку никто не знает вас лучше, чем вы, ну, а если вы знаете, что вы дерьмо, то как вам себя уважать? Зная, что вы дерьмо, вы не надеетесь достичь вожделенного «места под солнцем» за счет своих ума и трудолюбия, и вам остается достичь их только за счет каких-то дополнительных прав, например, права пристраивать или пристраиваться к общественным кормушкам по признаку национальности.
Соответственно, умные и деятельные люди ненавидят расизм за то, что он не дает им возможности уважать самих себя. Заметьте, умным людям не дает уважать самих себя не расизм чужого народа (этот расизм их возвышает), а расизм своего собственного народа, под каким бы соусом этот расизм ни подавался: под соусом национализма или под соусом защиты прав своего народа.
Еврейский расизм, если и отличается от расизма других наций, то исключительной циничностью тупого и ленивого фланга по отношению ко всей еврейской толпе — еврейские расисты без колебаний уничтожают еврейскую толпу во имя себя, любимых. Такого, пожалуй, даже у негров нет. Вот смотрите.
Во время Второй мировой войны первый премьер-министр будущего государства Израиль Бен Гурион заявил без обиняков перед сионистскими руководителями поселенцев: «Если бы я знал, что можно спасти всех детей Германии и вывезти их в Англию или лишь половину и вывезти их в Эрец Израиль, я выбрал бы второе, потому что мы должны принимать во внимание не только жизнь этих детей, но и судьбу народа Израиля». С одной стороны, это мудрый государственный деятель, заботящийся о крепости будущего государства, но ведь, с другой стороны, во имя своей хорошей жизни в этом будущем государстве он, пусть и теоретически, готов уничтожить (чужими руками, естественно) примерно 50 тысяч детей еврейской толпы. А вот практики еврейского расизма.
Недавно мне принесли фильм о гетто в Вильнюсе, и в нём, пожалуй впервые, было показано, как и кто практически осуществлял Холокост советских евреев. Немцы поставили во главе гетто сиониста Якоба Генса, и тот по очереди формировал партии евреев и отправлял их «переселяться». Переселяли евреев недалеко — в Понары, где их расстреливали в котлованах недостроенных бензохранилищ. Литовцы буквально кричали евреям из гетто: «Вас расстреливают!» — а евреи не хотели в это верить, понимаете, не хотели, ведь Гене был свой!
Свидетель-литовец, в те годы подросток, живший в Понарах, рассказывал, что его мать специально выходила к колоннам евреев, почти не охранявшимся, и предупреждала их: «Разбегайтесь, вас ведут убивать!» А евреи ей отвечали: «Вас первых расстреляют!» Те же, кто оставались в гетто, прилежно работали на немцев и были уверены, раз они хорошо работают, то с ними ничего не случится. В гетто работали школы, театр, евреи весело отдыхали на пляже, устраивали спортивные соревнования, а сионист Гене формировал и формировал из них партии для «переселения». Коммунистически и просоветски настроенные евреи пытались уйти в партизаны, но еврейская масса не давала им этого сделать и доносила на них в гестапо — боялась, что немцы за уход в партизаны рассердятся на все гетто. Уцелевшая женщина, в молодости очень красивая, рассказала, что отец грозился её проклясть, если она уйдет к партизанам, и она убежала только с зубной щеткой.
В фильме она говорит, что когда её отец попал в партию «переселенцев», то он перед расстрелом, наверное, её вспомнил. Вот этой смелой женщине (не еврейке — женщине, человеку) я сочувствую в том, что у нее погибли родные, но как сочувствовать её отцу? Тогда нужно сочувствовать и баранам на бойне.
И вот так Гене «переселил» в могилы 38 тыс. евреев Вильнюса и еще 10 тыс. евреев из округи, но особенно он отличился с еврейским гетто в Ошмянах. Там он уничтожил всех жителей силами еврейской полиции Вильнюсского гетто.
Есть точная поговорка: лучше с умным потерять, чем с дураком найти, так и здесь: евреям лучше было бы потерять с умным флангом, чем найти с расистами.
Но толпа, как я уже писал об этом, без специальных мер всегда равняется на худших и ненавидит лучших.
Два фланга толпы всегда борются за толпу, поскольку их сила все же в толпе. Трагедией еврейства можно считать то, что лучшие его представители практически никогда в истории не имели влияния на еврейскую толпу. Очень уж велик соблазн в еврейской толпе, что если она сплотится с целью получения преимуществ для евреев за счет других народов, то будет очень хорошо жить, и с позиции хорошей жизни в понимании животного это у еврейской толпы получается. Уже и англосаксонские расисты поутихли, уже и немцев затюкали до вечного перепугу, а лучшие люди евреев лишь в сталинском СССР смогли ненадолго оказать влияние на еврейскую толпу.
Подытожу. Еврейские расисты настойчиво убеждают обывателя, что все евреи одинаковы — «все жиды». Много чести для еврейских расистов — это не так. У евреев есть и другой фланг — умные и деятельные люди, эти люди не боятся опираться только на свой ум и труд. Им не нужен кагал, и они ненавидят еврейских расистов больше, чем другие народы, ненавидят потому, что те позорят их, и умные люди среди евреев очень боятся, что другие народы и на них будут смотреть как на расистов. Примеры этого я ниже покажу.
Вне зависимости от того, что вы хотите — помочь умным и деятельным евреям или победить еврейский разум — вы должны учитывать оба фланга еврейской толпы. В противном случае, как говорил то ли Талейран, то ли Фуше, то ли сам Наполеон, это хуже преступления — это ошибка. Ошибка, которая ни в коем случае не приведет вас к успеху.
Я получил, прочел и частью опубликовал сотни писем от людей, совершающих эту ошибку и ненавидящих всех евреев целиком. Среди них, на мой взгляд, очень много тех, кого привлекает расизм как таковой, тех, кого можно назвать жидом, но, к примеру, русской национальности. Однако есть и такие, которые, по-моему, искренне считают, что, убери всех до одного евреев из России, и проблем не останется. Думаю, что эти люди либо вообще не жили с евреями, либо жили с толпой, примыкающей к расистскому флангу еврейства. Я же в основном жил с евреями с противоположного конца села и хотел бы о них вспомнить вот зачем.
Я в своей жизни обязан очень многим людям за всё: за воспитание, за обучение, за помощь, за добрый совет, за любовь, за дружбу. Я украинец, посему евреям как таковым не обязан ничем, но среди тех людей, кому я обязан, были и евреи. Я не собираюсь делать вид, как будто мне это неизвестно или как будто я «выше этого». Это были и есть мои друзья, мои товарищи, и я перестану себя уважать, если застесняюсь их национальности — они её не стеснялись, а мне и подавно стесняться нечего.
В единой семье
Итак. Я родился и вырос в Днепропетровске на левом берегу Днепра, в районе, который тогда назывался Сахалин. Это был район в основном частной застройки с небольшим количеством многоэтажных домов, наш дом отец построил в 1948 или 1949 году — к моему рождению. Жители поселка работали в основном на заводах: на «Артеме» — на заводе тяжелого бумагоделательного машиностроения им. Артема, на этом заводе старшим мастером котельно-кузнечного цеха работал и мой отец; на «стрелке» — на Стрелочном заводе, производившем для железных дорог стрелочные переводы и сопутствующее оборудование; на «узле» — Нижнеднепровском железнодорожном узле; на «карлаганке» — трубопрокатном заводе им. Карла Либкнехта, который до революции принадлежал бельгийцу Карлу Гантке, откуда и кличка; на бум-фабрике; на мясокомбинате.
Соседями слева у нас были Колесниковы, он был главным бухгалтером «Артема», она — домохозяйка, их дочь была замужем за военным летчиком и моталась с ним по гарнизонам, а их сын Шурик, на год младше меня, жил с дедушкой и бабушкой и был моим приятелем детсадовских лет. К школьным годам его отец стал генерал-лейтенантом, где-то осел, забрал сначала сына, а потом овдовевшую тещу. Дом купил поп, отец Анатолий, тогда ему было лет 28.
Как-то мой брат Гена, будучи в отпуске, перепил ту компанию, с которой начал пить, сам не унимался, вышел на улицу, а там Анатолий снег перед домом отбрасывает. Гена его по-соседски пригласил, налил ему и себе по полстакана самогона, выпили, налил еще по полстакана, снова выпили, и брат спрашивает:
— Толя, скажи честно, ты в Бога веришь?
— Гена, а ты бы меня уважал, если бы я на такой работе работал и не верил? — немного подумавши, ответил вопросом на вопрос отец Анатолий.
— Ну, тогда давай еще выпьем, — и брат налил очередные полстакана.
— Последний раз, Гена, у меня язва.
В те годы офицеры с гордостью носили форму и вне части, а попы ходили в штатском вне церкви, теперь, как вы знаете, все наоборот. Анатолий тоже ходил в обычном костюме, хотя на службу и обратно ездил на такси — церковь оплачивала. Единственно, что в нем было не так, так это презираемая в нашем районе безрукость. Как-то ему разбили окно, так стекло ему вставлял я, хотя был тогда, наверное, в 8 классе.
Соседями справа была семья Краснощековых, дядя Леня работал на «карлаганке», на фронте ему снесло часть черепа, и на этом месте была серебряная пластина, из-за этого ранения страдал эпилептическими припадками и терял сознание. Как-то он крыл крышу, и приступ захватил его на коньке, тетя Маруся закричала, мой отец взлетел к нему и удержал от падения, затем обвязал веревкой и спустил на землю. Я уже был студентом, когда припадок случился на кровати, дядя Леня, потеряв сознание, уткнулся головой в подушку и задохнулся. У них было три сына, Валера был старше меня на год, Саша — младше на два, Сергей тогда был совсем маленький. Дружили мы с Валеркой, а он отличался исключительной тщательностью в работе и легко находил различные технические решения. Его рогатки были, как сказали бы сегодня, эксклюзивными, поджоги (самодельные пистолеты по типу старинных) — хоть в музее выставляй, голубятню он построил такую, что и самому жить было бы не стыдно, на его мотоцикле «Ява» было столько полированных прибамбасов, что она была как игрушечка. И меня впоследствии нисколько не удивило, что именно он возглавлял бригады, которые монтировали за рубежом изделия завода им. Артема.
Не думаю, что нашу компанию ребят следовало бы назвать хулиганской или преступной, хотя кое-кто все же отсидел, мы, скорее, защищали свою территорию от хозяйствования чужих компаний. А в целом же собирались для различных игр и времяпрепровождения. Единственно, мы безбожно матерились, причем я сейчас даже и не понимаю, почему. От своего отца я за всю жизнь матерного слова не услышал, такое впечатление, что он их и не знал, соседи тоже матерились очень редко и не при детях, а мы сквернословили вовсю. Как-то я прочитал, что французы едят лягушек, вечером рассказал ребятам, мы быстро, хотя было уже темно, настреляли из рогаток несколько лягушек, развели на берегу Днепра костер и начали жарить. Пожарить-то мы их пожарили, но есть никто не хотел, а тут незаметно в темноте подошел мой отец, разыскивавший меня, и услышал, на каком языке я изъясняюсь. Сильно меня потрепал, но не исправил, разве что я стал осмотрительнее.
Национальность друг друга нас, само собой, не интересовала, как не интересовала она и взрослых, мы все были свои. Одно время у нас в компании был парнишка, как я сейчас думаю, якут. Ну был он не похож на остальных — ну и что тут такого? Через день-два этого уже никто не замечает. Про жидов мы тоже, конечно, знали, что это народ вредный, на войне они не воевали, а теперь все устроились в магазины и на базы и спекулируют дефицитным товаром. Но дефицитным был какой-то модный товар, а ни нам, ни нашим родителям он был не нужен, поэтому практически мы этих жидов никогда не видели и дел с ними не имели. Были они для нас какими-то персонажами из анекдотов. А те евреи, с которыми мы общались, были такие же, как и все, посему и на их национальность никто внимания не обращал.
Что касается «такие, как и все», вспоминаю такой забавный случай. Мы, несколько пацанов, зачем-то вертелись у пивной, которую в округе называли «шалманом». Пива нам бы не продали, да и посетители не допустили бы, чтобы мы пили, я вообще вне дома попробовал в первый раз вино в десятом классе на чьем-то неофициальном дне рождения. В это время в «шалмане» крутился районный «бич» — мужичок, вечно пьяный, вечно что-то подворовывающий по пустякам. В тот момент он выпрашивал у мужиков на кружку пива и забавлял их историей. Согласно ей, он еще недавно выдал себя за еврея и напросился в какой-то магазин к евреям грузчиком. Те его приняли и помогли, однако он в благодарность что-то у них украл.
— Они зазвали меня в кабинет директора и говорят: «Покажи свой поц!» — а что я им покажу? Так они и узнали, что я не жид, и сразу же выгнали меня, — рассказывал этот мужичок под смех остальных.
Мы, конечно, слышали слово «поц» и из контекста догадывались, что это. Но теперь получалось, что поц — это какой-то документ. Ребята посмотрели на меня, поскольку я брал книги из трех библиотек сразу и считался самым продвинутым. Однако я сам ничего не мог понять и спросил мужичка, при чем тут поц? Тот успел сказать, что у жидов он обрезанный, но остальные мужики нас отогнали. Мы тогда озадачились еще больше: как так? И как обрезают: наполовину или чуть-чуть? И зачем это? Правда, другие заботы тут же отвлекли нас от этого садизма, а потом, когда я читал «Занимательную библию» Лео Таксиля, то снова ничего не понял: получалось, что не режут пополам, как мы предполагали, а просто отрезают какую-то «крайнюю плоть», но как было узнать, что это такое? Мы-то называли её по-другому. Так что я ничем не смог помочь нашей компании в прояснении этого вопроса, да и сам узнал подробности уже студентом.
В уличной компании нашим другом был Дима Пинхасович, в нем было плохо то, что он мог задраться к чужим и затеять драку тогда, когда она и даром не была нужна. Потом я пришел к выводу, что этим он, скорее всего, хотел показать нам, что хотя и еврей, но не трус, но нам-то его еврейство было без разницы, а приключений на свою шею и от Сынка (Вовки Сынкова) вполне хватало.
В моем классе, думаю, тоже были евреи, но опять-таки их еврейство никого не волновало, поскольку они ничем и ни в чем от нас не отличались. А вот учителя в моей родной 43-й школе, как я сейчас думаю, чуть ли не наполовину были евреи. Думаю, что директор школы Лясота Иван Ильич был еврей, моя классная руководительница Нинель Семеновна тоже, думаю, была еврейка. Когда я в первый раз не поступил в институт и она узнала, что из-за тройки по письменной математике, то чуть не заплакала. Она преподавала алгебру и геометрию, а я хотя и не был медалист, но учился-то хорошо, четверок у меня было мало, и, главное, она считала меня способным именно в математике. Мне её даже жаль стало. Впрочем, из-за моего непоступления в институт меньше всего, по-моему, переживал только я, мне кажется, что даже пацаны нашей компании были мною недовольны, так как ожидали от меня большего.
Евреем был и учитель физкультуры Аркадий Ильич, по школе, как и полагается учителю физкультуры, он ходил в кедах, тренировочном костюме и с секундомером на шее. Был блюстителем порядка: как ледокол врезался в толпу и за уши растягивал дерущихся. Мужчина он был крупный и как и все крупные люди добродушный, тем не менее его авторитет, безусловно, признавали и хулиганы из старших классов. Расскажу о нем пару случаев.
Как-то мы нашли коробку из-под обуви, а они в те годы были еще редкостью и их редко выбрасывали. Возникла мысль устроить хохму, хотя и хорошо известную, но, тем не менее, с вероятностью, что на нее все же какой-нибудь дурачок купится. От бокового входа в школу вела асфальтовая дорожка, по обе стороны её, где-то в метре, высокий штакетник отгораживал клумбы. Мы нашли кирпич, положили его в коробку, а коробку — в полуметре от дорожки, чтобы было как раз под правую ногу. А сами стали у входа и делаем вид, что разговариваем. Открывается дверь, выходят девочки, опять выходят девочки, ждем-ждем, а пацан из школы никак не выходит. И вот, наконец, вышел… Аркадий Ильич! У нас сердце ёкнуло — хоть бы не заметил! А он сначала вроде и не заметил — прошел, но остановился, вернулся, подмигнул нам и как вмажет правой по кирпичу! Мы ласточкой перелетели через штакетник на клумбу и по ней за угол. Мужик-то он добродушный, но уши надо было спасать.
Где-то в классе седьмом или восьмом заболел у нас учитель, и завуч послал Аркадия Ильича посидеть в нашем классе, чтобы мы не сильно шумели. Аркадий Ильич сел и предложил нам задавать ему любые вопросы. А я в это время прочел про полеты на дирижабле, в книге была и картинка: сигарообразная гондола, хвост как у ракеты, а снизу прикреплена кабина пассажиров — и всё. Возник вопрос — а за счет чего он летает? Я думал, что у него, как у ракеты, сзади из сопла должна выходить струя газа, но если легкий газ выйдет из гондолы, то дирижабль упадет. Тогда за счет чего же он летит над землей? Меня этот вопрос занимал, и я тут же задал этот вопрос Аркадию Ильичу. Он встал, нарисовал на доске дирижабль и пририсовал к кабине двигатели с воздушными винтами. Их в книге на картинке не было, и я, честно говоря, не поверил, но потом оказалось, что это так. Таких умных вопросов в классе больше не было, а тогда, надо сказать, мальчишки чаще всего просили взрослых рассказать про войну.
Под Корсунь-Шевченковским Аркадий Ильич командовал пулеметной ротой и рассказал нам, как немцы пытались вырваться из окружения через позиции его пулеметчиков. Он говорил, что была метель и ветер нес снег им в лицо, наступающие немецкие цепи они увидели достаточно поздно, и им пришлось бить их почти в упор. Перед пулеметами были валы из убитых — такими плотными цепями атаковали немцы, но, тем не менее, они не прорвались. А утром, — рассказывал Аркадий Ильич, — осмотрев трупы, мы выяснили, что это были не немцы, а власовцы. Об этих подонках, кстати, тогда стыдились говорить, и я впервые узнал, что у нас были предатели, служившие немцам, от Аркадия Ильича.
Потом, когда в перестройку из власовцев стали делать героев, то стали говорить, что эти овечки, дескать, на советско-германском фронте вообще не воевали. Но я помнил рассказ Аркадия Ильича и автоматически искал его подтверждения. И вот в книге немца Пауля Кареля «Восточный фронт» в описании им героизма окруженных под Корсунь-Шевченковским немецких войск встретил: «Ежедневный доклад 8-й армии на вечер 11 февраля 1944 года оценивает личный состав двух окруженных корпусов, включая русских добровольцев, в 56 000 человек» — это о количестве окруженных под Корсунь-Шевченковским немецких войск. Как видите, наши предатели в их составе тоже были. И ещё: «Пробило 23 часа — час «Ч». Ночь абсолютно темная: ни луны, ни звезд. Термометр показывал четыре градуса ниже нуля, но с северо-востока завывал ледяной ветер. К счастью, он дул в спину колоннам и в лицо часовым неприятеля. Временами сильные порывы ветра поднимали снег. Выгодная погода для тех, кто надеется остаться незамеченным». Как видите, и эта подробность из рассказа Аркадия Ильича подтвердилась.
Так что в детстве про жидов мы знали из анекдотов, а те евреи, которые жили среди нас, были как все: подростки были как мы, а взрослые — как наши родители. (Моя родная мать до своей трагической кончины в 1958 году работала в этой же школе учительницей географии и биологии.)
На заводе
Потом началась юность, я не поступил сразу после школы в институт и начал работать на заводе им. Артема. Здесь работал в котельно-кузнечном цехе мой отец, до армии здесь работал мой брат, само собой, что и мне не надо было долго думать, где работать. Стал я учеником слесаря-инструментальщика в инструментальном цехе, цех изготовлял для завода инструмент, начиная от специальных фрез и кончая пресс-формами, и различную оснастку, от кондукторов до держателей резцов. Мне, как и всегда в жизни, повезло — моим учителем слесарного дела был Герман Иванович Куркутов, он был, наверное, русский, поскольку родом был откуда-то с Урала. Научиться у него я ничему бы не смог, поскольку его квалификация была слишком велика, но он очень добросовестно и специально учил меня с азов.
Слесарку возглавлял мастер, слесарей было 10–15 человек и человека 3 учеников, которые должны были учиться 6 месяцев, получая 35 рублей ученических. Было несколько слесарей-асов, у них был 6-й разряд (у Германа — 5-й), среди них был и дядя Миша (фамилии не помню), он был еврей. Я еще когда поступал на завод, то в заводоуправлении увидел его портрет на стенде изобретателей, ниже висели авторские свидетельства на его изобретения с удивившими меня красными печатями. По-моему, он был единственным изобретателем-рабочим. В слесарке дядя Миша специализировался на ремонте мерительного инструмента для всего завода — восстанавливал точность микрометров, штангенциркулей и прочего. В памяти у меня сохранился такой случай с участием дяди Миши.
Герман «ставил мне руки», то есть добивался их твердой четкости, чтобы они умели сделать напильником линию любой кривизны с заданной точностью, чтобы они чувствовали обрабатываемый металл и металл инструмента при работе зубилом, ножовкой, метчиками и лерками. Начал он с того, что дал мне изготовить квадрат 100x100 мм из 3-мм стали, стороны его при проверке лекальной линейкой должны быть абсолютно ровными, углы точно 90°, а размеры сторон отличаться от 100 мм на 0,05 мм. Несколько этих квадратов я для начала испортил и выбросил в металлолом, но потом сделал такой, который Герман признал за годный, теперь уже он его выбросил и распорядился делать следующий. Я сделал, он его выбросил и дал делать очередной. Мне надоело, я начал возмущаться нудностью и явным ученичеством этой работы, тогда Герман пошел к мастеру и взял у него чертеж на настоящий шаблон с нарядом слесарю 2-го разряда — такому, каким мне предстояло стать после окончания учебы. Вот Герман и предложил мне выполнить эту работу.
Шаблон представлял из себя отрезок уголковой стали толщиной 1 мм, одна полка у него была где-то 200 мм, а вторая где-то 120 мм и расположена вторая полка была где-то посередине первой. Размеры нужно было выдержать с точностью 0,2 мм, т. е. для меня уже пустяковой. Я бодро вырезал из стали 1 мм пластину, согнул её в уголок, отрубил лишние части, выбил клеймами номер этого шаблона и начал напильниками вводить его в размер. И «запорол». Снова взял сталь, вырезал пластину и т. д. Начал доводить до размера и… «запорол», т. е. опять сделал брак. Пакость была в малой полке: в ней сумма трех размеров должна была совпасть с размером длинной полки, и в то же время каждый из трех размеров не должен был отличаться от чертежа более чем на 0,2 мм. У меня не получалось — какой-нибудь из этих трех размеров я упускал — он начинал отличаться от чертежа более чем на 0,2 мм. Я выбросил третью, четвертую заготовку — и хоть плачь! Обращаться к Герману было стыдно — я ведь сам утверждал, что уже могу делать подобные вещи. Я не обратил внимания, что за моими отчаянными попытками искоса наблюдает сидящий за два верстака от меня дядя Миша, с которым я до того вообще не общался — не было повода. Он меня окликнул и предложил принести ему чертежи и только что мною выброшенный бракованный шаблон. Глянул в чертежи, взял штангенциркуль и обмерил мое изделие, потом все так же молча вынул из стола молоток, положил шаблон на рихтовочную плиту и два раза ударил по нему молотком, после чего молча отдал мне чертеж и шаблон. Я вернулся к себе за верстак и сам промерил — упущенный мною размер теперь идеально совпадал с чертежом! Дядя Миша ударами молотка заставил металл раздаться и восстановить тот размер, который я уменьшил из-за еще плохого владения напильником. Поразило, что дядя Миша не делал контрольного промера — он точно знал, от удара какой силы на сколько увеличатся размеры, и бил точно с такой силой, которая требовалась в данном случае! Во ас!
Между прочим, если бы Герман это видел, то он бы это вмешательство дяди Миши в воспитательный процесс не одобрил, поскольку Герман в тот момент добивался, чтобы я научился владеть напильником. Как-то я нарезал метчиком резьбу, где-то M16, в глухих отверстиях матрицы штампа и сломал метчик в отверстии. Отверстий было штук 12, и я должен был болтами, ввернутыми в них, закрепить на матрице две направляющие пластины. Рядом работал Юра Катруц, бывший зэк. И когда он увидел, как я мучаюсь, пытаясь извлечь обломок метчика из отверстия, то посоветовал не мучиться, а укоротить один болт, посадить его на солидоле в отверстие с обломанным метчиком и так сдать в ОТК — не будет же контролер ОТК дергать за головки всех 12 болтов. Этот совет услышал Герман и зло обматерил Юрку.
— Ты…твою мать, научи пацана, как надо работать, а как не надо, он сам научится!
Так что дядя Миша не совсем корректно вмешался в мое обучение, хотя и показал мне прием работы, до которого я сам не додумался, а Герман с воспитательными целями не спешил мне его показывать. Я потом этим приемом часто пользовался в работе. Кстати сказать, теми приемами, которые подсказал мне Герман, я пользовался чаще, так как их было больше, и они в несколько раз увеличивали производительность, особенно на рутинных операциях.
В цехе работал еще один еврей, и о том, что он еврей, я узнал из такого случая. Как-то утром в раздевалке слесари жалели Борю, который попал в вытрезвитель и теперь по общесоюзному положению с него должны были снять премию, тринадцатую зарплату и еще как-то наказать. Борис (фамилию его я тоже не помню, если вообще её знал) работал токарем, и токарем он был очень хорошим, так как точил гидрогайки, хотя они не были инструментом и нам в цех их давали скорее потому, что требовалась очень высокая точность. Но, как я понял из разговора старших, Борис был забулдыгой, и это был уже не первый случай. Работали мы с 7 утра до половины четвертого, обед был полчаса, посему в столовую ходить не было смысла. Все приносили с собой обеды из дому, обычно это были бутерброды, пирожки и бутылки с молоком или компотом. Как только наступало время перерыва, слесари подставляли свои высокие табуреты к большой разметочной плите и начинали кушать, одновременно играя в домино. Ученикам в такой интеллектуальной игре делать было нечего, и мы рядом, сидя верхом на длинной лавочке, ели свои бутерброды и играли в шахматы. И вот в слесарку заходит Боря, подсел к плите, вид у него был паршивенький. Все замолчали, кто-то пододвинул ему стакан и налил компота. Некоторое время слышались только удары костяшек по плите. Наконец кого-то из наших асов прорвало.
— Ты, Боря, какой-то жид неудачный. Мало того, что все жиды на базах и в магазинах работают, а ты на заводе, так ты еще и пьяница!
Тут же заговорили и остальные.
— Ну, на хрена ты с этими пиз…ми пьешь?!
— Ты что, не мог с нами выпить, мы бы тебя до дому довели!.. Было видно, что все сочувствуют Борису, но ничем, кроме ругани, в данном случае помочь не могут.
Думаю, что начальником цеха тоже был еврей, поскольку фамилия его была Райнер. Ни имени-отчества, ни даже как он выглядел, я не помню, поскольку разговаривать с ним практически не приходилось, он был для меня, ученика, очень большая шишка. Ежемесячно проводились цеховые собрания, но я сачковал и был только на предновогоднем, поскольку цех хотел накануне Нового года отпраздновать его вместе, а посему предполагалось сброситься деньгами. Помню, что Райнер предложил купить спиртное в количестве по бутылке вина и водки на стол, так как (эти его слова я потом часто повторял, посему помню) «полбутылки вина на женщину и полбутылки водки на мужчину никого не должны привести в горизонтальное положение». Все охотно согласились, посему было решено сброситься по 3 рубля на аренду столовой, закупку спиртного и за приготовленную столовой закуску. И хотя рабочие охотно согласились с расчетом начальника цеха, но, как выяснилось, никто на этот расчет ориентироваться не собирался.
Цех вместе с женами и мужьями собрался на гулянку часов в 7 вечера с пятницы на субботу, и гуляли мы, как мне запомнилось, далеко заполночь. Прежде всего заботливые женские руки, — женщины считали, что нам «еще рано», — убрали с нашего столика, за которым сидело четыре ученика, бутылку с водкой, но зато мужские руки снесли к нам несколько бутылок с шампанским, которое взрослые приличные люди пить брезговали. Жены пришли с сумками, из которых на столы явились холодцы, винегреты, сало, вареники и прочее, обступившее бутылки с извлеченным из этих же сумок самогоном. И хотя нас, учеников, холостых и неженатых, всеми этими закусками обильно угощали с других столов, но мы сумели-таки наклюкаться и шампанским, уж больно как-то все было по-родному, по-семейному и очень весело — с песнями и с танцами. Расходились долго, посему одного ученика, заснувшего в каком-то закутке и не найденного дежурными, закрыли в столовой, и тот утром еле-еле добился, чтобы с выходного вызвали директора столовой и выпустили его на волю.
В конце зимы мне внезапно сказали, что Райнер вызывает меня к себе принять экзамен на разряд, а я учился всего пятый месяц из положенных шести и не готовился, но Герман меня успокоил. Экзамена не помню, но, видимо, я его сдал неплохо, поскольку начальник цеха распорядился, чтобы старший мастер дал мне контрольную работу. Она была очень простой — это был валик, на котором мне нужно было сделать шестигранник под ключ и поставить шпонку. Выписали первый наряд на мое имя. Токарь сделал валик очень чисто, чуть ли не отшлифовал его, я тоже очень чисто оточил напильниками шестигранник, и он у меня тоже блестел. Я подумал, что, если сейчас поставлю черную шпонку, то она испортит весь вид. Я взял шлифованную пластинку стали нужной толщины, в алюминиевых губках на тисках, чтобы не повредить шлифовку, вырезал по размеру шпонку, но она в шпоночном пазе сидела свободно (фрезеровщик этот паз немного прослабил), посему я нашел два винтика МЗ с полукруглыми никелированными головками, нарезал резьбу и привинтил шпонку к валику. Все блестело и выглядело очень красиво, хотя ничего этого не требовалось. Валик, наряд и чертеж я положил на стол в ОТК и стал искоса наблюдать, как контролер его примет. Пришла контролерша, начала обмерять работы других слесарей, смотрю — дошла до моей работы и заулыбалась. Позвала идущего мимо старшего мастера Володю Березу, тот тоже взял валик в руки, тоже заулыбался. Ага, думаю, оценили мою эстетику.
Тут надо сказать, что за всю мою работу в цехе меня никто не хвалил — не помню такого случая, считалось, что хорошая работа само собой разумеется. Зато за промахи обругать за труд не считалось.
Как-то размечал я для газорезчика раму чуть ли не в 2 метра длиной, а самый большой штангенциркуль был как раз на 2 метра. Стороны я им мог проверить, но на то, чтобы промерить им диагональ и убедиться в точности прямых углов, этого штангенциркуля не хватало. Пришлось контролировать себя рулеткой, а она требуемой точности не дает. В результате я на длине в 2 м ушел от требуемого угла где-то миллиметра на 1,5. И расточник, делавший конечную обработку этой рамы и заметивший это отклонение, минут 10 искал меня по цеху, привел к своему станку, показал эти злосчастные 1,5 мм. После чего долго объяснял, что мы работаем на заводе точного машиностроения, а не на каком-то там заводе сельхозмашин, мы делаем очень точные машины, а не какие-то там плуги, и эти 1,5 мм (газорезчик ему допуск на обработку оставил по 10 мм на каждую сторону) — это страшное преступление, которое мог совершить только безрукий идиот.
При этом, должен сказать, я чувствовал, что ко мне все относятся с симпатией, хотя не стеснялись и подначивать. У меня был и остался принцип — на работе надо работать, прийти на работу и ничего не делать — это извращение. В начале месяца часто бывало отсутствие работы, тогда я шел к Березе и требовал, чтобы он мне её дал. Остальные, оставшиеся без работы, играли в домино, а я либо помогал ремонтировать станки, либо делал еще что-либо по цеху. Однажды сделал стенды наглядной агитации возле цеха и покрасил их, правда, лозунги писал уже художник завода. И вот как-то, когда я еще был учеником, слесари подговорили нашего мастера подначить меня, и тот с серьезным видом сообщил, что завод принимает за хорошие деньги опилки стали из-под напильника, но нужно собрать что-то около 5 кг. Я поверил и стал аккуратно сметать опилки щеточкой со своих тисков и с тисков остальных слесарей, все, само собой, балдели, но ни один сукин сын в моем присутствии не засмеялся — все покорно давали мне убрать их тиски. Однако мастер недоучел последствий. Через пару дней я сообразил, как эту работу делать быстро — принес из дома магнит, довольно быстро собрал требуемый вес и предъявил его мастеру. Тут-то он и объявил, что это шутка, но я мгновенно сориентировался и не собирался считать это шуткой — он мне дал эту работу, он должен за нее заплатить. Он настаивал, что это всего лишь шутка, тогда я пожаловался Герману, который об этом ничего не знал и полагал, что я собираю опилки для каких-то своих целей. Герман рассердился, приказал без него ни у кого не брать никакой работы, обматерил мастера, вызвал старшего мастера и сошлись на компромиссе: я выбросил опилки в металлолом, а мастер мне пообещал, что когда я начну работать самостоятельно, он эту мою работу компенсирует повышенными расценками.
Обычно те, кто хочет поступить в институт, увольняются еще весной для подготовки к экзаменам, я же не увольнялся, а просто на время экзаменов с 1 по 15 августа взял отпуск, который мне полагался, а после отпуска снова вышел на работу. Должен сказать, что работа мне очень нравилась, поскольку никогда не повторялась и каждый день поступали чертежи новых и новых изделий. Потом, каждое изделие — это реальный, нужный людям результат и не надо доказывать, что твоя работа кому-то нужна и кому-то есть от нее польза. Более того, у меня хорошо получалась разметка, и я хотел пойти на курсы сварщиков и комплексно заняться заготовками в цехе — самому размечать сталь и самому вырезать из нее заготовки.
Поэтому поступлю в институт или не поступлю, меня на самом деле не очень волновало, вот только перед родителями было как-то неудобно. Тем не менее в конце августа я нашел в почтовом ящике извещение, что меня приняли, и я начал увольняться с завода — сдал инструмент, начал собирать подписи в обходной листок. Где-то после обеда пришел в отдел кадров получить трудовую книжку, а мне говорят, что начальник цеха вызывает меня в цех.
Надо сказать, что и старшие товарищи мне подсказали как, да и сам я был уже не новичок, — и я умыкнул часть личного инструмента и унес домой — кушать он не просит, а всегда может пригодиться. И когда я услышал, что меня требует к себе начальник цеха, то немного перетрусил, а не потребуют ли у меня его возврата? Зашел в кабинет к Райнеру, он тут же встал, взял со стола папку, и мы спустились с ним в цех. Он подозвал мастеров, распорядился остановить работу и всем собраться на площадке механического участка. Минут через 10 вокруг нас собрались дневные смена и персонал, подогнала кран к месту события и моя прекрасная крановщица, наблюдавшая за всем сверху. Райнер объявил цеху, что я поступил в институт и поздравил меня от лица моих товарищей. Народ загудел, захлопал, меня стали хлопать по спине: «Молодец, Юрка!» Затем Райнер открыл папку и сообщил, что администрация завода награждает меня грамотой за победу в соцсоревновании во втором квартале. Тут он снова пожал мне руку, а народ захлопал в ладоши. Далее Райнер достает еще одну грамоту и объявляет, что завком награждает меня за активное участие в художественной самодеятельности. Пожал руку и снова аплодисменты. Затем достает третью бумагу и объявляет, что комитет комсомола и администрация признали меня лучшим молодым слесарем завода. Снова пожал руку, а народ согласно зааплодировал. (По утверждению моей жены, когда я еще до свадьбы, ухаживая за ней, сообщил, что был лучшим молодым слесарем, то для нее это было очень сильным аргументом.) Я был очень растроган, я стоял перед товарищами, что-то бормотал в ответ и боялся, что расплачусь.
Я потом и сам долго был начальником цеха, и неплохим начальником, сам вручил множество грамот, посему могу оценить Райнера, так сказать, профессионально. Подписав утром заявление об увольнении какому-то салаге 2-го разряда, он не забыл и не поленился позвонить в завком и комитет комсомола и убедить их принять решение и выписать соответствующие грамоты, не поленился остановить цех и торжественно вручить их. Я снимаю шляпу: с таким начальником я с удовольствием работал бы и рядом, и над ним, и под ним.
В институте
В моих взглядах на жизнь ничего не изменила и учеба в институте. Конечно, институт — это не завод, но и не шоу-бизнес, здесь есть конкретное дело, которое выражается количественно — оценками, и на рекламе своих талантов не просуществуешь: если ты бездельник и дурак, так это так или иначе будет видно со стороны, как бы ты ни доказывал свою исключительность. По блату можно поступить в институт, по блату можно сдавать сессии у каких-то преподавателей, но от своих товарищей ты свою глупость-то не скроешь.
Посему у нас в группе наша национальность нас не трогала, хотя, само собой, мы могли о ней догадываться. Скажем, если парня зовут Ваня Потапов и сам он из Тамбова, то кем он может быть? Я и по сей день не знаю, поскольку сам при русской фамилии все же украинец. К примеру, я очень долго не знал, что Алик Барановский еврей, пока как-то по случаю он сам мне об этом не сказал. Конечно, когда к нам в группу перешел парень характерной внешности и вписался в журнал как Тудер Игорь Аркадьевич, то ни у кого и вопросов не было, и все понимали, что в графе «национальность» вписано «еврей». Хохма была с Кацманом. Он пришел в группу, мы познакомились, он был типичным коренастым, крепким, кучерявым евреем, а потом Женя Куденко, наш староста, показывает журнал, а там вписано «Кацман Цезарь Львович, белорус». Мы про себя посмеялись: «Если он боится еврейских погромов, то с чего он решил, что у нас бьют по записи в журнале, а не по морде?» Это был такой анекдот: «Приходит домой весь избитый Абрам, Сара его спрашивает:
— Что случилось?
— Попал в еврейский погром.
— Но ты же по паспорту русский?!
— Да, но они же били не по паспорту, а по морде!»
А СТЭМ у нас возглавлял Владик Кацман, по-моему, он был тогда аспирантом, ну я ему на репетиции и говорю:
— Владик, к нам перешел студент Цезарь Львович, по фамилии тоже Кацман, но белорус.
— Такое с нами, евреями, часто случается, — тут же среагировал Владик.
Правда, очень быстро, буквально через неделю Женька мне говорит, что Цезарь поменял национальность и попросил его вписать в журнал «еврей». Думаю, что над ним поиздевались наши товарищи-евреи, а зачем он сам так поступил, я так и не знаю — сначала было неудобно спросить, а потом забылось. Между тем, и Алик, и Игорь, и Цезарь были вполне адекватны группе — не избегали никаких товарищеский обязанностей, в каких-то сложных ситуациях не трусили и не предавали.
Я уже упоминал, что в Челябинске мы общались время от времени с Генкой, который «косил под психа». Как-то сели у него в комнате «писать пулю» — он, Толик Борисов, Тудер и я. И Генка, сидевший слева от Игоря, начал нагло мухлевать: вместо того, чтобы записать себе «в гору», записывает нам, висты себе нагло приписывает и т. д. Первым это заметил Игорь.
— Ты что же это записал? — спросил он Генку.
— Тут все правильно, морда жидовская!
И не успел Генка договорить «жидовская», как Игорь вмазал его с правой так, что Генка не только опрокинулся вместе со стулом, но и задвинулся под кровать. Как прекрасно действует на психов такая терапия! Генка вылез из-под кровати совсем другим человеком и начал извиняться, что он-де пошутил. Но мы все втроем встали, бросили карты, послали его соответственно и ушли.
Я уже как-то писал в газете по поводу воплей, что антисемиты-де называют бедных евреев жидами. Если вы терпите это, то, значит, называют правильно — вы и есть жиды. Суньте за это разок кулаком в морду, и все сразу поймут, кто вы есть. Всех-то проблем!
Все наши евреи хорошо учились, вообще на нашем потоке из четырех групп было три краснодипломника: Игорь Тудер вообще не имел четверок, я был на втором месте, и за мною шел Цезарь Кацман. Алик Барановский получил обычный диплом, но тоже учился хорошо. Судьбу Алика я не знаю, хотя мы с ним и переписывались, когда я уже работал в Ермаке, а он все еще служил свои 2 года в армии в Ахалцихе, но после мы не встречались. А Тудер и Кацман во время перестройки уехали в Израиль. Мне почему-то особенно жаль Цезаря, хотя мы больше были дружны с Игорем.
Я уже был в Ермаке, когда узнал, что Цезарь работает в Челябинске, но долго не мог подгадать себе туда командировку. Поэтому я встретился с ним уже, наверное, лет через 10 после того, как мы расстались после окончания института. Один вечер мы посидели с ним «за бутылкой чая», душевно поболтали, но остаться ночевать я не мог — у него все еще была однокомнатная квартира. Его история, с его слов, такова. Когда он вернулся из армии, в которой, как он говорил, его достаточно часто оскорбляли намеками, что ему лучше было бы в армии Израиля, то устроиться на работу по специальности в Днепропетровске он не смог, причем его не принимали на работу именно из-за национальности. Ему заявляли, что евреев у них и так полно, посему он им не нужен.
Отвлекусь. В то, о чем рассказывал Цезарь, я верю, поскольку то же самое мне рассказал и Тудер. Но какой-то это был очень странный антисемитизм, поскольку касался не всех евреев и имел такую форму, которая должна была озлобить лучших из них. Вот два моих товарища-еврея, оба с красными дипломами, работу по специальности в Днепропетровске найти не смогли. Но другие мои знакомые евреи, без красных дипломов, без проблем устроились на работу в те институты, которые отказались от Игоря и Цезаря.
Я как-то рассказал об этом своему товарищу, в те годы офицеру ракетно-космических войск. И он тоже поделился своими сомнениями о природе этого антисемитизма. По его словам, у них тоже проходила негласная чистка от евреев под видом сокращения штатов, но, как они тогда с удивлением отметили, из армии изгонялись офицеры строевых должностей — командиры батарей и дивизионов, не вызывавшие никаких сомнений в своей преданности СССР. В то же время тыловые и штабные жиды никак от этой чистки не пострадали. По мнению этого офицера, это делалось специально, чтобы в массах честных евреев вызвать ненависть к СССР.
Нынешние СМИ России буквально оккупированы этими познерами и сванидзами, которые поют и поют о русском антисемитизме, одновременно делая все для уничтожения России. Но ведь все эти типы пролезли в СМИ еще в СССР, и никакой антисемитизм их не остановил. Бросается в глаза странность советского антисемитизма — он делил евреев на две части: одну часть показательно избивали, предметно являя советским евреям этот самый антисемитизм, а другая часть плавала в этом антисемитизме как рыба в воде.
Но вернемся к Цезарю. Итак, не сумев устроиться на работу по специальности в Днепропетровске, он совершил, на мой взгляд, очень сильный поступок, за который я Цала очень сильно зауважал в силу того, что не уверен, совершил ли бы я такой поступок на его месте.
Дело в том, что Цезарь женился до войны, и у него в Днепропетровске была квартира в ветхом доме, на месте которого теперь оперный театр. Дом уже тогда шел на снос, и Цезарю была обеспечена отдельная квартира в Днепропетровске, что по тем временам было очень много. Эта квартира требовала от него устроиться на работу пусть и не по специальности, но в городе Днепропетровске, жить в котором считалось очень престижно. Тем не менее Кацман написал в Министерство черной металлургии и потребовал предоставить работу по специальности. Его направили на Челябинский металлургический завод, и он, бросив жилье в Днепропетровске, перевез семью в Челябинск. На ЧМЗ его не поставили не то что мастером, а даже подручным сталевара, — его послали работать на канаву — на участок разливки стали. Шли месяцы, а никто не собирался назначать Цезаря на инженерную должность, и, как он сказал, до него дошли слухи, что начальник цеха о нем сказал: «Этот жид у меня до пенсии будет работать на канаве».
Как рассказывал Цал, однажды во время смены он пошел в туалет и там снял с гвоздика для известных целей клочок какой-то челябинской газеты, на котором прочел, что местный металлургический НИИ (забыл его название) объявил конкурс на замещение вакантных должностей. Цезарь подал документы и был принят (специалисты с красным дипломом все же довольно редки). Когда стал увольняться, то и ЧМЗ начал суетиться, стал предлагать ему должности на выбор и т. д., но Цезарь ушел и правильно сделал. Не потому правильно, что ушел в науку, а потому, что работать непосредственно под уродами и трудно, и бесперспективно. На момент нашей встречи он был уже кандидатом наук и работал над докторской. Поскольку докторская диссертация обычно является продолжением кандидатской, то сманивать его на свой завод я даже не стал — он уже был сталеплавильщиком с большим стажем и наработками, посему начинать вновь осваивать ферросплавное дело ему было поздно. В 90-х я с сожалением узнал, что он переехал в Израиль. Цезаря очень жаль. Когда видишь вокруг столько безвольных дураков всех национальностей, то потеря любого умного мужика с характером — это потеря!
А Игоря Тудера я очень хотел перетащить в Ермак. Это было в середине 80-х, завод был все еще в бедственном положении и очень нуждался в кадрах. Я был в отпуске и решил разыскать Игоря. Он тоже не смог устроиться в Днепропетровске по специальности и работал главным инженером гостиницы. Должность звучала громко, но мне не хотелось иронизировать и в связи с этим я не стал расспрашивать, чем же его работа отличается от работы слесаря-сантехника в жилищно-коммунальном отделе нашего завода. Наверное, кроме чистки унитазов, надо было самому и все бумаги писать. Он получал 140 рублей, а его жена — 190, в связи с этим его родители-пенсионеры ежемесячно помогали ему 50 рублями, чтобы жена, так сказать, не сильно задавалась. Правда, жил он возле Озерки в старой, но очень удобной квартире, даже, скорее, в отдельном доме с гаражом на маленьком участке. Выпили, я начал агитацию, и Игорь загорелся переездом в Ермак, жена его дипломатично поддакивала. Я вернулся в Ермак, тут же послал ему официальный вызов, но он после длительного молчания отказался. Думаю, что его не отпустила родня, а сам он смалодушничал. В 90-х в отпуске я решил с ним повидаться, заехал в гостиницу, но там мне сообщили, что Игорь уже в Израиле. Его жаль по другой причине — хороший был у человека интеллектуальный потенциал, а он взял и бросил его псу под хвост.
Но вернусь в студенческие годы. Думаю, что среди преподавателей было много евреев, но нам-то, студентам, какая была разница? Конечно, если у человека фамилия Рабинович, то ясно, что он не чукча, а в остальных случаях мы национальностью не интересовались. Скажем, кристаллографию и минералогию нам читал преподаватель со странной фамилией — Кецмец. Я тогда не поинтересовался, кто он по национальности (главное было не запутаться в осях и сингониях), да и сейчас мне это безразлично: он меня на экзамене не сильно и путал, а когда я в его ящиках с образцами минералов нашел вольфрамовую руду (шеелит), то поставил мне пятерку, за что ему спасибо.
Кстати о Рабиновиче. Как-то сижу на кафедре у стола Кадинова и рассказываю ему идею миниатюры, которую хотел поставить в СТЭМе. Суть её такова.
Один другому рассказывает анекдот.
— Приходит больной с повязкой на ноге к врачу, и тот его спрашивает, что болит. Больной отвечает — голова. А почему повязка на ноге? — удивляется врач. — Сползла, — поясняет больной.
— А дальше? — спрашивает слушатель анекдота.
— Что дальше?
— Дальше-то что было в анекдоте?
— Да это весь анекдот.
— А что же здесь смешного?
— Ну, как же — повязка-то сползла!
— Но если бы она сползла, то сползла бы на две ноги.
— Так в этом же и соль!
— Не понял… Может быть, врач был Рабинович?
— В каком смысле Рабинович?
— В смешном смысле Рабинович.
— Нет, в смешном смысле он не был Рабинович…
Тут Кадинов рассмеялся и позвал сидящего через несколько столов от нас Александра Вольфовича Рабиновича.
— Шурик, ты в каком смысле Рабинович?
Рабинович подошел к нам, и я ему рассказал идею миниатюры, он тоже посмеялся и тут же сам выдал анекдот.
— Рабинович, тот Рабинович, который сидит в тюрьме, не ваш родственник?
— Даже не однофамилец!
Естественен вопрос, а сталкивался ли я с тупым и ленивым еврейством, с проявлением того, что называют жидовством? Естественно, как же я мог жить в обществе, в котором высок процент евреев, и не сталкиваться с проявлениями расизма? Но дело в том, что мои случаи какие-то убогие — я видел ту помощь, которую евреи оказывают друг другу, но меня это никак не касалось: в моем случае они никогда не делали этого за мой счет — я о еврейской сплоченности больше слышал, нежели её видел.
Ну, вот такой пример. После первого курса сдаю учебники в институтскую библиотеку, и библиотекарша начинает утверждать, что одного не хватает, я возмущаюсь, начинается спор. Подходит еще одна работница, выходит еще одна из хранилища, все втроем утверждают, что я злосчастный учебник брал, а я, соответственно, настаиваю, что не брал. Все трое библиотекарш, как сейчас бы сказали, славянской внешности. Наконец, выходит заведующая библиотекой — явная еврейка средних лет. Выслушала обе стороны и решила вопрос в мою пользу. После пятого курса сдаю оставшиеся у меня учебники, и история повторяется: библиотекарша утверждает, что одной книги не хватает, я скандалю, сбегаются еще две библиотекарши и наседают на меня. Но теперь уже все трое — еврейки. То есть завбиблиотеки — еврейка, прошло четыре года, и весь персонал библиотеки стал еврейским. Выходит из кабинета та же заведующая, выслушала обе стороны и опять решила вопрос в мою пользу. Вот, казалось бы, пример еврейской сплоченности, но мне-то что с этого? И при славянках был скандал, и при еврейках, но вопрос-то все равно решился в мою пользу.
Или вот такой случай. Мой старший брат срочную служил в Германии и после нее остался на сверхсрочную — погулять, как он утверждал. Долго гулять не пришлось, поскольку через год он женился на фельдшерице армейского госпиталя и начались заботы. Они, Гена и Света, получали часть оклада в марках ГДР, а часть им переводили на книжку в рублях. Эти рубли они скопили и внесли первый взнос за трехкомнатную кооперативную квартиру в Днепропетровске, но теперь к ней требовалась обстановка и т. д. Все это, более модное, они решили купить в Германии, но у них уже родилась моя племянница, марок не хватало. И они в отпуске на рубли покупали товары, которые продавали немцам и, таким образом, конвертировали часть рублей в марки. Но товары покупались те, которые разрешалось вывозить из СССР, и строго в предписанном количестве. Как они рассказывали, таможенники в Бресте были беспощадны. Таким образом, Гене и Свете за отпуск нужно было купить широкую гамму ликвидных в Германии товаров, начиная с двух бутылок водки, двух килограмм конфет, двух килограмм кофе и кончая транзисторным радиоприемником и, что меня особенно удивляло, оптикой. Ведь в ГДР были известнейшие во всем мире заводы Цейса, тем не менее немцы охотно покупали советские фотоаппараты и бинокли.
И вот как-то Света приехала в отпуск без Гены и перед отпуском поручила мне купить фотоаппарат и бинокль. Я поехал «в город», как мы, живущие на левом берегу Днепра, называли правобережную часть Днепропетровска, и сразу же купил нужный «Зоркий», но бинокли с прилавков исчезли. То их в каждом магазине фототоваров было как мусора, а тут я прошел весь проспект — и ни одного! Возвращаюсь по проспекту к мосту на левый берег, прохожу мимо улицы, на которой жил Игорь Тудер, и решил к нему зайти поболтать или сходить с ним куда-нибудь развлечься.
Но дома оказались только его мать и отец. Мама Игоря, я бы сказал, типично еврейского темперамента, тут же меня схватила, усадила за стол, пообещала, что Игорь сейчас придет, налила чаю и начала расспрашивать обо всем. В том числе и зачем мне нужен Игорь. Я без задней мысли рассказал, что искал бинокль, но не нашел и зашел к ним попутно. Она тут же засуетилась и сначала начала советоваться с отцом Игоря, где мне найти бинокль, после чего села за телефон, раскрыла записную книжку и начала набирать номера. Я сначала обрадовался, решив, что она меня сейчас выведет на какого-нибудь еврея-завсклада или директора магазина. Но оказалось, что она обзванивает всех знакомых подряд и спрашивает у них бинокль. (Дело в том, что в мое время любая перепродажа в глазах людей была спекуляцией, т. е. делом позорным, и я постеснялся сказать, зачем он мне нужен.) Я сидел и не знал, как бы мне, ничего не объясняя, отказаться от услуг мамы Игоря, а она в это время тараторила в трубку примерно следующее.
— Здравствуйте, Роза, вы нас помните, мы были у вас на свадьбе у Бори. Как они живут? Они уже ожидают маленького? А как здоровье вашего супруга? Роза, вы помните, на свадьбе у Бори был такой военный, кажется, майор. Так вы не знаете, у него может быть бинокль? А вы не скажете, как его зовут? Дайте, пожалуйста, номер его телефона…
Я сидел и с ужасом понимал, что мама Игоря сейчас достанет мне бинокль, которым батько Махно осматривал Екатеринославль перед взятием его у деникинцев. А мне-то нужен был новенький, с паспортом, в коробке. Но к моему счастью, вернулся Игорь и я быстро сманил его куда-то на улицу, поблагодарив его маму за хлопоты и успокоив её тем, что я еще не искал злосчастный бинокль в магазинах на левой стороне Днепра.
Вы скажете, что это какие-то пустяки, но что я могу поделать, если в моей личной практике только несколько вот таких случаев? Да, от других о еврейском сволочизме я слышал очень много, но жил, повторю, с евреями не с того конца села. Это был все трудовой люд, в основном, из промышленности. Я не жил и не работал с дерьмовой богемой — с писателями, журналистами, учеными, артистами и т. д. Никто из евреев, которых я знал, не перебегал мне дорогу, не делал мне пакостей только потому, что я не еврей. «Мои» евреи по своему моральному облику были совсем не те евреи, которых мы сегодня видим на экранах телевизоров. Наоборот, «мои» евреи как огня боялись, что их спутают с жидами.
Вот давайте об этом, поскольку те «русские», которые считают, что все беды России от евреев как таковых, а не от жидовской их части, не хотят говорить о том, что сами евреи ненавидят своих жидов ещё, пожалуй, и больше, чем русские. Ненавидят, поскольку евреи своих жидов знают лучше, чем их знают русские, а русские, кстати, на своих русских жидов внимания обращать совершенно не хотят. А напрасно: русские жиды по своей подлой и тупой алчности от еврейских не далеко ушли. Между прочим, у немцев есть поговорка: «белый жид хуже черного». Имеется в виду, что немец, ведущий себя как жид, хуже жида, по национальности еврея.
Да, можно не обращать внимания на то, что наши русские евреи, живущие «на моем краю села», ненавидят жидовство, и винить всех евреев разом. Но есть разница в нас самих: если мы принимаем свое решение на основании неверных данных, а эти данные нам подсовывает недобросовестный человек, то, возможно, он будет и виноват в полученных результатах. Но если мы знаем, что данные неверны и, тем не менее, закладываем их в свое решение, то тогда идиотами являемся мы и винить нам некого.
Сначала несколько книжных примеров. Вот Исаак Кобылянский живет в США и писать может что угодно. Написал воспоминания о той войне, которую закончил командиром батареи полковых пушек. Между тем, у него зрение было 0,1, он запросто мог отсидеться в тылу, тем более, что по военному времени он и очков-то не мог купить и на фронте во всех случаях пользовался биноклем. Вот он пишет о том, что ещё, кроме патриотизма, толкнуло его на фронт.
«Особенно задевали мои юношеские чувства оскорбительные обвинения евреев в трусости и увиливании от непосредственного участия в боях. Никогда не забуду, как больно было выслушивать гнусные остроты на эту тему. Пока я не оказался в армии, приходилось, стиснув зубы, молча сносить произносимые в моем присутствии гадости типа «вояки из Ташкента» или выслушивать анекдот о Рабиновиче, который на вопрос, почему он не на фронте, ответил: «А если меня там убьют, кто тогда будет любить Родину?» Ведь не мог я, крепкий 19-летний парень, упреждая возможные вопросы, оповещать любого встречного о том, что статус студента второго курса дает мне отсрочку от призыва в армию. И до мая 1942 года приходилось молча глотать обиду даже тогда, когда эти гадости не относились ко мне лично».
В 1942 году Кобылянский все же оставляет институт и поступает в артиллерийское училище.
«…Более сложная картина предстала передо мной, когда я воевал в стрелковом полку обычной пехотной дивизии. В подразделениях переднего края нашего полка, насчитывавших в среднем за годы войны примерно пятьсот «активных штыков», евреев было немного. В полку, помимо меня, «активно» (в моем понимании) воевали еще четыре еврея: командир роты противотанковых ружей (ПТР) Горловский, командир взвода минометной батареи Плоткин, командир минометного взвода, затем роты Бамм и батальонный связист сержант Хандрос. Вполне возможно, что в батальонах были еще евреи, но я называю только тех, кого знал лично. Все, кого я перечислил, были известны в полку как храбрые воины. (Горловского в последний раз я видел тяжело раненым, его несли на руках солдаты, когда мы пытались выйти из «Балки смерти», там же встретил Хандроса и больше его не видел. Я, Бамм и Плоткин вернулись с войны невредимыми.)
…Однако мой болезненно придирчивый взгляд замечал, что в небольших по численности тыловых подразделениях и при штабе нашего полка было примерно столько же еврееев: уполномоченный СМЕРШа Вигнакер, почтальон Вин, автоматчик при штабе Шулъман, завскладом ОВС Сапожников, писарь строевой части Якубман. Заметный процент евреев я обнаруживал также в «верхах» и тылах дивизии. Назову только тех, кого запомнил: замкомдива по тылу Драйгер, адъютант комдива Ельчин, начполитотдела Липецкий, инструкторы политотдела Фарбер, Винник и Блувштейн, инженер службы тыла Друй, артист дивизионного ансамбля Голъдштейн, печатник редакции многотиражки Перельмутер. (В этих подразделениях было гораздо безопаснее, чем на передовой, но и здесь, конечно, люди погибали.)
Конечно, такое неприятное для меня соотношение «активно» и «пассивно» воюющих евреев в нашей дивизии было заметно не мне одному, и оно могло подкреплять позицию тех, кто твердил об умении евреев «устраиваться». Как антисемитизм в тылу страны, как злые наветы на евреев в немецких листовках, так и коробившая меня собственная «мини-статистика» стрелкового полка глубоко задевала мои чувства. И я старался своим поведением на фронте опровергать антиеврейские предрассудки.
Целый ряд моих поступков в военные годы был продиктован стремлением доказать окружающим, что я, еврей, ничем не хуже других.
Не могу не рассказать о тех двух случаях на фронте, когда я совершенно сознательно принимал жизненно важные решения, исходя из того, что я — еврей.
Была при политотделе дивизии «группа по разложению войск противника» (начальник группы — еврей, майор Винник). В группе имелся автомобиль с громкоговорящей установкой. Машина должна была подъезжать к переднему краю и, направив рупоры в сторону противника, вещать пропагандистские тексты. (Правда, я не помню, чтобы эта машина появлялась на позициях нашего полка, но многотиражка как-то писала о действиях группы.) Однажды в 1943 году Винник, узнав о том, что я свободно говорю по-немецки, разыскал меня и предложил перейти в его подчинение. Я сразу отверг заманчивое предложение, ответив Виннику, что, мол, должен же кто-то из евреев воевать на передовой.
Второй эпизод имел место осенью 1944 года, когда мы вышли на левый берег Немана напротив города Тильзит. Правый берег реки поднимался к городу почти отвесно. Когда я впервые увидел открывшуюся панораму, подумалось: «Не дай бог наступать на этот город в лоб!» Но командование имело свои соображения, и было объявлено, что в ночь на 31 октября (опять роковой последний день месяца!) полк будет переправляться через Неман и штурмовать Тильзит. Всю остававшуюся неделю мы в прибрежном лесу вязали плоты, а ночами оборудовали огневые позиции у самой реки. Было сообщено, что первым, кто войдет в город, будут присвоены звания Героев Советского Союза, но, несмотря на это, настроение у окружающих было тревожное, энтузиазм не просматривался, так как шансов уцелеть было мало. Вот строки из моего письма Вере, написанного в эти дни. «…Я стою на пороге очень серьезных боев, и один Господь знает, чем они окончатся для меня…» (ни до, ни после этого я не писал так откровенно о предстоящей опасности).
И вот за сутки до начала наступления ко мне прибывает вестовой из строевой части и вручает анкету поступающего в военно-инженерную академию. По телефону объясняют, что прибыла разнарядка на одного человека с законченным или незаконченным высшим техническим образованием, и я — единственный в полку, кто удовлетворяет этому требованию. Требовалось срочно представить анкету для оформления приказа об откомандировании на учебу. Все надо было сделать за несколько часов. Вначале я очень обрадовался счастливой возможности избежать участия в гибельной операции и принялся заполнять анкету. Но постепенно в голову стали приходить и другие мысли. «Как же я могу так поступить? Ведь это даст в руки антисемитов еще один козырь. И как могу оставить своих друзей и подчиненных в канун тяжелого боя?» Размышления закончились тем, что я позвонил в строевую часть и отказался от «счастливой возможности». А через несколько часов операцию отменили — так мне в который раз повезло на войне…
… Я понимаю, что в этой главе наряду с опровержением ряда антиеврейских предрассудков есть много противоречивого. Наверное, это связано с тем, что невозможно однозначно охарактеризовать большую общность людей, в данном случае — советских евреев».
Является ли Исаак Кобылянский исключением из правила? Нет, это обычный поступок еврея с «моего конца села». Хотите — еще точно такой же пример. Вот мотивы Владимира Местера (1926 года рождения): «…завод эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий. Когда я в Сибирь попал, то тут уже не смотрели, сколько тебе лет, сколько тебе положено работать… Я в шестнадцать лет стал бригадиром электромонтеров! Когда исполнилось 18, я решил идти на фронт, и одной из причин, почему я хотел попасть на войну, было то, что я понимал, что если я не попаду на фронт, то мне как еврею потом будет плохо. Никто мне скидку на то, что с завода не уходил неделями, что на воздушных работах работал без ремней, облокачиваясь спиной о фермы и держась только за счет силы ветра, не даст. Так что я считал, что мне обязательно надо быть на фронте».
Примечательно, что В. Местер был на фронте воздушным стрелком на штурмовике Ил-2 и сделал 40 боевых вылетов. Немного об этом. На середину войны средняя выживаемость летчика-истребителя была свыше 50-ти боевых вылетов, летчика-бомбардировщика — 48, летчика-штурмовика — 11. Но при этом воздушные стрелки Ил-2 гибли в два раза чаще, чем летчики, и осужденных летчиков посылали не в штрафной батальон, как офицеров иных родов войск, а приговаривали к 10 вылетам в качестве воздушного стрелка!
На эту тему расскажу историю, которая интересна и способом того, как уклонялись от фронта трусы и подонки. Все воют о ГУЛАГе, но ведь одновременно молчат, что масса подонков совершала во время войны преступления с единственной целью — попасть в ГУЛАГ, а не на фронт! И кто бы мог подумать, что способом избежать фронта может быть запись в армию добровольцем?! А тут смысл простой — при мобилизации тебя отправляли, куда требуется, а доброволец мог выбрать род войск и, к примеру, еще год кантоваться в каком-нибудь военном училище, а потом еще что-нибудь придумать. У меня есть случай поразительный. Один мой знакомый утверждал, что он в 1942 году пошел на фронт добровольцем, и я относился к нему как к ветерану войны. Но как-то заговорил об этом с начальником 2-го отдела (учет военнообязанных), и он мне сухо сообщил, что этот мой знакомый не является ветераном войны. Как же так — доброволец с 1942 года и не участник войны, закончившейся в 1945? И как-то за бутылкой водки я его об этом расспросил. Вот его история.
— Когда я окончил 10 классов, мне еще не было 18 и если бы я ждал, то осенью меня бы призвали в пехоту, и с концами! Я, не будь дурак, пошел в военкомат и записался добровольцем, попросившись в десантники. Попал в учебный центр, там нас год учили, а перед выездом на фронт я при последнем прыжке с парашютом вывихнул ногу. Школа ушла на фронт, а я остался в госпитале. Однако следующий набор был уже не десантников, а воздушных стрелков. Я проучился, а перед выездом на фронт у меня в руках взорвался запал от гранаты и мне оторвало на левой руке мизинец. Сначала хотели отдать под трибунал, но обошлось, а после госпиталя я стал учиться уже на авиатехника, набор которых начал обучение в этом центре. Окончил, попал в 1945-м в авиаполк, а он уже в боевых действиях не участвовал…
Вот вам и «комсомолец-доброволец». Между прочим, русский из Сибири. И тоже вопрос, а почему же этот «доброволец» не боялся, как еврей Местер, что ему «будет плохо», если он не попадет на фронт? А мы же, русские, жидов в своей среде не выделяем, и они у нас не видны, а у евреев они видны, тем более что их жиды во время войны показали себя на славу.
Так что должны были чувствовать евреи «с моего конца села» к еврейским жидам?
Ведь такие евреи, как Драгунский, упомянутые мною Кобылянский и Местер, уходили на фронт, а в тылу — «на другом конце села» еврейские жиды жирели за счет военного лихолетья. В подтверждение этой мысли могу привести воспоминания жены «великого физика» Ландау (жена называет его Дау) о другом «великом физике» — Е. Лившице (Женьке).
«Осенью 1942 г. в Казань из Харькова приехал Илья Лившиц, хотя их институт был эвакуирован в Алма-Ату. Вечером от Женьки Дау вернулся очень возбужденным:
— Коруша, какую массу золота я видел у Женьки! Первый раз видел золото царской чеканки. Продемонстрировав мне свое золото, Женька и Илья стали меня уговаривать сейчас под шумок пробираться к персидской границе, а когда немцы возьмут Волгу, перейти границу и пробираться в Америку. Золото-то поможет до Америки добраться.
— Дау, а при чем здесь ты? Пусть бегут со своим золотом в Америку.
— Коруша, им необходимо мое имя в пути и особенно в Америке. Нет, ты не бойся, я никуда бежать не собираюсь, но я никак не мог доказать Лившицам, что немцы Волгу не перейдут и что Россию завоевать невозможно! Почему-то забывают историю. Армия Гитлера погибнет, как погибла армия Наполеона.
— Дау, а ты не посоветовал Женьке сдать свое золото в фонд победы?
— Коруша, мы победим без Женькиного золота, но про золото ты знать не должна. Я дал слово о золоте тебе не говорить. А главнейшее — я сейчас нужен стране, я ведь тоже работаю на Красную Армию».
Что дал Ландау Красной Армии, утаив от нее золото Лившица, из воспоминаний, да и из биографии Ландау понять невозможно. Но «устроились» они в тылу неплохо: «Пайки по карточкам у нас были более чем приличные. Женьку поразила разница твердых цен по карточкам и цен на черном рынке. Он решил обогатиться. Продавал все, даже мыло».
То есть в то время, когда еврей Драгунский даже после тяжелого ранения и инвалидности рвался на фронт, еврей Лившиц получал в тылу за бесценок продукты и увеличивал количество своего золота, перепродавая эти продукты тем, кто делал оружие для армии.
Драгунские гибли, Лившицы жирели и это надо учитывать, чтобы понять, почему евреи «с моего конца села» боялись, чтобы остальные народы СССР не подумали, что они такие же, как и жиды.
Сам я с этим страхом евреев столкнулся где-то на втором или на третьем курсе. Меня вызвал на кафедру куратор нашей группы МЧ-67-3 Евгений Иосифович Кадинов и пригласил в СНО — студенческое научное общество. (А надо сказать, что до этого я никогда не задумывался, кто Кадинов по национальности. Фамилия у него была вроде русская, ну я и считал его русским. Поэтому возникший в разговоре нюанс был для меня полной неожиданностью, в связи с чем я его, скорее всего, и запомнил.) Кадинов сказал, что преподаватели кафедры должны подобрать себе из нашей группы по несколько студентов и привить им основные навыки научной работе. Он приглашает меня, но ему нужно человека три.
— Кого бы ты посоветовал мне пригласить из тех ребят, кто предположительно хотел бы после института заняться научно-исследовательской работой?
— Тудера, — почти немедленно назвал я первую фамилию.
— Хорошо, — сказал Евгений Иосифович, но как-то без особого энтузиазма. — А кого ещё?
— Алика Барановского, — тоже почти сразу сказал я.
— Это хорошо, — одобрил Кадинов уже более бодрым голосом, но вдруг задумался, видимо, вспоминая Алика. — А кто Барановский по национальности? — вдруг огорошил меня Евгений Иосифович совершенно неожиданным вопросом.
— Еврей, — недоуменно ответил я.
— Тогда не надо, — жестко отказался Кадинов.
— Но почему? — обиделся я за Алика. — Барановский толковый парень.
— Не в этом дело, я бы Алика взял, если бы сам не был евреем. А так, если я из вашей группы возьму трех студентов, из которых двое будут евреями, то скажут, что я организовал синагогу. Пусть Алик запишется к профессору Чуйко, а мне посоветуй еще кого-нибудь, но не еврея.
Я уже не помню, кого я посоветовал, поскольку Евгений Иосифович работал не со всеми нами вместе, а отдельно с каждым, но вот этот его страх перед «синагогой» остался у меня в памяти.
Второй случай произошел через много лет. Я уже упомянул, что когда был начальником ЦЗЛ, то хотел пригласить к нам на завод Игоря Тудера. После разговора с ним в Днепропетровске и получения от него согласия я по возвращении в Ермак тут же пошел к директору завода С.А. Донскому. Начал с бедственного положения с кадрами в ЦЗЛ, сказал, что мой товарищ по институту, круглый отличник, не может устроиться в Днепропетровске по специальности, потому что еврей, сказал, что получил от него принципиальное согласие и хочу, чтобы завод официально пригласил Игоря на вакантную в ЦЗЛ должность начальника металлургической лаборатории. Официальное приглашение было необходимо, поскольку при этом завод гарантировал приглашаемому жилье в определенные сроки — без очереди. Должен сказать, что я в глазах Донского довольно долго имел репутацию диссидента-антисоветчика, о чем узнал гораздо позже, поэтому меня несколько удивила довольно долгая пауза, при которой Донской как-то подозрительно смотрел на меня.
— А он, случайно, не антисоветчик, — вдруг спрашивает Донской, — у него проблем с КГБ нет?
— Да вы что, Семен Аронович, — он еще в армии, когда служил после института, вступил в партию, да и каких-либо разговоров на эти темы не возникало.
— Тогда ладно, — заметно оживился директор, — тогда готовь ему через отдел кадров вызов. Наши обязательства — должность начальника смены цеха № 2, квартира в течение года, трудоустройство его жены.
— Как во 2-й цех?! — возмутился я. Дело в том, что в то время 2-й цех был чуть ли не самым отстающим из всех четырех плавильных цехов завода и работать в нем было ужасно трудно. — Семен Аронович, ну что вы опять как с фотографом! Я же Тудера для ЦЗЛ приглашал, а вы — во 2-й цех! Для второго цеха пусть отдел кадров сам кадры ищет.
(Дело в том, что до прихода на завод Донского фотограф завода был в штате ЦЗЛ и мне это было очень удобно. Ведь тогда не было ксероксов и персональных компьютеров со сканерами и лазерными принтерами. Копии делали на светокопировальной машине «Эра», и они были ужасными по качеству. Хорошие копии фотографий, рисунков и графиков можно было получить только фотографическим путем. А став директором, Донской начал проводить тогда не понятые мною кадровые реорганизации, в том числе фотограф завода был выведен из состава ЦЗЛ и введен в штат Дома культуры. Я возмущался, и это возмущение было моим первым конфликтом с Донским.)
— Пойми, если бы я не был евреем, я бы принял его в ЦЗЛ, как ты и просил. Но если я, еврей, так сделаю, то будут говорить, что еврей еврея устроил по блату. Пусть поработает в цехе. Да, там сейчас тяжело, но если твои рекомендации верны, то он справится. Во-первых, приобретет необходимый ему опыт, а во-вторых, через год или два он, если захочет, перейдет или к тебе, или куда сочтет нужным, но ни меня, ни его никто не упрекнет в еврейском блате.
Я подумал — шеф дело говорит! Подготовил с отделом кадров вызов, отослал Игорю, но тот, как я уже писал, не приехал.
Подытожим. Евреи в сообществе людей не создают никаких проблем — это люди как люди. Однако в отличие от других народов, худшая часть еврейства — его наиболее тупая, алчная и ленивая часть, объединена в расистское сообщество, и поскольку это сообщество действует среди людей, которые практически не дают отпора этим объединившимся жидам, то те быстро захватывают в обществе ключевые позиции, и мерзость их становится видна отчетливо. Но даже с этими еврейскими жидами борьба ведется не так — не государственные кормушки нужно очищать от еврейских жидов, поскольку уж если есть кормушки, то жиды любой национальности к этим кормушкам доберутся. Возьмите госаппарат СССР, КПСС или аппарат КГБ. В этом аппарате было мало еврейских жидов, да и вообще евреев, а что толку? Ведь именно эти интернациональные жиды развалили СССР и отдали его народ на ограбление.
Кормушки нужно ликвидировать, и жидам всех национальностей некуда будет устроиться. Но об этом я пишу в других книгах. Поэтому вернемся к окончанию моего обучения в институте и выезду на новую родину.
Глава 3 НОВАЯ РОДИНА
Вкус к исследованиям
Итак, где-то со второго или с третьего курса я начал работать в студенческом научном обществе под руководством Е.И.Кадинова. Он был сталеплавильщик, соответственно, те научно-исследовательские и хоздоговорные работы, которые он вел лично, касались производства стали в электропечах. На тот момент, если мне не изменяет память, он занимался производством аустенитной нержавеющей и жаропрочной стали Х18Н10Т. Задача была — максимально снизить в этой стали содержания углерода и удешевить стоимость выплавки. Несколько раз я с инженерами-исследователями, возглавляемыми Кадиновым, ездил на опытные плавки стали в Запорожье, на «Днепроспецсталь», но большей частью моя работа заключалась в обсчете результатов экспериментов. Дело в том, что счетной техники тогда практически не было, а с позиций сегодняшнего дня можно сказать, что ее не было вообще. Высшим достижением была логарифмическая линейка и счеты канцелярские, но счетами я не пользовался, поскольку быстрее считал в уме. Задача, как правило, заключалась в сложении и вычитании, возведении в квадрат, извлечении корня, делении и умножении нескольких сот чисел, причем при умножении и делении логарифмической линейкой не всегда можно было воспользоваться из-за ее погрешности, а суммировать всегда надо было «вручную».
Заставь меня делать эту работу просто так — это было бы крайне унылое занятие. Но Кадинов спокойно и как бы между делом всегда объяснял, что я делаю и зачем и насколько важен результат моей работы. Поэтому у меня появлялся азарт, и я стремился получить результаты быстрее и как можно точнее. Кроме того, достаточно часто я попадал на обсуждения, которые проводил Кадинов со своими исследователями, посвященные поиску решений. В результате я всегда понимал, что мне нужно найти, заложенные в исследованиях идеи были понятны, а посему их проверка тоже возбуждала азарт — а вдруг получится? Конечно, самому тоже хотелось найти решение какой-нибудь задачи, но мне было пока рановато. И Кадинов, и остальные инженеры, выдвигая идеи, использовали понятия термодинамики и кинетики металлургических процессов, а от этого мертвая теория начинала приобретать образные формы — становились понятны и суть химических реакций, и условия их протекания. И вскоре до меня дошло, что хотя я и попал в металлурги по ошибке, но это оказывается очень интересное дело, и интересно оно тем, что в нем уймища нерешенных проблем. И очень интересно решить какую-нибудь из этих проблем, решить самому, да так, как ее еще никто не решал и, главное, решить эффективно!
Короче, хотел этого Евгений Иосифович или нет, но он заразил меня творчеством, — мне уже ничего другого не хотелось, — мне хотелось исследовать проблемы и находить эффективные пути их решения. На кафедре мне показали, как вести исследования с помощью математической статистики, и я изумился простоте, с которой груду каких-то фактов можно представить в виде прямой или кривой линии, а затем проанализировать эту линию и получить вывод, который до тебя никто не получал. Вот это кайф!!! Пусть простят меня все мои подруги за эти три восклицательных знака, но то счастье, что я испытывал с ними, — оно огромно, но все же оно доступно и животному, а кайф от творчества — это чисто человеческое, это лакомство, это редкость.
Я, конечно, ошибался, поскольку на любой работе, даже работе дворника или официанта, человек способен творить, но тогда я думал, что профессионально этим может заниматься только ученый, посему для меня все вопросы моего будущего отпали — я уже твердо знал, что стану ученым и никем другим. Все другие профессии — чепуха, а вот ученый — это да! Пусть простит меня Евгений Иосифович, но я не хотел становиться таким ученым, как он: все-таки он был вдвое старше меня и всего-навсего доцент. Я хотел стать таким ученым, как М.И.Гасик. Михаил Иванович в те годы был очень молод, но уже доктор наук и профессор. Чем больше я работал в СНО с Кадиновым, тем больше меня это увлекало и тем тверже становилось мое решение стать ученым.
Помимо практических навыков научно-исследовательской работы я получил от Кадинова еще одну очень полезную вещь — навык иметь под рукой базу для осмысления решений. Причем Евгений Иосифович привил мне этот навык случайно. Как-то летом он дал мне кипу реферативных журналов «Черная металлургия» и поручил отметить в них все статьи, касающиеся производства нержавеющей стали. Поскольку я работал на полставки лаборантом, то отказаться было нельзя, и я начал просматривать эти журналы. Они выходили, по-моему, два раза в месяц, и в каждом было свыше сотни рефератов, статей ученых всех стран мира, посвященных производству стали в электропечах. Просматривал я журналы, по-моему, лет за 20, поскольку, как мне помнится, я много раз таскал с квартиры Кадинова к себе домой тяжеленные сумки с этими журналами, а потом возвращал их обратно уже со своими отметками на обложке. Работа оказалась на удивление простой и скорой, наверное, причиной было мое умение быстро читать. Кадинов удивлялся скорости, с которой я работаю, несколько раз брал наугад проанализированный мною журнал и делал анализ сам, но я всегда выписывал все, что там было. Однажды даже он сам отметил на один реферат меньше, чем я, затем прочел пропущенный и согласился, что я имел основания его отметить. Для меня же главным было то, что я перестал бояться такой работы и оценил ее полезность. Когда потом я начал работать в ЦЗЛ, то сам провел такой анализ, составил картотеку литературных источников по темам моих работ и регулярно ее пополнял. Собственно, я получил урок в том, что методичность в работе отнимает не так уж много времени, а вот польза от нее несомненна.
С самим Кадиновым у нас установились отношения, которые, скорее всего, следует назвать дружескими, хотя, возможно, такими они у него были со всеми. Помню, как-то мы с ним вместе возвращаемся из института, а в начале проспекта Карла Маркса был хлебный магазин, а в нем отдел «Соки-воды», а в этом отделе продавалось красное сухое вино на разлив. Он неожиданно предлагает зайти и пропустить по стаканчику. Стоило это вино копеек 16 за стакан, я хотел заплатить за обоих, но он, посмеиваясь, заплатил за нас сам, проворчав: «Мало того, что пью со студентом, так еще и за его деньги?!» В доме, в котором жил Евгений Иосифович, был магазин технической книги, а на другой стороне проспекта — крупный букинистический. Я обычно, возвращаясь из института, заходил и туда, и туда. И как-то мне в букинистическом повезло — я купил «Сухопутную армию Германии» Мюллера-Гиллебранда. Правда, только второй том, но я и ему был несказанно рад. Перехожу проспект и захожу в «Техническую книгу», а там Кадинов интересуется новинками. Ну и я, естественно, похвастался ему приобретением. Он очень удивился, что я интересуюсь подобной литературой, и пригласил меня к себе домой. А дома начал просматривать книжные шкафы и дарить мне книги исторической тематики. Я уже не помню все, но переписка Сталина с Черчиллем и Рузвельтом у меня от него. Конечно, я отказывался (они же денег стоят), но он очень спокойно настоял: «Бери, тебе они интересны, а у меня только место в шкафу занимают».
Евгений Иосифович тоже считал, что мне необходимо заниматься наукой, более того, он считал, что наукой мне нужно заниматься на кафедре электрометаллургии в нашем институте. Не помню, какие проблемы были с аспирантурой, но его это не смущало. Он наметил для меня такой план: при распределении мне нужно выбрать любое место работы, лишь бы оно было на Украине. А кафедра, пользуясь своими связями, убедит предприятие, на котором я обязан отработать срок молодого специалиста, открепить меня, то есть не требовать, чтобы я отработал там два года, после чего я, уже свободный, поступлю на кафедру инженером-исследователем. Все это Кадинов согласовал и с заведующим кафедрой, и с проректором по научной работе. То есть мое будущее выглядело прекрасно — так, как я и мечтал.
Однако моей Судьбе этот план не понравился, и она его забраковала, а сделала она это так.
Несправедливость
После последнего семестра на пятом курсе, т. е. в начале 1972 года, перед началом преддипломной практики и дипломного проектирования, прошло распределение выпускников по местам будущей работы. Поскольку я был каким-то деятелем, как я уже писал, то присутствовал вместе с несколькими другими такими же деятелями на заседании комиссии по распределению. Председателем комиссии был декан металлургического факультета B.C.Гудынович и еще кто-то, по-моему, представители то ли заводов, то ли министерства. Сначала распределялись ребята групп МЧ-1 и МЧ-2 (доменщики и сталеплавильщики), затем настала очередь МЧ-3.
Студенты входили в комнату по одному и по убывающей среднего балла своих оценок за время учебы, поскольку, по идее этого распределения, всем им комиссия по распределению должна была предъявлять все имеющиеся вакансии сразу, чтобы лучшие могли выбрать понравившееся им место работы первыми. И уже здесь меня поразило, что комиссия никому не сообщает полный список того, на какие заводы и в какие институты требуются молодые специалисты. Предложение мест было индивидуальным И не зависело от того, как студент учился. Зашедшим первыми лучшим студентам предлагали пару каких-то заводов на Урале Или в Сибири, а паршивому студенту вдруг предлагали место в институте или на заводе в Днепропетровске. Главная идея распределения была абсолютно похерена — было не распределение, а очевидна раздача мест каким-то «блатным», и только лишь с внешним соблюдением формы: выбор был без выбора. Это было не распределение, а наглое свинство, но мы, наблюдатели, ничего не могли поделать, чтобы помочь товарищам. Во-первых, мы не сразу и поняли, что происходит, во-вторых, мы ничего не подписывали, нашего мнения не спрашивали, да и вопросы мы не могли задавать, поскольку не знали, какие места остаются у комиссии — вдруг это и в самом деле все, что есть?
Дошла очередь до меня. Лучшим по баллам в МЧ-3 был Игорь Тудер, но его и еще человек десять из группы призвали в армию, поэтому первым из МЧ-3 к комиссии подошел я. Я, напомню, был за себя спокоен, поскольку мне годилось все поблизости — и днепропетровский проектный институт Гипромез, и завод Днепроспецсталь в Запорожье — любые места с электросталеплавильным профилем, поскольку я дипломный проект делал как электросталеплавильщик. И тут Гудынович предлагает мне на выбор два ферросплавных завода: в Зестафони — в Грузии и Ермаке — в Казахстане. Второе место в моем понимании было черт знает где, думаю, что об Ермаке я на распределении первый раз и услышал. Меня это крайне удивило — я попросил комиссию дать мне направление на электросталеплавильный завод, желательно на Украине, а нет, так направление в Гипромез. (Проектантом быть мне не хотелось, но, еще раз повторю, что я и не собирался им быть, поскольку мне нужно было лишь место, с которого кафедра переведет меня к себе.) Гудынович, однако, заявил, что никаких иных мест для выпускников МЧ-3 нет. Это, надо сказать, меня ошарашило, поскольку я, не собираясь работать в ферросплавной отрасли, понятия не имел, ни что это за заводы, ни где они расположены, ни сможет ли кафедра вернуть меня с этих заводов. Я знал, что Зестафони это в Грузии, а Грузия из-за чуть ли не открыто процветавшей там уже в то время коррупции считалась очень паршивым местом для работы нормального человека, не склонного давать и брать взятки, посему Зестафони автоматически отпал. Что касается Ермака, то, по моим представлениям, это было где-то в сибирской тайге, а посему вряд ли для меня, хохла, это было райским местечком, но выбирать уже было не из чего — я согласился на Ермак и вернулся за стол наблюдателей.
И вот тут выяснилось, что у комиссии, оказывается, есть и другие места, и шедшим за мною студентам предлагались и Гипромез, и Днепроспецсталь. Меня это возмутило до глубины души, но я не мог придумать, что предпринять. Закончилась эта процедура, я вышел в коридор, «блатные» студенты быстренько сбежали, чтобы не смотреть в глаза товарищам, а остальные возмущенно гудели. И тут мне пришла в голову естественная мысль пожаловаться партии на несправедливость. Я сел и написал заявление в партком, как полагал, коллективное. Подписал его сам и начал предлагать подписать его возмущенным. И тут меня ошарашило во второй раз — все возмущались, но подписывать никто не хотел! Все прятали глаза и отговаривались тем, что все равно ничего не поможет.
Тут, пожалуй, следует отвлечься на коллективные жалобы. Надо сказать, что в то время это было очень действенное средство вот по какой причине. Один жалобщик может быть просто кляузником, в любом случае его легко можно за кляузника выдать, а коллектив — иное дело. Тут так просто от заявления не отмахнешься. А для партийных функционеров любая жалоба на несправедливость была крупным минусом в их работе, смысл которой как раз и заключался в том, чтобы устанавливать справедливость. Причем таким минусом, который конкуренты такого партийного работника могли использовать, чтобы заменить этого партийного функционера на «своего». Поэтому если речь шла о мелких недостатках и о мелких чиновниках, то тут партийные органы разворачивались, наказывали виновных и справедливость устанавливали. Но когда речь шла о высоком начальстве, о людях, назначаемых с согласия этих самых партийных органов, то тут уже вступали в силу и знакомство, и ответственность за партийную рекомендацию виновному для занятия им его должности, И многое другое. В этом случае жалобу пытались «спустить на тормозах».
Однако жалобщик, недовольный ответом, мог писать и выше, а вот там как раз и могли быть люди, как я понимал, заинтересованные в замене этого партийного функционера, посему для него это было опасно. Кроме этого, «выше» все еще оставались и достаточно честные и преданные идеям коммунизма люди, и хотя их было уже мизерное количество, но и их нельзя было исключать. Так что любая жалоба на несправедливость уже была опасна, но коллективная была опасна для партийных органов во сто крат, поскольку, повторю, одного человека еще можно выдать за кляузника, а коллектив — очень трудно.
Кроме этого, партийные функционеры панически боялись народных выступлений, ведь КПСС считала себя партией защиты интересов народа, и если народ был недоволен, то, значит, партийные функционеры не знают его интересов, «отдалились от народа» и «не хотят работать с людьми».
Поводом для снятия с партийной должности мог послужить такой, казалось бы, пустяк, как отказ людей голосовать за предложенную партфункционерами кандидатуру (я ниже расскажу о подобном). Поскольку для вышестоящих партфункционеров это означало, что нижестоящие не знают, кого предлагают народу, не знают мнения народа по этому вопросу, а нижестоящим такое не прощалось.
Сейчас говорят, что в СССР не было несанкционированных народных выступлений (митингов, демонстраций и т. д.), потому что народ был запуган. Тут надо так смотреть — если этот человек по жизни трусливое животное, то это действительно так — он не участвовал ни в каких несанкционированных партией акциях потому, что был запуган. Бабой Ягой в детстве. Но сегодня никто не рассказывает о страхе тогдашних партфункционеров перед подобными выступлениями, и о том, сколько усилий эти функционеры предпринимали, чтобы устранить поводы к ним. И несанкционированных выступлений во многом не было именно по этой причине. Так что коллективное заявление в партийные органы, являясь предвестником коллективного выступления, было действием очень сильным.
Но, повторю, у меня с коллективным заявлением ничего не получилось — мои товарищи, по виду очень возмущенные, отказались его подписать. Почему? Они боялись. Надо пояснить чего. Никто из них не собирался ехать по не устраивающему его распределению, соответственно, все хотели решить это дело по-тихому — «по блату». Поэтому они и боялись конфронтации с теми, кого придется уговаривать, чтобы по распределению не ехать. Если говорить конкретно о том, чего они боялись, то мой личный пример вам это объяснит.
Итак, я был разозлен такой несправедливостью, и трусость товарищей меня разозлила еще больше: я был комсорг, и я уже сказал «а», посему без сомнений сказал и «б» — отнес подписанное только мною заявление в партком института. Я догадывался, что никакого решения по нему партком не примет — слишком многих в институте, включая парторга, пришлось бы наказывать, но хохол я или не хохол?!
Реакция на мое заявление была быстрой и массированной. Чуть ли не на второй день меня уже во всю ругал Кадинов.
— Что же ты, дурак, наделал?! Мы бы тебя и из Ермака вытащили, а теперь ты в черном списке как непредсказуемый. Иди и немедленно забери свою кляузу из парткома, не ломай себе жизнь!
Евгений Иосифович был искренне огорчен, все остальные тоже переживали за меня, хотя, конечно, то, что я выступил за всех, делало из меня некого чудика, и мне быстро дали кличку «Джордано Мухин». Подошел ко мне и комсорг факультета и, само собой, «желая мне самого лучшего», тоже посоветовал забрать заявление. Наконец в коридоре я столкнулся с Гудыновичем, он отвел меня к окну и, как я и по сей день уверен, с искренней симпатией сказал примерно следующее.
— Слушай, Юра. Ты хороший парень, но ты еще не знаешь, как наша жизнь устроена, и у тебя в голове много романтики. На самом деле жизнь очень прозаична и жестока. Вот, предположим, я назову тебя верблюдом гималайским. — Тогда по ТВ в передаче «13 стульев» была показана известная юмореска, по ходу которой герой доказывал, что он не верблюд. — Ты начнешь писать жалобы, — продолжил Всеволод Сигизмундович, — года через четыре твою жалобу рассмотрит ЦК КПСС. И что будет? Тебе выдадут справку, что ты не верблюд, и все. А эти годы жизни для тебя будут потеряны.
Гудынович меня ни о чем не просил и ничего не предлагал, мы распрощались, и он пошел дальше. А у меня подобные разговоры, с одной стороны, вызывали злость, но, с другой стороны, они делали свое дело, и я в конечном итоге совершил глупость. Нет, я не забрал заявление из парткома, но я и не настоял на его рассмотрении — не жаловался дальше, в горком. Вот это и есть глупость, поскольку останавливаться на полдороге всегда глупо. Тут уж или возвращайся, или иди дальше.
Но я был молод. Да, на миру и смерть красна, но когда этот мир воротит от тебя рыло, то тут уж нужно не юношеское, а мужское мужество, чтобы принять эту смерть. И потом, я и в своих глазах не был чистым борцом за справедливость, ведь в конце концов у меня был и свой, корыстный интерес — и это тоже подрывало мой дух. Поэтому я и остановился на полпути.
Дальше дело обстояло так. Мне предложили после окончания института окончить годичные курсы английского языка. Я согласился на эту глупость по двум причинам. Во-первых, мне было страшно. Как-то весной во время дипломирования я вышел из института и сел на лавочку у входа, кого-то ожидая. И вдруг понял, что это рубеж, что моя жизнь круто меняется, и я становлюсь полностью самостоятельным. Раньше было так хорошо: что делать Дома, решит отец, что делать в институте, решат преподаватели. А вот еще немного — и их решений не станет, и все надо будет решать самому. Мне стало страшно и захотелось оттянуть агонию юношества. Во-вторых, я надеялся, что за год мой скандал с заявлением как-нибудь забудется и я все же устроюсь на кафедру.
В результате я год занимался не своим делом — тупым заучиванием английских слов и правил языка — глупая потеря времени. Потом, правда, на заводе я перевел пару статей с английского, но я перевел также и одну срочно потребовавшуюся мне статью с польского, а на польский я год своей жизни не тратил. Английский же я быстро забыл и если впоследствии говорил на нем, то только выпивши и на бытовые темы. Но всему приходит конец, в начале лета 1973 года я эти дурацкие курсы окончил и снова встал вопрос, что делать?
Кадинов устроил мне протекцию в Гипромез, и я пошел устраиваться туда на работу. В отделе кадров меня приняли радушно и сразу же послали к начальнику того проектного отдела, в котором мне предстояло работать. Начальник, даже не видя диплома, очень мне обрадовался.
— Работы навалили, а людей не дают, слава богу, хоть одного прислали!
А когда увидел, что у меня красный диплом, то тут же заставил написать заявление и сам побежал с ним к директору. Вернулся с резолюцией: «ОК. Принять». Я отдал заявление начальнику отдела кадров (ОК) и поехал собирать необходимые документы. На следующий день приехал в Гипромез, и мне в отделе кадров, отводя глаза, сообщили, что в связи с перештатом они принять меня не могут. Я пошел к начальнику проектного отдела, тот с криком: «Что они там — с ума посходили?» — побежал к директору. Вернулся, вывел меня в коридор и спросил:
— Ты случайно не еврей?
— Случайно нет.
— Тогда, что ты натворил в институте?
— Ничего.
— Не ври, зам директора по кадрам звонил в ДМетИ, и там ему что-то про тебя сказали.
Тут я понял, что Гипромез очень близко от ДМетИ и хотя я и не еврей, но мне в Гипромезе не работать.
Но и в Ермак я ехать не хотел. Принял во мне участие мой троюродный дед Павел Архипович Шкуропат, свел меня с бывшим главным сварщиком завода им. Карла Либкнехта, а тот дал рекомендательное письмо на имя своего ученика, на тот момент занимавшего какую-то большую должность в институте им. Патона в Киеве. Этот институт занимался проблемами, пересекавшимися с электрометаллургией, и я устроился бы по специальности. Съездил в Киев, институт оказался каким-то страшно секретным, даже в отдел кадров не впустили, человек, к которому у меня было письмо, оказался в длительной командировке, со мною говорить никто не захотел. Вернулся в Днепропетровск и стал собираться в Ермак.
Я мог поступить так, как и все — плюнуть на распределение и устроиться в Днепропетровске на любом предприятии. В конце концов, по-моему, из восьми человек нашей группы, направленных в Ермак в 1972 году, да, наверняка, и из десятков выпускников ДМетИ, направленных туда в остальные годы, доехал я один. Но это было ниже моего достоинства: я не хотел туда ехать, но и не хотел прямо сбегать от распределения. Государство целево потратило на меня деньги, и я считал, что либо обязан так же целево их вернуть отработкой обязательных 2-х лет по своей специальности, либо государство должно было меня освободить от долга законным путем. И я поехал в Ермак через Москву с мечтою, что в Минчермете СССР сумею освободиться от распределения. Надеясь на это, я не взял в институте ни проездных денег на дорогу до Ермака, ни подъемных (последние составляли, по-моему, около 100 рублей).
Кстати, о подъемных. Идем мы ранней весной 1973 года вниз по проспекту Карла Маркса с Леней Елизаровым, выпускником 1972 года, но уже не помню с какого факультета, и он сетует, что взял в институте подъемные, но по распределению не поехал. А теперь институт требует деньги обратно, грозя судом, а у него их нет, и он пока нигде не устроился на работу. Дорога спускается круто вниз, и мы смотрим как-то высоко над поверхностью тротуара, но вдруг я опускаю глаза и вижу, что под ногами весь асфальт усеян новенькими 5-рублевыми купюрами.
— Леня, стой, гляди! — командую я, и Ленька опустил глаза.
— Чего тут глядеть, собирай! — немедленно отреагировал Ленька. Собрали, подсчитали — ровно 100 рублей. С деньгами лежала и сберегательная книжка, владелец — женщина, вклады делала весь год по 10 рублей в месяц, всего на книжке 110 рублей, сегодня снято 100, остаток — 10. Деньги и книжка валялись как раз напротив входа в сберкассу. Если бы на книжке было хотя бы рублей 500… А то ведь видно, что весь год собирала. Надо возвращать находку! Зашли в сберкассу, объяснили суть, у нас сначала хотели отобрать и книжку, и деньги, но мы обменяли сберкнижку на адрес и пошли отдавать деньги сами. Идти было недалеко — нужно было подняться немного вверх и пройти по улице, перпендикулярной проспекту. Свернули за угол, миновали «Гастроном» и почти сразу увидели быстро идущую навстречу девчушку лет 19-ти в синей болоневой куртке и красную как помидор. Понятно стало, что мы уже пришли.
— Девушка, а девушка, а вы не к нам бежите? — заигрывающим тоном попытался остановить ее Ленька. Девчушка зло взглянула на нас и проскочила мимо. — Девушка, а вы случайно деньги не потеряли? — бросил ей вдогонку Ленька.
Девчушка остановилась как вкопанная.
— Потеряла…
Мы подошли, убедились, что у нее фамилия и адрес те же, что мы записали в сберкассе, отдали деньги, объяснили, где сберкнижка, после чего девчушка рванула от нас и спасибо не сказала.
— Куда? — возмутился Ленька. — А благодарность где?
— Спасибо!
— И все?! Так не пойдет, за такое происшествие надо выпить.
— Вот, возьмите пять рулей.
— Ну, ты совсем дура, мы бы могли все взять! Пошли в «Гастроном»! — скомандовал Ленька.
«Гастроном» только открылся после обеденного перерыва, у отдела «Соки-Воды» толпились мужики страдающего вида. Ленька послал девчушку покупать шампанское (3,62 руб. бутылка), а сам вломился в толпу мужиков с криком: «Разойдитесь, алкаши, у меня сын родился!» — и вынырнул оттуда с тремя пустыми стаканами. Поставил их на подоконник, ловко хлопнул пробкой и аккуратно начал разливать бутылку в три стакана, давая оседать пене. Девчушка стояла совершенно скованная, разговорить ее было невозможно. Вытянули только, что она медсестра, пошла в отпуск и собиралась по путевке куда-то поехать. Она явно не могла очухаться от потери и находки и спешила забрать в сберкассе книжку, посему на наши заигрывания категорически не отвечала. Вокруг нас мужики тянули из стаканов вино, не совсем понимая, кем мы доводимся счастливому отцу.
— Ну, за находку! — скомандовал Ленька.
Мы с ним заглотили свою шампань, а девчушка только губки замочила, поставила полный стакан и тут же удрала от нас. Нам ничего не осталось, как тоже двинуться к выходу. Подошли к двери, но Ленька со словами: «Алкаши все равно вылакают!» — вернулся и опрокинул в рот и стакан девчушки. Шли по проспекту, и Ленька до самого ЦУМа не мог успокоиться.
Ну какие идиоты! Толстовцы выискались! В карманах ни копейки денег, а они сотнями разбрасываются!
Итак, подъемные и проездные я не получал, чтобы не залезать в долги к государству, перед которым я и так считал себя в долгу. Правда, из Днепропетровска я выписался, но только с одним чемоданом выехал в Москву. Сначала пошел в управление кадров Министерства черной металлургии СССР, меня, как настырного, отправили к начальнику управления. Тот открыл толстый журнал, долго искал Ермак, а потом ахнул.
— Это же директивная стройка! Завод запросил 20 инженеров-металлургов, а мы распределили туда в этом году всего 12. Нет, и разговоров быть не может об откреплении, езжайте, куда распределили!
«Директивная стройка» — это стройка, находящаяся под особым контролем ЦК КПСС. Я уходил из Минчермета переполненный благодарностью: «Черт бы побрал этот ЦК КПСС! Черт бы побрал этот Ермак!»
Кстати, несправедливость с распределением и последующая подлая позиция парткома ДМетИ резко изменили мои взгляды на жизнь. До этого момента я был, как бы это поточнее выразиться, наивным коммунистом, но после такой подлости я начал все больше и больше становиться кем-то вроде диссидента. Другой Родины для меня не было и не могло быть, но вот партия моей Родины мне резко перестала нравиться. Я начал искать всякие подтверждения, что партия стала скопищем баранов под управлением то ли маразматиков, то ли откровенных подонков, и, надо сказать, подтверждения этому легко находились. А поскольку я не любитель вертеть кукиши в кармане, то я не особо и скрывал свои взгляды в разговорах с различными людьми. Прямо скажу, что в те годы сторонников у меня не было: все поголовно старались либо оспорить мои идеи, либо считали их несерьезным бзиком. Меня это ничуть не смущало, более того, во всех этих неформальных спорах я оттачивал свои доводы и убеждался, что у моих оппонентов все меньше и меньше фактов для спора со мною. Уличить КПСС и Правительство СССР во лжи было нельзя — они практически не лгали, и «Правда» действительно была правдой, но уличить их в тенденциозности и умолчании было легко, чем я охотно и стал заниматься. Но это — кстати, а в первых числах августа 1973 года я вышел из Минчермета и купил билет на самолет до Павлодара.
Думаю, что моя Судьба в это время тихо посмеивалась.
Знакомство с новой родиной
Итак, в первых числах августа 1973 года я встал в очередь у Кассы Аэрофлота, чтобы купить билет из Москвы на Павлодар, И, заплатив 42 рубля, отрезал себе пути к отступлению. За 11 лет до меня в Ермак отправлялся Друинский, отправлялся с охотой возглавить огромное дело, исполненный гордостью за оказанное доверие, я же, как какой-то недоделанный декабрист, должен был ехать «во глубину сибирских руд», гонимый насилием, и хотя этим насилием было собственное чувство долга, но все равно это было насилие.
Сейчас смешно, но тогда я был уверен, что сумею выкрутиться и в Ермак не поехать, посему я даже не удосужился разузнать, где он, собственно, находится. Конечно, карту с соответствующим кружочком я нашел и посмотрел, но название города явственно связывало его с Ермаком Тимофеевичем, а про последнего я знал, что он покорил Сибирь, а Сибирь в представлении такого хохла как я, была «бескрайним морем тайги», т. е. одним большим лесом. А лес я очень любил и люблю уже в силу того, что в Днепропетровской области лесов очень мало, да и те часто насадные и исхоженные вдоль и поперек. Мне же очень нравилось и нравится находиться среди больших деревьев, сказать современным слэнгом, я балдею от леса. Очень любил и люблю собирать грибы, но попробуй пособирай их в лесах Днепропетровщины, в которых в какую глубь ни заберись, а найдешь только тот гриб, который до тебя уже десяток грибников не заметили. Вот я и пытался себя успокоить, что за те два года, которые мне надо будет отработать в Ермаке, я, по меньшей мере, побегаю по настоящей тайге, грибов насобираю и в этом вопросе душу отведу.
Вез меня в Павлодар Ил-18, летел он туда тогда 6,5 часов (правда, вскоре Ил-18 сменил Ту-154, билет стал стоить 52 рубля, но у «тушки» дорога занимала 3–3,5 часа). Вылетели из Москвы поздним утром, но дорога, плюс 3 поясных часа привели к тому, что приземлялись мы в аэропорту Павлодара уже вечером. Было облачно, но при заходе на посадку мне как-то сразу не понравилось, что я нигде не вижу тайги, под крылом самолета мелькала голая коричневатая безжизненная и безлесая равнина с извилистой полоской реки. Вышел из самолета на трап, и ударивший в лицо ветер донес такой густой запах не хвои, а разнотравья, что я с досадой понял, что и тайги мне не видать как своих ушей. Обмануться было нельзя — я попал в какую-то очень большую степь.
Дальнейший путь мои подозрения подтвердил. Из аэропорта на рейсовом автобусе доехал до автостанции Павлодара, автобусы на Ермак отправлялись через каждые 20 минут, я сел на ближайший. Переехали мост через Иртыш, и дальше дорога пошла по плоской как блюдце местности без признаков каких-либо деревьев. По обе стороны дороги до горизонта тянулась бурая от недавно прошедшего дождя, выгоревшая на солнце степь. Вдоль дороги (кстати, очень хорошей) вместо привычных на Украине лесопосадок кое-где торчали прутики, редко — кустики остатков каких-то насаждений — то ли деревьев, то ли кустарников. Въехали в населенный пункт — какие-то облупленные домики и захламленные дворы, водитель объявил: «Седьмой аул», после свернули на дорогу, ведущую на юг. Вскоре на горизонте появились вершины трех высоких дымящих труб, «ГРЭС» — определил я. Чуть позже правее стали выползать из-за горизонта полтора десятка труб пониже, четыре из них дымили особенно отчаянно, потом показались корпуса цехов и факелы дожигаемого газа над ними. Я понял, что это и есть тот самый завод, на котором мне придется отработать два года. Оставили его справа в километре от дороги и еще через пяток километров пути вдоль садовых участков с маленькими даже не домиками, а скорее, будками, въехали в город. Почти сразу, миновав памятник Ермаку, водитель остановил автобус и посоветовал мне сойти здесь, как оказалось, у городской гостиницы. Я поблагодарил и сошел, кругом страшная грязь, сыро и довольно холодно. Хотя по времени был поздний вечер, но было еще достаточно светло, чтобы убедиться, что все вокруг серое, чахлое, неприглядное, а хрущевские пятиэтажки, видневшиеся кругом, ничего радостного в этот пейзаж не добавляли. М-да! Регистраторша встретила приветливо и обрадовала меня тем, что если бы я приехал утром, то она не смогла бы меня поселить, поскольку милиция съехала только днем.
— Какая милиция?
— Ну, у нас же тут сидела милиция всего Советского Союза, даже МУРовцы были! — похвасталась собеседница.
— А в связи с чем?
— Так вы не знаете? — удивилась она. — У нас же в городе орудовал маньяк-убийца, трех малолетних девочек изнасиловал и убил, только вчера его и поймали.
Да, — подумал я, — веселенький городишко!
Слов нет. Короче, когда я впервые ступил на землю Ермака, то и выглядело все вокруг крайне убого, и погода была мерзопакостная. Решение смыться отсюда, не дожидаясь осени, окрепло во мне окончательно.
Однако я прожил в этом городе 22 года, он мне стал родным до боли, и я бы никогда оттуда не уехал, если бы меня, по сути, из Ермака не выгнали. Теперь, конечно, и самому интересно, почему я, так отчаянно не желавший здесь жить, так влюбился в это место. Что было причиной?
Климат
Климат в Ермаке резко континентальный. Значит это вот что. Расположен Ермак на той же широте, что и Лондон, Берлин, Варшава или Орел и Тамбов, но в году превалируют всего два сезона — зима и лето. Весны и осени почти нет. То есть еще в марте температура воздуха минус 10°, а то и круче, а потом — бах, и сразу все потекло. Меняешь полушубок на куртку, а через пару недель чувствуешь, что вполне можно ходить и в пиджаке, а к первомайским праздникам — и в рубашке. (Правда, год на год не приходится, как-то на первое мая и снег выпал.) Потом как придавит лето со своими +30–35° в июне и июле, так ждешь и ждешь, когда же наступит август со своим кратковременным похолоданием, а затем опять ходищь в рубашке до бабьего лета. В конце сентября приходит пора надевать пиджак или куртку, а потом как даванут холода, и на октябрьские праздники уже вполне может быть и -15°. Зимы очень холодные, особенно они мне помнятся такими вначале. При -25° детишкам большая радость — отменяются занятия в младших классах школ, при -31° актируются дни у строителей, и такое тоже за зиму обычно случается. В первую зиму я застал однажды температуру -43°, и это для меня, хохла, было ужасно. Помню, сплюнул на стену, а слюна отскочила от нее уже ледышкой. С обеденного перерыва из столовой, до которой было метров 200, прибежал, а Парфенов командует: «Три щеки шарфиком!» Глянул в зеркало, а они уже белые.
Но ничего, привыкнуть можно, хотя я и шутил, что привычка к сибирским морозам означает привычку зимой тепло одеваться.
На такой равнине, само собой, бывают и ураганы, причем такие, что ветром сносит человека, на ветер можно лечь. Вначале я застал пыльные бури, но потом агротехника сделала свое дело, и их больше не было. Между прочим, я не помню какого-либо значительного ущерба от ураганов, надо думать, проектанты и строители их возможность всегда учитывали и строили все достаточно прочно.
Надо сказать, что гораздо более неприятными были комары, но они меня донимали и на Украине — чем-то я им по вкусу. Недавно ехал как-то в поезде с тюменцами, посетовали на это обстоятельство, и они мне заявили, что комары особенно донимают в первые 20 лет жизни в этой местности, а потом отстают. Не знаю, действительно к концу моей жизни в Ермаке они как будто мне не мешали, но не могу твердо сказать, что это комары ко мне привыкли, возможно, это я к ним привык.
Из-за такого резкого климата я по-иному взглянул на то, что называют культурой, и стал с большим уважением относиться к работникам сельского хозяйства, а особенно к казахам, поскольку именно казахские колхозы пасли скот и зимой. Представьте: на улице страшный колотун, клацая зубами добегаешь вечером от остановки до общежития, а там в областной газете «Звезда Прииртышья» читаешь в отделе происшествий, что в одном из колхозов чабан, пасший на тебеневке[1] овец, поручил посмотреть за отарой своему 12-летнему брату, чтобы куда-то на пару часов отлучиться.
Началась пурга, овцы двинулись против ветра, парень за ними, чабан, не найдя отару и брата на прежнем месте, поднял тревогу, с павлодарского аэропорта поднялись вертолеты, но из-за пурги отару найти не смогли. Пурга стихла только через двое суток, отару нашли, а с ней живого и невредимого паренька — он не запаниковал, не струсил, а загнал отару в балку, сохранил ее и двое суток простоял с ней, укрываясь за овцами от ветра! Посему я и говорю, что выжить в тех условиях мог только народ очень высокой культуры.
С другой стороны, из-за жаркого лета, какую однолетнюю культуру ни посади — все вызревает и поспевает в лучшем виде. Помню, приехали к нам люксембуржцы, мы кормили их обедом, поварихи напридумывали всяких дефицитных салатов, но и поставили просто нарезанные помидоры. И люксембуржцы, попробовав, накинулись на них и еще добавки попросили. Мы понять ничего не можем, а они поясняют, что уже много лет не ели настоящих помидоров. И рассказали грустную европейскую шутку
О том, что голландцы скоро получат Нобелевскую премию за то, что, наконец, вывели такой сорт помидор, в котором уже нет ни вкуса, ни запаха. (Я, покупая в настоящее время в Москве помидоры, не могу с этим не согласиться, хотя самые вкусные помидоры я ел в детстве у дедушки в Николаевке. На вид они были невзрачные, но сажала их бабушка семенами прямо в грунт, а поливали их только дожди.)
Объективно говоря, климат на Украине, с точки зрения затрат на жизнь, конечно, лучше, но многое ли обязан определять в нашей жизни климат? Как-то уже после окончания института столкнулся со своим школьным другом Сашей Вашетко, а он как раз заканчивал санитарно-гигиенический факультет мединститута. Пожаловался ему, что меня распределили в какой-то хренов Ермак, а он высказал опасение, что его могут распределить в Одессу или в этот чертов Крым. Я крайне удивился, что он не хочет туда ехать.
— Да ты что, не понимаешь что ли, что оттуда же вся холера на Советский Союз идет! Как там санитарному врачу работать?! Замаешься каждый день из всех колодцев и источников пробы брать. А если пропустишь холеру? Посадят ведь!
(Лет через 20 я случайно встретил Саню в Днепропетровске на улице. Он был подполковник, служил в Афгане, защищал 40-ю Армию от гепатита.)
Так что климат в Ермаке никак не способствовал тому, чтобы хохол остался там жить, но и не препятствовал этому. Климат как климат, нормальный.
Город и округа
Конечно, сгоряча мне город Ермак сильно не понравился, он был неказистым и не слишком обремененным разными там архитектурными излишествами. Однако прошло очень немного времени, и до меня стало доходить, что это очень прекрасный город для того, чтобы в нем жить, а не для того, чтобы им любоваться. Я ведь, напомню, приехал через 11 лет после приезда в Ермак Друинского, а Друинский ведь не просто жил в Ермаке, а работал. Посему я попал уже в весьма благоустроенный городок, более того, как это ни парадоксально звучит, попал в условия гораздо более благоустроенные, чем в Днепропетровске.
Там я жил в частном доме, построенном в 1949 году отцом. Водопровод у нас был, но без канализации, и водопроводом исчерпывались все удобства. Уборная была во дворе, мыться же приходилось либо в бане, либо в корыте. Телефона на нашей улице ни у кого не было, и если он требовался, то нужно было бежать метров 300 к ближайшему автомату. Готовили на газе из баллонов, но зимой топили печь углем. Причем я не был исключением. Среди нашей четверки студенческих друзей только Кретов жил в благоустроенной квартире, а Шпанский и Бобров жили точно так же, как и я. Днепропетровск в те годы тоже, конечно, расстраивался, но масса людей жила в условиях, достаточно скромных по количеству удобств.
Часть города, которая так и называлась «Старый Ермак», состояла из домов индивидуальной застройки самых разных типов, включая казахские землянки, т. е. глинобитные дома с плоской земляной (точнее — глиняной) крышей и с полом примерно на метр ниже уровня земли. Выглядели они, конечно, скверно, но, как я понимаю, летом в них было прохладно, а зимой они требовали минимум топлива на обогрев. А в степи топливо — это проблема.
Новая часть города со стороны Павлодара тоже начиналась несколькими десятками домов индивидуальной застройки, но уже более современного типа, этот район неофициально назывался «Вор-городок», видимо, с намеком на способ приобретения стройматериалов. Надо сказать, что на индивидуальное строительство людей подвигает либо уж очень большая тяга жить на земле, либо уж очень длительная перспектива получения квартиры. У нас в Ермаке квартиры получали сравнительно быстро, и желающих строиться индивидуально было немного. За Вор-городком была улица коттеджей на две семьи, в которых квартиры были на двух этажах. В коттеджах жило, в основном, начальство, а посему эта улица имела неофициальное название «Буржуй-городок».
Вся оставшаяся часть города застраивалась пятиэтажками с соответствующими удобствами, и в год моего приезда на улице Калинина была введена в строй первая девятиэтажка, уже с лифтами и мусоропроводом.
Поселился я в общагу на Вокзальной, 26. Это было типовое пятиэтажное общежитие, таких у завода было несколько, но в этом четвертый этаж предназначался молодым специалистам. Правда, для них этажа было много, поэтому на четвертом этаже жили и просто рабочие. На третьем жили холостые мужчины, на втором — девушки, на пятом (с отдельным входом) были комнаты для семейных, а на первом этаже были красный уголок с телевизором, библиотека, душевая, прачечная, кладовые, администрация и т. д.
На четвертом этаже комнаты были несколько разной площади, и в тех, которые побольше, обычно жили по четыре холостяка, а в тех, которые поменьше, семья молодого специалиста либо три холостяка. В конце коридора умывальник и туалет. То есть я сходу попал в условия гораздо более комфортные, чем имел дома. Более того, семейные обязаны были иметь свое постельное белье и сами его стирать, а холостякам оно выдавалось и менялось еженедельно. Оставалось в пятницу замочить трусы, майку и рубашки, а в субботу снести их в прачечную и вбросить в стиральную машину. Там же были и гладильные доски с утюгами. А поскольку комнаты холостяков ежедневно убирались техничками, то это были все хозяйственные работы на неделю. Ну разве что, если мы в охотку что-либо готовили в комнате или ели, то помыть тарелки и стаканы. Никогда в жизни я не жил столь беззаботно!
Хочешь — возьми в библиотеке книжку, завари чайку и впри-кусочку с конфетками лежи и читай — никто тебе не помешает. А хочешь — надень тапочки, сунь на всякий случай троячок в карман и иди по коридору, прислушиваясь. Голоса за дверью, заглядываешь, тебя приглашают, ты сбегал в магазин, возникает мысль сходить на второй этаж и пригласить девчонок. Теперь не хватает музыки, пошли поискать, приходит в майке хозяин проигрывателя с пластинками подмышкой и поясняет, что мы не сумеем его сами включить, посему садится с нами. Начинаются танцы, тушится свет «для интима», входит с ребенком жена хозяина проигрывателя, ее тоже сначала сажают, а пока она танцует, ребенка пересаживают с рук на руки, и вот так с ничего получается хороший вечер.
Где-то через полгода директор предложил Сашке Масленникову однокомнатную квартиру пополам с еще каким-нибудь холостяком и с идеей, что когда кто-то женится, то квартира будет ему, а холостяку дадут другую. И когда Сашка пригласил меня в соседи, я отказался, не дослушав. Во-первых, я от Масленникова, как, впрочем, и все мои друзья, сразу не был в восторге, а чем больше его узнавал, тем он нравился мне все меньше и меньше. Во-вторых, квартира — это постельное белье, шторы, масса всяких причиндалов, стирка, уборка — на кой черт это свободному человеку, отбывающему в Ермаке два года? Только и того, что девушку можно пригласить? Так я не помню, чтобы мне что-то помешало это сделать в общаге, была бы девушка. Но в общаге их на втором этаже цветник, а там бегай по городу, ищи и уговаривай. В-третьих, даже безмозглый идиот не впадет в такой маразм, чтобы сменить моего соседа по комнате Саню Мозоляка на Сашку Масленникова. И, наконец, в общаге жили все мои друзья, о которых позже расскажу, и я перестал бы себя уважать, если бы получил квартиру раньше их. От добра добра не ищут.
Между прочим, плата за проживание в общежитии была то ли 4, то ли 6 рублей в месяц, в общем, такая маленькая, что я ее и не запомнил.
Но вернемся к городу. Когда я познакомился с ним поближе, то он привел меня в восторг, и с тех пор я твердо уверен, что жить надо в маленьких городах. Ведь тут все рядом! Город по диагонали можно было пройти за 20 минут, куда ни пойдешь, на дорогу время практически не тратится. Сообщение в городе было автобусное (была мысль о троллейбусе, но так и не осуществилась). Маршрут № 3 выезжал от конечной остановки, делал в городе пяток остановок и ехал в поселок ГРЭС. Маршрут № 4 также делал в городе несколько остановок и ехал на завод. Был еще маршрут № 1, который ездил внутри города, но у меня почему-то такая уверенность, что за 22 года жизни в Ермаке я на нем никогда не ездил. Зачем, если куда угодно пешком дойдешь максимум минут за 15?
Немного продолжу тему о транспорте. В Павлодар, областной центр, автобусы ходили через 20 минут, билет стоил 73 копейки, до Павлодарского аэропорта — через час. Летом через час до Павлодарского речпорта ходила «Ракета», билет стоил, по-моему, рубль. Время в пути — около часа. Потом появился поезд «Павлодар — Ермак» из двух вагонов два раза в сутки, но я на нем ни разу не ездил. И, наконец, начал летать самолет Ан-2 в Павлодарский аэропорт, билет стоил 3 рубля, а время полета минут 10.
То, что ты живешь в глуши, совершенно не ощущалось. Встаешь в б утра, в 7-00 садишься на автобус до аэропорта, в начале одиннадцатого местного времени вылетаешь, в одиннадцать московского времени в Домодедово, в начале первого — в Минчермете. До позднего вечера крутишься в Москве, в одиннадцать вечера садишься в самолет, заснул, в семь утра местного — в Павлодаре, в начале девятого — в Ермаке. Дома не был всего сутки и при этом почти весь день пробыл в Москве! (Была у меня однажды такая командировка.)
В городе был большой, на 800 мест кинотеатр, в нем шли новинки, старые фильмы — в двух кинотеатрах поменьше. Очень большой ДК «Металлург» тоже имел примерно такой же зал со сценой, директор ДК хлеб даром не ел и всех артистов, попадавших в Павлодарскую область, к нам зазывал. Надо сказать, что поскольку зал всегда был битком набит, а это очень льстит артистам, то они, как правило, не халтурили и тоже выкладывались от души. Но, строго говоря, я не любитель таких развлечений и посещал их в качестве сопровождающего своей жены, да и за компанию с друзьями.
В городе был стадион и хоккейный корт, но, пожалуй, гордостью был 25-метровый закрытый бассейн. Потом, когда директором стал Донской, он всех ИТР (особенно меня) буквально силой заставлял ходить на плавание для укрепления здоровья. В то время я как-то услышал, что в Москве посещать бассейн можно только по блату, настолько это дефицитное развлечение. Какой блат?! У нас в Ермаке я не знал, как от посещений бассейна избавиться!
Я домосед, но понемногу пожил в достаточно большом количестве городов, и должен сказать, что не видел города более удоб
«На диком бреге Иртыша». Рая Карева, мой сын, Саша Карев и Саша Скуратович
ного для жизни, чем тогдашний Ермак. Причем все, что я описал выше, уже было к моему приезду или сдавалось в эксплуатацию в это время. Потом мы только совершенствовали город. Да, в то время Ермак был большой стройкой и, как и любая стройка, был грязноват. В мокрое время года для прогулок по нему идеальными были резиновые сапоги. Но потом расстроились, покрыли тротуары и дорожки асфальтом, и резиновые сапоги остались только для дач и рыбалки.
С трех сторон города была пустынная степь, ну очень большая. Едешь в Караганду (это примерно 400 км), а по пути три населенных пункта и изредка кое-где на горизонте еще виднеются поселки и к ним сворачивают дороги. Зимой и летом степь из себя ничего видного не представляет — заснеженная или выжженная солнцем пустынная местность. Но весной она компенсирует все своим буйным цветением величественной красоты. Сам Ермак стоит на Иртыше, река поуже, нежели Днепр в районе Днепропетровска, кроме того, берега Иртыша большей частью глинистые. Течение быстрое, входишь по грудь — валит, но все же в районе города пойма Иртыша имела массу тихих проток и достаточно песчаных кос и множество островов. Берега и острова покрывали заросли ивы, тополей, осины, шиповника и других кустов. На любителя было много ежевики. К моей радости в округе в сезон была масса грибов, причем не только степные и пойменные шампиньоны, но и грузди, свинухи, валуи. Умельцы собирали и подосиновики. Но чтобы отвести душу, надо было съездить в хвойные леса к Челдаю или к Омской области и там набрать маслят, подберезовиков с подосиновиками и даже рыжиков. Если ты получаешь удовольствие от отдыха на природе, то природы вокруг было полно и отдохнуть было где, даже если ты передвигаешься пешком или на общественном транспорте. Ну а если была машина, то тогда тебе становилось доступным очень многое — от удивительных по красоте гор и озер Баян-Аула до лесов Алтая.
Все это, конечно, способствовало жизни в Ермаке, но все же не настолько, чтобы променять Украину на Казахстан. Более существенным было другое.
Интернационал
По сей день считаю, что в Ермаке жили в то время самые прекрасные люди в СССР.
Но сначала по теме книги — об их национальности. В отличие от Украины и даже Москвы в глаза сразу бросилось большое количество азиатов, и сначала это было ново, непривычно. Однако я к этому привык быстрее, чем к типу красоты женщин. Дело в том, что в разных местах женщины имеют свой тип, и при первом столкновении с ними они кажутся малопривлекательными. Скажем, на Украине женщины (в среднем, что ли) не такие, как в Москве, и не такие, как в Казахстане. В СССР не такие, как в Германии или Франции (наши женщины объективно вообще вне конкуренции, а немки, на мой взгляд, гораздо красивее француженок). Но надо немного пожить в этом месте, присмотреться, и женщины твоей местности становятся самыми красивыми. Так у меня произошло и с азиатами.
Сначала непривычный тип лица бросался в глаза, а потом он отошел в сторону, и стали видны просто люди с особенностями их национальных обычаев, которые тебя мало касаются, и с достоинствами этих людей. Главной азиатской составляющей были, само собой, казахи (хотя и они очень неоднородны, и даже я обращал внимание на то, что у казахов встречаются три типа лиц: определенно монгольский, какой-то среднеазиатский и почти европейский). В городе казахов было около 10 %, на заводе казахов работало около 7 %.
Это привело к тому, что я позорно не разбирался в народах Азии. К примеру, долго считал, что Леша Хегай казах, пока кто-то с удивлением не объяснил, что он кореец. Кагэбэшника, который завел на меня дело, тоже считал казахом, пока как-то в разговоре при каком-то казахе не обругал его «чертовым казахом», на что казах возмущенно среагировал: «Какой же он казах? Он же монгол!» К моему позору, такое продолжалось все время — я считаю, что это казах, а это башкир, считаю, что это казашка, а это китаянка. Считал В.И. Акужакова казахом, а он оказался шорец. И т. д. и т. п. На предвыборном собрании в первом же ауле брякнул: «Вы, гордые потомки Чингиз-хана…», — а потом мое доверенное лицо, казах, сказал: «Ты так больше не говори. Чингиз-хан нас завоевал, как и русских. Он был нашим врагом». Натерпелся я сраму в этом вопросе, хотя это и показатель того, что вопрос-то мелкий, имел бы он какое-то значение для жизни, я бы в нем, конечно, разобрался.
В первые годы в городе можно было встретить стариков-казахов в национальных костюмах — в характерной шапке и халате. Но оригиналов у нас хватало. Был в городе то ли молдаванин, то ли гуцул, который летом ходил в шляпе, белой вышитой рубашке и белых штанах с широким красным шелковым поясом, а лоджия его квартиры была вся расписана цветами. Ну и что? Натура жителей была такова, что как бы ты ни оделся и что бы ты ни делал, но если это остальных не задевало, то тебе постыдятся сделать замечание или как-то акцентировать на этом внимание. Однажды зимой, при морозе градусов в 25, иду по улице, вдруг вижу, что у идущей мне навстречу женщины глаза вылезли на лоб и она как-то быстро шмыгнула в дверь магазина. Оборачиваюсь и вижу бегущего по дороге в сторону Иртыша мужика в кедах, тонком трико, голого по пояс, с топором в руках. Потом выяснилось, что живет в Ермаке такой оригинал, который всю зиму закаляется. (Это он бежал с топором, чтобы прорубить во льду прорубь и искупаться.) Потом встретил его в городе, спокойно идущего и уже одетого — в свитере и костюме, но без головного убора. Я на шапке уши опустил, в полушубок кутаюсь, а он идет как ни в чем не бывало, правда, весь красный, носом шмыгает и рукой сопли вытирает. Видимо, не до конца еще закалился.
Немного о национальных обычаях, впечатливших меня своей необычностью. До приезда в Ермак у меня были забавные совпадения. Как только меня селят на практике в общежитие, соседом у меня обязательно будет татарин. Кстати, татар я в упор не могу отличить от русских, порою даже по фамилии, поскольку не вижу, чем отличаются от русских такие фамилии как Акчурин или Адаманов? Так вот, селят меня в Ермаке в общежитие, и у меня сосед, само собой, татарин. Выяснил я это так. Напомню, что я был ушибленный трагической любовью, посему в первый же вечер, когда мы уже лежали в кроватях, излил соседу душу, а он вдруг берет и изливает мне свою. Оказывается, он татарин, у него оба старших брата женились на русских и он в выпускном классе страшно влюбился, причем взаимно, тоже в русскую девушку. Мать встала на дыбы, потребовав, чтобы хотя бы он женился на татарке, чтобы она могла хотя бы с одной невесткой говорить на родном языке. Он не посмел ослушаться, сказал об этом любимой, и когда уезжал учиться в Алма-Ату, то она не пришла на проводы, стесняясь, а села на велосипед и выехала далеко за село на дорогу, чтобы там в окне проезжающего автобуса в последний раз увидеть его. Он окончил институт, женился на татарке, на момент нашего с ним знакомства у него было двое детей. Он был научным сотрудником какого-то алмаатинского института и накануне приехал в Ермак в месячную командировку для каких-то замеров на нашем заводе. Поплакались мы с ним на судьбу и заснули.
Наступил выходной, и он поехал в Павлодар нанести визит родственникам. Вернулся только в понедельник с круглыми глазами, волосы дыбом. Оказывается, что в Павлодаре на улице совершенно случайно он встретил свою первую любовь. Она была замужем, но неудачно, и теперь, оказывается, одна (или с детьми, не помню) живет в этом городе. Мой сосед забыл о родственниках, поскольку старая любовь вспыхнула с прежней силой, провел все выходные с ней и теперь перестал ночевать в общаге — каждый вечер мотался в Павлодар. Перед отъездом в Алма-Ату он говорил мне совершенно убитым голосом.
— Ну кому мешали наши мусульманские законы? Ведь по ним мы можем иметь две жены! Им бы так хорошо было вместе! Они бы друг другу по хозяйству помогали…
Он был настолько подавлен этим свалившимся на него то ли горем, то ли счастьем, что я не осмелился съязвить на тему, согласны ли будут его обе предполагаемые жены делить одного мужа? Интересно, что западный человек в такой ситуации обязательно обсуждал бы вопрос, бросить ли ему жену с детьми или нет, а у этого татарина даже в мыслях такого не было. Восток — дело тонкое! Он уехал, и больше я с ним не встречался, посему и не знаю, как он выпутался из этой ситуации.
Из понятных нам обычаев я бы отметил уважение к старшим. Не то что мы, русские, старших не уважаем, но у Востока в этом отношении пример можно брать смело. Как-то я должен был лететь в Москву вместе с Есимхановым, бывшим секретарем райкома, а после развала Союза каким-то районным начальником (пусть он меня простит, но я уже этих подробностей не вспомню). Между прочим, по национальности он был бату, т. е. прямым потомком Чингиз-хана, двадцать восьмым коленом его старшего сына Джучи. Договорились мы с ним ехать в аэропорт Павлодара на моей машине, и он для начала прилично опоздал к условленному времени еще в Ермаке. А я мнительный, вечно боюсь опоздать на самолет или поезд, поэтому уже начал нервничать. Есимханов, наконец, пришел, извинился, и мы поехали, но в Павлодаре он вдруг настаивает заехать к его родителям. Мы и так едем «впритык», я нервничаю, предлагаю ему заехать на обратном пути, но он невозмутимо заявил, что на обратном пути само собой, но нужно заехать и сейчас, поскольку для него невозможно проехать мимо дома родителей и не зайти к ним. Пришлось остановиться. Не было его минут двадцать, я сидел как на иголках, но, в общем-то, по своей вине — на самолет мы успели. Интересно то, что родители Есимханова оказались русскими, точнее, это были его приемные родители, которые воспитали его после того, как он остался сиротой. Его, как я понял, это не волновало, традиции казахов требовали по отношению к старшим соблюдать подобный этикет и он его соблюдал.
Приходилось слышать от казахов и о большой власти стариков — аксакалов. «Если старики скажут, то мы сделаем», — говорили они, и, судя по всему, так оно и бывает. Но нужно сказать, что такой авторитет аксакалов зиждется не на их старости, а на том, что старики заботятся не о себе, а о детях и внуках, посему и голос их весом. Так что уважение к старшим основано на заботе старших о будущих поколениях, и если мы хотим, чтобы и у нас были такие же отношения, то наши старшие сначала обязаны доказать, что их есть за что уважать.
Что касается остальных народов, то в Ермаке были представители всех национальностей СССР, и я бы, пожалуй, смог это доказать, если бы в те годы меня интересовала национальность моих земляков. Об этом узнавал как-то попутно, поскольку родным языком у всех был русский и все вели себя одинаково. Много было немцев, поскольку их сюда выселяли с Поволжья в начале Великой Отечественной, были финны, поляки, грузины, армяне, азербайджанцы, ингуши, мордва и т. д. и т. п. Для жизни и работы это никакого значения не имело, к примеру, сейчас странно, но я совершенно не представляю, кем был по национальности Женя Лейбман при такой еврейской фамилии. Мы были в хороших отношениях, хотя он был старше меня и по годам, и по должности, мы неоднократно вместе пили, а я так и забыл его об этом спросить. Что же касается Друинского, то о том, что он еврей, я узнал сразу, но не помню от кого, потом как-то в разговоре Михаил Иосифович посетовал, что с войны пристало к нему имя Миша, хотя он по паспорту Моисей. О том, что мой товарищ Гриша Чертковер еврей, я узнал задолго до того, как мы подружились и даже познакомились по той простой причине, что Григорий хороший хирург, а город знал всех своих врачей — в маленьком городе врачи, особенно хорошие, всегда на виду. Помню, что мы с ним познакомились в плавательном бассейне — повиснув на поплавках, разделяющих дорожки, мы быстро перешли к любимой теме — ругали КПСС. Выяснилось, что наши отцы — фронтовики, мой вступил в партию под Сталинградом в начале 1943 года, и мы с Григорием решили, что тоже вступим в партию, когда немцы будут под Сталинградом. После этого уже останавливались при встрече, чтобы поболтать, а потом сдружились и семьями.
Должен вспомнить и еще одного еврея, хотя он этого и не заслуживает. Стерлось в памяти, как мы с ним познакомились, поскольку он работал на ГРЭС, а его жена стоматологом. Фамилии не помню, а звали его Леонид Ильич, это забыть трудно. Мы с моей женой еще жили в общаге, ожидая, когда освободится однокомнатная квартира, которая бы понравилась Люсе, посему гостей пока не принимали, сами же несколько раз были в гостях у Леонида Ильича и его Ирины. В целом это были приятные, умные и общительные молодые люди, даже, по-моему, на год или два младше нас. Но вот как-то Ленька хвастается, что у него такая хорошая работа, что он всю ночную смену может проспать на своем столе. Я этого никогда не понимал, по мне работа, на которой нет работы, это отвратительная работа — это бесцельное уничтожение времени своей жизни. А потом, когда я дал Леньке понять свое диссидентское, так сказать, нутро, он вдруг под большим секретом разоткровенничался. Выяснилось, что они уже подали документы на выезд из СССР, но пока об этом молчат, как я понимаю, чтобы не попасть в моральную изоляцию, поскольку для большинства людей они немедленно стали бы предателями. Я — несколько иное дело. Такое отсутствие патриотизма мне тоже было противно, но поскольку евреи выезжали в еврейское государство, то я считал, что они на это имеют право без потери чести. Ведь Израиль в те годы воевал и воевал отчаянно, и хотя Израиль боролся в целом и против СССР, но человек, собирающийся воевать за какие-то свои, пусть и неправильные, идеалы у меня вызывал (да и вызывает) уважение.
А надо сказать, что хотя у меня к тому времени были десятки, если не сотни, приятелей и знакомых евреев, но среди них не было ни одного собирающегося выехать из СССР, да и сам выезд евреев замалчивался. Посему мне было очень интересно поговорить с Ленькой и узнать подробности. И тут он признался, что ни в какой Израиль они выезжать и не думают, визу туда они оформляют для того, чтобы только выехать из СССР, а дальше в Вене они будут добиваться, чтобы им дали уехать в США. У меня на ту пору мнение о США сложилось на основе популярной тогда и чуть ли не единственной книжки «Деловая Америка», да еще запрещенного сборника (его изъяли из библиотек) «Хрущев в Америке», — это если говорить о специальной литературе и не считать художественных произведений Лондона, Генри, Твена, Драйзера, Синклера и т. д. Посему я считал, что американцы — это деловой и очень трудолюбивый народ, а посему мне было непонятно, что в США собирается делать Ленька с его мечтами о работе, на которой можно спать. Второе, что меня крайне неприятно поразило, это то, что он едет в США не по каким-то идейным соображениям, а потому, что там его ожидает большая помощь и подачки от местных евреев. («Там к каждому празднику нам будут делать дорогие подарки», — с восторгом сообщал он.) Это уже ни в какие ворота не лезло — это уже было чистой воды предательство Родины за деньги. Тем не менее мы с женой сходили к нему на проводы, поскольку я не хотел выглядеть трусом, и, собственно, мы были единственными, кто выпил с ними на прощание.
Итожа эту главку, хочу сказать, что, пожалуй, именно жизнь в Ермаке убедила меня, что нет национальностей, которые бы играли в жизни людей роль достаточную, чтобы принимать их во внимание.
Люди, по сути, делятся на две национальности: на хороших людей и на подонков. Ермак отличался тем, что в нем в подавляющем большинстве жили лица первой национальности.
Друзья
Парень я был молодой и холостой, кроме этого, я не хотел ничем себя связывать в Ермаке, тем более женитьбой. Исходя из этого сам бог дал, чтобы я свел знакомства и подружился с компанией холостых парней и вместе с ними браконьерствовал в тех местах, где водится много девушек. Таких парней было очень мно-
Юра Ястребов, Надя Скуратович, Валя Ястребова, Инга Скуратович, Саша Скуратович, я и мой сын Ваня
го, тем более среди молодых специалистов. Нужных для браконьерства мест тоже хватало, и я, честно говоря, и сам до сих пор не пойму, как так случилось, что я ни с того ни с сего приблудился к женатым? Первыми моими друзьями в Ермаке были супруги Каревы и Скуратовичи. Саша Карев и Саша Скуратович были, как и я, инженерами-металлургами, и на тот момент работали плавильщиками, Рая Карева — воспитателем в детсадике, а Надя Скуратович, тоже инженер-металлург — цеховым экономистом. Жили они здесь же, в общаге, и я быстро вошел к ним в компанию. Чуть позже приехали Женя и Надя Польских с маленьким сыном Владиком и тоже быстро влились в нашу компанию. Следует сказать, что я сдружился не просто с ребятами, а с их семьями, т. е. и с женами тоже. А женщины они были красивые, по меньшей мере я их так воспринимал, но поскольку это были друзья, то я гнал из головы всякие глупые мысли и единственное, на что решался, это потискать девчонок в танце.
Особенно по душе мне было с Женькой Польских, и это при том, что у нас и характеры и интересы были разные. Он был меломан и привез с собой уйму пластинок, мне же музыка была «по барабану». Он с Надеждой начал в ДК «Металлург» заниматься бальными танцами, много лет ездил с ней на различные соревнования, на которых они часто занимали первые места. Надо сказать, что мы с женой, с Каревыми и Скуратовичами тоже попробовали в ДК освоить в совершенстве хотя бы известные танцы, но далее двух-трех занятий у нас не пошло — решили, что и так хорошо умеем. Я был домосед и десять лет не забирал из Днепропетровска оставшийся после тестя «Запорожец», а Женька почти сразу же купил сначала моторную лодку, а потом и машину. Я был сугубо городской, а Польских прекрасно чувствовал себя в лесу, четко ориентировался, показывал мне, как безопасно развести костер, как нужно устроиться на ночлег и т. д. Меня жена заставила завести дачу, и я ею сразу увлекся, а Женька впервые взял участок лет через 15. Мы были довольно разные, тем не менее, ни с кем не было так спокойно, как с ним — с Женькой хорошо было и поговорить, и помолчать.
По ходу жизни количество друзей увеличивалось, мы стали дружны с Бондаревыми, с Чертковерами, с Масловыми, с Матиссами, особенно с Харсеевыми, но это позже, а в моем решении остаться в Ермаке все же большую роль играли первые друзья.
Тут следует сказать, что я приехал в Ермак с разбитым предыдущей любовью сердцем. Страшно переживал ее неудачный исход и не мог выбросить из головы свою коварную любимую, уверенный, что не забуду ее до гроба. И довольно быстро влюбился в Людмилу Лопатину, благо ее муж Борис накануне был призван двухгодичником в армию, и она, тоже молодой специалист, работала экономистом, а жила в общаге. Но мои тщетные попытки привлечь ее внимание к себе оставались без поощрения. К моей досаде, не один я оказался такой умный. Вокруг Людмилы увивались Валентин Мельберг и Женя Примаков. И еще кто-то, с кем я не был знаком. Чего я только ни предпринимал: и оказывал усиленные знаки внимания и, наоборот, начинал демонстрировать ей холодное равнодушие — ничего не проходило! Люся постоянно выказывала ко мне только дружеское расположение, а это далеко не то, что мне было нужно. Кроме того, я мучился ревностью, так как мне казалось, что мои конкуренты более удачливы. (Лет 15 спустя Мельберг увольнялся с завода, а я принимал его должность, мы посидели, выпили, вспомнили прошлое, и он признался, что у него с Лопатиной тоже ничего не получилось. И хотя это и выглядело смешно, но мне стало как-то легче — не так обидно что ли.) Как бы то ни было, но в ходе борьбы за Лопатину у меня из головы как-то само собою выветрились все глупости, связанные с предыдущей любовью, и я совершенно перестал ее воспринимать как трагедию.
Кроме того, неудачи с Лопатиной никак не снижали моего энтузиазма по отношению к остальным девушкам — статус холостяка надо было использовать на 110 %! То, что я откровенно не обещал жениться, мне явно не помогало, хотя было и не без приятных моментов.
Отдельно вспоминаю своего соседа по комнате Сашу Мозоляка, с которым мы прожили, наверное, около 3-х лет. Сначала у меня были разные соседи, потом поселился Саня, работавший электрослесарем, потом мы с ним перешли в маленькую комнату, а наш третий сосед в ней практически не жил, так как подселился к какой-то одинокой женщине. Потом он вообще к ней съехал, а мы, уже старожилы общаги, попросили коменданта подселять к нам соседа только тогда, когда во всей общаге свободных мест не будет, посему и жили практически вдвоем. Хотя компании друзей у нас были разные, но мы с ним жили душа в душу — я не то что не помню, я даже не представляю, что могло бы послужить причиной конфликта между нами. Вредные привычки у нас совпадали — мы оба курили. Саня далеко не флегматик, но он много не болтает, зато обладает уникальным чувством юмора — ситуационным. Его шутки невозможно было пересказать, поскольку надо образно представить себе ситуацию и массу ускользающих в разговоре моментов. Давайте попробую.
Вот спускаемся мы с нашим третьим соседом в прачечную с замоченным бельем. А сосед был таким эстетом, несколько себе на уме и с заметным чувством превосходства над нами в этом вопросе. В те годы опытные хозяйки при полоскании подсинивали белое хлопчатобумажное белье, особенно постельное, чтобы оно не желтело, и для этих целей в магазинах продавался специальный темно-синий порошок — «синька». А мы все носили семейные трусы, которые были либо черного, либо темно-синего цвета и ужасно линяли. Только прикоснутся эти трусы в мокром виде к чему-то светлому, и на этом светлом остается синее пятно, которое потом замучаешься отстирывать. Посему и стирали отдельно белое, а отдельно трусы.
И вот наш сосед полощет в тазике белую рубашку, любуется качеством стирки и с видом тонкого знатока говорит:
— Эх, еще бы подсинить, и совсем было бы прекрасно.
— Да нет вопросов, — немедленно и невозмутимо реагирует Саня и бросает ему в тазик с рубашкой свои синие трусы.
Или такой случай. Летним днем возвращаемся с ним с рыбалки. Идем по берегу Иртыша, огибаем мысок, и перед нами заливчик. В нем купаются десяток ребятишек-цыганят. На берегу пасется лошадь, стоит подвода, в ней сидит цыган босиком и в рваных штанах и рубашке. Зовет детей, те дружно выбегают из воды к нему. Маленькие, совсем голые, мальчишки постарше — в рваных трусиках, девочки в рваных платьицах. Картинка вопиющей бедности. Цыган спокойно проводит по детям взглядом, как бы пересчитывая их, и вдруг ни с того ни с сего начинает на них орать. Невозмутимый Саня тут же поясняет:
— Послал купаться, думал, что хоть парочка утонет, а они все вернулись.
Я был у Саши дружкой на свадьбе, правда, Тоня была мною не совсем довольна, но отгуляли мы в столовой прекрасно, а брак их оказался прочным — что еще надо?
Мне могут сказать — подумаешь, друзья! Да их в любом месте можно завести. Это действительно так, особенно в молодости, пока люди пластичны и легко притираются друг к другу. Но мне были очень важны мои друзья, а потом и более широкий круг тех, кто меня знал, к кому я был дружески расположен. У людей есть правильный вопрос к самим себе — «что подумают люди?» Так вот я такой вопрос задаю себе довольно часто, а в те годы этими «людьми» были мои друзья, и я, поступая так или иначе, всегда думал о том, что обо мне подумают они. Мне это было важно.
К примеру, я не стал заниматься диссертацией в большей степени потому, что не видел, что это мне даст в глазах моих друзей. Не последнюю роль в том, что я остался в Ермаке, играло и то, что они приехали туда навсегда, и быть возле них временным было как-то несерьезно. Потом завод стал плохо работать, многие уезжали, но мои друзья оставались, и в это время мой отъезд выглядел бы как дезертирство. Не могу толком сформулировать, но я в своем мнении очень независим от людей и для меня уже давно нет никаких авторитетов, но в вопросе «что люди скажут» я как-то зависим от тех, кого считаю «своими». Ну да ладно об этом.
Тогдашний директор Топильский выписал из Челябинска на завод в техотдел В.И. Шмелькова. Кем он доводился Топильскому и зачем он был нужен на заводе, было непонятно. И когда Топильский выпер из техотдела Н.В. Рукавишникова, то Шмельков занял должность начальника техотдела. Для меня в тот момент это был довольно большой начальник, но и с моего места было видно, что это совершенно пустое место, и если техотдел как-то работает, то это только благодаря А.С.Рожкову. Виктору Ивановичу Шмелькову было под 50, и он был закоренелый холостяк. В принципе неглупый, начитанный, он был каким-то не от мира сего. Людей чурался и даже в обходы по цехам шел так, чтобы ни с кем не встречаться. Зайдет на пульт печи, когда там никого нет, воровато оглянется и покрутит ручкой, немного подсаживая или приподнимая электрод. Видимо, это было ему любопытно. В памяти стоит какое-то совещание, на которое Топильский по ходу совещания вызвал начальника техотдела Шмелькова. Тот, между тем, явился вместе с Рожковым, хотя директор Рожкова не звал. Топильский задает вопрос, глядя в лицо Шмелькова, тот в это время смотрит на него, а как только Топильский замолкает, Шмельков тут же опускает голову и отвечать на вопрос начинает Рожков. Снова задается вопрос, снова у Шмелькова падает голова, а отвечает Рожков. И это длилось довольно долго, пока не выяснились все обстоятельства дела, при этом Шмельков не обмолвился ни одним словом, пока Топильский не отпустил их, удовлетворившись «информацией, полученной от начальника техотдела», который так ни разу рта и не открыл.
Так вот, как-то летом после работы мы с начальником ЦЗЛ Николаем Павловичем Меликаевым гуляли по городу, выпили бутылочку портвейна, и Николая Павловича обуял припадок товарищеского долга.
— Слушай, Шмельков уже дней пять как болеет, сидит, наверное, дома один как собака, никто его не навестит. Давай к нему сходим.
Почему нет? Взяли мы еще 0,75 портвейна, в обиходе — «огнетушитель», и пошли. Дом, в котором Шмельков жил, знали, расспросили, где его квартира, поднялись на этаж, звоним. Какой-то шорох слышим, но дверь не открывается. Звоним, звоним — не открывается. Ну Меликаев прислонился к двери спиной и начал лупить в нее каблуком. Наконец щелкнул замок, и дверь приоткрылась на ладонь, в щель выглянул Виктор Иванович.
— Здравствуй, Виктор Иванович, — радостно поприветствовал Меликаев, — как твое здоровье?
— Спасибо, хорошо.
— А мы пришли тебя навестить.
— Спасибо, хорошо, — но дверь не открывает.
Тут Меликаев, хоть он и маленький был, надавил плечом, и мы ввалились в квартиру к явному неудовольствию Шмелькова. Сразу стало понятно, почему он не хотел нас впускать, — именно так и обязана выглядеть берлога. Однокомнатная квартира, видимо, не убиралась с момента заселения, поскольку на полу явственно виднелись протоптанные в пыли тропинки. Одна вела в комнату к дивану, застеленному постелью, у которой простыни И наволочки уже имели не просто серый цвет, а цвет земли. Еще в комнате был стул и круглый стол. На столе высился Монблан из газет, свежие Шмельков клал сверху, они сползали, поэтому на полу вокруг стола тоже лежали газеты. Штор не было, нижние газеты уже выцвели до архивной желтизны. Обстановка завершалась стулом, а небольшая часть стола была свободной, видимо, здесь Виктор Иванович ел. Здесь стояла консервная банка, также с монбланом окурков, которые также лежали и на столе вокруг нее.
Нам стало неудобно, но деваться уже было некуда. Меликаев сел на стул и потребовал стаканы, мне пришлось сесть на диван. На кухне послышался шум воды — Шмельков мыл посуду, затем он явился с кружкой, граненым стаканом и чашкой, видимо, одним махом опустошил весь свой посудный запас. Раздал нам емкости, а сам остался стоять, Меликаев разливал и уговаривал его сесть на диван, но Шмельков упорно стоял, всем своим видом показывая, что он ждет, когда мы уберемся. Пришлось срочно выпить и попрощаться. Вышли на улицу, и Меликаев назидательно изрек:
— Женись, Юрка, а то и ты таким будешь!
Я, конечно, не боялся стать таким, но дело двигалось в направлении, указанном Меликаевым.
Тут ведь с кем поведешься, от того и наберешься, а я повелся с женатыми. Карев и Скуратович быстро получили квартиры, теперь я ходил к ним домой на праздники и сабантуйчики. Потом квартиру дали Женьке, мы по-прежнему собирались вместе, вместе ездили на Иртыш, отдыхали, ходили в кино, я помогал в ремонте квартир, помнится, Женьке клал стенку в подвале, вместе с Раей клеил обои — везде был свой. У Скуратовичей родилась Инга, у Польских крутился под ногами Владька, и что-то мне вдруг стало скучно. Стало казаться, что в этой холостяцкой жизни нет ничего интересного, что-то захотелось мне самому получить квартиру и самому сделать в ней ремонт, но, по большому счету, захотелось и мне иметь детей. В кино люди сначала влюбляются, а потом думают о женитьбе, а у меня все не как у людей — мне сначала захотелось жениться, а уж потом моя Судьба, которая до сих пор все делала мне наперекор, быстренько подсуетилась.
Началось все невинно. Моя однокурсница Полина сообщила мне, что известная мне Люся, поступив в аспирантуру Днепропетровского металлургического, нуждается в прописке в Днепропетровске, и попросила прописать ее у моих родителей. Я их попросил, ее прописали, Люся написала мне письмо с благодарностью. Я-то, конечно, помнил, что она мне дала отлуп на втором курсе, но письмо было хорошее, я ответил, она ответила и мы затеяли ничего не значащую переписку. Тем не менее, отправляясь в отпуск, я уже очень хотел с нею встретиться и в конце концов встретился раз, два, три, и все это выглядело уже не так, и как-то сердце билось по-другому, и мысли появились какие-то не те (или не только те).
Я вернулся в Ермак с чувством, что я жених. Я прекратил встречи с девушками — они все вдруг стали для меня какими-то далекими, меньше стал ходить на всякие гуляния, по вечерам в основном читал и, главное, все время или писал ей письма, или ждал их. В отпуск 1975 года я ехал с твердым намерением жениться, что и сделал к концу отпуска, провел с молодой женой 5 дней и вернулся в Ермак, а она осталась заканчивать аспирантуру. В 1976 году она получила распределение в Павлодар, я ее привез в Ермак, в 1977 году у нас родился сын Ваня, и все стало у меня как у людей. Люся легко вошла в компанию моих друзей, и стали мы дружить уже семьями.
Не спорю, что и в любом другом месте можно было бы найти таких же друзей, да ведь они у нас и были на той же Украине. Но так уж случилось, что появились у меня друзья в Ермаке и были они мне дороги.
Но дело не только в них.
Пионеры
Надо сказать, что я впервые попал не только в среду казахов (которая, честно говоря, из-за их незначительной численности не ощущалась), но и в среду собственно русских — великороссов. И русские сразу же поразили меня своим хамством. Дело в том, что на Украине принято к незнакомым или малознакомым людям обращаться на «вы», а тут все «тыкают». Скажем, в автобусе какой-нибудь парень, даже явно младше меня: «Ты выходишь?» Сначала я на это остро реагировал, поскольку считал, что меня хотят оскорбить. Однако несколько позже до меня дошло, что все наоборот, что это тыкание является формой доверия к тебе — признание в тебе своего, а не чужого человека. (При ругани, конечно, тоже тыкают, но там уже контекст указывает на оскорбление.) Соответственно, и я стал тыкать всем, к кому испытывал доверие, и в результате почувствовал себя значительно комфортнее. Исключение составляли люди уж явно старше меня, да и то — малознакомые, а если я и их хорошо знаю, то тоже на «ты», но с обращением по имени-отчеству или просто по отчеству. Интересно, что я так и не смог избавиться от своего хохлацкого акцента, а теперь не могу избавиться от «тыкания». Сейчас меня в этом вопросе — все же я старше многих, к кому обращаюсь на «ты», — как-то оправдывает возраст, а раньше на Украине это вызывало неприятную реакцию тамошних жителей. Ну и естественно на «вы» обращаешься к лицам официальным или в случае, если сам не желаешь покидать свой официальный статус и переходить на товарищеские отношения. Иными словами, я понял, что это кацапское тыкание не признак хамского бескультурья, а наоборот, признак культуры определенного типа общества, и это очень хорошее общество.
Что значит оставить родину и переселиться в новое место? Это прежде всего страшно, поверьте мне. На старой родине у тебя родственники, друзья, знакомые, и ими ты защищен, а на новом месте ты беззащитен — ты одиночка. И на переезд надо решиться. И вот, вспоминая Ермак, я уверен: особый микроклимат того общества обязан был своим возникновением тому, что подавляющая масса моих ермаковских земляков была по духу пионерами, первопроходцами — людьми, подавившими в себе страх неизвестного и нашедшими в себе мужество переселиться.
А что такое страх? Это основа любого рабства, и чем по более мелким поводам страх, тем больше ты раб. Сегодня, по опыту своей последней профессии главного редактора газеты, перебирая тысячи различных жизненных случаев, я просто поражаюсь, на какие подлости способны были люди в угоду начальству, единственно ради страха потерять работу. И, главное, где?! В СССР! В стране, в которой работы было навалом! Чего бояться? В Ермаке я впервые услышал поговорку: «Шея есть — хомут найдется!» — и это был девиз очень многих. В те годы у нас в Ермаке не так уж много людей стали бы терпеть самодурство начальника из-за страха потерять работу. «Не знаю, найдешь ли ты себе такого работника, как я, а я и любую работу освою, и на любом месте приживусь, и начальника себе найду получше тебя!» — так мысленно могли ответить на хамство начальства почти все, и (потом я об этом расскажу) многие отвечали так и вслух.
Причем даже и начальство могло быть ни при чем. Был у меня сосед по площадке Саша Корнилов. Плавильщик, бригадир, очень большая зарплата. Вдруг заочно оканчивает какой-то техникум и становится ихтиологом. Плюет на зарплату, уходит на ГРЭС, там создает прудовое хозяйство, разводит карпов и форель. Ему это по душе, ему это нравится, ну чего ради он из-за каких-то паршивых денег будет портить себе жизнь металлургией — занятием, которое не вызывает у него особого интереса? Он же свободный человек, а не раб.
Но свободные люди — это не значит одинокие, и в Ермаке люди тянулись друг к другу, но это была тяга свободных людей, а она требовала особых понятий и обычаев, резко отличных от понятий и обычаев людей запада СССР.
Главным у тогдашних ермаковцев было то, что каждый человек в глазах других людей был значимым сам по себе, а не своими какими-то возможностями. Попробую пояснить это такими примерами.
У нас было множество друзей, приятелей или просто хороших знакомых, или просто знакомых во всех слоях и сферах жизни города. А ведь по тем или иным позициям бывал дефицит, и можно было бы попросить достать то или иное барахло у своих приятелей из торговли. Просили, но только в крайних случаях, просто просить не то что стеснялись, а боялись — а вдруг эти наши друзья подумают, что мы дружим с ними не потому, что они хорошие люди, что они нам по душе, а из-за их возможностей! Для нас, ермаковцев, не видеть в нас человека было очень большим оскорблением. Если говорить в общем, то никакого намека на корыстность в наших отношениях не могло быть. Помогали друг другу не потому, что взамен можно что-то получить, а только и исключительно потому, что среди друзей и даже земляков принято друг другу помогать. Вот, к примеру, очень удививший меня, человека еще с «западным» менталитетом, случай.
Люся была первый раз беременна, я за нее волновался, и мне захотелось иметь дома телефон. Телефонная станция города всех желающих обеспечить не могла и вводимые мощности распределяла по спискам, которые представляли предприятия города, а те, само собой, обеспечивали в первую очередь оперативных работников предприятий — тех, кому по профессии и должности надо и в свободное время звонить на предприятие. Я в то время к таким работникам не имел ни малейшего отношения, и телефон мне не полагался. Знал, конечно, что ничего не выйдет, но все же пошел к директору завода Топильскому с просьбой включить меня в телефонный список завода, вышел от него, зашел в диспетчерскую и, естественно, матерюсь, поскольку получил от Топильского не просто отказ, а, по его обыкновению, отказ в цинично хамской форме. А в диспетчерской в это время был заводской связист, может, Виктор Крохмаль — уже не вспомню. Он мне и советует сходить непосредственно к начальнику телефонного узла города. Но кто я тому, чтобы он ради меня становился под риск получить нагоняй за установку телефона не по списку?
Однако как-то в будний день иду мимо городского узла связи и дай, думаю, зайду — чем я рискую? Начальник, молодой казах, довольно приветливо меня принял, я пояснил, что жду первого ребенка, волнуюсь, хотел бы иметь телефон. Он, естественно, спросил, могу ли я принести ходатайство от директора завода, я, естественно, высказался, какая это собака, он, как городской житель, многое, конечно, о нашем заводе знал. Развел руками — при сдаче новых номеров лично секретарь горкома следит за тем, кому их выдают, посему включить меня в список нельзя. Я это и так понимал, мы немного поболтали, я извинился и собрался уходить, но он вдруг предложил «на всякий случай» написать на его имя заявление. Я написал, ни на что не рассчитывая, и ушел. Недели через три в почтовом ящике извещение — придти на телефонный узел оформить установку телефона. Я уже был «ученый», т. е. знал, что ни в коем случае нельзя «благодарить» начальника телефонного узла — оскорблю. К своему стыду, я не только не могу вспомнить, как его правильно звали, но и не помню, смог ли я так же дружески помочь ему когда-нибудь после. Жаль, если так и не пришлось.
Попробую объяснить, что значит оскорбить благодарностью, на примере своей дачи. Я категорически не хотел ее иметь, поскольку был уверен, что всегда заработаю на любые и в любом количестве овощи с базара, а посему тратить время на ковыряние в земле считал глупостью. Но в нашей семье я был не единственный хохол, у меня и жена была хохлушка, да плюс девушка с села. Осенью она выставляет на подоконник дозревать на семена купленные на базаре лучшие по виду и вкусу помидоры. Я ей авторитетно заявляю, чтобы она этими глупостями не занималась, поскольку брать дачный участок все равно не буду. Однако вижу, что в доме там и сям начинают появляться пакетики с купленными семенами, а ранней весной на подоконнике появляются коробочки и баночки с землей — Люся начала выращивать рассаду. Мои разъяснения глупой женщине, что она беременна, что я не собираюсь брать пример с Брежнева и поднимать здесь целину, что с рождением ребенка у нас будет уйма дел и без дачи, в конце концов приводят к тому, что как-то в мае я прихожу с работы домой и вижу на столе «Книжку садовода» на мое имя с квитанцией оплаты садового участка (по-моему, рублей 16) — жена-таки купила дачу! Все мои доводы пошли прахом, надо было срочно ехать выбирать участок, поскольку добрые люди уже вскопали свои наделы, а я еще и не знаю, какой мой.
Долго ходили с женой и председателем по садоводческому товариществу от одного пустующего участка к другому. Мне нравились те, у которых уже есть три забора, построенных соседями,
Моя жена Люся за несколько дней до первых родов
и мне останется достроить один лицевой, двадцатиметровый. Но Люся подозрительно ковыряла землю, и мы шли дальше. Наконец, председатель садоводческого товарищества привел нас к участку, самому поганому, с моей точки зрения, — мало того, что он весь зарос пыреем (а с корнями этой травки мне уже приходилось иметь дело), мало того, что он был крайний у переулка, т. е. вообще не имел одного соседа, мало того, что и второго соседа тоже не было, и мне надо было строить три забора в 70 м длиной, так еще и автомобили, спрямляя путь, накатали по диагонали участка дорогу. Но Люся именно тут топнула по участку ножкой и сказала: «Этот!» Потом этот участок доставил нам уйму удовольствия, но это было потом, а сейчас я оказался лицом к лицу с огромным объемом работ, которые надо было выполнить в очень сжатые сроки — в таких ситуациях на вопрос: «Когда это надо сделать?» — отвечают: «Вчера».
Люся свое дело сделала — участок выбрала, и я отправил ее домой, оставшись один на один со своей работой, а ведь у меня на тот момент даже лопаты еще не было. Но вдалеке слышался гул тракторного движка, я пошел в ту сторону и вскоре нашел «Белорусь» с навесным плугом, пахавший очередной участок. Я выстоял очередь к нему, переходя с нею от одного участка к очередному, и, наконец, пригнал трактор на свой. Уже темнело. Тракторист сделал пробную борозду, вылез из кабины, посмотрел землю и начал регулировать плуг. Я встревожился: «Что, тонкий слой чернозема?» «Нет, — успокоил тракторист, — наоборот, я увеличиваю глубину вспашки. Земля очень хорошая». Ну, думаю, молодец жена, хоть тут все в порядке.
Утром приезжаю на работу и хвастаюсь Меликаеву, что теперь и я дачник, и даже вчера вечером вспахал свой участок. «Так чего же ты здесь? — удивился Николай Павлович. — Бери отгул и беги немедленно бороновать его. Если не сделаешь это к обеду, то пласты земли засохнут, и ты их потом кувалдой будешь бить». Спустился к слесарям экспериментального участка и обрисовал им ситуацию. Они отложили дела и мигом стали меня снаряжать. Взяли в кладовой лопаты, заточили их, насадили ручки, а я в это время делал себе грабли, поскольку стало понятно, что покупными граблями на такой земле делать нечего. (Я отрезал полметра трубы на три четверти дюйма, вдоль нее просверлил насквозь штук 12 отверстий 5,9 мм, нарубил зубья грабель из 6-мм серебрянки (проволоки, из которой вьют пружины), заточил их и запрессовал в отверстия. Затем сварщик сверху их обварил. При такой конструкции усилия на сварной шов не передавались, и у меня эти грабли никогда не ломались.) Через час, снабженный штыковой и совковой лопатами, а также мощными граблями своей конструкции, я через дыру в заборе (так было короче, да и охрану просить не надо) поспешил начать свои первые самостоятельные сельскохозяйственные работы на Целине.
Бороновал до вечера, язык был до пояса, но все же куски дороги в некоторых местах измельчить не смог — успели засохнуть. Тем не менее, подготовленной земли хватало для всего, вернее, для любых грандиозных планов моей жены. Теперь уже можно было не спеша, но быстро делать остальные работы, очередность которых очевидно просматривалась: забор, бак для воды, разводка воды по участку, туалет и какое-нибудь укрытие от солнца с будкой для инструмента.
Металлургическая лаборатория, в которой я работал, в те годы располагалась в заводоуправлении, а на моем этаже в торце коридора собирались курильщики, я, само собой, с ними быстро познакомился, а поскольку любил травить анекдоты, то сразу приобрел много приятелей.
— Где взять штакетник для забора? — спрашиваю я их.
— А зачем он тебе? — вопросом на вопрос ответил Володя Шлыков, тогда просто инженер отдела снабжения. — Ты что, любоваться своим забором будешь? Он тебе нужен, чтобы коровы на участок не забрели и не пожрали то, что ты посадишь. А коровам все равно, из чего ты сделаешь забор. Кроме того, штакетник — это кондиционная древесина, следовательно, дорогая. А ты в ремстройцехе выпиши срезки (рейка, получаемая при обрезке доски с торцов), они стоят всего 2,40 за куб, и тебе два куба с головой хватит.
— А трубы или уголок на стойки?
— Зачем тебе трубы? — продолжил Шлыков. — Их нужно вкапывать, а у тебя, небось, чернозема сантиметров 20, а дальше глина. Кроме того, ты, даже выкопав глубокие ямки, потом землю в них не утрамбуешь, а подует ветер, и под его напором забор начнет валить твои стойки, и будешь ты свой забор каждый год ровнять. Тебе нужна эта работа? Возьми прожиговое железо (прутья 20 мм диаметром — Ю.М.), нарежь на куски в 1,5 метра и вбей их кувалдой. Они будут мертво стоять, а от порывов ветра они будут упруго изгибаться и вновь возвращаться в вертикальное положение.
— Понятно. Но доски-то ведь все равно нужны, чтобы туалет и будку под инструмент построить.
— Да дались тебе эти доски! — удивился Петя Карпов, работавший инженером в отделе оборудования. — Они же дорогие. Выпиши у нас в отделе два куба ящиков от оборудования. Они стоят 6 рублей за куб, а там такой лесоматериал, что дом можно строить.
— А бак для воды? — тут надо пояснить, что с подачей воды на дачи весной опаздывали, и дачники в эти баки с осени делали запасы воды, чтобы поливать рассаду весной, пока не подадут воду в магистральные водоводы. Однако надо сказать, что хотя я бак и поставил и воду в нем держал, но не помню, чтобы пользовался баком по назначению. (Мы в нем купались.) В мое время воду на дачи уже подавали вовремя.
— Выпиши у нас 100 кг листовой стали, и пусть тебе в экспериментальном сварят бак, — сказал Шлыков.
— Не надо, — сказал Вадим Храпон, заместитель начальника отдела сбыта. — Стали — да, немного выпиши, но походи по складу металлолома и подбери себе подходящий бак, а по пропуску на сталь вывезешь его с завода. Так будет быстрее и дешевле.
Мы со Шлыковым и Карповым зашли ко мне в лабораторию, они рассказали мне, как написать заявления, забрали их, подписали сами у соответствующих замов директора и принесли мне уже готовые документы для оплаты. Я оплатил в кассе завода все, что мне посоветовали, и в ближайший выходной построил сам, без помощников (я их не люблю или, вернее, мне с ними неудобно работать) все 70 м забора, а дней через 10 у меня был совершенно готовый к эксплуатации участок с аккуратно штабелированным прекрасным пиломатериалом для строительства и баком примерно на 2х3 воды. Стоило это мне все рублей 40, и, кстати, это и были все мои капитальные затраты на дачу. Потом я покупал только выходившие из строя поливочные шланги и садовый инструмент.
От строительства домика я отказался, а завезенным кирпичом выложил дорожку и площадку под навесом. Дело в том, что если даже и не повезет с ближайшим автобусом, то до дому от дачи добираться пешком было минут 30, а на велосипеде — 20. Ну и зачем кормить на даче комаров, если можно было вернуться домой, принять душ и комфортно ночевать? А если на даче не ночевать, то зачем там домик? Я построил туалет, просторную будку для инструментов, сменной одежды и всякой всячины, сделал навес, под ним сколотил стол и лавочки, оплел это хмелем и виноградом и получил место, где можно спрятаться от жары и попить, скажем так, чайку с друзьями, пришедшими помочь вскопать участок.
Обычаи и понятия
Но дело не в этом. Самым главным для дачи была внутренняя разводка воды, поскольку без полива в нашем районе ничего путного не растет. Отвод от магистральной трубы на мой участок был, правда, он был заварен. Тут проблем не было: я принес инструмент, обрезал ножовкой место заварки, нарезал новую резьбу и поставил входной кран. Но теперь к нему нужно было присоединить трубы внутренней разводки, а трубы на заводе выписывали не всегда, поскольку их и для производства не всегда хватало. Я снова обратился за помощью к Володе Шлыкову.
— Зачем тебе трубы? С ними же очень неудобно. Они лежат на земле мертво, под ними не вскопаешь и толком не прополешь, и в этих местах вечно растут сорняки. Стальные трубы прогибаются, на зиму в прогибах остается вода, трубы размерзаются, весной их надо подваривать — с ними одна морока! Возьми армированного шланга метров 20, разрежь его в нескольких местах и соедини тройниками с краном и соском для легкого поливочного шланга. Вот этим шлангом и сделай магистраль вдоль участка.
При вскопке этот центральный шланг можно легко отодвинуть, а на зиму его смотать и вывезти с дачи.
Идея действительно была прекрасной, и у меня на даче этот шланг для внутренней разводки служил лет 20 минимум, а может и сейчас служит, но где его было взять? В магазинах такие шланги не продавались, а на заводе их выписка была запрещена. Володя мне и говорит:
— Пусть кладовщица экспериментального выпишет у нас в отделе снабжения эти 20 метров и спишет шланг на производство экспериментального, а ты заберешь этот шланг на дачу.
Нина Лимонова, наша кладовщица, быстро оформила документы и отдала их мне, чтобы я сам получил шланг на складе, но оказалось, что этот склад не на заводе, а где-то на окраине города. Я пошел к Шлыкову узнать, где он находится. Володя удивился диаметру шланга (я ошибся при замере — замерил наружный диаметр, а нужно было внутренний).
— Ты же его не донесешь до автобуса, ведь эти твои 20 метров весят килограмм 40. Слушай, где твоя дача? Давай мне документы, а я на нашем «пирожке» буду по складам ездить, заберу и его, а после сам заскочу на дачи и сброшу его тебе на участок.
Так он и сделал. Прихожу после работы на свою дачу, а там уже лежит бухта новенького толстенного шланга. Нет смысла дурачком прикидываться — Володя Шлыков украл для меня этот шланг, решив этим мою самую большую дачную проблему. Я — человек с запада, воровством меня не удивишь, но по «западным» понятиям я обязан был Шлыкова отблагодарить. В Днепропетровске за такое я обязан был бы материализовать свою благодарность, и в Ермаке я попробовал сделать то же самое. Я купил бутылку коньяка, принес на работу, а в конце дня зашел в отдел снабжения
— Володя, а у меня есть бутылочка коньячка. Как ты насчет того, чтобы «вздрогнуть» по «джус грамм»?
— С удовольствием, — мы двинулись по коридору к моей комнате, — а что у тебя случилось? Не день рождения, случайно?
— Да нет, — не подумавши брякнул я, — просто ты же мне шланг сделал, вот я купил бутылку по этому поводу.
Шлыков остановился, покраснел и зло выплюнул:
— Я тебе как другу его сделал, а ты решил, что я за бутылку?! Не буду с тобой пить! — он развернулся и пошел обратно. Я бросился за ним, извиняясь, но без толку — Шлыков категорически отказался пить со мною этот коньяк. Потом мы помирились, но я этот урок запомнил: благодарность и дружеские отношения — это нечто большее, нежели барахло, и предлагая другу в благодарность барахло, ты легко можешь нанести обиду вместо благодарности. Друзья оказывают друг другу помощь потому, что они друзья. Да, после того, как тебе помогли, можно и даже нужно с друзьями выпить, но только как с друзьями, а не за то, что они тебе помогли, иначе это уже, скажем, грузчики, а не друзья, какие-то деляги, а не приятели.
Это было по-русски, мне это чертовски нравилось, конечно, я и сам старался быть таким, но наши ермаковские обычаи и понятия меня все время удивляли. Вот несколько примеров, которые вспомнились.
Забираю жену с сыном из роддома. По днепропетровским понятиям акушерку, вынесшую отцу ребенка, отец обязан отблагодарить материально, по-моему, даже деньги можно или нужно дать. И я расспрашиваю, что у нас в Ермаке можно дать акушерам? Мне отвечают — ничего, за исключением цветов и конфет, поскольку вся больница ходит в родильное отделение чай пить. Но, может, хотя бы бутылку? Нельзя! Но я мнительный, и думаю, что вот зажилю подарок, а потом с сыном что-нибудь случится… Короче, купил я бутылку коньяка и килограмма два самых дорогих шоколадных конфет, свернул из газеты большой кулек, сунул в него бутылку горлышком вниз, а вокруг и сверху засыпал конфеты — бутылка скрылась из виду и не чувствовалась на ощупь. Так и отдал медсестре, вынесшей мне Ивана. Номер удался без скандала.
В однокомнатной квартире у нас была газовая плита на две конфорки, и вдруг как-то сразу на них перестал подаваться газ. Я снял ручки вентилей, попробовал вынуть пробки кранов — не поддаются! Взял плоскогубцы — начали конструкции плиты прогибаться. Я засомневался — никогда газовых кранов не разбирал, а вдруг они как-то так устроены, что я их сейчас сломаю? Хотя входной кран газа на всю плиту я и перекрыл, но ломать плиту все же не хотелось. Я звоню по «04», говорю, в чем дело. Там отвечают, чтобы я ничего не трогал, а они, как только слесарь вернется с вызова, его ко мне пошлют. Не прошло и пяти минут — звонок в дверь. Открываю — на пороге девчушка лет 19 с большим чемоданом. Сказала: «Здрасьте», — и решительно двинулась в квартиру. Я на всякий случай загородил ей проход.
— Вы куда?
— Сюда.
— Зачем?
— Я слесарь горгаза.
Моя семья
Я поразился, поскольку в моем представлении слесаря должны иметь другой вид, но, естественно, впустил девчушку. Она на кухне открывает чемодан, а там на дне плоскогубцы, отвертка и баночка со смазкой. Берет плоскогубцы и решительно выдергивает пробки кранов. Проходы в них оказались забиты застаревшей смазкой, она их быстро прочищает, снова смазывает и насаживает на место. Проверила работу плиты, закрыла чемодан, и я опять делаю глупость. Дело в том, что по понятиям запада Советского Союза все слесари, обслуживающие квартиры, обязательно берут «на бутылку». Думаю, что каждая третья юмореска тогдашних сатириков была посвящена этой теме. Ну, я и предлагаю девушке три рубля — «на бутылку». Как она на меня взглянула! Выскочила, не прощаясь, и хлопнула дверью!
Мы с Люсей — младшие дети, опыта обращения с младенцами не имели ни малейшего. А тут ребенок! Начинает плакать — душа болит, а чего ему надо — не поймешь. Как-то сын ревет и ревет, Уже далеко за полночь, а мы ничего сделать не можем. Ну я и не выдержал, звоню «03», объясняю, что формально не имею права к ним обращаться, но мы с женой не знаем, что делать. «Сейчас приедем», — отвечают очень спокойно. Приезжают две фельдшерицы, по возрасту еще младше нас. Осмотрели сына, поставили диагноз — животик распирают газы (Люся кормила детей грудью). Показали, что делать, сын успокоился и заснул. По идее, мы обязаны были все это знать, вызывать «Скорую» по таким случаям нельзя, но, повторю, по ермаковским понятиям фельдшерицам нужно было только сказать «спасибо» и все. А я как раз вернулся из командировки и привез несколько килограммов апельсинов. Уговорил их взять хотя бы по апельсину.
Или такой случай. Захожу в гастроном, спрашиваю в бакалейном отделе яйца, а их нет. Я чертыхнулся и пошел по другим отделам, отоварился и вышел. Вдруг сзади крик: «Мужчина, мужчина!» Оборачиваюсь и вижу, что меня зовет выскочившая на крыльцо продавщица бакалейного отдела, совершенно мне не знакомая. «Мужчина, только что яйца завезли!» Казалось бы, ну кто я ей, чтобы так хлопотать по такому пустяку? Да, в Днепропетровске или в Москве я продавщицам был никто, а в Ермаке я им был земляк, я им был свой. Ну, как такой город не любить?
Взять, к примеру, такую тему, как воровство. Какого-либо мало-мальски значительного случая воровства собственно у людей — у моих друзей и знакомых — я вообще не вспомню. Это было категорически не принято. Правда, в первые дни моей дачи бегу я мимо проходной дачного товарищества и вижу толпу — саженцы продают, а это был дефицит. Мне все же повезло, и я купил три яблоньки, сейчас же посадив их на своем участке, поскольку, напомню, была уже поздняя весна. Забора у меня еще не было, и через пару дней прихожу, а двух яблонек нет — спер-таки какой-то сукин сын, но одну все же оставил — постыдился взять все. На даче ничего не закрывалось, порой чего-то не хватало: то лопаты, то ведра. Но было ли это воровство или какой-нибудь сосед взял на время, да забыл вернуть, бог его знает.
Обычаи были такие, что входные двери квартир никогда не запирались на замок, если есть кто-то внутри, да и замки были такие примитивные, что их сегодня и не разыщешь, а двери были из двух пластин древесноволокнистого картона, наклеенных на тонкие рейки. Жить с незапирающимися дверями очень удобно: положим, ты чем-то занят, а в дверь звонят, и если она закрыта, то нужно отвлекаться и идти открывать, а при незапертой двери просто кричишь: «Заходи!» — и всех хлопот. Друзья и соседи и звонили редко — заходили сразу. Как-то днем что-то возникло у нас с женой романтическое настроение, а кровать у нас была такая квадратная, широкая, ну мы и плюхнулись на нее. Вдруг на пороге спальни возникает Люба Тишкина.
— Ой, я не вовремя!
— Люба, ну ты могла же позвонить в дверь прежде чем войти?!
— А вы могли дверь запереть прежде чем таким делом заниматься?
Долго потом со смехом этот случай вспоминали.
Потом, уже после «перестройки» и развала Союза, когда все охренели в вожделении украсть, началось воровство и у нас, стали и мы и железные двери ставить, и хитрые замки. Как-то в начале 90-х обворовали Чертковеров, слух об этом немедленно распространился по городу. Шутка ли: Григорий был заведующим травмотологическим отделением, а Татьяна — родильным, более 20 лет работали в городской больнице — кто их не знал? Даже местный криминалитет встревожился (ведь в начале строительства завода его строили и зэки, кое-кто из них после отбытия срока оседал в городе). Передавали подслушанный в автобусе разговор двух мужиков, наверное, с уголовным прошлым: «Какие-то «залетные» доктора обворовали, а нас менты теперь на уши поставят!» Обворовали Чертковеров утром, когда они ушли на работу. Через день или два звонит Григорию какая-то бывшая пациентка, сообщает, что услыхала о краже и есть у нее подозрение. У них в подъезде живет одинокая разведенная женщина не очень строгого поведения, а недавно к ней поселились двое парней. И в то утро, когда Чертковеров обворовали, эта пациентка видела, как эти парни входили в подъезд с большой сумкой (а у Григория воры взяли видеомагнитофон, кое-что из одежды и обуви и бутылку водки из холодильника). Гриша позвонил в милицию, немедленно приехали два опера и с Григорием поехали на квартиру подозреваемой, в которой на тот момент двери никто не открыл. Спустились к выходу из подъезда, а в это время в него заходил парень, и Григорий узнал на нем свои туфли. Ну, а дальше для нашей милиции все было «делом техники». Все вещи, кроме старой кожаной куртки и бутылки водки, тут же нашли на квартире этой женщины. («Взяв» квартиру Чертковеров, воры пошли на берег Иртыша выпить водку и рассмотреть добычу. Когда увидели, что куртка старая, то со злости утопили ее.) Пойманный вор, надо сказать, поделыцика не выдал (оба они были из Караганды), но по его делу все следствие и суд длились дней 5, в результате получил он года 3 или 4. Спешили наши правоохранители, Поскольку хотели побыстрее вещи доктору вернуть, поскольку до суда они были «вещдоками» и хранились в милиции.
А в те далекие славные времена я вспоминаю только два случая воровства. Как-то прихожу на работу, и начальник химлаборатории Е.П.Тишкин жалуется, что у него кабинет обворовали. Это была маленькая комнатка на первом этаже, которую Петрович использовал, скорее, не как кабинет, а как дополнительную кладовую для дефицитных реактивов и материалов — хранил там неприкосновенный запас. Вор залез, разбив окно, взял у Тишкина суконную рабочую куртку металлурга (в быту эти куртки использовались, чтобы на рыбалку ездить), соблазнился несколькими стеклянными банками с реактивами и, самое ценное, украл электронный микрокалькулятор, которые тогда были еще редки. Возмутила нас такая наглость, и я распорядился вызвать ментов. Те приехали, как в кино все осмотрели, сняли отпечатки пальцев и через месяц или два вора нашли, правда, калькулятор этот сукин сын успел куда-то задевать, и милиция нам вернула только куртку и реактивы. Что было с вором, уже не помню.
А однажды приезжаю, а у химиков ЧП — ночью пропал с рабочих столов платиновый тигель. На вид эти тигли невзрачные — как маленькая стопочка из светлого металла и только, но стоили по тем временам чертовски дорого — чуть ли не до тысячи рублей, хранились в сейфе и лаборантам для анализов выдавались строго под отчет. Тут хочешь-не хочешь, а милицию надо вызывать, но Тишкин попросил у меня пару часов самому следствие провести.
Задержал лаборанток ночной смены — они не представляют, куда тигель мог деться: получили по смене десять тиглей, а начали сдавать — их всего девять. Начал допытываться — не приходил ли кто в лабораторию по ходу смены? Выяснилось, что к одной девчушке забегал поболтать хахаль — плавильщик соседнего цеха. Срочно послали за ним, тот приехал на завод растерянный — ничего не брал! Петрович ему командует: зайди в лабораторию, как ночью заходил, и встань там, где стоял! Парень вышел, вошел и встал, облокотившись на один из рабочих столов.
— Ничего со стола не брал? — спрашивает Тишкин.
— Клянусь — ничего!
— А ты подумай, не спеши.
— Да тут какие-то стаканчики стояли, то ли железные, то ли алюминиевые, я один взял, а он смялся, ну я его в урну и выбросил.
— В какую урну?
— Вот тут стояла.
Срочно позвали уборщицу, она показала место в мусорном контейнере, куда уже вывалила утром урну. Разгребли мусор, нашли платину. Тишкин приказал лаборанткам в ночные смены двери держать на замке, никого в химзалы не впускать, а с хахалями разговаривать в коридоре. Тигель отрихтовали и на этом инцидент сочли исчерпанным.
Теперь о воровстве с завода. Тут нужно понять принцип: у нас реально действовало правило, что человек должен жить своим трудом, и в основной массе жителей города нетрудовые доходы считались преступлением, а преступников не сильно жалели и жаловали. Из этого принципа исходит и отношение к хищениям с завода. Во-первых, это не должно быть помехой работе завода, во-вторых, ты мог взять только для себя и только то, что не можешь купить из-за отсутствия этого в строймагазине или, к примеру, существует запрет на выписку этого на заводе. Скажем, срезки с деревянных досок можно выписать на заводе — зачем же их воровать? Ну, к примеру, спер ты с завода сварочный трансформатор, но их на заводе полно, кроме того, они часто горят, меняются на более совершенные, т. е. ты этим работать заводу не помешал. С другой стороны, ты этим сварочником что-то смог сделать себе, кроме того, соседи по гаражу будут к тебе ходить и просить что-нибудь подварить — всем польза! Да и вообще — что это ты за сварщик, если у тебя дома нет сварочного трансформатора? Или что это ты за электрик, если у тебя дома нет тестера, пассатижей и куска провода? Как тебя попросить в чем-нибудь помочь по твоей специальности?
Если что-то свободно продается в магазине или на заводе, а ты это тащишь — тебя не поймут — ты вор! Но если тебе нужна труба для полива дачи, ведь у тебя огурцы сохнут, а на заводе запрет на выписку труб, то кто тебе что скажет, если ты их уволок? Но упаси господь что-либо из украденного превратить в деньги — тут ты точно вор. Помню, как-то в компании мужики зло и презрительно обсуждали одного мастерового за то, что он каждый год строил гараж и продавал его. Построить гараж, ничего не сперев с завода, было невозможно, более того, на определенные вещи закрывали глаза, поскольку они делались всеми. Скажем, ты выписывал 100 кг листовой стали для ворот или кессона в подвал, платил за эту сталь 7 рублей, а сколько реально у тебя пошло на это металла, никто не взвешивал. Вот и получалось, что этот мужик, строя и продавая гаражи, торговал краденым, а это было недопустимо. Русские люди очень не любят, когда кто-то не «как все», а «все» у нас не воруют — и ты не воруй.
Начальству в этом смысле было и проще и сложнее. Проще потому, что ты и в этом деле успеешь раньше работяг, но зато тебе люди не простят тоого, что простят работяге. Возьмешь то, что люди посчитают лишним, и они тут же сообщат в ОБХСС (отдел борьбы с хищениями социалистической собственности), а этому отделу милиции тоже нужно отчитываться в своей работе, вот и выставит тебя милиция на показательный судебный процесс. Не наглей! Как все! А если и больше, то не намного.
Был в то время дефицит полиэтиленовой пленки, вернее, она только входила в быт, а штука эта нужная на дачах для парников и теплиц, для укрытия всходов от заморозков. А тут отдел снабжения прикатил на завод вагон этой пленки, причем заводу она явно была ни к чему. Мы с Тишкиным объявили заму директора, что нам пленка нужна для утепления в лабораториях окон на зиму, выписали рулон килограммов на 80, отрезали себе по куску, и Петрович положил рулон в коридоре. Ну и работники цеха с неделю по кусочку отрезали, отрезали, пока пленка не кончилась. Это — по нашим ермаковским понятиям. А в цехе № 6 тоже выписали эту пленку, и вновь принятый на работу мастер электрослужбы закрыл ее в кладовой и попробовал ею торговать, т. е. требовать у рабочих за нее деньги. Этого мастера немедленно выкинули с завода.
Вот сейчас вспомнил как анекдот такой случай. Сидит все заводское начальство (кроме директора) на совещании по рассмотрению техотчетов у главного инженера (если я правильно помню, то это был Юрий Яковлевич Кашаев). Дошли до заводского травматизма, рассматриваем случаи. Один работяга что-то себе сломал во время воровства извести. Завод извести завозил много, поскольку ею белились мульды разливочных машин перед каждой заливкой в них ферросплавов. Самосвалы разгружали известь в четырех цеховых складах готовой продукции в банки, а затем краны эти банки разгружали в бункер растворного узла, горловина которого была метрах в шести от уровня пола. Обычно часть банок с известью стояла и на полу, и можно было легко из них набрать извести столько, сколько тебе нужно. А именно на складе этого цеха извести в банках на полу не было, и бедняга, поленившись сходить на другой склад, полез за ней на бункер, а там оступился и травмировался. На совещании встал вопрос о том, что сделать, чтобы подобные травмы больше не случались. Я предложил сделать у проходной навес и под него выгружать самосвал хорошей извести, чтобы на выходе с завода всякий мог ее взять. Главбух сказал, что нас за это посадят. Тогда главный инженер распорядился на складах всех цехов у входа всегда ставить полную банку с хорошей известью и не расходовать ее до крайней нужды, чтобы люди могли набрать ее себе, не заходя в глубину склада и не подвергая себя риску.
В этом случае анекдотично вот что. За травмы наказывался и начальник цеха, и главный инженер завода, а травма во время хищения в вину заводу не ставилась. То есть если бы начальник цеха и главный инженер официально объявили правду — то, что эта травма при хищении, — то они спасли бы себя от снятия части премии. Но никому это и в голову не пришло — мы завод, одна семья, как же можно не дать человеку такой пустяк как известь, если этот пустяк ему нужен?
Вообще в то время неприятности товарищей воспринимались острее. Как-то А.И. Григорьев, который вроде и не был заядлым рыбаком, поехал зимой за 300 км в степь на какое-то озеро рыбу ловить, и там на озере его «Жигули» провалились под лед, но сам Анатолий Иванович успел выскочить. Я узнал об этом в коридоре заводоуправления перед началом какого-то совещания. Мужики радовались, что Григорьев спасся — это главное, но одновременно то ли старый Бабченко (Василий Васильевич), начальник автохозяйственного цеха, то ли сменивший его Серега Харсеев уже организовал трейлер и автокран, путевки были выписаны, водители проинструктированы и только ждали, когда подъедет из Павлодара заказанный заводом водолаз со своим оборудованием. Поехали, выдернули из-подо льда «Жигули», привезли, высушили, и никто слова упрека не сказал Григорьеву, что его приключение доставило многим массу ненужных и бесплатных хлопот — товарищу надо помочь. Это не обсуждается.
Но продолжу тему воровства. Как-то в отпуске в Днепропетровске был свидетелем такого разговора. У нашей соседки умер муж, бывший работник завода им. Карла Либкнехта, она его похоронила, а к нам зашел знакомый, который работал сварщиком на этом же заводе. И соседка попросила его изготовить оградку и памятник на могилу. Знакомый сказал, что это будет стоить 140 рублей, причем извиняющимся голосом пояснил: «Я за работу ничего не возьму. Но поймите: кладовщице за сталь нужно дать, мастеру нужно дать, шоферу нужно дать, вахтеру на проходной нужно дать — вот и выйдет 140».
Я, ермаковец, аж рот раскрыл от удивления: так тут за изготовление оградки на могилку своему работяге деньги берут?! И кто?! Кладовщик, мастер, охранник?! Да у нас бы за такое убили! Не то что за оградку, а за что бы то ни было никто, кроме работяги, реально это делающего, денег брать не смеет! Может кладовщица дать тебе нужное без неприятностей для себя — даст, Не может — не даст, но ей брать деньги — упаси господь! Знает тебя охранник или не боится открыть ворота (а вдруг провокация ОБХСС) — выпустит, чего-то боится — не выпустит, но деньги брать — упаси господь! Предложи ему деньги, он же немедленно задержание оформит. Он честный человек, он может оказать тебе дружескую услугу, но он не вор!
Видите ли, собственность у нас была социалистическая, т. е. общая, а не лично кладовщика, начальника или охранника. На социалистическую собственность не имели права отдельные лица, а только все вместе. Есть возможность, значит, пользоваться должны все, нет возможности — никто. А исходило все это из гордого принципа — мы свободные и сильные люди, нам воровать нет необходимости, у нас есть ум и руки, чтобы заработать честно. Мало тебе денег — переходи работать плавильщиком: у плавильщиков бригадиры получали больше директора завода. Не хочешь — обходись имеющимся, но воровством себя не унижай — ты не тупой и не инвалид.
Еще одно сравнение с западом СССР. В том же Днепропетровске в очень жаркий день иду в гастроном и веду за руку маленького сына. Около магазина длиннющая очередь перед продавщицей с вынесенным на улицу прилавком — она продает специи для консервирования — перец горошком, гвоздику, что-то еще. Вещь нужная, но в такую жару стоять в очереди на солнцепеке, да еще с сыном? И вдруг вижу, что в конце очереди два старичка перепродают эти специи. Они, видимо, как ветераны войны, влезли в очередь первыми, а теперь сбывают эти специи ровно в два раза дороже, но все равно за копейки: где-то за 30 копеек вместо 15. Я взял, хотя эта предприимчивость стариков мне и не понравилась. Возвращаюсь в Ермак, иду на базар. А незадолго до этого я купил себе спиннинг, но блесен приобрел всего несколько. И вдруг вижу, что перед каким-то типом на прилавке лежит коробка с набором блесен, причем коробка лежала в своей крышке. Я только полез за бумажником и направился к этому типу, как какой-то мужик меня нагло оттесняет и первым спрашивает:
— Сколько?
— 5 рублей.
Мужик тут же кладет возле коробки пятерку и хватает набор. Мне обидно стало, дай, думаю, хоть посмотрю, что именно я прошляпил. Мужик начал рассматривать блесны, ну и я к нему через плечо присоединился. Мужику это не понравилось, видимо, решил, что я выпрашивать буду. Быстро вынимает коробку из крышки и накрывает ею. На крышке наклейка: «Блесна для спиннинга», а поперек оттиск резинового штемпеля: «Цена — 2 руб. 50 коп.». Мужик увидел, опешил, а потом резко разворачивается и швыряет коробку в типа:
— Сука спекулянтская, засунь себе эти блесна в ж…у! Вырвал у типа из рук свою пятерку и, матерясь, пошел. Я, конечно, из солидарности с земляком тоже не стал покупать.
Если кто еще помнит, то наиболее известными «леваками» в те годы были шофера государственного транспорта. И, как я сейчас вспоминаю, они у нас тоже «калымили», но по нашим, ермаковским «понятиям». Как мне помнится, больше всего брали крановщики: один подъем — одна бутылка. Бутылка была мерой стоимости, а платить надо было деньгам, однако тут в стране началась борьба за трезвость, бутылка водки с 3,62 стала стоить сначала б рублей, а потом 10. Так что автокран обходился недешево. Но нужно сказать, что «подъем» все же толковался крановщиками либерально. Скажем, при монтаже гаража нужно три железобетонные плиты поставить и двумя накрыть — это считалось пять подъемов, хотя по ходу дела крановщик мог переставлять плиты, делать вспомогательные операции и т. д. Кроме этого, ты официально выписывал кран на заводе на 1 час, но крановщик работал столько, сколько потребуется. Скажем, когда мы своей артелью с Горским и Олещуком совместно монтировали наши гаражи, то начали часов в 6 вечера, а закончили заполночь. Крановщик и бровью не повел — увидел, что плита криво встала, предложил обрезать сварку и перемонтировать плиту и т. д. Хотя и получил прилично, но деньги свои отработал честно.
А с шоферами дело обстояло так. Если ты не гонял грузовую машину в другой город, т. е. если не надо было выписывать туда путевку, то машину брали на 1 час, стоило это, по-моему, от 3 до б рублей, в зависимости от грузоподъемности. Это время оплачивалось водителю заводом — он был официально на работе. Но обычно дело занимало гораздо больше часа, и вот за это время водителю надо было заплатить самому. Как-то выписал я «зилок» привезти на дачу навоз. Часа мне должно было хватить, но в совхозе была очередь, и когда мы разгрузились на даче, время было сильно просрочено. Я протягиваю шоферу пятерку, он отстраняет мою руку: «Это много, трояка хватит».
А теперь случай в противовес.
В 90-х в Москве мне потребовалось срочно подъехать к Думе. Я уже ездил по этому маршруту и знал, что он стоит то ли 15 рублей, то ли 15 тысяч (запамятовал). Останавливаю «Жигули», объясняю водиле, куда мне надо.
— А сколько дашь?
— Пять.
— Нет, меньше, чем за 15, не повезу!
— Поехали.
По дороге водила плачется, что он физик, кандидат наук, получает мало, вынужден подрабатывать извозом. А я ему говорю, что я коммерсант, и как специалист поясняю, что при торговле первым цену запрашивает продавец, а не спрашивает у покупателя, сколько тот даст. И этот физик мне выдает.
— У моего знакомого был случай. Он подсадил мужика, ехать было минут 10, он спрашивает у мужика, сколько тот даст, а тот взял и дал 100 баксов.
Я даже с интересом посмотрел на этот экземпляр типичного московского интеллигента. Трагедию уничтожения Родины, трагедию невозможности работать по специальности, трагедию невозможности обеспечить семью он заменил Великой Мечтой о Большой Халяве! А ведь уверенно считает себя умным и гордым человеком, хотя ума не хватает понять, что такое эта самая гордость…
Напомню, что от Ермака до Павлодара было 55 км, и хотя автобусы ходили регулярно и через 20 минут, а билет стоил недорого, но «голосующие» на дороге встречались достаточно часто. Понятия с этим были такими. Если останавливаешь частника, то тут как договоришься, и даже если он сажает без разговоров, то, высаживаясь, ему надо предложить хотя бы рубль, но, должен сказать, ермаковцы с ермаковцев брали редко. Если останавливаешь государственную машину, то предложить тоже надо, но штука в том, что гордость не позволяла шоферам брать. Шофер же ведь на работе, его время и работа оплачиваются, за что же ему с тебя брать деньги? За то, что остановился? Это не работа.
Такой вот случай. Как-то мы с Серегой Харсеевым (начальником всех шоферов завода) зачем-то поехали в Павлодар, причем на дежурном автобусе диспетчера завода. Сели рядом в салоне, разговариваем. Автобус сворачивает на трассу Ермак — Павлодар и останавливается — водитель подсаживает трех или четырех попутчиков. Проехали ГРЭС — снова подсаживает, Седьмой аул — еще. Въезжали в Павлодар — в салоне было уже человек десять. Попутчики спросили водителя, куда именно в Павлодаре он едет, и начали сходить на удобных для себя остановках. При этом каждый предлагал шоферу рубль, но тот отказывался. Обычное дело. Вдруг я заметил, что Серега, оказывается, за всем этим следит и ехидно ухмыляется. Я спросил, что его развеселило.
— Я смеюсь над тем, что этот водитель нас с тобой сейчас проклинает.
— За что?
— Да, видишь ли, про этого водителя ходят слухи, что он берет с попутчиков деньги, и остальные шофера нашего цеха за это над ним издеваются. Если бы он ехал один, без нас, то уже десятку бы «калыма» содрал с попутчиков, а при нас он этого не смеет делать. Вот он наверняка нас и проклинает.
Такой вот был наш город, такие вот у нас были понятия. Не бог весть что, но лучше, чем на западе СССР. Повторю, у нас человек ценился сам по себе — по своим человеческим качествам, а посему и эти качества каждый — не каждый, но типичный ермаковец старался иметь на достаточно высоком уровне.
Как-то в отпуске в Днепропетровске захожу в очень близкую мне семью. Хозяйка мне рада, варит кофе, выкладывает на стол какие-то дорогие шоколадные наборы, ставит рюмки, коньяк, прямо-таки порхает вокруг меня от счастья, что пришел близкий человек, которого она год не видела. Вдруг звонок в дверь, и входит какая-то фря в затрапезном халате и шлепанцах — соседка. И я немедленно забыт, все внимание переключено на эту тетку, хотя ясно видно, что той нечего делать и что она от нечего делать заходит сюда минимум каждый день, а не как я — раз в год. Наконец эта фря удалилась, и хозяйка, принося мне извинения, «оправдалась»:
— Это же дочь директора мебельного магазина!
Да хоть дочь Брежнева! У нас в Ермаке только уроды, которых не любили и презирали, ценили людей за это, а для нормальных людей главным в общении с тобой было, кто ты есть как человек, а не твои возможности.
Вот еще раз вспомню Владимира Александровича Шлыкова, преждевременно умершего, к глубокой моей скорби. Он был начальником отдела снабжения завода и по своим реальным возможностям достать любую вещь намного превосходил не только дочь директора магазина, но и любого директора торгового объединения. Он выписывал тысячи различных дефицитных материалов сотням самых разных предприятий, соответственно, сотни руководителей предприятий области, сами с большими возможностями, были ему должны. Возьмем хотя бы директоров совхозов и председателей колхозов, которые вечно нуждались в прокате, огнеупорном кирпиче, трубах и т. д. и т. п. Володя находил возможность обеспечить и их, хотя не обязан был этого делать. По «западным» понятиям, ему нужно было только моргнуть, и эти директора завезли бы ему на квартиру все имеющиеся виды продовольствия по ценам себестоимости и вместе с холодильниками. Но я бывал у него в гостях, на столе было домашнее консервирование, а фирменным блюдом были куры из магазина, которых Володя сам мариновал и жарил на балконе на мангале. Шлыков вообще меня поразил, когда я выяснил, что он на паях со своим товарищем, живущим в частном доме, построил коровник и завёл дойную корову. Повторю, любой совхоз «забесплатно» и каждый день мог завозить ему любое количество молока, но тогда Шлыков был бы этому совхозу должен, а он не хотел ни от кого зависеть всего лишь из-за какого-то барахла и жратвы, — он признавал только зависимость дружбы.
Вот такие прекрасные люди были в нашем Ермаке в то время.
И вот именно это во многом определило то, что я прожил в нем 22 года и до упора — до тех пор, пока меня оттуда не выкинули.
Однако и на западе Союза, и в родном Днепропетровске людей очень много, и хотя они в среднем гораздо хуже, чем в Ермаке, но это в среднем, а найти себе в окружении хороших людей можно было и там. Кроме того, на западе Союза порядки, конечно, уже были собачьи, но дело в том, что и к собачьим порядкам можно приспособиться без большого ущерба для чувства собственного достоинства. Как-то Ленин об одном члене ЦК сказал (цитирую по памяти): «Иной мерзавец нам только потому может быть полезен, что он мерзавец». Ведь и от спекулянта может быть польза именно потому, что он спекулянт, можно ведь пользоваться его услугами, не впуская его в свою жизнь.
Так что даже хорошие люди Ермака — это не причина жизни там, вернее, далеко не вся причина. Главной же причиной была моя работа.
Теперь о ней.
Глава 4 ЗАВОДСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ
В этой книге главным действующим лицом являюсь я — так уж получается. Но мое амплуа — «рассказчик». А рассказывать мне приходится о том, о чем мало кто знает, тем не менее, мне хочется, чтобы все, о чем я пишу, было понятно. Поэтому мне приходится и много объяснять, и давать много примеров в объяснение того или иного. Я мог бы давать и примеры из чужой практики, но зачем, когда у меня есть собственные? А отсюда вытекает то, что я не могу в отношении себя следовать хронологии — я вынужден давать случаи, объясняющие ту или иную мою мысль, а характерные случаи были из разных периодов моей жизни. Понимаю, что это неудобно читать, но вы обращайте внимание не на мое жизнеописание, а на то, что я хочу сказать.
Инженер Друинский
Поскольку я не могу дать полностью воспоминания М.И. Друинского, то дам с сокращением, а частью перескажу биографическую справку о нем, которая была написана Заведующим кафедрой электрометаллургии стали и ферросплавов Днепропетровского металлургического института, академиком АН Украины, профессором, доктором технических наук, лауреатом Государственной премии Украины и премии Совета Министров СССР М.И.Гасиком. Тем самым Гасиком, про которого я писал, что когда учился в институте, то хотел быть таким ученым, как он.
«…М.И. Друинский родился 27 февраля 1925 года на Украине, в гор. Артемовске, Донецкой области. В 1928 г. семья переезжает в гор. Горловку, Донецкой обл., где в 1941 году он оканчивает 8 классов. Через несколько месяцев после начала войны эвакуируется в Сталинградскую обл., а затем в гор. Актюбинск, Казахстан.
Здесь в 1942 году он начал работать на строящемся Актюбинском заводе ферросплавов Наркомата черной металлургии СССР. С пуском завода в январе 1943 г. Друинский — плавильщик, затем — горновой электроплавильной печи плавильного цеха, участник первой плавки, которая состоялась 20 января 1943 года.
М.И. Друинский, 1946 год. Для меня было удивительным, что на его груди орденская планка ордена «Красной Звезды», который он мог получить только за доблестный труд в годы войны. Удивительным потому, что он никогда не говорил о своих наградах, никогда их не носил и ничего не написал в воспоминаниях
Затем в течение 20 лет он прошел все рабочие и инженерно-технические должности в цехе: старший горновой, помощник старшего плавильщика, старший плавильщик (бригадир электроплавильной печи), сменный мастер-технолог, начальник смены, обер-мастер, заместитель начальника цеха, начальник плавильного цеха № 1. Работая на заводе, без отрыва от производства, окончил вечернюю школу и Всесоюзный заочный политехнический институт (гор. Москва).
В период работы обер-мастером Друинским была проведена важная работа по освоению технологии производства передельного феррохрома с содержанием кремния 3–4 % Это дало возможность улучшить технико-экономические показатели и качество продукции на следующем переделе: при выплавке ферросиликохрома. Были проведены работы по исследованию причин повышения содержания серы в углеродистом феррохроме и осуществлены меры по ее снижению в сплаве.
Благодаря целеустремленности и настойчивости Друинского было осуществлено внедрение стальных ковшей (без футеровки) для разливки углеродистого феррохрома через нижнее очко ковша. Внедрена завалка шихты на печах, выплавляющих силикохром, с помощью завалочных машин. Вместе с группой инженеров им была предложена конструкция и внедрена в производство электропушка для механизированного закрытия леток феррохромовых печей. Он один из участников освоения и внедрения впервые в стране новой технологии получения среднеуглеродистого феррохрома путем продувки углеродистого феррохрома чистым кислородом в конвертерах.
В марте 1962 г. ЦК КП Казахстана и Казахский Совнархоз направляют его главным инженером на Ермаковский завод ферросплавов (Павлодарская область), строительство которого только начиналось.
Район строительства завода относился к неосвоенным: не имел автомобильных и рельсовых дорог, энергетических сетей и установок, коммуникаций, предприятий строительной индустрии, жилья для строителей.
Село Ермак было в прошлом пристанью на берегу реки Иртыш, к которой была подведена железнодорожная линия для вывоза углей Экибастузского месторождения. Впоследствии ж.д. линия была разобрана. Общая численность населения села в период проектирования завода составляла около 4 тысяч человек, занятых в сельском хозяйстве, учреждениях районного значения и мелких мастерских местной промышленности.
Жилой фонд состоял из 800 домов усадебного типа общей площадью 25 тыс. м2. В 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета Казахстана село Ермак было отнесено к категории городов, но этот акт был чисто символическим.
«Ермак тех лет производил гнетущее, удручающее впечатление, как будто человек попадал в далекое прошлое. Не было ничего: ни нормального жилья, ни теплоснабжения, ни воды, ни канализации, ни надежного электроснабжения, ни бани, ни столовой, ни дорог и тротуаров, ни зелени. Одним словом, сплошные «ни». Ночью из-за отсутствия электроэнергии город был погружен в сплошную тьму. Нарушал тишину лишь лай собак. Был один примитивный детский садик и старая одноэтажная деревянная школа. Вокруг — одни землянки и ни одного кустика, ни одного деревца… Не на чем глазу остановиться…» — так описывает Друинский свое знакомство с Ермаком.
И здесь предстояло построить завод, крупнейшую ГРЭС, мощные заводы стройиндустрии, а также канал «Иртыш — Караганда», который брал начало в Ермаке. Здесь предстояло построить и город!
С чего начинать? Вместе с директором завода В.В. Боровиченко и руководителями строительного управления был пересмотрен титульный список на сооружение объектов завода и города, с целью ввода в 1962 г. жизненно-важных объектов для быстрого улучшения условий жизни населения. Далее, с учетом опыта, приобретенного Друинским в командировках на Запорожский и строящийся Алмазнянский заводы ферросплавов (Украина), было предложено внести существенные изменения в проект электроплавильного цеха № 2 Ермаковского завода, проектирование которого велось институтом «Гипросталь», и который должен был первым построен на заводе.
Основное содержание их сводилось к изменению некоторых конструктивных параметров печей (увеличение диаметра и глубины ванны и диаметра распада электродов). Однако это правильное (с технологической точки зрения) решение влекло за собой то, что 1300 тонн строительных металлоконструкций оказались бросовыми. Тем не менее, руководство завода пошло на это непопулярное среди строителей решение, однако до этого директору и главному инженеру пришлось вынести натиск строителей, обвинения в задержке строительных и монтажных работ, угрозы Республиканского Комитета народного контроля о передаче дела в следственные органы.
М.И.Друинский и В.В. Боровиченко устояли перед этим мощным натиском, а потом был настолько удачный пуск завода и досрочное освоение проектных мощностей, что директор ЦНИИЧМ им. И.П.Бардина, академик Н.П. Лякишев признал: «Ермаковский завод ферросплавов является единственным из заводов, где столь успешно был проведен пуск и освоение закрытых ферросплавных печей».
М.И.Друинский многое сделал по созданию коллектива эксплуатационников, обучению рабочих и инженерно-технических работников профессиям электрометаллургического производства, что позволило успешно осваивать технологию производства, а его глубокие инженерные знания, замечательные организаторские способности, большой производственный и жизненный опыт особо проявлялись в трудных и критических ситуациях.
Так, летом 1967 года на строительной площадке завода уже было собрано 2000 строителей, монтажников и металлургов-эксплуатационников с тем, чтобы обеспечить ввод в действие первой очереди завода в установленный Правительством СССР срок, но проведенный анализ показал, что технически эту задачу в срок решить нельзя. Можно было обеспечить ввод всех объектов, кроме оборотного цикла технической воды, а без этого цикла пуск плавильного цеха в январе 1968 года был невозможен.
Тогда М.И. Друинскии взял на себя ответственность осуществить пуск первых двух печей без этого цикла, путем подачи технической воды для охлаждения печей непосредственно с насосной станции первого подъема, расположенной в 7 км от завода на реке Иртыш. Проектным отделом завода по заданию Друинского были выполнены рабочие чертежи, которые были выданы в производство строителям и монтажникам, но когда техническая документация была готова, представители генерального проектировщика — института «Гипросталь» отказались ее утверждать, ссылаясь на то, что в этом случае они не могут гарантировать работу завода без аварий.
Тогда М.И. Друинскии единолично утвердил документацию сам, и сам провел пуск завода настолько успешно, что результат превзошел самые оптимистические прогнозы и ожидания.
Завод начал работать. Первая плавка состоялась 18 января 1968 г., и вновь Друинский — участник первой плавки, как и ровно 25 лет назад на Актюбинском заводе. Только тогда он был рядовым участником, а теперь — руководителем, тогда — горновым, теперь — главным инженером. Изменения, внесенные по предложению Друинского в проект цеха и завода, начали давать плоды: через 5–6 месяцев (вместо норматива — 2 года) после пуска печи стали выходить на проектную мощность.
К июню 1970 года был полностью введен в действие плавильный цех № 2, в составе 8 печей мощностью по 16500 KB А каждая, и несколько вспомогательных цехов завода. Завод давал важную для народного хозяйства страны продукцию. Началась отгрузка ферросплавов и на экспорт.
Параллельно с основным производством под руководством Друинского начали проводить научно-исследовательские работы, в которых участвовали инженеры экспериментального цеха, центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) и плавильного цеха.
Во всех работах Друинскии принимал участие не только как руководитель, но и как непосредственный исполнитель. Он выполнял расчеты шихт для плавки различных сплавов, разработал оптимальные электрические режимы для плавки. Большой личный вклад внес он в разработку теоретических положений совместного восстановления оксидов при получении комплексных сплавов, разработку технологии их производства с использованием высокозольных каменных углей Экибастузского месторождения в качестве восстановителя при плавке. М.И. Друинский обобщил свои научные исследования в диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата технических наук и в 1979 г. успешно защитил диссертацию.
Строительство завода интенсивно продолжалось. В июне 1974 года был введен в эксплуатацию плавильный цех № 4 такой же мощностью, как и цех № 2.
Друинский ставит перед инженерами завода новые задачи и возглавляет работу, в ходе которой электрики завода, в сотрудничестве с Московским предприятием «Энергопромремонт», в течение нескольких лет заменили обмотки трансформаторов всех печей плавильных цехов №№ 2 и 4 и таким образом довели мощность трансформаторов каждой печи с 16500 до 21000 KB А. Это стало еще одной важной предпосылкой для досрочного освоения проектных мощностей. Более того, на отдельных печах освоение проектных мощностей достигало 110–115 %.
Благодаря этому в 1974 году завод из планово-убыточного стал рентабельным предприятием. И это при столь низких оптовых ценах на ферросплавы в то время!
Наряду со своим непосредственным делом — техникой и технологией, Друинский много внимания уделял строительству жилья и объектов соцкультбыта. Благодаря ему началось проектирование и строительство Дворца металлургов со зрительным залом на 800 мест, закрытого плавательного бассейна с дорожкой 25 м, больничного комплекса с поликлиникой, которые были построены в сжатые сроки.
Друинский вынужден был заниматься и организацией проектирования и строительства и объектов теплоснабжения, водоснабжения и канализации города Ермака и всего промышленного района. Что представляли из себя сооружения, так лаконично названные словом «объекты»?
Теплоснабжение — это районная отопительная котельная в составе 8 водогрейных котлов общей мощностью 480 ГИГА калорий в час с комплексом теплосетей. Водоснабжение — это сложное гидротехническое сооружение с водозабором из канала «Иртыш-Караганда» и водозаборными сетями. Канализация — это несколько станций перекачки хозфекальных стоков с напорным коллектором протяженностью 28 км, внутригородскими сетями, системой механической и полной биологической очистки. Сооружения рассчитаны на город с населением 50 тыс. жителей с перспективой роста до 100 тыс. человек.
…Завод продолжал расширяться. В феврале 1979 года был введен в эксплуатацию плавильный цех № 1 в составе 6 закрытых печей мощностью по 33000 KB А каждая, а в начале 1980 года — печь № 61 плавильного цеха № 6 мощностью 63000 КВА. Затем ежегодно вводилась одна печь и в 1983 году цех № 6 был введен в эксплуатацию полностью (4 печи по 63000 КВА каждая). Печи такой мощности и конструкции для производства ферросплавов были ведены в стране впервые и, естественно, на первых порах возникли трудности в их освоении.
За время работы главным инженером Ермаковского завода ферросплавов Друинским М.И. была решена масштабная задача: создание крупнейшего завода по производству ферросплавов и досрочное освоение его проектных мощностей. Большой вклад он внес и в решение другой, не менее важной задачи: создание современного города Ермака с развитой инфраструктурой.
В октябре 1980 года в Павлодарском индустриальном институте организовывается новая кафедра «Машины и технология литейного производства» и Друинский избирается ее заведующим.
Начался новый период его трудовой деятельности. И вновь как в Ермаке: начинать надо было с нуля. Он провел большую работу по созданию кафедры. В короткий срок создал работоспособный педагогический коллектив и подобрал опытный учебно-вспомогательный персонал в основном из сотрудников литейного производства Павлодарского тракторного завода. Были созданы и оснащены учебные и научно-исследовательские лаборатории, лекционные аудитории были оснащены современными техническими средствами обучения. Разработаны методические руководства к лабораторным работам, курсовому и дипломному проектированию, программы производственных практик. Друинский целенаправленно вел работу по улучшению качества подготовки специалистов, внедрял новые методы обучения, им был Создан филиал кафедры на Павлодарском тракторном заводе, где ведется целевая подготовка будущих инженеров по заказам предприятий.
В литейной лаборатории кафедры, оснащенной необходимым полупромышленным оборудованием, позволяющим изготавливать отливки массой до 200 кг, выполнялись заказы предприятий по изготовлению наукоемкой продукции.
М.И. Друинский создал кафедру, представляющую собой высококвалифицированный работоспособный коллектив, обеспечивающий подготовку инженерных кадров на высоком уровне.
В 1992 году Комитет по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации присвоил Друинскому М.И. ученое звание профессора.
Его производственная, научная и педагогическая деятельность (проработал он 52 года) свидетельствуют о большом вкладе, который он внес в развитие производства, науки и высшей школы Советского Союза и Казахстана».
Немного больше о сути и терминологии
Мне хочется, чтобы читатели, многие из которых не представляют, как выглядит завод и чем занимаются металлурги, образно представили, что именно Друинский делал, хочется более зримо показать тяжесть стоявших перед ним проблем. Простите, если у меня это не получится и этот текст окажется для вас лишним, но я буду стараться.
Суть металлургии ферросплавов. В природе металлов в чистом виде практически нет, все они находятся в виде химических соединений с кислородом, серой или другими элементами. И для того, чтобы получить металл в том виде, в котором мы его используем, его нужно «оторвать», скажем, от кислорода или серы.
Черная металлургия сначала отрывает от кислорода железо, а затем долго с железом возится в жидком виде. Чистит его от нежелательных примесей, добавляет в него улучшающие свойства железа химические элементы (легирует его), из затвердевшего железа (которое уже называется сталью) катает балки, листы, проволоку, трубы и в ряде случае еще и наносит на их поверхность различные покрытия. Черная металлургия СССР производила стали больше, чем какая-либо иная страна мира, и работало в отрасли 3 млн. человек.
Те химические элементы, которые добавляются к стали, также находятся в природе в виде соединений и прямо из природы для добавления к стали не годятся, их тоже нужно выделить из окислов. Этим в составе черной металлургии занимаются ферросплавщики. Они отрывают нужный элемент от кислорода, вернее наоборот — кислород от нужного элемента, и сплавляют этот элемент с железом, получая железный сплав (ферросплав). Сплавляют нужные элементы с железом чаще всего потому, что для черной металлургии в чистом виде химические элементы получать не только очень дорого, но и очень невыгодно — они очень сильно угорают при введении их в сталь.
Из всех химических элементов, которые используются для легирования, три отличаются своей универсальностью и огромным объемом производства — кремний, марганец и хром. Первые два присутствуют практически в любой стали, а хром — в любой качественной стали.
Издалека процесс получения ферросплавов кажется проще пареной репы. Возьмем производство ферросилиция — сплава железа с кремнием (кремния в этом сплаве в зависимости от марки от 12 до 80 %). Есть в природе такой минерал — кварцит, в нем где-то в среднем 97 % двуокиси кремния — химического соединения, в котором один атом кремния удерживает два атома кислорода. При нормальной температуре кремний этот кислород не отдаст. Но если рядом с молекулой двуокиси кремния положить два атома углерода и начать нагревать, то с ростом температуры сила, с которой кремний удерживает кислород, ослабевает, а сила, с которой углерод может удержать кислород, растет. И при достижении нужной температуры атомы углерода отрывают от атома кремния по одному атому кислорода, образуют с кислородом газообразное соединение моноокись углерода (угарный газ), который улетает из зоны реакции, а свободный атом кремния уходит в жидкий сплав. Что может быть проще? (Точно так же можно описать производство всех ферросплавов). Но, к сожалению, эту реакцию всем металлургам хочется провести, да редко получается провести ее хорошо.
Проблемы технологии. Давайте поговорим немного о месте, в котором ведут химические реакции получения ферросплавов.
Я уже плохо помню необходимые числа, поэтому пусть меня извинят металлурги за неточности в описании параметров. Ферросплавный цех можно представить себе в виде 9-14 этажного здания, примерно метров 50 шириной и метров 200 длинной. Внутри в длину оно разделено на две части, на два пролета — печной и разливочный, названия пролетов говорят сами за себя. В разливочном пролете, вдоль которого расположены колонны, несущие высоко вверху рельсы крановых эстакад, мостовые краны переносят пустые ковши и ковши с металлом, разливают металл в Чугунные плоские емкости — изложницы, либо ставят ковши на опрокидыватели разливочных машин. Тут же таким же способом Перемещаются короба с металлом и с различными нешихтовыми материалами, поступающими в цех. Краны называются мостовыми, поскольку как мост переброшены с одной эстакады на другую, сами они перекатываются по рельсам вдоль пролета, а по мосту крана катаются поперек пролета две крановые тележки с лебедками для подъема грузов.
Цеха, в которых процесс получения сплавов сопровождается большим количество шлака (при производстве ферросилиция шлака очень мало, около 2–3 % от веса металла), имеют и шлаковый пролет (у нас в Ермаке в цехе углеродистого феррохрома шлаковый пролет был под открытым небом). В шлаковом пролете такие же мостовые краны обрабатывают шлаковни (короба, отлитые из толстого чугуна) с жидким и затвердевшим шлаком, вываливая шлак из последних в думпкары (самоопрокидывающиеся железнодорожные платформы).
В печном пролете находятся печи, обычно не более 8. Чтобы представить себе печь, возьмите реально или мысленно кастрюлю — это кожух печи, но выполняется он сварным методом из листов 10-20-мм стали. Диаметром кожух до 12 м и в высоту до 6 м. Теперь возьмите сахар и его кусочками плотно и ровненько заложите дно кастрюли примерно на треть ее высоты — это подина или под печи. В реальной печи подина выкладывается огнеупорами — угольными блоками или магнезитовым кирпичом. Теперь обложите сахаром внутренние стенки кастрюли на всю оставшуюся высоту примерно на четверть диаметра — это стены печи. Весь сахар (подина и стены) будет моделировать то, что на печи называется футеровкой, т. е. тепловой защитой, а металлурги, глядя на вас, скажут, что вы отфутеровали кастрюлю.
На уровне подины к наружной поверхности печи в футеровке делается сквозной канал. По нему из печи будут вытекать образующиеся на подине печи в ходе плавки металл и шлак. Этот канал называется леткой, место, в котором летка выходит из наружной стенки печи, называется горном печи, а металлурги, обслуживающие горн (вытекающие металл и шлак из печи), называются горновыми. Работают они на втором этаже печного пролета, который обычно расположен в 2,5–4 м от пола цеха и называется либо площадкой горновых, либо «отметкой» с указанием числа метров от уровня земли (все этажи в цехе принято называть так — «отметка»). Выше (если считать пол первым этажом, то на третьем этаже) на уровне верхнего среза нашей кастрюли (кожуха печи) находится площадка плавильщиков, которую можно называть и колошниковой (об этом ниже). На этой площадке находится пульт управления печью и работают металлурги, которых называют плавильщиками, поскольку их задача выплавить из сырья металл.
Город Актюбинск, 1956 год. Обер-мастера М. Друинский (слева)
и И. Галаган у печи на колошниковой площадке, На заднем плане
виден колошник печи весь в пламени догорающих газов. Под
зонтом виднеется электрододержатель первого электрода, справа,
на рельсах, — завалочная машина Плюйко
Внутренний объем вашей кастрюльки, образованный сахарным подом и стенами, а в настоящей печи — огнеупорной футеровкой, называется ванной печи. Поставьте в ванну три бутылки (если влезут), а лучше три бумажных цилиндра так, чтобы между ними и футеровкой было примерно одинаковое расстояние. Этими цилиндрами вы смоделируете расположение электродов. На самом деле электроды подвешены над ванной и каждый из них может перемещаться вверх или вниз. По электродам в ванну вводится электрическая мощность. Очень большая. (Забегая вперед, и для сравнения скажу, что тот завод в Ермаке, который построил М.И. Друинский, потреблял мощность, которую должны были бы выработать три такие электростанции, как знаменитая Днепрогэс, и этой мощности хватило бы, чтобы очень ярко осветить все квартиры города с 3–4 млн, жителей.)
Электроды состоят из кожуха, выполненного из стали толщиной 3–5 мм, внутрь кожуха засыпается электродная масса. По мере нагрева эта масса сначала размягчается, заполняя кожух, а затем коксуется, превращаясь в твердый угольный цилиндрический блок, диаметром (в зависимости от мощности печи) от 0,9 до 2 м. И по этому блоку внутрь печи вводится электрический ток силою от 40 до 100 кА (килоампер). В быту лампочка в 100 ватт считается достаточно яркой, а по ее спирали идет ток менее 0,5 А, т. е. через каждый электрод проходит ток, способный зажечь до 200 000 лампочек, но между электродом и находящимся на поде печи металлом этот ток зажигает электрическую дугу, температура которой около 10 000°. Вот этими дугами и нагревается то, что подается в печь. Теперь об этом.
Продолжим моделирование. Возьмем рис и будем считать, что это руда для получения кремния — кварцит, возьмем гречку, которая смоделирует кокс, возьмем пшено, которому поручим обозначать железную стружку, смешаем все крупы и засыплем доверху в ванну, в пространство между футеровкой и электродами.
Отдельный компонент — это сырье, а вот их тщательно отдозированная смесь для получения металла называется шихтой. Для подачи в печь шихта тщательно дозируется мелкими порциями и делается это так: в специальные весы сначала засыпается (к примеру) 300 кг кварцита, затем 90 кг кокса, затем 50 кг стружки (все компоненты шихты) — и так порция за порцией. Каждая порция называется колошей. Поэтому поверхность шихты в печи — место, куда подаются (вручную или механизированно) колоши, — называется колошником.
Думаю, что для начала терминологии хватит, новую буду пояснять по ходу повествования.
Темная металлургия
В биографии Друинского для меня невероятна та скорость, с которой он повышался в цеховых должностях. В январе 1943 на Актюбинском ферросплавном была пущена первая печь, и 17-летний помощник горнового Миша Друинский впервые увидел, как она работает, а всего через год, в мае 1944-го он становится бригадиром печи! Мало этого, он вспоминал: «В августе 1943 года была введена в эксплуатацию электроплавильная печь № 3, бригадиром в нашей смене был назначен 18-летний Александр Макшаев…». А в июле 1945 года Друинский уже мастер блока печей!
Для меня невероятна та скорость, с которой он стал бригадиром ферросплавной печи — «бугром», как у нас называют бригадиров. У нас на Ермаковском заводе ферросплавов тоже был
Город Актюбинск, Казахстан, завод ферросплавов. 1944 год.
Бригадир печи (старший плавильщик) Миша Друинский.
Фото с Доски почета
ужасный период, когда из даже явно недостаточной штатной численности в 5 тысяч человек на заводе не хватало около тысячи. Было уже пущено не 3 как тогда в Актюбинске, а 26 печей, а работать на них было некому. Идешь по цеху, а везде ребята, которые по возрасту еще в армии не служили или только вернулись, редко увидишь более-менее солидного мужчину. И у нас тогда были очень молодые бригадиры, но все же это были мужчины, пожалуй, не менее 25 лет, со стажем работы у печи хотя бы 4–5 лет. Все имели среднее образование, всех обучали около года в заводском ПТУ (производственно-техническое училище). Представить себе «бугра» в 18 лет, как А.Макшаев или как сам Друинский в 19 лет, я не могу даже со скидкой на войну.
Когда-то я со злости шутил, что черную металлургию следовало бы называть «темной металлургией», поскольку, пожалуй, ни одна отрасль человеческой деятельности не отличается такой слабой доступностью к замерам параметров, как восстановительные процессы в металлургии — как доменное и ферросплавное производство. Даже медицина, даже человек, и тот более доступен изучению, чем эта чертова ферросплавная печь.
Процесс я вам выше описал и на бумаге он очень прост: оторви в руде от атомов металла атомы кислорода — и готово. Но в жизни в печь даются не чистые окислы, а руды, которые в залежах никогда не имеют одного и того же содержания металла по всему объему месторождения. И ты полагаешь, что двуокиси кремния у тебя в кварците 97,5 %, и в среднем по заводскому складу кварцита это так и есть, но в той порции, которая именно сейчас поступила в печь, ее может быть и 95 %, и 98 %. В печь даются не атомы углерода, а коксик, а в нем, кроме углерода, содержатся и зола, и летучие, и влага, и очень много влаги, если полувагоны с коксиком по пути вымочил дождь. Ты взвешиваешь 100 кг коксика, полагая, что даешь в печь 80 кг чистого углерода, а на самом деле можешь дать всего 70 кг, если эта порция коксика оказалась и очень влажной, и очень зольной, и 90 кг, если грейфер захватил порцию с дальнего угла склада, где коксик давно лежал и хорошо подсох.
А если ты не можешь ввести в печь точное количество углерода, то его недостаток или его избыток начинают менять ход химических реакций, и это приводит к тому, что ты не можешь получить из печи заданное количество металла. Себестоимость металла начинает переваливать за тот предел, что тебе определен, твоя работа на печи становится неимоверно тяжелой и все это приводит к тому, что ни ты, ни твои товарищи не получат тех денег, которые могли бы получить.
Химия тут вкратце такова. Если ты ввел в реакцию углерода меньше, чем нужно, то часть окислов кремния будет недовосстанавливаться, превращаясь в газ и уходя из печи в атмосферу и унося с собой ту электроэнергию, которую печь затратила на этот процесс. Часть окислов образует вязкий шлак, который с одной стороны, будет перекрывать изнутри ванны летку, не давая выходить металлу, поднимая его уровень в печи и давление его на стены, а с другой стороны, окислы этого шлака будут реагировать с угольными блоками футеровки печи и в конце концов размоют ее. Металл начнет литься через стены и будет тяжелейшая авария. Это только одна из десятков, а то и сотен неприятностей, которые последуют одна за другой и все вместе, если у тебя в печи недостаток углерода.
А если его избыток, то список неприятностей не намного короче, и тяжесть последствий от них не намного меньше.
Так в чем же дело? — скажете вы. Замеряйте по ходу процесса, сколько в печи углерода и окислов, и соответственно корректируйте процесс. Хотелось бы, очень хотелось бы, да нечем замерить. Я 14 лет читал всю литературу по этому вопросу, сам думал, но, по-моему, и до сих пор ситуация та же. В печи в районе электрических дуг температура 10 000°, как на поверхности Солнца, металл очень агрессивен, растворяет любую сталь так быстро, что и глазом не успеешь моргнуть, даже огнеупорная футеровка (стены и подина) выдерживают эти температуру и агрессивность жидкого металла только потому, что изнутри печи футеровку защищает полурасплавившаяся шихта, ее называют гарнисажем. Возьмите толстую свечу и зажгите. Вскоре под пламенем свечи, которое смоделирует нам электрические дуги в печи, образуется лужица жидкого парафина и она не будет вытекать из центра, поскольку ее удерживает от этого еще не расплавившийся парафин наружной части свечи. Так и в печи, но только ни дуги, ни металла, ни идущих процессов не видно, поскольку и сверху все закрыто толстым слоем шихты. Для того, чтобы понять, что происходит в печи, процесс нужно как-то замерить, а замерить его, повторю, нечем.
И остается смотреть на печь снаружи и гадать, что же этой заразе сейчас нужно: то ли кокса дать, то ли кварцита, то ли электроды перепустить (удлинить их), то ли напряжение поднять. Если угадаешь, то печь улучшит свою работу и ты с премией, если не угадаешь, то положение на печи станет еще хуже, и тогда прощай производственная премия, а это треть твоего заработка. И не только твоего, а и твоих товарищей, возможно, и всего цеха, не исключено, что и всего завода.
Поэтому в ферросплавной отрасли как нигде важен опыт работающих на печах металлургов, только их опыт дает возможность предугадать изменение процесса в печи и вовремя принять необходимые меры — металлургия держится на цеховых металлургах. Если опытных металлургов нет, то никакие академики тут ничем помочь не смогут. Это проверено.
Но что такое опыт? Это годы запоминания тончайших оттенков изменения ситуации на печи. Вот бригадир смотрит на печь, оценивает все, что видит, и память ему подсказывает, что когда-то такое уже было, и он тогда сделал так и так, и у него получилось. Или наоборот — не получилось. Исходя из тех воспоминаний, он и действует, чаще всего правильно, если опыт велик и бригадир внимателен и учел все нюансы. Но бывают и ошибки — тогда это уже новый опыт.
Пламя
Чтобы было понятно, о каком опыте я веду речь, расскажу немного о своей истории. Итак, попал я на Ермаковский завод ферросплавов по распределению с твердым намерением как можно быстрее смотаться отсюда домой в Днепропетровск, а тогдашний директор П.В. Топильский выдумал мне дурацкую должность «помощник мастера плавильного цеха», — такой должности не было в штатном расписании завода, по-моему, ни до меня, ни после меня. В кладовой плавильного цеха № 4, не зная толком, что мне полагается, на всякий случай одели меня в суконную робу плавильщика, обули в валенки, выдали войлочную шляпу, синее стекло и начальник цеха передал меня на руки мастеру Гаррику Енину и начальнику смены Алексею Хегаю. Те поухмылялись моему бравому виду, показали, как прикрепить стекло к шляпе, посоветовали вместо суконных штанов и валенок одеть что-нибудь полегче и, делать нечего, начали натаскивать меня на работу в цехе. Должности такой не было, посему и обязанностей у меня не было, а ошиваться в цехе бездельником было трудно. Передали они мне все сменные расчеты, но считал я быстро и эти расчеты у меня не занимали и получаса. Поручали разобрать завалы на транспортерных лентах, посылали с различными поручениями по цеху и заводу, и, само собой, брали меня во все свои цеховые обходы, показывая, что нужно делать, как и почему.
Отличать хорошо работающую печь от плохо работающей (расстроенной) научился быстро, поскольку это достаточно очевидно. Печи были открытые, и я уже описывал вид колошника — это круг, диаметром около 6 м, в который воткнулись три столба диаметром 1200 мм — электроды. Так вот, этот круг имеет вид костра, он весь пылает пламенем догорающего над колошником угарного газа. Если печь работает нормально, то это вид спокойно горящего костра, который только что покрыли свежими дровишками — поверхность не раскалена, а между кусочками шихты по всей поверхности колошника выбивается спокойное пламя. Если печь расстроена, то колошник становится похожим на костер, раздуваемый сильным ветром — пламя становится жестким, в некоторых местах оно выбивается яркими белыми струями — это так называемые «свищи».
Вот подходим с Ениным к пультовому помещению 42-й печи, за пультом сидит бригадир, что-то пишет в плавильный журнал. Говорит Гаррику:
— Гарри Иванович, похоже, печь начинает кварцеваться, давай добавим килограмм 10 коксика в калошу.
Кварцевание — это термин, означающий, что в печи не хватает углерода, и бригадир предложил дать команду дозировщице, отвешивающей порции шихты (колоши), увеличить навеску коксика в каждой колоше на 10 кг. Прежде всего смотрим в журнал — на печи такая же навеска коксика, как и на остальных. Смотрим на индикатор напряжения — напряжение обычное рабочее для этой печи. Тут дело в том, что в подаваемой в печь шихте кварцит является электрическим изолятором, железная стружка быстро плавится и почти не участвует в переносе электрического тока, главным проводником тока является коксик. Если его мало, то электросопротивление шихты должно возрасти, ток упасть, и чтобы его сохранить, бригадир мог повысить напряжение на электродах. Но он этого не сделал. Смотрим на амперметры — на всех электродах автоматика держит 1200 ампер на высокой стороне трансформаторов — номинал. Если сопротивление печи из-за нехватки углерода возросло, а напряжение не поднято, то автоматика начнет просаживать электроды в глубь печи. Через окно смотрим на кольца электродержателей, на которых висит электрод. Они в нормальном, среднем положении. То есть по тем данным, что на печи можно замерить, ничто не говорит о том, что в ней не хватает углерода. Выходим на колошниковую площадку, Гаррик и бригадир смотрят на пламя (ну и я, само собой), Гаррик «чешет репу» и командует бригадиру.
— Пожалуй дай килограмм 5 в колошу и 300 под стены. Бригадир уходит звонить дозировщице, а я спрашиваю.
— Гаррик, с чего это вы с бригадиром взяли, что в печи не хватает кокса?
— Ну, ты же видишь, что пламя побелело.
— Нет, ничего не вижу, — сообщаю я, пялясь на пламя.
— Ну, как же не видишь, раньше пламя было соломенно-желтого цвета, а сейчас побелело.
— Гаррик, ты давно видел солому? Она же в натуре самых различных оттенков.
— Ну, это так принято говорить, а на самом деле оно такого цвета, как на хорошо работающей печи. Вон 43-я хорошо работает, видишь какое у нее пламя? — Я смотрю на колошник печи № 43, перевожу взгляд на колошник 42-й и не могу заметить никакой разницы. — Ну, ладно, еще привыкнешь, — успокаивает Енин.
Идем по колошниковой площадке закрытых печей с М. Д. Сисько. У закрытых печей большая часть колошника закрыта сводом — Плоскими стальными коробками, защищенными с внутренней части огнеупорным бетоном. Внутри эти коробки специальными перегородками разделены на каналы, по которым циркулирует охлаждающая свод вода. Поэтому пламя на этой печи горит только в узких кольцевых щелях между сводом и электродами. Через эти щели в печь загружается шихта. У закрытых печей образующийся в ходе плавки угарный газ отсасывается из-под свода и потом либо сжигается в топках котельных, либо дожигается в специальных устройствах («свечах») высоко над крышей цеха. Михаил Дмитриевич смотрит на печь и подзывает бригадира.
— У тебя в печи вода.
— Вижу, думаю, что это сочится из контура б-й секции, уже вызвал слесарей, подойдут, тогда отключусь и проверю. Может удастся запарить.
Поясню проблему. Вообще-то немного воды поступает в подсводовый объем печи вместе с шихтой в виде влаги, в основном, коксика. В печи она испаряется, часть воды восстанавливается углеродом, то есть атом углерода отбирает у аш-два-о атом кислорода, оставшаяся молекула водорода, состоящая из двух атомов, — это газ, и этот газ добавляется к угарному газу, выходящему из шихты. И если других источников попадания воды в печь нет, то водорода в газе немного и он не представляет собой проблемы.
Но в закрытой печи над поверхностью колошника находится свод, по сути состоящий из десятков отдельных водонесущих контуров. И их целостность может быть нарушена по разным причинам: из-за расстройства технологии с поверхности колошника могут бить свищи раскаленных газов, которые проплавляют водоохлаждаемый элемент свода; температурные напряжения могут вызвать трещины сварных швов и прочее. И тогда из этих дыр и трещин в своде внутрь печи начинает поступать вода, иногда струйкой, иногда струей. После этого содержание водорода в печном газе резко повышается. И тут две проблемы.
Первая незначительна. Мы вводим коксик и электроэнергию в печь, чтобы получить нужный нам металл, а не для того, чтобы испарять и восстанавливать воду, то есть вода в печи удорожает нам продукцию. Но это чепуха по сравнению с другой проблемой.
Под сводом печи поддерживается избыточное давление печного газа, чтобы в печь не проник снаружи воздух. Если образующийся угарный газ смешается с кислородом воздуха, то образуется взрывная смесь, которая при наличии пламени не загорится, а взорвется. Спасает положение то, что нужно довольно много воздуха в угарном газе или довольно много угарного газа в воздухе, чтобы такую смесь образовать, т. е. у этой смеси довольно высокие пределы взрываемости. А вот с водородом шутки плохи.
Его пределы взрываемости очень низкие, при обычном поступлении влаги в печь (с шихтой) они ниже, чем нужно для взрыва, и печь в этом смысле безопасна. Но если в печь начинает поступать вода в большом количестве, то концентрация водорода в газе поднимается над пределами взрываемости и остается ждать, когда под свод засосет воздух, а такое, к сожалению, случается нередко. Тогда под сводом происходит взрыв.
Чтобы как-то погасить его силу, в своде делается несколько больших люков, прикрытых тяжелыми крышками, при взрыве эти крышки должны быть выбиты взрывной волной и принять на себя часть энергии взрыва. За мою бытность на заводе на закрытых печах мощностью 16,5-21,0 МВА такие взрывы (их называют «хлопки») были регулярно, но человеческих жертв не было.
А вот на печи мощностью 63 МВА уже в 80-х произошел взрыв с трагическими последствиями. Когда я утром пришел на печь, то картина была ужасна — элементы свода и зонта были разворочены так, как будто в печь попала бомба. Выяснилось, что в конце смены с 16.00 до 0.00 в печь начала поступать вода. Вместо того, чтобы остановить печь и найти течь, начальник смены и бригадир решили дотянуть до конца смены и передать эту работу сменяющей их бригаде. Не дотянули. Бригадира спасти не удалось, он погиб на месте, начальник смены обгорел так, что стал инвалидом, получил тяжелые ожоги еще один рабочий.
Обычно после того, как найден тот водоохлаждающий элемент, из которого в печь поступает вода, подачу воды на него перекрывают, стараясь доработать до планово-предупредительного ремонта, на котором эту часть свода заменят. Но если течь невелика, то есть отверстие или трещина в водонесущем контуре невелики, то их сначала пытаются забить изнутри, эта операция называется «запарить». Меня несколько умиляло, что для этой цели применялась горчица, порошок которой выпрашивали у поваров в столовой. Ее всыпали в водоподающий шланг поврежденного контура, вытекая из трещины горчица засоряла ее и порою останавливала течь.
Вот это суть разговора старшего мастера Сисько с бригадиром, но меня в этом случае интересовало другое. Приборы, непрерывно отслеживающие содержание водорода в отходящем из печи газе, были установлены в пультовом помещении печи, а мы с Сисько (его прозвище на заводе — «Дед») в это помещение не заходили и их не видели.
— Михаил Дмитриевич, а как ты узнал, что в печи вода?
— Так ведь водород высокий.
— А как ты узнал, что он высокий?
— Так ведь пламя фиолетовое.
У Сисько была привычка при разговоре с собеседником внимательно заглядывать ему в лицо, как бы проверяя, понял тот то, что сказал Сисько, или нет? Я смотрю на пламя и не вижу в нем ничего фиолетового — пламя как пламя. Дед понял, что я ничего не понял, и легко (он был худой и жилистый) вскочил на свод, я за ним. Сделали несколько шагов к воронке, из которой выбивалось пламя. Дед начал показывать мне пальцем.
— Вот видишь язычок взметнулся фиолетовый? И вот… и вот… и вот. Видишь?
Пока Дед показывал, я видел эти язычки пламени фиолетового оттенка, Дед опустил руку, и заметить их становилось трудно. Дед заметил мое сомнение и крикнул плавильщику подать ему лопату. Показал мне наружную сторону совка.
— Видишь — поверхность сухая?
Да, действительно, сталь совка лопаты была сухая. Дед быстро провел совком над пламенем и тут же показал мне.
— А теперь видишь, какая она?
На поверхности совка, там, где ее только что облизало пламя, явственно проступило влажное пятно. Дед, возможно и сам об этом не догадываясь, продемонстрировал мне что-то вроде школьного опыта, объясняющего, почему газ водород назван «рождающим воду». Соединяясь при горении с кислородом, водород образует воду, а ее пары конденсировались на холодном лезвии лопаты, покрыв ее испариной. Дед подытожил.
— Если у тебя возникают сомнения в том, какой водород в печи, а газоанализатор будет неисправен, и по цвету пламени ты ничего понять не сможешь, то сделай так.
Я рассказал два случая всего лишь об одном параметре из многих десятков, по которым металлург оценивает состояние печи прежде, чем принять решение. Вот посмотрите на пламя зажигалки или спички, много ли информации вы получите, даже если и заметите изменение оттенков в нем? А ведь еще есть приемы выполнения работ, которые могут не встречаться много лет подряд, а потом их придется выполнять в считанные секунды.
Опытный рабочий
Такой вот пример. В смене с 0.00 до 8.00 возвращались мы с Гарриком Ениным с обеда и уже на печи № 41 нам сообщили, что на 43-й только что сгорел ковш. Вообще-то термин «сгорел» технически неграмотен, ферросплавный цех проектируется, строится и защищается так, чтобы в нем было как можно меньше того, что может гореть, т. е. окисляться на воздухе с выделением большого количества тепла. Но этот термин был на заводе общеупотребителен и описывал ситуацию выхода чего-либо из строя под воздействием высоких температур, а само повреждение было, как правило, расплавлением, иногда в сочетании с растворением. Прогар ковша для сменного персонала — это достаточно значительная авария, поэтому мы с Ениным тут же спустились на нулевую отметку (уровень земли) и пошли по проходам разливочного пролета к той его части, где располагалась технологическая посуда печи № 43. Прежде всего о том, что мы ожидали увидеть.
Ковш похож на стакан конической формы с коротким сливным носком, чтобы сформировать струю металла при выливе его из ковша. Этот «стакан» сваривается из стали 10–15 мм, тот ковш, о котором я говорю, имел высоту около 2 м, верхний диаметр около 1,5 м, нижний около метра. Изнутри ковш и носок футеруется (выкладывается) огнеупорным кирпичом, чтобы его стальной кожух не соприкасался с жидким металлом и чтобы лучше сохранять тепло в ковше. В верхней трети ковш снаружи охватывается поясом жесткости — кольцевой стальной коробкой. Под углом в 90° к носку в пояс жесткости вделаны с обеих сторон мощные стальные катушки диаметром около 150 мм — цапфы. За них краны разливочного пролета цепляют ковши, поднимают их, переносят, переставляют, ставят на тележки и на кантователи разливочных машин.
На мостах кранов вдоль крана (а, следовательно, поперек пролета) перемещаются две тележки с лебедками: одна с очень мощной лебедкой — «главный подъем», вторая поменьше — «малый подъем». На крюке главного подъема висит траверса — мощная поперечная балка, с концов которой свисают два длинных крюка, расстояние между которыми точно такое, чтобы при наезде траверсой на ковш крюки поймали цапфы ковша. Точно такое же расстояние и между цапфами, вваренными в технологические короба (или как их называли в цехе, «банки»), в которых перевозят уже застывшие слитки металла, шлак, мусор, различные сыпучие материалы и прочее. При помощи траверсы крановщик может сам, без помощи снизу зацепить ковш или короб, переместить его и отцепить. Но сам крановщик не может зацепить ковши и короба так, чтобы их опрокинуть.
Для этого внизу ковша с противоположной стороны сливного носка и в 90° от цапф приварена серьга — овальное кольцо из круга диаметром примерно 50 мм. Если нужно слить из ковша металл, то крановщик захватывает траверсой главного подъема ковш за цапфы, а затем опускает крюк с тележки малого подъема, и внизу горновой цепляет этот крюк за серьгу. После этого крановщик поднимает ковш главным подъемом, несет его к изложницам — мощным чугунным мелким корытам, стоящим в ряд вдоль разливочного пролета на высоте около метра над полом, целится главным подъемом, чтобы металл из ковша при сливе попал в изложницу, а затем начинает выбирать малый подъем — начинает тянуть ковш за низ. Ковш своими цапфами начинает проворачиваться в крюках траверсы, наклоняется, и металл по носку льется в изложницу. Залив ее, крановщик приспускает малый подъем, переносит ковш к следующей изложнице и так далее, пока не разольет весь металл из ковша. (Возьмите большим и указательным пальцем стакан с водой сверху, а пальцем второй руки поднимайте низ стакана — это модель того, как разливается металл).
Но подобная разливка по тому времени была уже редкостью, поскольку в цехе были разливочные машины, и крановщик большим подъемом ставил ковш в раму ее кантователя. И уже машинист разливочной машины опрокидывал (кантовал) ковш, сливая металл в непрерывно движущиеся маленькие (около 150 кг весом) изложницы (мульды), закрепленные на цепи, похожей на велосипедную, но только очень большой. Тем не менее большие изложницы все время стояли в цехе — есть они не просили, а разливать металл в них тоже время от времени приходилось.
Летки — сливные отверстия на самих печах — расположены вдоль оси цеха, — и чтобы слить из печи металл в ковш, последний ставится на большую тележку с железнодорожными колесами, стоящую на рельсах. После этого тележка с пустым ковшом из разливочного пролета закатывается лебедкой под печной пролет — точно под сливной носок печи, как бы сбоку по отношению к печи. После выпуска той же лебедкой тележка уже с полным ковшом выкатывалась снова в разливочный пролет, и здесь с ковшом начинает работать крановщик.
Обстановку я вам вроде описал, надеюсь, что у вас хватит фантазии ее представить, чтобы понять нашу с Ениным тревогу и красоту решения, о котором я хочу рассказать.
Какая картина предстала в моей голове и, я полагаю, в голове Енина?
Футеровка ковша должна выдерживать контакт с находящимся в нем жидким ферросилицием. Во время нормального выпуска из печи струя металла падает на дно ковша, там быстро образуется слой жидкого металла и струя перестает бить по футеровке. Но выпуск мог быть и бурным, тогда струя могла бить по стенке ковша у цапфы, она могла размыть и шамот самого кирпича, и глину швов, металл мог просочиться к стальному кожуху ковша и немедленно разъесть его. Дело в том, что жидкий ферросилиций растворяет в себе железо не остывая, а разогреваясь. А у него и так температура на выпуске 1700°, а у стали температура плавления около 1500°, так ведь еще этот процесс растворения стали в ферросилиции идет и с разогревом. Когда небольшой объем жидкого ферросилиция контактирует с холодными и массивными стальными или чугунными поверхностями, то на их поверхности сразу же образуется слой затвердевшего ферросилиция, и этот слой не дает кремнию ферросилиция вступать в реакцию с железом стали или чугуна. Но если жидкого ферросилиция достаточно много и его тепла хватит, чтобы вновь расплавить затвердевшую корочку, то тогда беда — тогда жидкий ферросилиций просто слизывает сталь.
Вот поэтому первое, о чем я подумал, что ковш прогорел во время выпуска на тележке. Но тогда хлещущий из него ферросилиций должен был сжечь и саму тележку, и рельсы, и, не исключено, его лужа на полу могла где-то накрыть лужу воды и тогда должны были последовать сильные взрывы с соответствующими последствиями.
Но когда мы подошли, то телега целехонькая стояла под печью с пустым ковшом, готовым принять очередной выпуск, т. е. самого страшного не случилось.
Стало ясно, что ковш прогорел, когда уже стоял на полу разливочного пролета. Но в этом случае слившийся с него металл должен был образовать лужу площадью метров 100 квадратных. Эта лужа точно подтопила бы еще пару ковшей и банок, подплавив их. Мы огляделись, но ничего подобного не было видно, более того, мы не увидели ни души, хотя, по идее, внизу должны были быть люди, ликвидирующие последствия аварии. Мы уже решили, что бригадир 41-й нас разыграл, но вдруг заметили небольшую лужу ферросилиция, с еще красной центральной частью, на месте, на котором обычно ставятся полные ковши. От нее шли проливы уже застывшего ферросилиция к ближайшим изложницам, а в них лежали еще красные слитки металла, т. е. Практически весь металл из ковша был разлит, а потери его на Полу были 100–150 кг, что для такой аварии пустяки — горновой за минуту уберет, когда все остынет.
Стало веселее, теперь осталось определиться с тем, насколько поврежден сам ковш. Гаррик залез на банку и сверху осмотрел все ковши, чтобы определить по температуре их внутренней части тот, из которого был слит металл недавно. Подошли к нему и сначала вообще не увидели ничего, но затем я под поясом жесткости прямо над серьгой заметил в кожухе проплавленное отверстие, диаметром миллиметров 30, от него внутрь вел еще красный от температуры ход через футеровку. Гаррик обрадовался еще больше: мало того, что повреждение чепуховое, которое сварщик заварит за 5 минут, но и место повреждения было такое, куда не бьет струя металла при выпуске его из печи. То есть виновниками аварии были не только металлурги, а и каменщики, которые плохо отфутеровали этот ковш, причем они — в первую очередь. А это значит, когда утром начальник цеха будет Гаррика дрючить за эту аварию, то Гаррику будет чем оправдываться и на кого показывать пальцем. Каменщики не подчинялись начальнику смены и мастеру, и Енин с Хегаем за качество их работы ответственности не несли.
И тут у меня возник вопрос. Металл в изложницах — значит крановщик разлил его. Но для этого ему нужно было подвесить ковш на обоих подъемах! Траверсой главного подъема он подхватил ковш сам, но крюк малого подъема кто-то должен был зацепить за серьгу ковша. Струя же ферросилиция, бившая из ковша, была хоть и тонкая, но сильная, поскольку на кожухе почти не было подтеков металла, то есть давление в ковше выбрасывало струю довольно далеко. И чтобы зацепить крюк за серьгу кто-то должен был встать напротив бившей из ковша струи ферросилиция с температурой 1700 градусов, и она, судя по всему, должна была литься ему на колени, а сам он должен был стоять в луже жидкого ферросилиция. Но это же невозможно! Не мог человек в таких условиях зацепить крюк, более того, если бы его и зацепили как-то издалека, то струя немедленно разрезала бы и серьгу, и крюк, и цепь, на которой он висит. Место, в котором ковш прогорел, принципиально исключало его кантование, принципиально исключало разливку металла из него. Но металл разлит! Как?!
Енин тоже был в недоумении. Мы немного попялились на ковш, ничего придумать не смогли и поднялись в комнату начальника смены.
— На 43-й ковш прогорел, — сообщил нам Хегай, решивший, что мы только что вернулись из столовой и этого не знаем.
— Слушай, Леша, — спросил Енин, — а как они его разлили?
Алексей Бочунович этого тоже не знал, поскольку ему доложили уже после ликвидации аварии. Мы взяли лист бумаги, начали чертить схемы, но ничего придумать не могли. Наконец мы сдались, и Хегай послал меня за бригадиром 43-й. Я его привел, но когда тот понял, что мы хотим узнать, то начал над нами издеваться.
— Так вы же «инженера», — посмеивался бригадир. — Пять лет в институтах учились, вот и догадайтесь сами.
Хегаю это наконец надоело.
— Ты, партизан хренов, колись, а то тебе сейчас гестапо родной мамой покажется!
Оказалось вот что. Как только крановщик сверху заметил в тени за ковшом свет льющегося металла, то включил звонок, чтобы привлечь внимание печной бригады, подхватил ковш траверсой главного подъема и понес его к изложницам. Здесь он отъехал тележкой главного подъема к печному пролету, чтобы иметь разгон, и начал накатывать ковш на изложницу, одновременно опуская его. От инерции низ ковша отклонился назад, крановщик зацепил углом дна ковша пол и ковш опрокинулся, уперевшись бортом в изложницу. Поскольку уровень жидкости всегда горизонтален, а ковш стоял наклонно, то задняя (верхняя) стенка ковша — та, где была дыра, — вышла из-под металла и течь его в ту дыру прекратилась. Крановщик опустил крюк малого подъема, подбежавший горновой зацепил его за серьгу. Теперь горновой поднял ковш в наклонном положении двумя подъемами и разлил его. Между прочим, от кабины крановщика до дна ковша было метров 20, если бы крановщик ошибся и зацепил ковшом о пол позже, чем нужно, то он ударил бы ковшом об изложницу и выбил бы ковш из крючьев траверсы. Ковш упал бы на бок и весь металл бы выплеснулся на пол. То же самое было бы, если бы он зацепил дном ковша раньше, чем надо было, — он бы поволок ковш по полу и цапфы ковша выскочили бы из крючьев траверсы. Короче, такая операция под силу только опытному крановщику, в связи с чем она и запрещена правилами эксплуатации кранов.
Прошло много лет, я читал лекцию бригадирам печей на заводских курсах повышения квалификации и привел этот случай, как пример творчества рабочих. В ответ бригадиры меня высмеяли: дескать про это каждый дурак знает. Дурак, может быть, и знает, но тогда, в 1973, мы — три инженера, до такого додуматься не могли. Я-то был еще сопляком, но Хегай и Енин работали уже по 3–4 года, однако в их опыте знания о подобном приеме все еще отсутствовали.
Компьютер вместо металлурга
А вот суммирующие примеры. Как я уже написал, где-то в начале 90-х, еще в СССР мы с тогдашним директором Ермаковского завода ферросплавов Семеном Ароновичем Донским слетали в ЮАР.
Так случилось, что вылететь из Цюриха мы смогли только в ночь на пятницу и прилетели к обеду. Принимавший нас ферросплавный концерн, владевший заводами, два из которых мы планировали посмотреть, не стал нарушать свой уик-энд и отправил нас на сафари в национальный парк. Сопровождал нас, кроме представителя концерна, и директор первого завода, который мы должны были посетить в понедельник, — Джордж. (Фамилии не запомнил, а визитку не могу найти). Таким образом, он не был на заводе около трех дней. В понедельник мы прилетели к нему на завод и он показал нам все, что разрешил показать нам концерн. Завод имел две печи, по нашим понятиям уже малой мощности, т. е. был примерно как четверть одного из наших четырех цехов, причем самых маломощных. Правление концерна, конечно, понимало, что работников такого невероятного по мощности завода, как Ермаковский ферросплавный, трудно чем-то удивить, поэтому гвоздем показа было автоматическое управление печей.
Показав и сырье и шихтоподготовку, Джордж завел нас на пульт печей. Пульт выглядел блестяще! Кондиционер, работники в белых халатах, вокруг десятки приборов, лампочки мигают, компьютеры светят мониторами, цифирки какие-то по экранам бегут, сменяясь графиками и диаграммами. Специалист по этому делу гордо пояснил нам, что это последний писк научно-технического прогресса и достижений компьютерной техники. Что с этого пульта компьютеры автоматически управляют обеими печами, выдавая команды на управление процессом. Мы вежливо слушали этот панегирик, но настало все же и время, когда нужно было выйти из пульта и посмотреть на печи — на результат столь блестящего управления. Я уже не помню, были это открытые или закрытые печи, но одна из двух выглядела вполне прилично. Вторая же была в глубоком расстройстве технологии, в таком, что Донской не удержался и сказал мне: «У нас за такую печь старшего мастера снимают с должности и переводят работать горновым». Переводчик, Саша Золотухин, переводить эти слова Джорджу, естественно, не стал. Но Джордж, опытный металлург, и без слов понял, о чем мы подумали, глядя на эту печь. И разразился тирадой примерно такого смысла: «Эти придурки наверху уверены, что печью может управлять компьютер, а не металлург. Вот вам результат!» То есть Джорджа всего три дня не было на заводе, а компьютеры, образно говоря, загнали технологию в такую дыру, в которую мало-мальски опытный металлург ее бы не завел.
Причем не в компьютере здесь дело. Компьютер — прекрасная машина, эта машина может подсчитать за несколько секунд то, что человек не подсчитает и за всю свою жизнь, она может выдать такое количество команд, которое человеку и не снилось. Но для этого нужно, чтобы от печи в компьютер поступило то, что нужно считать в виде какого-либо численного значения, нужно, чтобы все возможные команды были в компьютер заложены. Он ведь сам думать не может, сначала за него должен подумать человек и если параметры в численном виде снять с объекта управления невозможно, а необходимые команды человек еще не придумал, то и компьютер бессилен. Компьютер это помощь человеческим мозгам, а не сами мозги.
Все упирается в кадры
Был у меня случай по теме этого разговора, но сначала предыстория.
С конца 1970-х годов ЕЗФ (Ермаковский завод ферросплавов) оказался в жесточайшем кризисе, о чем я еще буду говорить специально, причем в конечном счете по вине министерства и местных парторганов. Однако Москва никогда не признает своих пакостей, и посему вся вина плохой работы завода всегда валилась на Ермак. Для других это слово пустой звук, а для меня это была моя жизнь, завод для меня не был чем-то абстрактным, а имел формы конкретных людей — моих товарищей, моих друзей, да и вообще всех работников завода и жителей города, среди которых я был своим, и они для меня тоже были своими.
Поэтому я был в то время очень обидчивым, и когда дело касалось завода, как я сейчас понимаю, я всегда пытался любыми путями доказать нашу правоту — ведь это очень обидно, когда тебя считают плохим, тем более, когда тебе очевидно, что это незаслуженно. А в Министерстве черной металлургии уже был введен термин «ермаковщина», означающий крайнюю степень деградации, лени, распущенности и еще бог знает чего нехорошего. Я был еще достаточно молодым, не видел смысла в пресловутой сдержанности и реагировал на подобные оскорбления очень остро. Отвлекусь и дам, как мне кажется, довольно любопытный пример последней такой моей реакции на обиды.
В 1981 году нам на наш завод назначили директором С. А. Донского, как оказалось, выдающегося руководителя, поднявшего наш завод с коленей и выведшего ЕЗФ в один из самых передовых предприятий Минчермета и Казахстана. Лет 7 или 8 наши отношения с ним были не совсем нормальными — он как бы не доверял мне, как бы постоянно ожидал от меня какой-то пакости. В целом на нашей совместной работе это и тогда практически никак не сказывалось, тем не менее и я чувствовал в Донском какую-то настороженность по отношению ко мне. Потом, когда мы, как говорится, съели с ним пуд соли, он несколько раз, смеясь, рассказывал, что когда после своего официального назначения он летел из Москвы в Ермак, то на Ермаковском заводе ферросплавов на тот момент он не знал ни одного человека, но уже знал, что там работает Мухин, и этот Мухин прожженный антисоветчик. А случилось вот что.
В 1981 году я уже год был начальником ЦЗЛ завода — цеха заводских лабораторий или, как неправильно, но традиционно расшифровывается эта аббревиатура — Центральной заводской лаборатории. Мне было 32 года, в моем подчинении находились металлургическая, химическая, санитарно-техническая лаборатории завода и экспериментальный плавильный участок, в моем подчинении было около 150 человек, и я был шефом научно-исследовательской службы завода. В том году меня направили в Москву на месячные курсы повышения квалификации начальников ЦЗЛ металлургических заводов. Нас было несколько начальников ЦЗЛ и начальников металлургических лабораторий ферросплавной отрасли. Мы слушали лекции, большей частью сомнительной полезности, и общались между собой, что было безусловно полезным, так как в СССР не принято было держать в секрете от коллег какие-либо новшества или приемы работы.
И вот мы сидим на лекции по КСУКП, которую читал сам директор этих курсов. КСУКП — комплексная система управления качеством продукции — входившая в моду вредная чепуха, изобретенная московскими наукообразными придурками от экономики и поднятая ЦК КПСС на знамя очередной своей глупой кампании как последний писк отечественной научной мысли. Я бы может и додремал спокойно эту лекцию до конца, если бы лектор сдуру не начал, видимо не зная, что на лекции сидит работник ЕЗФ, полоскать мой завод, смачно вякая про «ермаковщину». Вижу, что коллеги начали заинтересованно поглядывать в мою сторону.
Лектор окончил, начались вопросы. Я начал с вопросов, на которые тот не мог ничего, кроме чепухи, ответить, затем подытожил, что вот многим людям повезло и они могут заниматься настоящим делом, но есть и невезучие, которым приходится заниматься херней вроде КСУКП. Ведь тут и ежу понятно, что цель этого КСУКП в создании отряда кипучих бездельников, которые будут отвлекать нормальных людей от работы, заставляя их заниматься совершенно глупым делом типа переписывания технологических инструкций с единственной целью заменить в этих документах слово «инструкция» на слова «стандарт предприятия». А надо сказать, что в начале лекции директор курсов похвастался, что недавно защитил диссертацию по этой самой КСУКП и является в этом деле ведущим специалистом министерства. Посему он мои слова принял близко к сердцу и начал грозным голосом напоминать, что ввести на заводах КСУКП решила партия!
Ага. Но я-то никогда не был членом КПСС и жил в городе в 200 км к востоку от того места, где, как известно, сидел в ГУЛАГе Солженицын. И меня этой партийной лабудой трудно было достать. Посему я начал уточнять, не та ли это партия, которая заменила министерства совнархозами, а потом, когда снова учредила министерства, объявила, что это оказывается действие диалектического закона отрицания отрицания, не та ли это партия, которая довела Целину до пыльных бурь и т. п.
Лектор уже начал прыгать — типа видел он таких умников! Вот в Донбассе один директор завода Герой Социалистического Труда ему тоже такое говорил, так он этому директору час объяснял и объяснил так, что директор согласился внедрить у себя КСУКП. Естественно, — подтверждал я, — ведь этот Герой Соцтруда думал, что разговаривает с умным человеком… И так, слово за слово, мы пробеседовали до звонка. Судя по последовавшим в перерыве комментариям, народ не жалел, что посетил эту лекцию.
Однако мой оппонент оказался не только болтливым, немедленно доложившим о моих происках в наш главк, он оказался еще и студенческим приятелем Донского. И когда во время нахождения Донского в министерстве при назначении его на должность директора ЕЗФ они встретились, то этот придурок выложил моему будущему шефу всю правду-матку обо мне, представив меня каким-то Сахаровым Ермаковского уезда. Поэтому Донской и знал только мою фамилию, вылетая в Ермак. Вот так-то бывает, когда обижаешься на упреки придурка в адрес своего завода.
Примерно в то же время и там же, в Москве, затеял со мной разговор о плохой работе нашего завода начальник техотдела нашего главка Л. Ф. Пекарский. Он был до этого главным инженером Стахановского ферросплавного, поэтому знал, какие раны посыпать солью, отвечать ему было непросто. Но тут он начал сравнивать наш завод с Кузнецким заводом ферросплавов, а я накануне как раз был там в командировке.
— Леонид Феликсович, не спешите! Вот пройдет лет 5, я не знаю, что будет с нашим заводом, но Кузнецкий точно ляжет на бок.
— Почему?
— У нас на заводе в цехах почти одни пацаны, а на Кузнецком все работяги такие мордатенькие, пузатенькие, и всем за 40, молодых я вообще не видел. На пульт печи захожу, а там электрик КИПа чернила в самописцы заливает. У нас в Ермаке электрик КИПа — это, в лучшем случае, паренек после армии, если не девушка. А в Кузнецке это пузатый лысый дядька лет 50. Конечно, при таком опытном персонале Кузнецк будет прекрасно работать! Но у них у всех, безусловно, выработан горячий или вредный стаж, они все уйдут на пенсию в свои 50 или 55, кто будет там работать? Тот, кого отдел кадров с улицы затащит? Много они наработают?
Я это говорил, конечно, сгоряча, от обиды за свой завод, поэтому быстро об этом разговоре забыл, поскольку в то время обижаться приходилось часто. Но, оказывается, Пекарский этот разговор не забыл и в конце 80-х, когда наш завод уже твердо стоял на ногах, он о моем, к сожалению, сбывшемся пророчестве несколько раз вспоминал.
Кадры решают все! — это не лозунг, это истина. Кадры — это сложно, это и ум, и глупость, и честность и подлость, и лень, и трудолюбие, и безразличие, и самоотверженность. Я не буду утверждать, что из всех параметров, характеризующих кадры, опыт является самым главным. Но это очень важный параметр!
Три категории людей
Вот для меня и невероятно — как могли 18-19-летних парней, проработавших у печей, как говорится, без году неделя, поставить на такие ключевые должности как бригадир ферросплавной печи?! Войной это не объяснишь.
Я прочел горы воспоминаний ветеранов-фронтовиков той войны, и какие только профессии они не вспоминают у своих фронтовых товарищей! От бухгалтеров до театральных художников. Но я не помню ни одного случая, чтобы кто-то вспомнил своего фронтового товарища-металлурга. Металлургам давали бронь, т. е. запрещали призывать в армию, их эвакуировали в тыл, их разыскивали на фронтах, если они были призваны по ошибке, и возвращали на заводы. Поэтому рабочих металлургов со стажем в 5-10 лет работы и в Актюбинске было достаточно. Почему же тогда столь сложный в управлении агрегат, как ферросплавная печь, вверили 18-летнему Макшаеву и 19-летнему Друинскому, а не более опытным рабочим?
Вот тут уж нам надо взглянуть не на печи и технологию, а на качество работников как таковых.
В человеческой толпе властвуют совершенно превратные мнения о труде как о человеческом наказании. Даже авторы Библии умудрились приписать Богу в Ветхом завете совершенно противоестественную мысль о труде как о наказании. Если к ветхозаветной ситуации присмотреться внимательнее, то Бог выглядит шизофреником — существом, страдающим раздвоением личности. С одной стороны, он тяжело, но творчески и с удовольствием поработал сам, создав мир за 6 дней, отчего Бог получил радость. И это единственная радость Бога в Библии, и получил Бог ее от своего труда, а не от того, что он вкусно пожрал или имел с кем-то хороший секс. Но, с другой стороны, он наказывает Адама трудом, то есть считает труд наказанием. А где логика? Отцы церкви, написавшие Библию, что-то сильно поднапутали с этим делом, а из этой библейской шизофрении человеческая толпа выбрала, конечно, самый худший вариант основ своей жизни — считать труд наказанием.
Но может быть я и ошибаюсь, может быть, авторы Библии намеренно и именно по этому параметру ввели различие между Богом и человеком: Богу работа доставляет радость и счастье («и увидел Он, что это хорошо» — цитирую по памяти), а для человека работа — наказание («в поте лица своего будешь добывать хлеб свой»). Как бы то ни было, но очень большая часть людей считает для себя счастьем только состояние, когда они не работают.
Думаю, что по этому признаку людей можно разделить на три группы.
Первая — самая большая — толпа. Это люди, которые считают труд наказанием, но в силу своего воспитания, примера родителей и других людей свыклись с ним. В принципе они хорошие работники, поскольку добросовестно изучают свое дело и добросовестно его делают. Но все же для них счастьем является время вне работы, а работа для них не более, чем место, где зарабатывают деньги, необходимые, чтобы счастливо провести свободное время.
Вторая группа — это люди, не сумевшие выйти из состояния животных — те, для кого счастьем является удовлетворение инстинкта лени. Эта самая несчастная часть населения, поскольку большинство из них не может не работать, так как им, естественно, нужны деньги, чтобы жить, но они ненавидят любую работу и от этого их жизнь сжимается как шагреневая кожа. Подсчитайте сами.
Человек примерно 8 часов спит — треть жизни долой! Из оставшихся 16 часов в будние дни 8 часов занимает работа, да плюс 2 часа как минимум переезды, связанные с ней. В неделе 112 часов бодрствования, изымите из них 50 рабочих часов (примерно 45 % от всего времени) и останется чуть больше половины — 62 часа. От 18 лет, когда уже надо приступать хоть к какой-то работе, до пенсии в 60 лет пройдет 42 года, 45 % от этого срока — примерно 19 лет. Вы считали бы себя сильно счастливым, если бы получили срок заключения 19 лет? Да не просто в лагерях, а в каторжных лагерях, в которых ничего нет, кроме работы и 8 часов сна? Вот так и эти несчастные человекообразные животные — у них больше половины каждого буднего дня — каторга. Естественно, что работники они отвратительные, и хотя, конечно, и осла можно заставить работать, но когда человека заставляют работать, то это уже не то — это не более чем рабочий скот. Жалеть таких людей нельзя, но все же следует отметить, что объективно это самые несчастные люди.
И, наконец, третья группа людей, это собственно люди — те, кто исполняет жизненное назначение человека — познавать мир и творить. Работа для них — это то место, где они творят и познают, а творя и познавая, они получают удовольствие. Для них работа — это то место, где они ловят кайф, если говорить на языке тех, кому собственно я и предназначаю эту книгу.
Вот есть люди, которые получают удовольствие от довольно странных вещей, например, от посещения ресторана. Мне пришлось за свою жизнь посетить их сотни, причем в основном посещать очень дорогие и известные. То ли в Ницце, то ли в Монте-Карло мы ели устриц в каком-то заведении на набережной, так там вся стена была исписана автографами президентов и кинозвезд. А в Швеции хозяева привели нас в ресторан и минут десять компостировали мозги переводчику, чтобы тот растолковал мне, что в каком-то там мировом рейтинге это второй по значению ресторан. Пришлось восхититься — а что поделаешь, не обижать же хозяев. Что-то мы там ели, что-то смотрели, но я так и не понял, а где тут можно получить удовольствие? А ведь народ прет в эти рестораны и такой счастливый после этого бывает…
Думаю, что третья группа людей от работы получает в сотни раз больше удовольствия, чем толпа от устриц в кабаке в окружении кинозвезд. В кабаке ты просто ешь, посади рядом с тобой свинью, и она будет есть, и еще аппетитнее, нежели ты, а на работе ты творишь и тут тебя не только свинья, тут тебя не каждый человек заменит. Тот кайф, то удовольствие, которое человек получает от работы, на которой имеет возможность творить (а творить можно в любом производительном труде) — это редкий кайф!
Люди третьей группы — это идеальные работники, они собственно и не работники как таковые, поскольку они работой живут, как дышат. Таких людей невозможно стимулировать, поскольку нельзя придумать для них стимула больше того, что они получают сами. Для толпы стимул — деньги, толпа приходит на работу за деньгами, ими ее и стимулируют. А для идеального работника они не главное, хотя он не робот. Он человек, он с удовольствием едет на работу, но и он устает, и ему нужен отдых, и у него семья. И он никогда не откажется от денег, более того, может и потребовать их и потребовать настойчиво, поскольку прекрасно понимает, кто он и чего стоит. Но деньги для него не главное. Его, по идее, можно стимулировать признанием, но надо помнить, что это человек, получающий настолько большое удовольствие, что удовольствие от формального признания (достаточного для человека толпы) для него слишком слабое. Он такое признание, в лучшем случае, примет как должное, а если это признание будет уж слишком формальным, то оно его и обидит.
Я бы так сказал: иногда вместо того, чтобы тысячу раз по обязанности похвалить, лучше один раз искренне восхититься его результатами. Но только искренне — он же не дурак, вы же его обмануть не сумеете. Но об этом позже.
Инстинкт начальника
А пока давайте рассмотрим вот какой момент. В жизни очень часто слышишь жалобы на начальников — и не ценят они хороших работников, и обижают, и незаслуженно наказывают, и не повышают и т. д. и т. п. Возможно, что касается чисто бюрократических организаций типа партийных и государственных органов, различных научных институтов и «несть им числа», то я порядков там не знаю — я там никогда не работал, может быть, там так и есть. Но что касается производства, то тут дело обстоит по-другому. Здесь начальник получает дело, которое обязан выполнить в срок и качественно. Он разбивает это дело на более мелкие дела, которые поручает своим подчиненным. Сделают эти мелкие дела они — сделает свое дело и он. Если какой-то подчиненный свое мелкое дело не сделает, то не сделает свое более крупное дело и начальник. Поэтому при плохом подчиненном начальнику придется либо самому делать дело за плохого подчиненного, либо поручать его дело другим подчиненным, что вызовет у тех протест, который еще неизвестно во что выльется.
Конечно, и на производстве в начальники попадают придурки, но придурок не сделает порученное ему дело, посему его быстро заменят. А для нормального начальника — для того, кто регулярно собирается качественно выполнять поручаемое ему дело, — нет ничего более ценного, чем хороший подчиненный. И начальник сделает все, чтобы такого подчиненного удержать, сделает все, чтобы тот был им доволен. Он будет делать это автоматически. Я приведу свои примеры и, что характерно, я осознал их через много лет после того, как перестал работать на заводе, а тогда я поступал не думая о том, в чем суть моих поступков, — я тогда делал то или другое практически инстинктивно, т. е. согласно инстинкту начальника. Вот пара собственных примеров.
Квартиры
В то время я работал на ЕЗФ, наверное, еще не больше года. Работал в ЦЗЛ, числился мастером экспериментального участка, но работал в металлургической лаборатории, и моя работа большей частью проходила в плавильных цехах завода. Поскольку парень я был холостой, т. е. в понимании людей не сильной занятый, что, впрочем, так и было, то меня избрали председателем цехкома. Теперь я стал не то что уж сильно большим начальником, но все же и не совсем рядовым работником — появились у меня некие заботы уже обо всем цехе. Работы мне эта должность добавила очень мало, я уже сейчас ее всю и не помню, — надо было присутствовать на цеховых подведениях итогов соцсоревнований, подписывать больничные листы и различные заявления в профком завода, скажем, на выделение 3 рублей для посещения заболевшего товарища, и, главное, участвовать в распределении квартир. А с ними дело обстояло так.
Поступивший на завод работник, если его не устраивало его жилье, сразу же становился в очередь на получение нового. Тут были определенные государственные правила, скажем, если у человека было по 6 м2 жилой площади на члена семьи, то его нельзя было ставить в очередь, но завод, как и город, предпочитал жить не столько по законам, сколько по своим понятиям. В цехе в очередь ставил я, поэтому ставил всех, кто желал, так же делали во всех цехах. Тут было два резона. Во-первых, чем больше у завода очередь, тем больше выделяли заводу денег на строительство жилья, во-вторых, никому квартиры автоматически не выдавались, поэтому обжулить администрацию и профсоюз в этом вопросе было невозможно.
Распределение квартир происходило так. Когда завод принимал у строителей очередной дом, а это происходило 3–4 раза в год, то директор с согласования завкома отбирал себе несколько квартир в резерв — для специалистов, которые специально приглашались на завод, и им обещалось жилье вне очереди. Остальные квартиры делились между цеховыми очередями пропорционально количеству стоящих в них работников, но, полагаю, не совсем поровну — плавильные цеха и важные цеха получали квартир несколько больше остальных, что, в общем, было справедливо и нареканий не вызывало: хочешь получить квартиру быстрее — иди работать на печь. Мы были в третьей группе цехов и нам на цех, тогда численностью где-то в 120 человек, с дома обычно доставалась одна трехкомнатная квартира обязательно и еще одно- или двухкомнатная.
Трехкомнатная давалась тому, чья семья состояла не менее чем из 4-х членов и чья очередь подошла. По закону так не полагалось, поскольку двухкомнатные квартиры имели жилую площадь (без кухни, ванной, туалета и коридоров) минимум 27,5 м2, а то и 32, т. е. на семью из 4-х человек приходилось более 6 м2 на члена семьи, но на это не обращали внимания. У человека, получившего трехкомнатную квартиру, обычно уже была 2-х комнатная квартира — ее цех отдавал тому, у кого минимум 3 члена семьи, а его однокомнатную отдавал тому, кто еще жил в общежитии. Все это делалось внутри цеха и ни директор, ни профком в это обычно не вмешивались.
Автоматического распределения не было. Кандидат на получение квартиры тщательно рассматривался четырехугольником — начальником цеха, парторгом, комсоргом и цехкомом — и если считали, что лучше дать человеку, поступившему в цех и ставшему в очередь позже, то давали ему. Но первоочередника обычно не сильно отодвигали — на один-два дома, потом начинали говорить, что мы, дескать, такого-то уж сильно обходим, надо, наконец, дать и ему. Главенствующее значение в распределении квартир, как и в распределении всех материальных благ, занимал профсоюз. Парторг и комсорг имели только совещательный голос. Решение принимал начальник цеха и члены цехкома (у нас их было со мной пятеро). Начальник цеха гнул свою линию — дать лучшим, но люди обычно считают, что они все работают хорошо, поэтому члены цехкома могли руководствоваться любыми своими мотивами, например, считать, что у предлагаемой им кандидатуры сырая или холодная квартира и маленький ребенок, а у первоочередника хорошая квартира и он еще может подождать. Ни я, ни члены цехкома за свои профсоюзные должности не цеплялись, но мы жили среди своих товарищей, хотелось спокойно смотреть им в глаза, а посему старались руководствоваться справедливостью.
Завком закрывал глаза на то, что цехкомы постоянно игнорируют общесоюзные положения о распределении жилья, но и завком жил среди нас же, кроме того, он был выборным и ему не улыбалось ссориться с делегатами заводских отчетно-перевыборных конференций только из-за того, что какие-то придурки в Москве понавыдумывали какие-то там инструкции. Скажем, по общесоюзным положениям за прогулы и пьянство полагалось передвигать человека в очереди на один-два года. Директор, исполняя это положение, давал соответственный приказ, и цехкомы его исполняли, если речь шла о каком-то работнике, чья длительная работа в цехе была сомнительна. Если же это был настоящий товарищ по работе, а не какая-то временная рабсила, то приказ директора мог затеряться, поскольку люди не видели, почему они должны наказывать детей только потому, что их папаша переночевал в вытрезвителе. И завкому не было никакого резона ходить в цеха и проверять очередь, если в цехах люди и так с этим справляются, и жалоб из цехов не было.
Сварщик
Теперь немного о моем цехе. ЦЗЛ состоял из впоследствии очень мощной химико-аналитической лаборатории, определявшей химический состав всего, что поступало на завод, и всего, что с завода уходило. Еще в составе ЦЗЛ был достаточно уникальный для ферросплавных заводов экспериментальный участок, фактически маленький плавильный цех (его по старинке так и называли «цех») с полупромышленной печью мощностью 1,2 МВА (промышленные тогда были мощностью от 16,5 до 21 МВА) и металлургической лаборатории, обязанной совершенствовать технологию плавильных цехов. Когда я уже был начальником ЦЗЛ, в него была включена санитарно-техническая лаборатория, которая следила, как сейчас говорят, за экологией, и я создал еще и электродную лабораторию. Но это было позже описываемых событий.
Итак, я был цеховым профсоюзным боссом, само собой, не освобожденным, но я был и ИТР цеха, и меня (сейчас даже самому странно) волновало, насколько успешно работает весь ЦЗЛ. А в штате экспериментального участка была ремонтная электромеханическая служба, состоявшая из двух слесарей и одного электрика. (Кроме того, помимо начальника участка было около 17 плавильщиков и Нина Лимонова, которая была табельщицей, кассиром, кладовщицей и крановщицей.) И в этой ремслужбе уволился слесарь, отдел кадров долго не присылал человека, наконец, приняли слесаря — Виктора Лалетина. Он, конечно, сразу же нашел меня, чтобы встать в очередь на квартиру. Мы познакомились, ему было тогда где-то около 30 лет, но он уже имел двоих детей, и отдел кадров поселил его в семейной общаге. Таким образом, ему нужно было сразу давать минимум 2-х комнатную квартиру, мы прикинули, когда это может быть, и нашли, что это будет где-то года через два.
А работая в плавильных цехах, общаясь там с представителями всех служб завода, я знал, что на заводе являются дефицитными хорошие сварщики. Прихватывать электросваркой у нас умели все, и сварочные аппараты стояли чуть ли не в каждом углу, но сварщиков, умевших варить медь, было очень мало. Главный механик Агафонов их чуть ли не лично расставлял по рабочим местам.
Некоторое время спустя мы по какому-то делу разговорились с Леней Чеклинским, бригадиром печи нашего экспериментального участка (не помню, был ли он тогда уже парторгом) и разговор зашел о новеньком.
— Классный парень! — сообщил Леонид. — Не злоупотребляет и не отказывается, с ребятами сошелся. Но главное другое — он дипломированный сварщик и варит медь. Недавно сгорела головка электродержателя, обычно мы несколько дней ждем, пока пришлют сварщика, а здесь Виктор за пару часов сам все сделал.
А я к тому времени уже стал местным патриотом, что, впрочем, при таких прекрасных людях, которые работали в ЦЗЛ, было нетрудно. Ну и думаю, если Главный механик узнает, что отдел кадров лопухнулся и отправил дипломированного сварщика не к нему, и даже не в плавильный цех, а в ЦЗЛ, то он Виктора от нас сманит, как пить дать. И мы ничего не сделаем, поскольку Агафонов ему и квартиру сделает быстрее нас, и зарплата у Виктора будет больше. Хохол, натура жлобская, и мне, конечно, стало жалко, если от нас уйдет такой хороший специалист. Но делать было нечего…
Проходит несколько недель, и у нас увольняется с выездом из Ермака работник и оставляет цеху свою двухкомнатную квартиру. А такие квартиры, в отличии от квартир в момент сдачи домов, не очень привлекают к себе внимание коллектива, поскольку владелец квартиры, увольняясь, может оставаться жить в ней, или обменять ее на квартиру в другом городе, или прописать в ней кого-либо, — возвращать ведь ее не обязательно, хотя она, по закону, и принадлежит (принадлежала в СССР) не ему, а государству (заводу).
«Моя крепость»
Отвлекусь. Хотя и тогда, и сегодня идиоты вопят, что, дескать, только на Западе частная собственность священна, и только там действует принцип «мой дом — моя крепость», на самом деле именно в СССР частная собственность была священна, да так, что Западу и не снилось. Возьмите крайний случай — конфискация имущества по решению суда. На пресловутом Западе с вас по суду сдерут все и не поморщатся, а в СССР, если почитать перечень того, что нельзя конфисковать, то не поймешь, что вообще конфисковывалось. К примеру, нельзя было конфисковать ничего детского, инструменты и инвентарь законного промысла, комплект зимней и летней одежды, посуду, топливо, необходимо было оставлять запасы продовольствия или денег на три месяца существования семьи. И никогда и ни при каких условиях у человека не конфисковывалось его жилье, хотя оно было государственным — нельзя было лишить человека крова над головой.
В этом смысле интересны были случаи самозахвата жилья, т. е. случай, когда человек подгадывал, когда какая-то квартира оказывалась пустой, ломал замок, вселялся и жил. По закону проблем не было — получи решение суда и высели нахала. А в жизни это было непросто, в связи с чем нахалы этим и пользовались. Решение суда — это бумажка, а бумажка не выселит. Берет эту бумажку судебный исполнитель, а в СССР это, будьте уверены, девушка, и идет выселять, а нахал ее в квартиру не впускает и на ее угрозы чихает. Надо вызывать милицию. А в СССР, если еще кто помнит, этих тупых мордоворотов в масках не было.
Ну, так вот, придет наряд милиции с судебным исполнителем выселять нахала, а у нахала жена и дети, нахал спрячется, дети завоют, а жена как тигрица бросится на милицию. И попробуй ее ударь или хотя бы скрути. Вокруг соседи, которые немедленно будут возмущаться, что «мусора женщину бьют», и никакой поцарапанной физиономией ничего не докажешь, мы же, русские — народ такой.
Вот, к примеру, сидим в штабе добровольной народной дружины на дежурстве, звонят из милиции, что оттуда-то поступил вызов — пьяный муж жену бьет, понимаем, почему опытные менты не хотят туда ехать. Потому, что придешь мужа утихомиривать, а тебе же от жены и достанется. А что касается выселения, то милиция будет до последней возможности от него уклоняться — приедут, в дверь постучат, им не откроют и они уйдут, поскольку у них слесаря нет, дверь ломать. Поэтому очень часто, предприятие — владелец квартиры махало на нее рукой и давало своему человеку новую квартиру, а о старой забывало.
Противоядие против этого было только одно — противопоставить наглости еще большую наглость. Помню, в каком-то цехе зашел утром в питьевой блок, а там бригада что-то оживленно обсуждает. Оказывается, их товарищу выделили квартиру, он замешкался, приехал заселяться, а там уже какой-то сукин сын не с нашего завода. После смены бригада взяла на заводе грузовую машину, загрузила вещи товарища, приехали к его квартире, быстренько сломали двери, сукина сына с семьей — в подъезд, окна открыли, все его вещи — в окна, вещи товарища быстренько в квартиру занесли и новый замок вставили. Сукин сын — в милицию, а там ему: «А 15 суток за вламывание в чужую квартиру не хочешь получить?»
У меня тоже так было, вернее, примерно так. Я жил в общаге «Вокзальная 26», а рядом было ЖКО — жилищно-коммунальный отдел нашего завода. Как-то рано утром иду на работу, а у ЖКО уже полно народу: в этот день было заселение, т. е. ЖКО снимал охрану с нового дома и выдавал ключи. Я еще и подумал: «Вот придурки, ЖКО начинает работать с без пятнадцати девять, а они уже в 7 утра стоят». И когда мне дали 2-х комнатную, я принципиально никуда не спешил, пришел в ЖКО часов в 10, получил ключ и какую-то бумажку, вернулся домой, загрузил на саночки инструмент и еще что-то и не спеша пошел к новому месту жительства. (Того, кто заселялся в мою квартиру, я попросил Пару деньков подождать, пока я не доведу новую квартиру до ума — просмотрю сантехнику, уплотню окна и т. д.) Поднимаюсь На пятый этаж, нахожу по номеру свою квартиру, смотрю — дверь открыта. Захожу, а там чужие вещи и народ уже отдыхает — довольный такой!
— Вы какого черта здесь делаете?! — вопрошаю я.
— А это моя законная квартира, — мне в ответ.
— Показывай документ!
Показывает, я смотрю свой и вижу, что я тоже лопух — не посмотрел, что в ЖКО получил. Оказывается, делопроизводитель спутала номера квартир — на двухкомнатную в ордере поставила номер однокомнатной, а на однокомнатную — номер моей квартиры. Вот нахал ко мне и заехал на всякий случай — вдруг я проверку на вшивость не пройду.
— Слушай, я сейчас сделаю так. Моя однокомнатная находится в старом доме и хуже твоей однокомнатной в этом. Я сейчас же отдаю ключи от твоей квартиры тому, кто должен въехать в мою однокомнатную, — он въедет с удовольствием, ведь завод ему выделил однокомнатную квартиру. А в понедельник я займусь тобой, и тебе не останется ничего другого, как въезжать в мою старую квартиру. Выбирай!
Они, правда, еще не сильно выпили, поэтому мы сходили с ним в ЖКО, тогдашний его начальник Петр Петрович Конрад надавал чертей своей конторе, нам выправили ордера и ко второму моему рейсу с саночками моя квартира была уже пуста. С квартирами нужно было держать ухо востро! Так что, когда я получал уже 3-х комнатную, то все мои друзья были у меня с машиной с самого утра. Я, правда, оступился в кузове, неудачно спрыгнул и, сейчас уже не помню, то ли порвал, то ли растянул связки на ноге. Пока отковылял в больницу, пока мне там наложили гипс, пока добрался домой, там уже вовсю праздновалось новоселье. Но вернемся к теме.
Итак, я маленький начальник и патриот ЦЗЛ, заволновался, что Витю Лалетина, прекрасного сварщика, у нас сманят. Но тут, как я об этом начал, у нас в ЦЗЛ неожиданно освободилась 2-х комнатная квартира. Я пошел к начальнику ЦЗЛ, Николаю Павловичу Меликаеву, и предложил ему план: по-тихому, чтобы не возбуждать недовольства в цехе, договориться с членами цехкома и с заводом и дать эту квартиру Лалетину. По виду и по мнению работников экспериментального, он парень с совестью, поэтому получив такой аванс, вряд ли сможет от нас уйти в ближайшие несколько лет, даже если ему будут обещать золотые горы. Меликаев был, само собой, в курсе дела и за эту идею ухватился. Он решил все вопросы в администрации завода, а я в завкоме и в цехе — уговорил членов цехкома по-тихому подписать решение цехкома. Дело в том, что я вывешивал обновленные списки сотрудников после сдачи каждого дома, Лалетина в вывешенных списках еще не было, а потом он уже стоял на 3-х комнатную, как бы сразу имея двухкомнатную.
Когда все вопросы решили, Меликаев вызвал Виктора и сказал ему подобающие случаю слова, что по сведениям, полученным из надежных источников, он хороший парень и отличный специалист, что администрация цеха хотела бы сделать его кадровым, а посему нашла возможность предоставить ему вне очереди двухкомнатную квартиру. Я сказал, что с очереди его снимать не буду, так что он отныне стоит в очереди на трехкомнатную, и попросил Меликаева освободить Виктора от работы, чтобы он смог сбегать и собрать необходимые справки. Виктор был парень искренний и было видно без слов, как он рад. Конечно, мы сделали подарок за счет остальных сотрудников цеха (в том числе и за счет меня, но я был холост и о подобных пустяках не думал), однако мы хотели сделать работу цеха устойчивой, а это было на благо всего коллектива.
Так что совесть нас не мучила, тем более, что Виктор действительно стал кадровым работником цеха. В начале 80-х экспериментальный был остановлен, рабочие были распределены по остальным цехам завода, потом экспериментальный вновь ввели в работу, но вернулись в ЦЗЛ не все — ряд плавильщиков и ремонтников остались работать в основных цехах. Но Лалетин вернулся.
Парторг
Еще пример. С Леонидом Георгиевичем Чеклинским мы не то что сдружились, а как-то товарищески сошлись сразу же после моего перевода в ЦЗЛ. Жена его, Людмила, работала инженером метлаборатории, так что мы были с ней коллегами. Леня был бригадиром нашей печи, подменял мастера экспериментального и даже начальника, но получать какое-то формальное образование не стал и карьеру ИТР не делал. Между тем он был очень активен, был тем, кого зовут неформальным лидером, был хорошим коммунистом и парторгом цеха по праву. А я в то время был диссидентом, поэтому нам с Леней было о чем поругаться.
— Не надо ля-ля! Я не верю, что наше ПВО могло спутать американский самолет-разведчик с пассажирским боингом и завалить корейский авиалайнер случайно.
— Ну и что! Я тебе как пограничник скажу — мочить надо всех, кто незаконно пересекает нашу границу!
Ну и тому подобное. Так сидим, ругаемся, глядишь и обед незаметно прошел. Между тем для меня Леонид был человек испытанный — был случай, когда он наши товарищеские отношения поставил выше практически своего членства в КПСС, а это, знаете, немалого стоит.
Назначили меня начальником ЦЗЛ и спустя какое-то время был период, когда мы с Леней начали ругаться по делам цеха. Я даю распоряжение, а он оспаривает его правильность, я говорю — так, а он — иначе! Уже не помню, в чем там была суть и кто виноват, может быть и я, но я начальник, посему вежливенько так ему говорю, что мои распоряжения это не его, парторга, собачье дело, ну и он с этим, само собой, не согласен.
А незадолго до этого периода ругани с Леней директором завода назначили Донского. Он был человек умный и опытный, и в отношении общественных организаций повел себя так, что его многие превратно поняли. Он, если так можно сказать, всю общественную работу начал валить на начальников цехов. Дружина ~ начальник, субботники — начальник, демонстрации — начальник, различные профсоюзные и партийные собрания — и тут начальник обязан все организовать и обеспечить. У нас, начальников, конечно, возникал вопрос — тогда на кой хрен нужны все эти парторги, профорги и комсорги? Но директор попытки бунта на корабле подавлял железной рукой и по-прежнему требовал от начальников цехов отвечать за всю общественную работу. Если не вдумываться в то, зачем он это делал, то складывалось впечатление, что он партию считает чуть ли не главной руководящей силой на заводе. И Леня на это купился.
Как-то вызывает меня Донской и говорит примерно следующее:
— Что у тебя в цехе с парторгом? Он вчера на парткоме катил на тебя бочку. Ты человек молодой и можешь не понимать, что такая конфронтация кончается плохо именно для начальника. Практика тут такова: в ссоре начальника и парторга никто толком не разбирается, да и не хочет этого делать, поэтому выработано стандартное решение — если их спор становится достоянием коллектива, то тогда снимают с должности обоих. Но что значит снятие с должности для Чеклинского? Он, плавильщик, останется плавильщиком, и только и того, что у него добавится свободного времени и уменьшится нервотрепка. А что значит снятие с должности для тебя? Чувствуешь разницу? Давай я переговорю с парткомом завода и мы заменим в ЦЗЛ парторга на более адекватного.
Тут надо сказать, что я не встречал человека, который бы тратил столько сил и рабочего времени на работу с кадрами, как Донской. У меня это всегда вызывало уважение, но я даже и не пробовал использовать его методы работы, кроме этого у меня и у самого уже были кое-какие соображения на этот счет. У Донского были наработанные опытом принципы, которыми он обычно руководствовался, одним из таких принципов был принцип опережения события. Он тратил много усилий, чтобы заранее получить информацию о надвигающихся неприятностях и сделать все, чтобы их предотвратить. Донской привез на завод поговорку: «В нашем деле главное — вовремя перепугаться». Имеется в виду, если кто не понял, что пугаться рано — это паника, это глупо, а пугаться поздно — поздно. Вот шеф и решил предотвратить нежелательное для завода развитие событий в ЦЗЛ.
Я не ожидал такого разговора о Чеклинском, растерялся и для начала сморозил глупость.
— Знаете, Семен Аронович, президент США Кеннеди о диктаторе Никарагуа Самосе как-то сказал: «Самоса, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын». Чеклинский ведет себя как сукин сын, но это сукин сын ЦЗЛ. Он работает в цехе от царя Гороха, его уважают и, на мой взгляд, именно за то, что он такой, как есть.
Вот вы на оперативках дерете начальников цехов за срывы дежурств добровольной народной дружины, за срывы собраний и прочее. А почему вы меня не дерете? Потому, что у нас срывов не бывает, но ведь я вообще этим никогда не занимаюсь, все делает Чеклинский. Ну заменим мы его на парторга, который будет мне поддакивать, а что толку? Мне ведь за него придется работать, так на кой черт мне его поддакивания? Нет, спасибо, но не надо, мы уж с Ленькой как-то притремся.
— Ну, смотри, — сказал директор, — тебе видней.
Я, само собой, передал разговор Чеклинскому, хотя и понимал, как ему обидно. Ведь он полагал, что через директора надавит на меня, а Донской обманул его ожидания, да еще и получается, что Чеклинский на меня пер на парткоме, а я его защищал перед директором. Но, с другой стороны, не расскажи ему это, получается, что я его за дурака считаю, и что вроде у нас с ним и не общее дело.
Ссориться на рабочие темы мы перестали, уже не помню, то ли поэтому, то ли действительно притерлись, но Леня, надо сказать, не сломался и оставался, если считал это правильным, при своем мнении, не стесняясь его высказывать.
О покорных
Тут, пожалуй, следует сказать о бытующем мнении, что начальник, дескать, любит покорных подчиненных. Не могу ска-
Вера Харсеева и моя жена Люся
зать обо всех организациях — не знаю, но на производстве так вопрос вообще не стоит.
Подчиненных, четко исполняющих поручаемые им дела, — да, любят. А где таких не любят?
Подчиненных, пытающихся своей болтовней прикрыть свое нежелание или неспособность сделать дело, — да, действительно, не любят. А кому они нужны?
А вот бессловесных подчиненных боишься, ведь их молчание не всегда знак согласия или покорности, их молчание может быть следствием того, что им сказать нечего, т. е. следствием того, что они ничего не поняли, но боятся это показать. И как начнут они исполнять порученное, то тут только держись. Ведь недаром армейские уставы требуют, чтобы командир заставил солдата повторить полученное приказание — понял он его или не понял, но, по крайней мере, надо убедиться, что он его запомнил.
Мне один предприниматель, владеющий в глубинке лесоперерабатывающим предприятием, рассказывал, что обратил внимание на то, что на территории его предприятия мало туалетов, и рабочим приходится далеко бегать. Он приказал мастеру быстренько выкопать в подходящем месте яму и соорудить над ней сортир на два очка. Тот молча и с понимающим видом немедленно бросился исполнять порученное. «В следующий приезд, — рассказывает бизнесмен, — действительно в указанном месте вижу новенький сортир, но какой-то узкий. А я ведь указывал, что на два очка. Подхожу, открываю двери и вижу, что сортир действительно на два очка, но только они не рядом, а один за другим. Спрашиваю мастера, а как вторым очком пользоваться, через голову сидящего на первом? Тот стоит, глазами моргает…»
Когда я стал заместителем директора по коммерческо-финансовой работе и транспорту, моим подчиненным стал начальник автохозяйственного цеха СП.Харсеев, с которым мы уже давно дружили, точнее даже дружили семьями, поскольку нас свели жены, работавшие вместе.
А Сергей по жизни очень мягкий человек, порой его стесняешься о чем-то попросить, поскольку не знаешь, действительно ли он свободен, чтобы помочь тебе, или бросит свои дела ради твоих?
И вот начали мы с ним вместе работать. Какие я распоряжения ни даю, он никогда их не оспаривает. Меня это насторожило.
— Серега, а почему ты никогда не оспариваешь то, что я говорю?
— Так ведь ты же начальник!
— Ну и что? Я же пока ни бельмеса не соображаю в твоих делах, а распоряжения давать приходится. А если я своими распоряжениями сорву тебе перевозки более важные, чем те, которые поручаю? Наделаем делов, потом вместе не расхлебаемся. Если я чего не так сказал, ты меня сразу останавливай! За мой авторитет не бойся — он у меня сейчас такой, что ему ничего не повредит, тем более не повредит ему твое компетентное мнение, даже сказанное при остальных подчиненных.
Тут, понимаете ли, вот какое дело. Начальник нужен и для того, чтобы принять решение по возникающим проблемам. Но, во-первых, подчиненный видит эту проблему, хотя и не так полно, как начальник, но зато гораздо подробнее со своей стороны. Естественно, что и у него возникает решение на эту же тему, и это решение может быть лучше вашего. Во-вторых, ни вам, ни вашим подчиненным неохота делать ненужную работу, а тем более, вредную но вы работу, вашего подчиненного делать не будете, а он будет, вы можете не увидеть, где в вашем распоряжении скрыта ненужная и вредная работа, а он немедленно, примерив ваше решение на себя, это видит. Если вы не дадите ему высказаться, скажем, запугаете, то вы будете делать свое дело очень дорогим и неэффективным способом. Запугивать подчиненных, не давать им критиковать ваши решения, это то, что называется «себе дороже».
Конечно, когда тебе подчиненные постоянно тыкают, что ты не прав, это не очень большой кайф, но что делать — надо терпеть. И чем меньше вы будете дергаться по этому поводу, тем быстрее это прекратится, поскольку только таким способом вы максимально быстро освоите дело.
Я пишу о случаях, когда приходится решение принимать быстро и самому. Но на производстве обычно есть время посовещаться о мало-мальски сложных проблемах. Тут проще, тут подчиненные критикуют ваше решение в форме советов, а это не так обидно. (Вообще-то, умный подчиненный и так предпочтет не критиковать вас на людях, а постарается поговорить с глазу на глаз, особенно, если вы уже приняли решение). Но совещание — это не собрание, здесь нет принципа большинства. Примите вы собственное решение или присоединитесь к чьему-то, но это всегда должно быть только ваше решение, а не решение коллектива. Они советчики — и только. Вы несете ответственность, следовательно, ваша обязанность принять решение.
Заметьте, я говорю об обязанности, а не о праве, о праве и разговора нет — оно всегда с вами. Принимая собственное решение, вы исполняете свои обязанности начальника и, следовательно, оправдываете свое предназначение в глазах подчиненных. Даже если они все будут считать какое-то ваше решение глупым, то вы будете в их глазах всего лишь глупым, но начальником — в этом вам никто не откажет. (Кстати, если ваше «глупое» решение окажется эффективным, то вы завоюете у подчиненных особое уважение). Но если вы будете уклоняться от принятия собственного решения, если будете перекладывать его на подчиненных («я присоединяюсь к мнению большинства») или на вышестоящего начальника («так директор приказал»), то в их глазах, да и в глазах начальства вы станете никем, пустым местом. Вы не будете делать свою работу — вы бездельник.
В итоге то, что подчиненные вас критикуют, это все вам на пользу, но решения им давайте только свои и от своего имени, безотносительно того, чьи идеи лежат в основе этого решения — ваши, подчиненных или начальников.
Но я сильно отвлекся, поскольку начал о том, что для начальника вообще, а для заводского инженера тем более, нет ничего ценнее хорошего подчиненного.
Вот еще случай аналогичный предыдущему.
Пьяница
Я был начальником ЦЗЛ, завод постепенно наращивал мощность, росло количество анализов, которые должна была выполнить химлаборатория, кроме этого, двигался и научно-технический прогресс. Мы стали получать приборы для новых, быстрых методов анализа, но они оказались достаточно сложными электронными системами. Кроме того, как и все неотработанное, они быстро выходили из строя. Наши электрики, специалисты лаборатории КИП их ковыряли, иногда возвращали к жизни, но чаще всего приходилось заказывать автомашину и вести приборы в Павлодар в специализированную мастерскую. Там их держали месяц-два, после чего они работали немного и снова чахли, и снова надо было везти в Павлодар. Задерживалось производство анализов, на селекторных совещаниях ОТК жаловался на меня, что из-за отсутствия анализов они не отгружают ферросплавы и затоваривают склады готовой продукцией. В свою очередь я жаловался на своего друга начальника АХЦ Харсеева, что Сергей Павлович не дает мне машину, чтобы отвезти приборы в Павлодар на ремонт, и т. д. и т. п. Никакого выхода из этого тупика не просматривалось, оставалось уповать на то, что наша промышленность в конце концов отработает эти приборы и они перестанут так быстро терять точность и выходить из строя.
И тут начальник химлаборатории Евгений Петрович Тишкин предлагает мне добиться восстановления в штате ЦЗЛ должности инженера-электромеханика и принять на нее Барановского. Насчет должности идея была правильной и нужной, но Барановский вызывал у меня глубокие сомнения.
Николая Семеновича Барановского я знал чуть ли не с первых шагов на заводе, поскольку тогда он работал, по-моему, начальником лаборатории КИП и мне приходилось просить у него помощи с приборным оформлением задумываемых мною экспериментов. Но потом он спился, его перевели на работу электриком, по работе мы почти не встречались, а в городе я его видел, как правило, сильно поддатым. Но это еще полбеды.
Он был популярной личностью. Весь завод со смехом пересказывал его фантастические рассказы о войне (он действительно был участником Великой Отечественной) и послевоенные «были». Эти рассказы были фантастичны до нелепости, ну, к примеру, передавали его рассказ, как ему, якобы, поручили везти первую советскую атомную бомбу из Арзамаса на Семипалатинский полигон. Он, якобы, ехал с удобствами в спальном вагоне, а чемоданчик с бомбой положил на верхнюю полку, ночью его украли и далее следовал рассказ, как Николай Семенович отыскал вора и отобрал у того атомную бомбу. Или как Берия приехал арестовать отца Барановского, и как они с отцом отстреливались от Берии из пулемета «Максим». Причем свидетели уверяли, что проверяли Барановского, пытаясь уличить во лжи, и просили спустя некоторое время повторить рассказ, и он повторял его слово в слово. А это может быть только тогда, когда это вранье для вруна становится реальностью, когда он как бы это действительно пережил и то, что, якобы, видел, запомнил во всех мельчайших деталях. Деталей, кстати, он всегда выдавал очень много и очень красочных, в связи с чем его рассказы с удовольствием слушали.
В моем понимании Николай Семенович был не просто пьяница, но уже и неадекватный. Но зато вполне адекватным был Тишкин, выпускник химфака МГУ (уже это в нашей глуши удивляло — мы у себя вообще никогда не видели выпускников московских вузов), прекрасный знаток химии, умнейший мужик, державший в хорошем, работоспособном состоянии коллектив из более, чем сотни женщин. Петрович (я его называл в основном так) лично хорошо знал Барановского и был уверен, что это именно тот, кого нам сильно не хватает. Пришлось положиться на мнение Петровича, добиться должности и принять Барановского.
В это время у меня дома перестал показывать картинку телевизор, а если кто помнит, то тогда телевизионные передачи еще можно было смотреть. Жена вызвала мастеров из телеателье, они час с ним возились и объявили, что понять, что с ним произошло, можно только при помощи осциллографа, а он у них в ателье, поэтому нам нужно привезти телевизор в ателье, и они там с ним займутся. Машины у меня еще не было, тащить телевизор на горбу не хотелось, я позвонил Петровичу и попросил, чтобы он приехал на работу на своих «Жигулях», а в обед мы с ним смотаемся в телеателье.
— Зачем?! — искренне удивился Тишкин. — Ведь у нас теперь есть Барановский.
На следующий день я попросил Николая Семеновича помочь мне с телевизором и мы договорились, что он придет часикам к 19. Жду, его нет, закончились занятия в вечернем институте, вернулась с работы жена, уж полночь близится, а Семеныча все нет. Ну, думаю, обманул. Когда нет, часов в 11 звонок в дверь, стоит Барановский и уже о-о-чень хороший. Правда, вид сильно виноватый.
— Юрий Игнатьевич, вы меня очень извините, я пошел к вам, а тут меня друзья задержали, я с ними немного посидел и вот опоздал. Но я сейчас мигом все сделаю.
Я его впустил, поскольку все равно раньше часа ночи не ложился. Тут он выдает.
— Юрий Игнатьевич, а нет ли у вас отверточки, а то я чемоданчик с инструментами забыл там, где сидел.
— Николай Семенович, — обиделся я, — у меня не только отвертка, у меня и тестер есть.
— Нет, тестер ни к чему, дайте отвертку.
А если кто помнит, то на задней стенке телевизоров той поры была крупная предупреждающая надпись «Не снимать — высокое напряжение» и электрический разъем выполнялся так, что при съеме задней стенки телевизор обесточивался. Я дал ему радиоотвертку, Барановский снял заднюю стенку, поставил на место сетевой разъем, подождал пока нагреются лампы и начал крутить отверткой, время от времени постукивая по контактам указательным пальцем (руки у него были как лопаты). При каждом таком постукивании из контакта вылетала к пальцу искра длиною сантиметра 2. Мне, как говорится, поплохело. Пьяный, думаю, сейчас его током так долбанет, что мне придется «скорую» вызывать.
— Николай Семенович, может все же лучше тестером напряжение замерять?
— Да нет, мне и так все хорошо видно.
Проходит минут 5, и на экране появляются абсолютно четкие картинки сначала первой, а затем и второй программы. А у нас в это время было всего два канала, тем не менее Барановский продолжает внутри телевизора искрить. Я волнуюсь.
— Николай Семенович, да хватит, на этом телевизоре сроду не было таких четких картинок.
— Вы знаете, недавно Павлодарское телевидение начало пробную передачу еще одного канала из Москвы. Об этом пока не сообщается, так я вам настрою еще и третий канал, чтобы потом не приходить.
И что вы думаете? Настроил почти так же четко, как и первые два. И на все у него ушло минут 10.
— Николай Семенович! Мне полагается вам налить, но вы уже в таком состоянии, что я просто не имею права. Давайте просто поужинаем.
— Нет, нет, не волнуйтесь! Работа пустяковая, а я только что хорошо покушал, я пойду.
Ушел. Ну, думаю, Петрович действительно знал, кого на работу приглашал.
Потом я выяснил, что для Барановского вообще нет никаких секретов в технике. Те, кто его знал, приглашали его помочь по любому поводу: и лодочный мотор починить, и автомобильный двигатель, и абсолютно все виды бытовой техники. У нас же он сделал чудо — быстро освоил все приборы, и они практически перестали выходить из строя, причем он делал это гораздо лучше, чем в специализированной мастерской в Павлодаре.
Надо добавить, что он был одинок, дочь, по слухам, тоже не очень хорошо устроенная, жила где-то в другом городе, по характеру он был абсолютно безобиден, мягок, абсолютно невозможно представить, чтобы он мог кому-то причинить какое-то зло. В лабораторию он влился «как тут и был», женщины его опекали: «Николай Семенович, идите чайку попить. Николай Семенович, да что вы мотаетесь, посидите с нами».
О премии
Приняв на работу Барановского, снял я часть головной боли о химиках, стало мне легче работать, но была одна небольшая неприятность. Николай Семенович раза два-три в год попадал в медвытрезвитель. Для меня вообще осталось загадкой, как в нашем городе милиция умудрялась выполнять план по доходам медвытрезвителя. Стоила ночь там, как и везде в СССР, 15 рублей, наличными милиция не брала, а высылала счет на завод вместе с требованием отчитаться перед ней о воспитательной работе с пьяницей. 15 рублей вычитали из зарплаты, пьяницу полагалось разобрать на собрании и протокол собрания выслать в милицию. Кроме этого, пьяница лишался премии, ему передвигалась очередь на квартиру и т. д. Все это входило в стандартный набор воспитательной работы. Это все понятно, непонятно было, как милиция находит пьяниц? Дело в том, что по этому показателю Ермак выгодно отличался даже от моего родного Днепропетровска, не говоря уже о Москве или городах Урала. За 22 года своей жизни там, я только один раз видел отдыхающего на газоне мужика в таком состоянии, в котором его действительно надо было доставить в медвытрезвитель, и то, возвращаясь через 10 минут, я его уже не увидел, т. е. какой-то жалостливый знакомый отволок его домой. Город ведь маленький, у нас и шагу невозможно ступить, чтобы не наткнуться на знакомого. То ли дело было в те годы в Москве, там вечером пройдешься и обязательно где-нибудь да наткнешься на валяющегося алкаша, а в Свердловске, скажем, алкашам и зима была небольшой помехой. Зашли среди бела дня на главпочтамт дать телеграмму, а там в тамбуре один лежит, и еще один под столом в операционном зале. А на Свердловском вокзале в туалете — прямо под писсуарами. У нас же такого безобразия никогда не было.
С другой стороны, у нас и милиционера увидеть, надо было постараться. Разве что на праздники, когда у них появлялся повод надеть парадную форму, да изредка под вечерок увидишь, как по улицам медленно едет милицейский УАЗ — патрулирует, однако. И как Барановский в окружении приятелей мог состыковаться с милицией так, чтобы та могла его у них отобрать, мне было непонятно. Дело в том, что я никогда не видел его упившимся «до положения риз», он всегда стоял на ногах. Я даже шутил, что менты, видимо, пользуются безотказностью Николая Семеновича, и когда у них туго с выполнением плана, то просят его прийти и переночевать у них. Но как бы то ни было, по 2–3 раза в год мне из отдела кадров приходила бумага, что Барановский «опять», и требование
0 принятии к нему мер воспитательного характера.
А какие я к нему меры приму? Я бы и в России не стал позорить ветерана войны на собрании, а в Казахстане, где казахи с исключительным уважением относятся к старшим, это было вообще недопустимо. Поручал секретарю, чтобы она напечатала липовый протокол собрания, да сообщение, что мы, де, передвинули его в очереди на получение квартиры, благо у него квартира была, и в очереди он не стоял. Все же попробовал с ним переговорить с глазу на глаз.
— Николай Семенович, давайте я тайно, никто не узнает, договорюсь с ЛТП[2], официально сообщим, что вы в отпуске, и вы там пролечитесь.
Он так грустно посмотрел на меня поверх очков и говорит:
— Юрий Игнатьевич, я цех когда-нибудь подводил?
Что да, то да. Цех он никогда не подводил — не прогуливал, на работу приходил вовремя даже после медвытрезвителя, приходилось вызывать его на работу вечером и ночью, и не было случая, чтобы он не приехал и не сделал то, что требовалось.
— Юрий Игнатьевич, я не алкоголик, но просто мне надо иногда купить бутылочку портвейна.
Думаю, что и это было правдой — он действительно мог деньги отсылать дочери и покупать бутылку портвейна очень редко, поскольку его всегда приглашали помочь и, само собой, тот, кто приглашал, тот и бегал за портвейном. Но с другой стороны, он ведь был одинок, и если лишить его возможности таким образом общаться с людьми, то во что превратится его жизнь? Наверное, его приглашали бы и так — не для работы, но пойми почему — может быть, из жалости, а Барановский, как умный человек, это безусловно понял бы и отказался. А так он и на людях, и на совершенно достойных основаниях принимает угощение. Ну что тут с ним можно поделать?
А на заводе ежемесячно подводились итоги соцсоревнования и цехам, занявшим первое место, полагалась премия. По нашей группе цехов она была невелика, что-то 200 или 300 рублей, но я считал, что буду недостаточно хорошим начальником цеха, если и эти денежки не подгребу к цеху. Мы их внутри цеха распределяли между наиболее отличившимися работниками. Кроме этого, отдельно и мне полагалась премия, где-то рублей 20 или 30. Поэтому вполне можно считать, что я из корыстных побуждений старался сделать все от меня зависящее, чтобы занять первое место. И у меня это получалось примерно половину месяцев в году.
Итоги соцсоревнования подводились в актовом зале под председательством директора. Сначала плановый отдел докладывал производственно-экономические итоги месячной работы цехов, затем выступал заместитель директора по кадрам Ибраев. Темирбулат зачитывал список прогульщиков, нарушителей дисциплины и тех, кто побывал в медвытрезвителе. За крупные непорядки, скажем, за прогулы, могли весь цех передвинуть с первого места, а за медвытрезвитель лишали премии начальника цеха. Ну и вот как-то раз совпадает, что у нас первое место, а Темирбулат зачитывает, что в ЦЗЛ Барановский попал в вытрезвитель. Затем еще раз, тут Темирбулат уделил мне персональное внимание, сообщив, что я держу в цехе злостного пьяницу, позорящего завод. Директора это заинтересовало, и он после подведения итогов пригласил меня к себе в кабинет.
— Слушай, зачем тебе лишаться премии? Давай этого, как его, Барановского, уволим
— Семен Аронович, нельзя! У человека золотая голова и руки, уволим — себе дороже будет, поскольку на нем держится вся новая техника (да и старая тоже) химиков. Я пытался его воспитывать, но без результатов — он уже пожилой, ветеран войны, у него сложилась такая жизнь, он ею живет и доволен, цех он никогда не подводил, а то, что меня иногда лишают премии, так черт с нею, надежная работа химиков стоит дороже.
Донской посмотрел на меня изучающе, а потом сказал фразу, которая произвела на меня впечатление своей точностью, а посему запомнилась навсегда.
— У многих работников бывает только одно достоинство — то, что они не пьют.
На этом разговор и закончился, но я недооценил директора. Проходит еще какое-то время, Барановский снова ночует в вытрезвителе, а мой цех занимает первое место. Ибраев на подведении итогов зачитывает список прегрешений, я жду, когда же вспомнят о Барановском, но Темирбулат о нем промолчал, и меня премировали. Я решил, что это в отделе кадров напутали и забыли включить Николая Семеновича в проскрипционный список Ибраева, и обрадовался. И только потом, когда я лучше узнал Донского, то понял, что это он дал команду своему заму по кадрам стереть Барановского из памяти и больше о нем не вспоминать, т. е. директор не позволил мне жертвовать деньгами во имя завода, хотя мне даже в голову не пришло самому его об этом попросить.
Видно птицу по полету
Барановский — удобный пример, чтобы осветить еще один аспект управления — способность управленцев со временем, с приходом опыта распознавать людей порою по одному слову, по одному действию.
Был у меня хороший знакомый Фима Маслер, еврей из Одессы с соответствующим темпераментом — живой и веселый. Приехал в Ермак в одно время со мной и тоже молодым специалистом — инженером-электронщиком. Электронику, судя по всему, знал прекрасно, по крайней мере, общага мне запомнилась и такими картинками: в дверь заглядывает чья-то голова с вопросом: «Фимка не у вас? А то у нас телевизор барахлит». И Ефим всем и всю радиотехнику ремонтировал. Работал он на участке КИП электроцеха и, кстати, первое время под руководством Барановского (пока тот не запил). Потом, когда меня назначили заместителем директора по коммерческой части и транспорту и дела ЦЗЛ как-то от меня отдалились, на заводе был организован цех КИПА (контрольно-измерительных приборов и автоматики), и начальником этого цеха стал Маслер.
Мы встречались на оперативках и у меня в кабинете, если ему требовалось по снабжению что-либо такое, для чего был нужен замдиректора. И как начальник Фима стал вызывать у меня сомнения.
Дело в том, что он в его собственных глазах никогда и ни в чем не был виноват, он всегда выкручивался и оправдывался. Что бы ни случилось по вине его цеха, а виноват всегда будет другой. Так не бывает, кроме того, это очень отрицательно характеризует такого начальника, хотя ему самому кажется, что наоборот — если он оправдался, то начальник он замечательный.
Со стороны руководителя это смотрится так: если починенный сознает свою вину, то значит есть надежда, что он примет меры, чтобы в дальнейшем подобного прегрешения не допустить, но «невиноватый» ничего делать не будет, ведь он уже все сделал — доказал свою невиновность. Когда начальник всеми силами изворачивается и выкручивается, то со стороны это выглядит очень мерзко, и я как-то инстинктивно это понял, и никогда не оправдывался, даже если моей вины точно не было. Но если неприятность возникала в моем ведомстве, то я вину брал на себя безусловно. Скажем, по тем временам, чтобы что-то привезти на завод, это надо было заказать за год. Какой-нибудь цех прошляпил — не заказал нужную позицию, а когда она потребовалась, дал заявку в отдел снабжения и начал громогласно вякать, что, дескать, не может работать из-за того, что у него нет этой позиции. Но отдел снабжения — не пожарная команда, мы не могли в один момент достать то, что нужно заказывать загодя. Я вроде и не виноват, а что — заводу от моей невиновности легче стало? Заводу же не невиновность моя нужна, а вот та самая штука, которую мы пока на завод привезти не сумели. Я, конечно, начальнику цеха выдаю за ротозейство, но, одновременно, директору объясняю, что мы делаем или будем делать, чтобы достать необходимое в пожарном порядке и когда примерно это достанем.
Более того, в первые дни моей работы замом, директор меня жалел из-за моей неопытности и вопросы ставил моим подчиненным через мою голову. Я одно совещание посмотрел на это, второе, а потом остался один на один с директором и высказал ему примерно следующее.
— Семен Аронович, вы, пожалуйста, по вопросам снабжения и транспорта действуйте через меня — мне ставьте вопросы и меня ругайте за неисполнение. А то я получаюсь каким-то посторонним.
— Так ты же еще не вошел в курс дела.
— Ничего, если вы будете меня обходить, то я долго еще не войду в курс дела. Зарплату я получаю как настоящий заместитель, вот вы и ведите себя со мною как с настоящим заместителем.
И просьба: мои подчиненные это, конечно, ваши подчиненные, и вам виднее, как поступать, но все же постарайтесь не ругать их при мне, ругайте меня, а я уж с ними сам разберусь.
Директор моей просьбе внял, правда, ругани на мою голову от начальников цехов стал во много раз больше, но зато мне стало легче! Во-первых, я чувствовал свою нужность, а стрессы от постоянных упреков заставляли мозги шевелиться быстрее. Во-вторых, мои подчиненные признали меня по-настоящему своим, а порядочные люди обычно остро переживают, когда из-за них ругают их начальника. Потом, я остро реагировал, если начальники цехов допускали по отношению к моим подчиненным пренебрежительную бестактность типа «отдел снабжения ничего не делает» или «железнодорожники всю ночь проспали». Тут уж я высказывался в адрес болтунов и быстро отучил коллег списывать непорядки только на моих людей. Своих же я, если и ругал, то попреками, скажем, получу порцию нагоняя от директора, звоню в железнодорожный: «Игнат! Ну, сколько же можно?! Директор опять меня из-за тебя выдрал! Ну, сделай же что-нибудь и скажи, что я должен сделать, чтобы этот вопрос больше не возникал!»
При всем при этом я сразу же в своих цехах и отделах запретил оправдываться.
— Если на заводе что-то случилось по вине снабжения или транспорта, то неважно, кто именно вызвал проблему — мы или цеха. Если проблема наша, то и наша вина — значит, мы чего-то недосмотрели, не умеем еще предупреждать такие неприятности. Поэтому никогда не оправдывайтесь: просто констатируйте как факт, кто еще в этом виноват, а сами немедленно думайте и принимайте меры по решению проблемы. Мы и так кругом виноваты, поэтому для нас не имеет особого значения — больше вины или меньше. Но цеха, видя, что мы не отказываемся решать вопросы и делаем все, чтобы их решить, успокоятся и не будут злобствовать.
Конечно, тут многие факторы сыграли свою роль, но, надеюсь, что и эта моя политика свое дело сделала — со временем атмосфера разрядилась и стала деловой.
Вот почему я и утверждаю, если подчиненный все время ищет оправданий, то это плохой подчиненный, вот почему и я, когда увидел, что Ефим Маслер постоянно выкручивается, пришел к выводу, что в начальники цеха он не годится. Но это был не мой цех, не я за него отвечал, а главному инженеру было виднее, что делать.
Однако как-то идем с Бондаревыми и Харсеевыми по коридору заводского профилактория в сауну, а навстречу Барановский. Я его уже очень давно не видел, поэтому обрадовался встрече.
— Николай Семенович, решили подправить в профилактории большевистское здоровье?
Однако Барановский как-то смущенно заулыбался.
— Нет, меня, знаете, выгнали из ЦЗЛ, и я теперь работаю в профилактории электриком.
Ё-моё! Возмущению моему не было пределов, тем более, что уже сидя в сауне, я начал вспоминать что последнее время начальник ЦЗЛ Тимофеев на селекторных совещаниях очень часто стал жаловаться на то, что ЦЗЛ не выделяют автомашину. Выгнали Барановского, а теперь возят анализаторы на ремонт в Павлодар, — сообразил я.
Утром прихожу на работу и сразу звоню в химлабораторию Тишкину.
— Петрович! Вы что там с Тимофеевым умом тронулись? Вы зачем выгнали Барановского?
— Это вы в заводоуправлении умом тронулись, когда передали ремонтную группу химиков в штат цеха КИПА! Семеныч попал в вытрезвитель, а Фимка его сразу же и выгнал с завода.
Я набираю Маслера.
— Ефим Михайлович, ты что, совсем охренел? Ты зачем выгнал Барановского?
— Это не твое дело! Мне алкаши в цехе не нужны.
— Да он алкаш в десятую очередь, а в первую он специалист, которых у тебя нет. Я в ЦЗЛ с Барановским анализаторы на ремонт в Павлодар не возил, ты же выгнал его, а сам анализаторы отремонтировать не способен…
Фимка бросил трубку, а у меня сложилось четкое убеждение, что Донской его заменит, поскольку так, как Маслер, работать начальником цеха нельзя. Действительно это случилось, хотя и через несколько лет: если человек не понимает, что его главная ценность не его зарплата, а его подчиненные, если он не понимает, что всегда виноват во всех недостатках порученного ему дела, то он не начальник.
Антураж начальника
Еще один признак, по которому можно сразу же почувствовать, что произошла кадровая ошибка. Был у меня хороший знакомый — Дюсембай Дуйсенов. Мы одно время были соседями по площадке, отношения у нас были вполне приятельские, но он работал в блоке ремонтно-механических цехов (БРМЦ), и поэтому по работе я с ним практически не сталкивался. Я уже был замом по коммерческой части, когда его назначили начальником БРМЦ, объявил об этом Донской на пятничной заводской оперативке, и я порадовался за Дюсембая. Но буквально на следующий день, вернее, в понедельник ко мне заходит В. А. Шлыков, начальник отдела снабжения, с очень удивившим меня вопросом. Пришла кладовщица БРМЦ с заявкой на большой перечень отделочных материалов, часть из которых мы берегли на пожарный случай — вдруг заводу срочно потребуется какой-то материал, который можно обменять только на дефицит, а отделочные материалы были дефицитом, и их охотно взяли бы в обмен на нужное нам. Вот Шлыков и предложил мне принять решение по этой заявке, поскольку материалы выписывались не для решения какого-то аварийного вопроса БРМЦ, а для ремонта кабинета начальника, т. е. Дуйсенова. Мы же в этом кабинете регулярно бывали, и ни у меня, ни у Шлыкова и мысли не возникло, что он нуждается в ремонте — вполне прилично выглядело это помещение.
Теперь, чтобы понять мою реакцию, мне надо вспомнить собственное отношение к кабинетам, да и вообще — к антуражу начальника. По тем временам директора заводов считались хозяевами заводов только для красного словца, поскольку, как бы ты ни хотел действительно стать настоящим хозяином в смысле прав и ответственности, но тебе этого не давали. Слишком много было наверху безответственного, но «вумного» начальства.
Не давали быть хозяином и Друинскому. Он начал строить Ермаковский завод ферросплавов, вводились в строй печи, цеха, росло количество общезаводского управленческого персонала, и надо было строить здание заводоуправления. Но Москва не разрешала строить заводоуправление, надо думать из тех соображений, чтобы местное начальство не погрязло в комфорте. И Друинский пошел на хитрость, одну из многих по тем временам — он построил здание цеха заводских лабораторий (ЦЗЛ) из расчета полной мощности завода, т. е. семи плавильных цехов. Оно было четырехэтажным, канализация была керамическая кислотоупорная, были подведены соответствующие электрические мощности. Но после постройки в здание ЦЗЛ заселился общезаводской персонал, и стало оно называться заводоуправлением. Когда я приехал в Ермак в нем все еще было просторно, нам, ЦЗЛ, принадлежал чуть ли не весь третий этаж, и не только начальник ЦЗЛ, но и начальники металлургической и химической лабораторий имели свои отдельные кабинеты.
Но завод рос, росло число специалистов и бюрократии, и нас, работников ЦЗЛ, стали из нашего здания выкидывать. К моменту, когда я стал начальником металлургической лаборатории, выкинули всех, кроме собственно начальника ЦЗЛ — его кабинет еще оставался в здании заводоуправления, а все лаборатории ЦЗЛ разместили в неприспособленных для этого помещениях бытового корпуса цеха № 4. Начальник химлаборатории все же выкроил себе светлицу метров на 6 (квадратных), а мне подо всю металлургическую лабораторию дали просторную комнату на три окна. По уму надо было отгородить стенкой одно окно, прорубить дверь в коридор и сделать себе кабинет. Честно скажу, что уже не вспомню всех причин, но я этого не сделал, а тремя сервантами, приспособленными для хранения книг и документов, отгородил себе угол, сверху на серванты поставил горшки с комнатными растениями и чувствовал себя вполне комфортно, исключая замечания моих инженеров-женщин, что я в своем углу подпольно курю. Это было единственное неудобство, так как приходилось выходить в коридор перекурить. Но в моем деле инженера и начальника, сначала надо обдумать, а потом написать или давать команды, а думать мне никто не мешал и в коридоре.
Потом уволился начальник ЦЗЛ А. А. Парфенов, и пока начальство чесало репы, как меня, беспартийного, назначить начальником ЦЗЛ, шустрые заводоуправленцы захватили последнюю опорную точку ЦЗЛ в здании ЦЗЛ — кабинет начальника ЦЗЛ. Меня, в конце концов, назначили начальником, а садиться было некуда. Я немного потолкался по заводу, присматривая подходящие комнаты в цехах, но потом плюнул и остался сидеть там, где и сидел — за шкафами в метлаборатории. И ничего — семь лет просидел, и был единственным начальником на заводе, у которого подчиненные имеют кабинеты, а сам начальник — нет. Но, опять же таки, не вспомню никаких своих переживаний по этому поводу. А ведь всегда сам очень многое обдумывал лично и очень много писал лично, но, тем не менее, наличие до десятка и других работников в этой же комнате мне ничуть не мешало.
После должности начальника ЦЗЛ меня назначили заместителем директора завода по коммерческой части и транспорту, и я вселился в кабинет своего предшественника, а это уже был настоящий просторный кабинет, приспособленный для проведения совещаний с большим количеством специалистов. Сначала я и сел на место предшественника — спиной к окну, лицом к двери, но я много курю, и приходилось открывать окно, причем именно то, что у меня за спиной, поскольку во втором был наглухо встроен кондиционер. Потекли сопли от сквозняков, я пересел к боковой стенке, соответственно переставив мебель. На подоконнике стоял чахлый лесной кактус (по-научному, эпифиллюм), я подобрал на складе металлолома большой плафон промышленного светильника, сделал для него треногу и пересадил это несчастное растение в эту просторную емкость, отставив его от окна. Оказалось, что так и надо, что эти растения не переносят прямых солнечных лучей, и этот кактус от благодарности стал цвести множеством алых цветов, настолько красивых, что любоваться ими приходило чуть ли не все заводоуправление.
Остался мне от предшественника и большой музыкальный центр с хорошим радиоприемником, но мне это было без надобности, а места под документы мне не хватало, поэтому я попросил главбуха Х. М. Прушинскую, чтобы она эту бандуру кому-нибудь отдала и освободила мне тумбочку. Вот, собственно, и все, на что меня хватило в новом кабинете при вступлении в новую должность. (Правда, я изменил и порядки, но об этом чуть позже.) Восемь лет я проработал на этом месте, и мне ни разу не пришло в голову его улучшать. Как-то весной зашла Прушинская и спросила, в каком месяце я собираюсь идти в отпуск. Меня этот вопрос удивил, поскольку он обязан волновать тех, кто будет исполнять мои обязанности во время моего отпуска, а Христина — главбух, ее, как и меня, на должность назначал министр, было бы нелепо, если бы директор вдруг оставил ее за меня.
— А тебе это зачем?
— Хочу сделать заказ РСЦ (ремстройцеху) отремонтировать тебе кабинет, пока ты будешь отдыхать, а то у тебя просто хлев какой-то.
— Ну, так уж и хлев!
Я оглянулся. Стены были изрядно закопченные, на потолке оказались какие-то желтые разводы, хотя я не вспомню, чтобы меня сверху заливали водой, краска на оконных рамах облупилась, перед входной дверью в линолеуме протерлась дыра — да, видок был не из лучших! И в тот год, когда я был в отпуске, мне перестлали линолеум, побелили стены и потолок, покрасили окна, а поскольку Христина за этим присматривала, то и качество ремонта было не самое худшее.
Отвлекусь пока от кабинета на антураж.
Мне полагалась персональная автомашина с водителем. Сначала это был УАЗик, потом я нашел решение проблем с автотранспортом для завода, и когда мы получили партию дизельных микроавтобусов «Фольксваген», то я пересел на него. Уже в первый день я обратил внимание, что ехать домой на обед в пустом Микроавтобусе как-то неприлично, впрочем, я и на УАЗике один не ездил. В результате, кроме моих постоянных попутчиков Лопатиной и Прушинской, в автобус грузилась и масса подсуетившихся работниц заводоуправления. Возвращаясь с обеда, мы их всех подбирали. Ничего в этом особенного не было, об отношении Друинского к персональному транспорту я скажу позже, а в машине Донского на обед и с обеда тоже кто-нибудь обязательно ездил, скажем, я помню среди его попутчиков Нину Атаманицыну.
Водители у меня всегда были прекрасные, последние годы меня возил Федор Медведев. Он и мой секретарь Наташа Омельченко были для меня людьми особыми. Они не были моими друзьями, приятелями или родственниками. Они были «мои». Я, конечно, не могу утверждать, что они относились ко мне хорошо, но я никогда не видел у них ни малейшей фальши, посему уверен, что они переживали вместе со мною мои неприятности и радовались моим удачам.
С Федором мы проехали не один десяток тысяч километров без каких-либо происшествий, даже мелких, даже колесо у нас ни разу не спускало. Было настроение — разговаривали, нет — молчали. Помнится почему-то ночь, кромешная темень, фары высвечивают поземку на асфальте, я ставлю кассеты Мирей Матье и Патриции Каас. Прекрасные мелодии, ясные чистые голоса, слов не понимаешь, внимание не отвлекается и прекрасно думается обо всем. К концу моей работы связь завода освоила радиотелефоны и пыталась установить и на мою машину. Я категорически отказался: по своей тогдашней должности зама по экономике я не участвовал в непосредственной ликвидации аварий, и посему никому не мог быть нужен в ту же минуту. В кабинет все время звонят, и еще и в машину будут звонить?! А когда же я буду думать? Потерпят, пока не приеду в кабинет.
А к концу моей работы на заводе Федор и настоял, чтобы я пересел на «Волгу». Я, конечно, поинтересовался, не пугает ли его, что эта отечественная машина чаще ломается, но ему все же хотелось ездить на «Волге», пришлось отдать микроавтобус и пересесть, проблем, повторю, и с «Волгой» у Федора не было.
Наташа Омельченко принадлежала мне на 1/3 поскольку была секретарем зама директора по быту Ивана Ивановича Боровских, зама директора по капитальному строительству Федора Гавриловича Потеса и моим. Но я считал, что она принадлежит мне на 100 %, поскольку мне казалось, что она работает только на меня. Христина, правда, ворчала: «Вечно твоя Наташка на месте не сидит, бегает по заводоуправлению сплетничает», — но когда мне было нужно, то она была тут как тут. Сообразительная и умная Наталья перепечатала для меня массу статей и рукописи трех книг. Причем перепечатала грамотно и читая, т. е. практически правя текст. Иногда даже спорила со мной по содержанию того, что перепечатывает, убеждала, что нужно писать по-другому, и дельно убеждала.
Наташа компенсировала отсутствие евроремонта моего кабинета. Дело в том, что она была очень симпатичной молодой женщиной, мало того, она имела красивую фигуру и длинные красивейшие ноги, которые вызывающе не скрывала от общества. И вот заходят ко мне в кабинет иностранцы, начинают скептически оглядываться, а я вызываю Наталью и поручаю ей сделать кофе. И иностранцы, не избалованные у себя в европах красивыми женщинами, тут же переключают внимание на Наташкину мини-юбку и на то, что ниже и выше, ну а я постепенно подвожу беседу к цели встречи, и интерьер моего кабинета отходит на второй план. Шучу, конечно, но это такая шутка, в которой есть и доля шутки.
Видите ли, должность — это работа, а кабинет — одно из рабочих мест, посему в нем главное — не внешний вид, а его удобство для работы, причем не твоей, начальника, работы, а работы той организации, которую ты возглавляешь. Это я уже сейчас обдумал данную истину, а тогда у меня все получалось автоматически, поскольку мне очень хотелось быть полезным своему заводу.
У моего предшественника висела на двери табличка, сообщающая о времени приема посетителей по личным вопросам, поскольку у зама по коммерции весь завод выписывал нужные для дома и дачи материалы. Я эту табличку снял и выбросил, предупредив Наталью, что у меня приема по личным вопросам не будет. Это для работника завода выписка чего-либо для дома — личный вопрос, а для меня это должностная обязанность. Ведь работник завода идет ко мне подписывать заявление, когда у него появляется «окно» в работе, а не обязательно тогда, когда мне удобно, поэтому я и принимал всех все время. Я не терпел, чтобы меня кто-то ожидал в приемной, мне было неудобно, я чувствовал в этом какой-то непорядок: ведь эти люди должны работать, а они меня ждут. Поэтому Наталья была проинструктирована рассеивать людей перед моей дверью, и любому, спрашивающему меня, она рекомендовала заглянуть в кабинет и, если я один, то зайти. (Мои подчиненные и коллеги заходили вне зависимости от того, был ли кто-нибудь у меня, — если мои люди простаивают из-за меня, то мне же дороже!) Если какой-нибудь бедняга мялся, не решаясь тревожить меня — высокое начальство, когда оно беседует в кабинете с кем-то, то Наталья брала у него бумаги, вникала в суть и сама с ними входила, заходила мне за спину и совала мне под правую руку, чтобы я расписался, не прерывая беседы.
Строго говоря, я наплевал на все законы организации труда руководителя, рекомендованные великими научными умами, и то, что я делал, можно считать дезорганизацией. На самом деле это не так, поскольку люди гораздо умнее, чем о них думают ученые. Работники завода быстро поняли, чего я хочу и чего добиваюсь, посему сами оценивали ситуацию у меня в кабинете и важность своего вопроса, т. е. насколько им нужно задействовать меня — насколько им нужно отвлечь мое внимание. Если требовалась только подпись, то они сразу же заходили и клали документы на стол, поскольку, просто подписывая, я не терял нить разговора. Если им нужно было и переговорить со мною, то ждали, когда я освобожусь. Старшие начальники, видя, что у меня сидят младшие, и, понимая, что их вопрос требует более быстрого решения, заходили, садились и ждали паузы в разговоре, чтобы сообщить о цели прихода, либо, поняв, о чем речь, давали мне принять решение и отпустить предыдущего посетителя. У меня не было никакого регламента, но, уверяю, не было и никакого бардака — люди и не стеснялись зайти ко мне, но и не хотели мешать мне, поэтому ориентировались по обстановке и получалось у них это неплохо. Во всяком случае, ни разу не возникал вопрос, что у кого-то задержалось какое-либо дело потому, что он не смог со мною переговорить.
Такой режим был несколько неудобен в случае, если тебе самому нужно что-то придумать, т. е. когда ты погрузился в тему, а тебя все время отвлекают. Но такие темы редко бывают очень срочными и всегда можно заняться ими после конца рабочего дня.
Через несколько дней после того, как я стал замом директора, заходит ко мне Ира Есаулкова, заведующая заводской библиотекой, и кладет на стол несколько свежих литературно-художественных журналов. Оказывается, мои предшественники читали их в рабочее время. Я удивился и распорядился, чтобы она мне ничего не носила, удивился потому, что самое интересное в рабочее время — это сама работа. И если ты, наконец, настроил работу так, что у тебя появляется свободное время, то это еще интереснее, поскольку теперь у тебя появляется возможность подумать, как свою работу сделать еще лучше.
И вот теперь представьте, что вы на моем месте и что вам сообщают, что новый начальник БРМЦ (фактически директор литейно-механического завода, численностью, если не ошибаюсь, в 1,5 тысячи человек) первый рабочий день начал с обдумывания того, как ему обустроить кабинет. Что бы вы о нем подумали? Правильно, меня это возмутило: по моим представлениям, ему лет 5 предстояло думать только о том, как улучшить работу БРМЦ, а не о том, в каком интерьере он будет смотреться. Заявку я, конечно, подписал, однако вечером решал с Донским разные дела, в том числе дошли и до БРМЦ, и тут я вспомнил про кабинет Дуйсенова и рассказал Донскому об этом первом шаге нового начальника. Запомнилось, что Семен Аронович не стал расспрашивать меня, зачем я ему о таком пустяке сообщаю, а замолчал и, задумчиво постукивая карандашом по столу, сказал: «Что же! Возможно, мы и ошиблись с его назначением». Действительно, довольно скоро Дуйсенов был освобожден от этой должности, но работать на заводе на меньшей должности не захотел — перевелся на работу в Павлодар.
Заканчивая эти размышления об опыте (писать я о нем буду и дальше), хочу отметить, что формально самым большим опытом обладают так называемые ученые. Правда, это опыт книжный, но все же опыт. Однако из опыта работы с учеными я обратил внимание на то, что они очень редко превращают свой опыт в результаты, и в целом он им служит только предметом болтовни и умствования. Но на реальном заводе только на болтовне и умствованиях далеко не уедешь, тут опыт нужен для получения результата, а не для болтовни, причем, само собой, нужен точный опыт. А в точности его никогда уверенности нет, и всегда есть страх, что не получится, что вместо результата получишь убытки. Поэтому тут нужен и опыт мужества и смелости, опыт в принятии самостоятельных решений. Начальник без самостоятельных решений — на заводе не начальник.
Я стал настоящим начальником — начальником цеха — в 31 год, но к тому времени я уже имел 14 лет общего трудового стажа. Между тем, когда я давал согласие стать начальником ЦЗЛ, меня это и радовало, и пугало, и если бы меня не назначили, то меня это, скорее всего, ничуть не огорчило бы: отвечать за людей, это, как я уже сказал, не очень большой подарок.
Не знаю, сумел ли я обрисовать вам ту главную обязанность, которая лежит на заводском инженере, и которая лежала на молодом и неопытном Друинском, — сделать нужное дело при помощи техники и людей.
Думаю, для меня и для всех моих коллег наиболее тяжелой является работа с людьми, поэтому давайте немного продолжим эту тему.
Глава 5 ПОДЧИНЕННЫЕ КАК ПРОБЛЕМА
Принципиальные моменты
М. И. Друинский, не имея формального образования, делал очень быстро не только инженерную карьеру, но и карьеру руководителя. А в этой карьере есть тонкость, если хотите, трудность, которую часто либо недоучитывают, либо боятся, — это работа с людьми. И если Мишу Друинского уже через два года назначают мастером, т. е. назначают руководить коллективом примерно в 40 человек, то, значит, он работать с подчиненными умел. Мне это объяснять не надо — он был моим руководителем, я его видел в деле. Но думаю, что читателю интересно будет узнать о тех нюансах руководства людьми, о которых обычно мало сообщают, и о которых ничего не написал и Друинский.
Однако для начала немного поговорим об общих, принципиальных моментах. Вот вы стали начальником, и у вас в подчинении некий коллектив. Если ваш отдел кадров нахватает на улице первых попавшихся людей и предоставит вам в качестве работников, то в этой толпе основная часть будет собственно толпа, а на её флангах будут две крайности — бездельники и трудяги. Вам придется с этим разобраться и потихонечку от бездельников избавиться. И дело не в том, что бездельники неэкономичны и не оправдывают своей зарплаты, дело гораздо хуже. Если вы не уберете бездельников (или не сумеете заставить их работать), то толпа постепенно станет работать как бездельники, толпа будет равняться на них. Тут все просто.
Каждый человек, и это естественно, хочет продавать свой труд как можно дороже. А почему нет? Упрекать его в этом невозможно, поскольку нужно придумать, почему он должен продавать свой труд за полцены, если есть возможность получить полную цену, да еще и с надбавкой. Предположим, что мы свой труд измеряем в килограммах, на работе тратим его 10 килограмм и получаем за это 10 рублей. Обычно все, и сам работник в первую очередь, смотрят на последнее число, и если оно его устраивает, то он спокойно работает. Но человек автоматически, подсознательно делает расчет и получает, что он продает свой труд по цене 1 рубль за килограмм. И на самом деле эта подсознательная цена является более важной, чем сумма дохода в 10 рублей.
Вы же не объясните иначе, почему в СССР, где мужчина без проблем на рыболовецком траулере или в шахте мог заработать 600 рублей в месяц, миллионы мужчин сидели в конторах и институтах на зарплате в 130 рублей? Ныли, убеждали друг друга, что «на Западе инженеры получают больше рабочих», но сидели. Сидели потому, что из-за их фактического безделья цена их труда (интеллектуального и физического) была выше цены труда рыбака или шахтера. То же мы видим и сегодня: с одной стороны, в той же Москве полно объявлений, что требуются сварщики или машинисты в метро, обещается зарплата в 30 и даже 50 тысяч рублей, а с другой стороны, сотни тысяч молодых мужиков работают вахтерами и охранниками за 5-10 тысяч. Дело не только в презрении к труду как таковому, которое упорно прививают населению наши СМИ, дело и в цене труда. На свои 5-10 тысяч эти вахтеры работают так мало, что цена их труда намного выше цены труда толкового работяги.
А теперь представьте, что у вас толпа работает 10 кг в день, получая за это 10 рублей, но завелся бездельник, который работает в день на 1 килограмм, а получает те же 10 рублей. Толпа продает свой труд рубль за килограмм, а бездельник — 10 рублей за килограмм. Толпе обидно, толпа тоже будет стремиться продать свой труд подороже, толпа тоже будет стремиться работать мало. Это известно с давних пор, но редко формулируется в точном виде. Скажем, по русским обычаям, когда невестки идут в поле жать хлеб, с ними должна выйти и свекровь, поскольку в противном случае всем невесткам задаст темп и качество работы самая ленивая.
Это хозяйственный аспект необходимости избавиться от бездельников, но есть и моральный. Деньги на зарплату приходят от суммарной работы всего коллектива, и если вы терпите бездельника, то вы остальным своим работникам сажаете на шею паразита. Это несправедливо, а начальнику ни в коем случае нельзя быть несправедливым, иначе коллектив «пойдет в разнос», дело перестанет делаться, и вас самого уберут. Уберут ваши начальники или хозяин.
Редкий случай
Итак, проблему мы обрисовали — бездельников надо либо заставить работать хотя бы так, как работает толпа, либо избавиться от них, но тут возникает еще одна проблема — бездельникам это не понравится. И они могут принять свои меры против вас. У меня был случай поистине уникальный, настолько уникальный, что его можно было бы и не учитывать, тем не менее, он, на мой взгляд, оттеняет проблему.
Напомню, что я начал работать на Ермаковском заводе ферросплавов помощником мастера в цехе № 4, и на этой должности мне делать было особо нечего. Был я на побегушках при мастере Г.И. Енине и начальнике смены А.Б. Хегае. Сейчас я вспоминаю, что несколько раз мне поручалось разбирать завалы в транспортерных галереях — кучи коксика или кварцита, свалившихся с транспортерных лент в нашей смене и затруднявших проход вдоль транспортеров да и работу самих транспортеров. Тогда меня эти поручения не удивляли — надо же было и мне чем-то полезным заняться в цехе. Однако сейчас, когда я начал писать об этом, мне это уже не кажется естественным. Однажды особенно большой завал коксика мы сбросили лопатами на ленту транспортера вместе с Гарриком Ениным, т. е. мы, два инженерно-технических работника выполняли работу, которую должны были сделать рабочие. А положение здесь такое.
В металлургии в случае аварии не до чинопочитания — все должны участвовать в её ликвидации, но авария-то у нас была пустяковая, на работу печей она не влияла и речь шла только о том, чтобы сдать свою смену без замечаний со стороны принимавшей смену бригады. Вот у меня сейчас и возник вопрос — а почему её делали мы, ИТР? Почему не плавильщики нашей смены, которые эту работу всегда и везде делают? Усугубляет мои сомнения и то, что в бригаде цеха № 4 людей было сверхштатное количество. (В цехе бригадой называются два коллектива — группа людей (плавильщики и горновые), обслуживающих одну печь, и возглавляемая бригадиром печи, и весь сменный состав работников цеха, возглавляемый начальником смены.) Заканчивались монтажи печей № 45 и 46, их штат был уже в цехе в качестве сверхштатных рабочих на уже работавших печах, в смену в ночь люди у нас откровенно спали большую часть времени — им нечем было заняться, тогда почему же завалы разбирали мы, ИТР?
Да и само поручение, послужившее началом конфликта, мне теперь уже не кажется естественным. Перед концом смены Енин обходил печи и в зоне обслуживания какой-то печи увидел мусор, он вернулся в комнату начальников смен и поручил мне послать конкретных плавильщиков этой печи убрать этот мусор. Но он проходил мимо этих плавильщиков, когда осматривал печь, почему сам не дал им задание? Почему не дал его бригадиру печи?
Но, повторю, в том далеком 1973 году меня это не смутило, я бодро пошел на печь, разыскал тех, чьи фамилии назвал Гаррик, и распорядился убрать мусор. Указанные лица развалились на лавочке, один из них презрительно рассмотрел меня и послал на х… Однако у меня в смене было не так много заданий, чтобы я их не исполнял. Не помню подробностей, как я это сделал и что им сказал, но я поднял этих бичей с лавочки и заставил взять лопаты. При этом один из них молча и угрожающе посмотрел на меня. У меня в душу закралось некое тревожное чувство от этого взгляда, но сукин сын не предлагал мне того, что за таким взглядом должно было последовать, — выйти и разобраться один на один.
Мы работали в сменах с утра, предсменное собрание было в половине восьмого, чтобы успеть позавтракать в столовой, нужно было встать в шесть, и я лег спать еще до полуночи. В общаге, в нашей комнате моих соседей еще не было, и я дверь не закрывал на ключ, чтобы они, вернувшись, меня не будили (да мы её редко и закрывали). Я уже спал лицом к стене, когда в комнату зашли три урода, один из них перевернул меня за плечо на спину и спросил: «Ты Юрка Мухин?» Я спросонья решил, что меня зачем-то разыскивают по работе и, еще не проснувшись, подтвердил. Вслед за этим последовал удар кулаком сверху по лицу, в принципе он был не очень сильный, но для меня неудачный — сукин сын бил правой, моя голова была приподнята подушкой, и удар пришелся как бы от моего лба вниз. В результате у меня была не просто разбита губа, что, в общем-то, чепуховое повреждение, а нижняя губа была распорота изнутри зубом почти до кожи. Соответственно с меня полилось много крови, что, надо думать, смутило и этих уродов. Они быстро оттарабанили мне, что если я еще раз попробую на работе командовать, то они меня зароют, и ушли. Между прочим, того сукиного сына, которому я днем давал задание, среди них не было, и бил меня не он.
Я сначала склонился с кровати, чтобы с меня стекла лишняя кровь не на простыни, а на пол. Затем встал и начал думать, что делать. Для начала надо было умыться, комната для умывания находилась в конце коридора, я надел брюки и обулся, но очки надевать не стал, так как все равно их надо было снимать при умывании. Вышел в коридор, и тут случилось недоразумение — на меня налетел с кулаками какой-то пьяненький мужик в майке и босиком. Я по прошествии лет уже забыл, что он тогда решил, но я-то решил, что это один из тех, поэтому мы какое-то время молотили друг друга кулаками, пока на нем не повисла жена, а меня не оттеснили от него соседи из других комнат с криками: «Да вы же свои!» Мужик был пьяненький, а я трезвый и злой, поэтому умываться нам пришлось идти вместе.
Умылись, я надел рубашку и очки, и тут соседи по общаге мне объяснили, что били меня «местные», т. е. хулиганствующая группировка из молодежи, родившейся в Ермаке. По этой причине они были сплочены, а жители общаги разобщены временностью своего пристанища, посему, как оказалось, местные, запугали тут всех, и творили в общаге, что хотели. Мне объяснили, что я удостоился чести — среди тех троих был сам главарь, как мне сказали, сын начальника городской милиции, а поэтому абсолютно безнаказанный. Такие группировки в то время были в каждом городском районе СССР, и в каждом селе. Они и близко не походили на нынешние бандгруппировки, и максимальное по тяжести преступление, на которое они обычно шли, — хулиганство. Правда, в драках иногда были и убитые, но в целом это были компании молодых людей, не собиравшихся становиться преступниками. Тем не менее, неприятности, как видите, доставляли и они
Итак, эта ночка у меня началась нескучно. Я спустился на первый этаж общаги к телефону, находившемуся у вахтерши, и вызвал милицию. Тут же со второго (женского) этажа спустились и эти уроды со смешками: «Звони, звони!» Вахтерша, которая не имела права их пропускать в общежитие, была явно ими запугана, они развалились тут же на стульях, и по их мордам было видно, что они действительно ни в меньшей мере не беспокоятся по поводу приезда милиции. Подъехал патруль, зашли два милиционера, и тут, откуда ни возьмись, из самой общаги выскакивает еще один урод в трико, майке и в милицейской фуражке, и отсылает патруль с уверениями, что он сам во всем разберется.
Поднимаемся на четвертый этаж ко мне в комнату — эти трое ублюдков и мент. Мент требует от меня написать, что произошло, а мне накануне родители прислали посылку с яблоками, так вот эти уроды расхватали яблоки, стоят вокруг меня, чавкают и пересмеиваются с ментом. Мент забрал мною написанное, сказал мне, что милиция во всем разберется, и наконец ушел вместе с посмеивающимися уродами. Информация о том, что главарь этой шоблы сын начальника милиции, находила свое подтверждение
Надо было заняться и губой, я чувствовал языком, что губа распорота сантиметра на 4 и так просто не заживет. Но я проходил медкомиссию при поступлении на завод и уже знал, где расположена городская больница, поэтому потопал туда. В приемном покое сидели две девчушки, они меня осмотрели и вызвали дежурного хирурга — это тоже оказалась девчушка, но чуть постарше. У них на лицах долго была нерешительность, но, наконец, консилиум эскулапов решил, что губу нужно все же зашить. Вкололи мне новокаин и приступили. Штопали они меня довольно долго и навязали такие узлы, то опухоль шрама на губе у меня, если присмотреться, и сейчас видна, а в те годы не было случая, чтобы я познакомился с врачом, и чтобы он, выбрав время, не отозвал меня в сторону и не поинтересовался — не рак ли это? Но что поделать — город был молодой, все мы были молоды и неопытны, у меня на этих девчушек никогда обиды не было. (Единственно, я с такой губой надолго разучился свистеть, и чертов Гаррик Енин меня вечно при встречах подначивал: «А ну свистни!» Но с другой стороны, как говорится в редко используемой ныне присказке: «Для мужчин всего дороже — шрам на роже!» Девчушки мне его обеспечили.)
Утром я приехал на работу с большим опозданием и с вопросом прежде всего к Гаррику и Леше: «Это что же тут такое, мать вашу, творится?!» Хегай тут же позвонил Владимиру Павловичу Березко, начальнику цеха, и Гаррик меня к нему повел. Березко выслушал, помрачнел и позвонил Пасюкову, исполнявшему обязанности главного инженера в отсутствие Друинского (тот был в отпуске). Владимир Николаевич тут же вызвал меня к себе, выслушал, помрачнел, позвонил начальнику милиции, мы сели в машину Главного инженера и поехали в город. Поднялись на второй этаж милиции в кабинет начальника, тот нас ждал. Вместе с ним был и худой, седой майор, казах — начальник уголовного розыска. Я снова рассказал всю историю в подробностях, хотя, надо сказать, моя губа не располагала к красноречию. Помрачнели менты, начальник милиции, когда я сказал, что, по мнению народа, главарь шайки — его сын, запротестовал, что у него вообще нет сыновей, и было видно, что офицеры милиции догадываются, что будет делать Пасюков (а говорил он с ментами очень зло), если они немедленно не примут меры. Начальник милиции тут же скомандовал майору, чтобы эти сволочи немедленно сидели в КПЗ. Пасюков поехал на завод, а майор завел меня в комнату оперов, в ней было несколько столов и сидели два молодых опера. «Как они выглядели?» — спросил меня начальник угро. Я начал подробно их описывать — не надо было им мои яблоки жрать — я их хорошо запомнил
— Не надо, — остановил меня майор, — мент был рыжий казах?
— Да.
Опера деловито встали, достали из сейфа кобуры, прицепили их на брючные ремни под пиджаки и вышли. А я написал заявление.
— Слушай, — сказал мне майор, сочувственно глядя на мою губу, — ты, наверное, не завтракал, иди, постарайся пообедать, а через часик придешь на опознание.
Я скептически воспринял этот «часик», но город маленький, и если я и жевал медленно и ходил не спеша, то все же вряд ли отсутствовал больше часа. Возвратился в милицию, поднялся в комнату к операм, в ней сидел один из них со скучающим видом. При моем появлении обрадовался, усадил меня за один из пустых столов и позвонил. Сержант привел одного из моих обидчиков.
— Этот бил? — спросил опер. — Да.
Опер усадил подозреваемого за стол, стоявший напротив стола, за которым сидел я, положил перед ним чистый лист бумаги и шариковую ручку, встал у того за спиной и начал диктовать «шапку»: «Начальнику Ермаковского городского отдела внутренних дел…», — одновременно глядя подозреваемому поверх плеча, правильно ли тот пишет. Покончили с формальностями, и опер скомандовал:
— Теперь пиши подробненько всё, как было.
— Не помню, — заупрямился сукин сын.
В Днепропетровске я неоднократно слышал, что в милиции бьют каким-то специальным способом — так, чтобы у подозреваемых следов не оставалось. Говорили про мокрые простыни, про мешочки с песком и т. д. Если это и правда, то до Ермака эти хитрые штучки явно не дошли. Опер немедленно и очень резко нанес удар как-то сверху и настолько сильно, что парень, ударившись лицом о стол, разбил нос. С него начала стекать кровь на листок с его писаниной, опер терпеливо подождал, пока она перестанет течь, выбросил листок в корзину, положил новый и снова начал диктовать: «Начальнику Ермаковского…» — и так дошли до места, с которого опер скомандовал: «Теперь пиши все и подробненько», и у подозреваемого провалы в памяти как рукой сняло — он торопливо начал писать. Опер давал советы: «Всех, кто был, напиши… клички не надо — фамилии…» — и, наконец, продиктовал: «Написано собственноручно, подпись».
Сержант увел несчастного, а опер начал деловито подшивать его показания в папочку. Я наивно спросил:
— А остальных поймали?
Опер удивленно взглянул на меня.
— Да они уже давно во всем признались, сейчас с ними там внизу дежурные занимаются.
Я деликатно не стал уточнять, что кроется за загадочным словом «занимаются», поскольку, как мне кажется, понял его правильно. Тем не менее, я полагал, что по такому преступлению должно было быть возбуждено уголовное дело как минимум по статье о хулиганстве, но по опыту Днепропетровска думал, что следствие должно длиться довольно долго, а посему спокойно ждал, когда меня вызовут в прокуратуру. Однако дней через 5 кто-то в общаге мне сказал, что местные на меня обозлены, поскольку из-за меня их главаря и остальных посадили на 15 суток. Теперь уже я страшно обозлился, поскольку меня не успокоило даже сообщение о том, что рыжего мента в тот же день выкинули из МВД и посадили на 15 суток вместе со всеми. Пошел в милицию, там мне эти сведения подтвердили, пошел в прокуратуру и написал заявление на милицию. Спустя неделю или две получил оттуда официальный ответ, что «так суд решил», и прокуратура не видит оснований вмешиваться. Надо было бы жаловаться выше, но штука в том, что губа уже зажила, хотя и некрасиво, а злость прошла
Позже я понял, что менты поступили мудро — не по закону, а по понятиям. Тюрьма оступившимся, но умным, ничего не дает, а из подлых дураков делает преступников. С другой стороны, мне в этом городе жить, город маленький, и зачем мне в нем нужна была слава, что из-за меня какие-то молодые парни сели в тюрягу? Потом — что я сам, что ли, глупостей не творил, чтобы иметь к кому-то особые претензии за их глупости? Тем более, как показала жизнь, менты мне гарантировали такую защиту, что ого-го!
Спустя пару месяцев сталкиваюсь я в городе с тем самым главарем, и он мне выдает, что честные, де, фраера в ментовку не обращаются, а решают дела между собой и т. д.
— Ах ты, сука! А вы что, меня не втроем били, а один на один вызывали? За тобой твоя шобла стоит? — спрашиваю я главаря
— Стоит! — с гордостью подтверждает тот.
— Так вот, и за мной стоит моя шобла — менты. Я им налогами зарплату плачу, а посему в любой момент могу им свистнуть. Так, что дальше будем иметь дело шоблой на шоблу. Усек?
Главарь потужился сделать презрительный вид, но довольно кисло у него это выглядело. Мы расстались.
А по весне я как-то пошел на танцы, пригласил незнакомую девушку и вижу, что в углу, в котором толпились местные, какое-то недовольное шевеление. Выхожу с танцев её проводить, и тут на меня налетает какое-то пьяное мурло, не успел я пару предварительных слов ему сказать, как его тут же схватили местные и оттащили от нас. Так я почувствовал, что моя шобла — милиция — сделала меня своим «авторитетом», и слабо было их шобле против моей шоблы тягаться. И за 22 года жизни в Ермаке у меня не было ни единого инцидента с мордобоем. Без моей инициативы, разумеется, а вот в отпуске случай был, но он тут не к месту.
Потом я множество раз рассказывал эту историю коллегам с разных заводов, и никто не вспомнил у себя ничего подобного, так что сам по себе этот случай можно не принимать во внимание. Все объясняется молодостью города и глупостью местной хулиганствующей группировки, которая, легко запугав разобщенных приезжих, вдруг решила, что вполне способна распространить свое влияние и на завод — организацию, защищенную, помимо администрации, профсоюзом, комсомолом и, главное, парткомом. Я ведь подключил всего один из этих четырех ресурсов и менее чем за сутки закончил все претензии хулиганов на власть. Не было бы меня, нашелся бы другой.
Кстати, тот бич, которого я заставил убрать мусор, и который упросил приятелей меня избить, потом всю жизнь при встречах старался отвернуться, оно и понятно: побоялся сам разобраться со мной, а его приятелям за его трусость менты (с перепугу, что дело дойдет до партийных органов) отвалили от души. А вот с тем, кто меня ударил (я помню, как его зовут, но нужно ли это его детям?), мы впоследствии имели нормальные отношения и даже своеобразные.
В Днепропетровске я курил днепропетровскую «Приму», а в Ермаке «Прима» была карагандинской и на мой вкус паршивой. Стал курить алмаатинский «Беломор», вполне приличный. А тут как-то наш ОРС (отдел рабочего снабжения — торговое предприятие завода) завез контейнер кубинских сигарет «Рейс», и я перешел на них. Сигареты были качественные, табак отличный, но сигарный, т. е. очень крепкий. Я смеялся, что это очень выгодные сигареты. Во-первых, они стоили 15 коп. за пачку, а советские и болгарские сигареты с фильтром — от 30 до 40 коп. Во-вторых, из-за непривычной крепости их никто не просил закурить, и я долго думал, что вообще единственный в городе, кто их курит. Но оказалось, что их курил и мой давнишний обидчик. Докурили мы с ним этот контейнер и снова перешли на «Беломор», но тут меня стали гонять в командировки, и я из каждой поездки в Москву и в другие крупные города начал привозить запасец «Рейса», или «Монтекристо», или «Упмана», или «Портагоса» — блоков по десять. Несколько блоков держал на заводе и при встрече в цехе с этим знакомцем всегда совал себе в зубы одну сигарету, а ему отдавал остатки пачки — разговеться отличным куревом. Он работал сначала горновым, а потом бригадиром печи. Неплохой мужик, а что было бы, если бы я добился, чтобы он сел? Но это, повторю, случай нетипичный.
Специальный подход
А вот случай типичный. Как-то во 2-м цехе столкнулся с В.К. Атаманицыным, который тогда работал, если мне память не изменяет, в техотделе, и, как и я, был в цехе по каким-то делам. Мы зашли в пустую комнату начальников смен перекурить, и чуть позже туда же вернулся и молодой, только что назначенный на эту должность начальник смены.
— Константиныч, — обратился он к Атаманицыну, — что делать? Я сейчас цех остановлю! — при этом выглядел начальник смены совершенно расстроенным и растерянным.
— А что случилось? — поинтересовался Атаманицын.
Начальник смены рассказал о ситуации, но сначала я опишу вам место действия. Второй цех плавил углеродистый феррохром, этот сплав получается в печи с таким же по весу и даже большим количеством шлака, который выходит из печи вместе с металлом. Поэтому выпуск металла и шлака из печи делают в ковш, а возле ковшовой тележки на дополнительной тележке каскадно установлены три шлаковни — мощные, объемом в 1,5 м3 чугунные ёмкости со сливными носками. Когда металл и шлак наполняют ковш, то более тяжелый феррохром остается в ковше, а в два раза более легкий по удельному весу шлак с носка ковша Сливается сначала в первую шлаковню, а после того, как она заполнится, с её носка — во вторую, а потом — в третью. Когда весь металл и шлак из печи выпущены и летку закрывают, то тележки Лебедками выкатываются в разные стороны.
Шлаковая — на улицу в шлаковый пролет, в котором краном снимают с тележки полные шлаковки, дают шлаку застыть, а затем вываливают его в думпкары или железнодорожные шлаковозы, которые вывозят шлак на отвал. А пустые шлаковни устанавливают на тележку и вновь закатывают под печь.
Ковшовая тележка выкатывается в разливочный пролет, в котором кран снимает ковш и разливает жидкий феррохром в изложницы, металл в них застывает в слитках около 1,5 тонн весом. Когда эти слитки станут твердыми, то горновые вешают на малый подъем крана специальные клещи, которыми кран вытаскивает слитки из изложниц и складывает их в короба. Затем траверсой главного подъема крановщик короба со слитками подхватывает и ставит на тележку, которая лебедкой закатывается в склад готовой продукции.
Это тоже большое здание, построенное параллельно цеху, с кранами и с заходящим внутрь здания железнодорожным тупиком. В складе короба с феррохромом с тележки снимаются краном и подаются на верх мощных дробилок, где слитки вываливаются в их зев и дробятся до кусков весом не более 20 кг. Передробленный феррохром осматривает контролер ОТК, а по получении результатов анализа из химлаборатории, дает этой плавке (кускам феррохрома в коробе) марку, т. е. признает их соответствующими той или иной марке сплава.
В цех подаются пустые чистые железнодорожные полувагоны и реже платформы. (Железнодорожники вагонами называют только вагоны с крышею, а вагон без крыши — полувагоном.) Весовщик отдела сбыта из плавок одной марки формирует партию, количество феррохрома в которой может вместиться по весу в один полувагон или на платформу. Номера коробов, в которых металл этой партии лежит, отдает грузчикам, те подзывают к этим коробам кран, тот цепляет короб траверсой главного подъема, грузчик цепляет к коробу серьгу малого подъема, крановщик переносит короб к полувагону, опрокидывает его над ним и вываливает металл в полувагон. Теперь уже пустой короб нужно поставить на тележку и снова закатить его в разливочный пролет цеха, чтобы цикл мог повториться.
В цехе два блока печей по четыре печи, в каждой смене блоками (печными бригадами) руководит мастер, а всей сменой (бригадой) руководит начальник смены. Кроме печных бригад с их мастерами, ему подчиняются дозировщицы, шлаковщики, дежурные слесари, электрики, газовщики и, в том числе, грузчики склада готовой продукции. То есть молодой начальник смены, поднявшись с мастеров, впервые возглавил коллектив около 100 человек, и этот коллектив начал «проверять молодого начальника смены на вшивость».
В смене всегда возникает потребность выполнить какие-то работы, которые не предусмотрены должностными обязанностями рабочих смены. Если эти работы большие, то тогда либо вызывают специалистов из соответствующих цехов, либо создают бригады и платят им специально. Но возникают и сотни мелких работ, которые один рабочий исполнит максимум за 15 минут, и их тоже надо делать. Если начальник смены авторитетен, то он поручает такую работу любому более-менее свободному рабочему, и тот её сделает, хотя и получается, что он, вроде, сделал эту работу бесплатно. На самом деле это не совсем так, поскольку начальник смены распределяет довольно много премий и всегда имеет возможность пусть и не сразу, но оплатить труд добросовестного рабочего (что, впрочем, тоже может вызвать зависть у бездельников и их обвинения добросовестному в том, что тот «выслуживается перед начальством»). При всем при том такие работы радости у рабочих не вызывают, и они всегда стараются отстоять свое право их не делать.
А в описываемом мною случае произошло вот что. В ночную смену в склад готовой продукции железнодорожники подали два пустых полувагона под погрузку феррохрома. Контролер ОТК проверила их на чистоту и определила, что в каждом осталось немного груза, который в этих полувагонах привезли на завод, «на две лопаты», — как сообщил начальник смены. Тем не менее это были «грязные вагоны», и контролер ОТК запретила грузить в них металл. Работы по очистке вагонов было на 5 минут, включая время залезть в них и вылезть, но ни у одного рабочего в цехе такая работа не была предусмотрена должностью — вагоны обязаны чистить и мыть в железнодорожном цехе.
Начальник ночной смены с ситуацией справиться не смог. Он пробовал заставить грузчиков склада почистить вагоны, но те отказались. Он звонил начальнику смены железнодорожного цеха, но тот нагло заявил, что эти вагоны приняты ОТК железнодорожного цеха и, следовательно, были чистые, когда тепловоз потащил их во второй цех, а, посему, мусор в них набросали во втором цехе, а значит, и чистить вагоны должен второй цех. И начальник ночной смены спасовал, так как пустые короба в разливочном пролете у него были, печи работали, и он на пересменке своему коллеге об этой проблеме не сообщил, поэтому и сменился без замечаний. Но грузчики ночной смены не забыли сообщить сменившей их бригаде о своей победе над своим начальником смены, соответственно грузчики дневной смены тем более отказались чистить полувагоны. Однако в дневной смене уже не оказалось пустых коробов в разливочном пролете и некуда было выгружать слитки из изложниц. Следовательно, не было пустых ковшей и нечего было закатывать под летки, следовательно, нельзя было выпустить металл и шлак из печей, а накапливать их там Нельзя — они перельются через стены футеровки, и будет очень тяжелая авария. Вот почему отчаявшийся начальник смены и говорил об остановке всех печей цеха. (Между тем, об остановке любой печи завода, длительностью свыше 15 минут, ежесуточно докладывалось в Министерство черной металлургии СССР.)
— Я пойду сам почищу эти вагоны, — решил несчастный начальник.
— Не спеши, — сказал Владимир Константинович, — грузчики именно этого от тебя и добиваются. Почистишь — и с этого дня не ты будешь указывать им, что делать, а они тобой будут командовать и делать только то, что сами захотят, поскольку они всегда найдут предлог не делать того, чего не желают. Поэтому звони дежурным электрикам, пошли их на склад и поручи не только отключить все дробилки, но и разобрать их схемы.
Атаманицын, конечно, был опытным металлургом, а до недавнего времени был начальником смены и старшим мастером. Перевели его в заводоуправление за злоупотребление спиртным, но мы с начальником смены тоже были не с улицы, тем не менее ничего не поняли. В складе не отгружается феррохром из-за мусора в вагонах — проблема в этом! Зачем же прекращать и дробление феррохрома, да еще и разобрать схемы дробилок, т. е. отключить их так, чтобы грузчики склада самостоятельно не смогли их включить?
— Потом объясню, — сказал Атаманицын, — а сейчас звони электрикам!
Начальник смены набрал номер дежурных электриков и отдал распоряжение, мы заинтригованно уставились на Константиныча.
— Грузчики работают сдельно, — начал пояснять Атаманицын, — погрузка феррохрома в вагоны стоит дешево и ими не ценится. Они могут его вообще не грузить, и на их заработок это практически никак не сказывается. Вот ведь ночная смена ни короба не зацепила, а ушла довольная собой. Главный заработок грузчиков — дробление феррохрома — работа нетяжелая, быстрая, а стоит дорого. Сейчас ты не дашь им дробить феррохром, следовательно, если они не почистят вагоны и не начнут грузить их, то за всю смену ничего не заработают. И грузчики прекрасно знают, что смена с 16–00, увидев это, очень обрадуется: она немедленно почистит вагоны с тем, чтобы не упустить двойной заработок, не упустить возможность передробить феррохром двух смен. Поверь, твои грузчики не дураки, они тебе сейчас позвонят.
Мы закурили, прошло минут 10, раздался звонок, начальник смены выслушал, закрыл рукой микрофон и сообщил Атаманицыну:
— Они уже почистили вагоны, ОТК их принял, просят не отключать дробилки.
— Ты им скажи, что тебе наплевать на дробление, и ты включишь дробилки только после того, как у тебя в разливочном пролете будет 32 пустых короба. Ничего, проучи наглецов! Заставь их принять, что твои приказы надо сначала исполнить, а потом, если захотят, на тебя жаловаться.
Могу гарантировать, что если вы попадете начальником в коллектив, особенно если этот коллектив достаточно велик и не очень давно сформирован, то бездельники попробуют взять над вами власть. Правда, во времена СССР все было по-другому, сейчас демократические рабы и тупы, и трусливы, так что таких открытых случаев навязывания вам своей воли бездельники, возможно, и не продемонстрируют, но понимать, какая борьба идет в коллективе, вам всегда будет полезно. Всегда полезно помнить, что без принятия специальных мер к бездельникам, основная масса всегда будет равняться по ним.
Увольнение
Специальные меры — это сначала попробовать исправить бездельников (люди все же), а не получается — убрать их из коллектива. Но в этом случае нельзя действовать тупо и не надо увольнениями стремиться запугать остальных. Надо понимать, что даже неорганизованный, но враждебно относящийся к вам коллектив, — это очень большая проблема, тем более, что вражда к вам так или иначе его сплотит не для работы, а против вас. Таким образом, крутые меры по отношению к бездельникам должны в целом одобряться коллективом или оставлять его равнодушным. Такое обычно бывает, если бездельник в коллективе недавно, не влился в коллектив и безразличен ему. Но если он уже прижился, то тут, как говорится, нужно «чесать репу», прежде чем его выгнать.
Был у меня такой случай, когда я работал начальником ЦЗЛ. В группе ремонтников химлаборатории работал молодой парень, И был он разгильдяем из тех, чью работу нужно непременно проверить, иначе он её сделает кое-как, если вообще сделает. И как-то после его ремонта оборудование вновь вышло из строя ночью, пришлось ночью же снова вызвать ремонтников, короче, случилось ЧП местного масштаба. Поскольку это было уже не в первый раз, то я предложил начальнику химлаборатории Е.П. Тишкину его уволить. Петрович подумал и говорит:
— Оно, конечно, полагалось бы его уволить, но тут такое дело. Если у остальных наших ремонтников нет непосредственной работы в химзалах, то они обычно работают или сидят у себя в
«Петрович» — Е.П. Тишкин
слесарке и с лаборантками не общаются. А этот жук, если свободен, обязательно крутится в химзалах: с той поговорит, с той пошутит, ту ущипнет, ту по попке погладит — этакий ласковый теленок. В результате он среди лаборанток как свой, непутевый, но свой. Сейчас за срыв анализов и «кувыркание» лаборатории после простоя на него все злые, особенно те, кто из-за него лишились в смене заработка, но как только мы его уволим, все начнут его жалеть и пенять на нас за то, что мы хорошего парня за пустяки выгнали. А нам это надо? Давай лучше я сниму с него премию за этот месяц, а потом буду снимать ее за каждый его проступок. Он сам догадается, что пора переходить в другой цех, мы таким образом от него избавимся, не дав лаборанткам повода нами возмущаться.
На том и порешили. Нет более придурковатого начальника, чем тот, который стремится что-либо подчиненным показать. Начальник не артист, а тоже работник, от него подчиненные ждут работы, а не показательных выступлений, люди, в принципе, могут простить начальнику любые ошибки по работе, поскольку и сами ошибаются, но они очень плохо воспринимают, если начальник игнорирует их, считает себя выше и умнее. Подчиненным нужен начальник, чтобы заботиться о них, увольнение бездельника — это тоже забота о подчиненных, поскольку бездельник паразитирует на остальных, но это увольнение должно и выглядеть как забота, а не как сиюминутный припадок злости или, упаси господь, как стремление запугать остальных.
Об умниках
В числе трудностей, с которыми сталкивается руководитель, следует упомянуть и умников — тех, кто будет пытаться обдурить начальство. Вот пара случаев.
Завод только-только освоил производство ФС-20, сплава, в котором кроме железа около 20 % кремния (не помню уже его конкретного разбега, кажется, от 19 до 23 %). Новый сплав был введен вот почему. В сплавах железа кремний — антагонист углерода, поскольку кремний крепче связывается в соединения с железом (в силициды), чем углерод, вот поэтому при увеличении в сплаве содержание кремния, содержание в нем углерода падает, кремний не дает углероду раствориться в железе, вытесняет углерод из сплава. Не помню точно, но где-то при содержании кремния в пределах 19 % даже остатки углерода в сплаве уже не могут существовать сами по себе в виде графита, углерод существует уже в виде карбидов кремния, а карбид кремния растворяется в сплаве. Куски застывшего сплава с таким содержанием кремния и с остатками углеродом в виде карбида кремния обычно очень плотные, достаточно прочные, при дроблении дают очень мало мелких кусочков, которые являются бракующим показателем в партии ферросилиция. (Количество кусочков менее 20 мм в ферросплавах не должно превышать 20 %.) Вот из-за желания уменьшить мелочь в партиях завод и разработал новый тогда сплав ФС-20 и перешел на его выплавку.
А до этого плавили сплав ФС-18, у которого нижний предел кремния был в районе 16 %. При таком содержании кремния углерод в сплаве тоже вытесняется кремнием из сплава, но он еще не связывается им в карбиды кремния, и поэтому при застывании углерод выходит из жидкого сплава в виде чешуек графита — «спели», как эти чешуйки называются металлургами. Этот процесс сопровождается образованием в слитках сплава массы пор с выделившимся графитом, слитки сплава становятся очень непрочными, до половины плавки проскакивает сквозь сито с ячейками в 20 мм и плавка идет в брак. Из-за этого, по инициативе Друинского, завод и добился включения в ГОСТ ферросилиция ФС-20.
Пока шла научно-исследовательская работа и внедрение ФС-20, все шло хорошо, но вот начали его плавить планово, и эта проклятая графитовая спель снова появляется и в ФС-20!
Плавили тогда ФС-20 во 2-м цехе, и начальник цеха тут же начал громогласно жаловаться, что «этот ФС-20 такое же говно, как и ФС-18». Само собой компрометировалась большая научно-исследовательская работа, проведенная не только у нас, но и на многих заводах-потребителях этого сплава.
Я тогда работал в ЦЗЛ недавно, обстановку на заводе в общем и взаимоотношения Друинского и тогдашнего директора завода П.И.Топильского в частности понимал плохо, поэтому высказывания директора о «бездельниках в ЦЗЛ и техотделе, от которых заводу нет никакого толку» принимал как справедливый упрек. В конце концов выяснить причины появления спели в ФС-20 поручили мне, хотя я и был тогда очень неопытен, но, впрочем, в ЦЗЛ больше и некому было это поручать.
А я занимался исследованиями основательно, и начал свою работу в ЦЗЛ с того, что в свободное время просмотрел в тех-библиотеке все реферативные журналы (а они были лет за 20) и составил каталог научно-технических публикаций за это время по темам, которые могли мне пригодиться при работе на заводе. Поэтому по своему каталогу я быстро отыскал несколько публикаций, наших и западных, о состоянии углерода в системе железо-кремний, и убедился, что никакого свободного в виде графита углерода при содержании кремния выше 19 % быть не может, следовательно, никакой графитовой спели в сплавах с таким содержанием кремния тоже быть не может! Но она была! Поэтому требовалось разобраться с ситуацией предметно.
Я пошел на склад готовой продукции цеха № 2 и нашел короба с браком ФС-20 по мелочи. Графита действительно было очень много, вид металла был мерзкий. Надо было отобрать пробы, но просто набрать полкилограмма мелких кусочков из короба было нельзя. Анализ на кремний проводился объемным способом, т. е. навеска дробленого ферросилиция в 100 (по-моему) грамм засыпалась в колбу с дистиллированной водой, металл вытеснял воду в мерную трубку, таким образом определялся объем металла, а по его объему — плотность. А по плотности определялось содержание кремния в данном металле (вернее, содержание суммы кремния и алюминия, но в данном случае это не важно). В мелких же кусках бракованного ФС-20 было много графита, он легкий, плохо смачивается водой, если он будет присутствовать в пробе, то тогда результаты анализа окажутся завышенными. Нужно было отбить кусочки из нижних частей слитков, поскольку при застывании в изложницах (мульдах) разливочной машины графит всплывает вверх, верхняя часть слитка становится непрочной, нашпигованной графитом, а нижняя получается достаточно чистой и плотной.
Ферросилиций сплав хрупкий, обычно берешь один кусок, бьешь им по другому — и они раскалываются на кусочки, из которых и собираешь пробу (чтобы оценить химсостав всей плавки, нужно отобрать кусочки из нескольких разных частей плавки). Но в данном случае я пробую отбить таким образом несколько кусочков из нижних частей слитка — ничего не получается! Иду к грузчикам, беру хорошую такую кувалду, залезаю в короб и начинаю ею гупать по слиткам. Искры летят, а толку мало!
А мы как раз до этого исследовали причину низкой стойкости мульд разливочных машин, а они отливаются из чугуна и весят килограмм 150. Донести даже половину мульды до химлаборатории, чтобы там отобрать из них пробы и сделать нужные анализы, было нельзя, и мне тогда тоже приходилось «кувалдометром» отбивать пробы от чугуна. Так вот, впечатление было такое, что я и тут бью не по ферросилицию, а по чугуну. Отбил, наконец, от всех бракованных плавок пробы и весь в мыле принес их химикам. Подождал результаты и ахнул — вместо 21–22 %, как было указано в документах, в этих плавках содержалось всего 8–9 % кремния! Чуть больше, чем содержание кремния в литейном чугуне. То есть это был не только не ферросилиций марки ФС-20, но даже не ферросилиций марки ФС-18, это был наглейший брак и по кремнию, а не только по содержанию мелочи. Стало понятно, откуда взялся графит, но, одновременно, стало страшно за наших химиков.
Контрольные (маркировочные) пробы машинист разливочной машины отбирает при разливке ковша на разливочной машине. Эти пробы анализируются химиками цеховых экспресс-лабораторий, и с этим анализом металл уходит потребителю. Если этот анализ дал 22 % кремния, а реально, как следовало из моих проб, в металле всего 9 %, то, во-первых, мы отправляем потребителю ужасный брак, а во-вторых, это означает, что химики грубейшим образом ошибаются в анализах, как я решил, из-за графитовой спели в пробах. Мне надо было сообщить об этой ошибке начальству, но я понимал, что после этого Топильский устроит страшный погром и химиков, и ЦЗЛ, а я все же здесь работал. Тогдашний начальник химлаборатории особого доверия у меня не вызывал, и я пошел к его заму — Людмиле Борисовне Ивановой, опытному химику, и поделился с нею своим открытием.
Однако она совершенно спокойно меня выслушала, тут же дала команду найти в архиве, зашифровать и вновь повторить маркировочные анализы тех плавок, от которых я вновь отобрал пробы. Они подтвердились — около 21 %. Иванова рассказала мне много интересного о методиках анализов и успокоила — вины химиков здесь нет и быть не может, дело в чём-то другом, поэтому, сказала она, я могу смело сообщить результаты своих исследований начальству.
Я написал коротенькую справочку о научно-исследовательской работе, но так как был еще не совсем уверен, чем моя работа отольется ЦЗЛ, то сначала, так сказать, неофициально показал её заму начальника техотдела А.С. Рожкову, человеку гораздо более опытному, чем я, и находящемуся со мной в хороших, дружеских отношениях. Увидев результаты моих исследований, Алексей Семенович приободрился.
— Ага, сейчас я покажу это Друинскому, и он объяснит кое-что кое-кому про «бездельников в ЦЗЛ и техотделе»!
— Семеныч, а что собственно происходит с этим ФС-20?
— Да просто уже очень давно таких случаев не было, и мы полагали, что их больше не будет. Плавильные бригады на печах — сдельщики, и получают зарплату от выплавленного металла, а в нём, как ты знаешь, по сути учитывается только выплавленный кремний, который рассчитывается умножением анализа кремния в каждой плавке на вес плавки в тоннах. И умники на печах делали так. В смены с 16.00 и 0.00 они снимают стружку с колоши, т. е. уменьшают железо в сплаве, и первую плавку делают с очень высоким содержанием кремния, хотя по весу она и не очень велика. В момент выпуска они отбирают от нее не одну пробу для экспресс-анализа, а десяток, и эти пробы прячут в укромном месте. Далее они валят в печь железную стружку, печь стружку плавит легко, соответственно следующие три плавки смены получаются большими по весу, но, само собой, разбавленные железной стружкой, они имеют низкое содержание кремния. Теперь пробы с высоким кремнием, взятые от первой плавки, подогреваются, чтобы контролеры ОТК и химики ничего не заподозрили, и несутся в химлабораторию на анализ. Анализ получается, само собой, высокий, общая выплавка по смене — большая, премии очень большие, а реально этот металл может быть откровенным браком по низкому содержанию кремния. Несколько лет назад у нас тут поснимали за это и бригадиров, и мастеров, и вроде все затихло. А теперь вот снова! И, судя по всему, начальник цеха не в курсе дела, что у него вновь вспышка рвачества, иначе не стал бы привлекать к этому наше внимание. Между тем, это дело сугубо цеховое, такие вещи должны выявляться и пресекаться в цехах, а не загружать ЦЗЛ и техотдел дурацкой работой. Так что Друинскому будет о чем побеседовать с начальником цеха и старшими мастерами на тему о том, что ФС-20 «такое же говно, как и ФС-18».
Я не помню, чем эта моя работа закончилась для ИТР второго цеха, но после этого никогда больше вопрос о низком качестве ФС-20 не вставал.
А вот еще случай тупого рвачества умников. Автомобильный завод в Тольятти потребовал у нас ферросилиций ФС-45 фракции 20–80 мм, то есть в кусочках не менее 20 и не более 80 мм. Был построен дробильно-сортировочный узел, но при дроблении образовывалось 15–20 % кусочков до 20 мм, которые трудно было кому-нибудь сбыть, и которые по этой причине возвращались на печь, лопатами сбрасывались на колошник и заново переплавлялись.
Мой тогдашний начальник, начальник металлургической лаборатории ЦЗЛ А.А. Парфенов, разработал и внедрил эффективный способ переработки этих кусочков. При разливке ковша с ферросилицием на разливочный машине эта мелочь дозировалась (подсыпалась с определенным расходом) под струю металла прямо в мульды в количестве, при котором она успевала оплавиться и составить со слитком одно целое. Этот способ дал возможность сократить расход электроэнергии, который раньше требовался для повторного расплавления мелочи в печи, и увеличить стойкость мульд. И все шло хорошо, пока мы ферросилиций фракции 20–80 мм не стали поставлять на экспорт.
В начале поставок возникли разногласия с фирмой, анализирующей наш металл за рубежом, о чем я расскажу специально, и нас обвинили в том, что у нас кремния в сплаве на самом деле на 2–3 % меньше, чем мы указываем в документах. Мы с этим разобрались, но не сразу, а по получении тревожного сигнала было принято решение дробить для экспорта только металл, в котором не менее 45 % кремния. В марке ФС-45 разрешается иметь содержание кремния от 42 до 47,5 %, печным бригадам выгодно плавить металл с кремнием под верхним пределом марки, поэтому мы полагали, что проблем не будет — металл с кремнием 45 % и выше будет передроблен и пойдет на экспорт, а металл с содержанием ниже 45 % будет прямо в слитках отправлен «по Союзу».
И началось непонятное. Пока экспортных заказов не было, т. е. металл не дробился, обе печи плавили ФС-45 с анализами выше 46 %, поскольку, повторю, так выгоднее. Но как только начинали исполнять экспортный заказ, как по команде все бригады начинали плавить металл с содержанием кремния ниже 45 %, который, напомню, не дробился и отправлялся только отечественным заводам. В причинах этакого патриотизма разбирался техотдел и вот что выяснил.
Если все бригады плавят ферросилиций для экспорта, то весь металл дробится, и фракция менее 20 мм отсевается. То есть выплавка как будто уменьшается на 15–20 %, но эта мелочь тут же возвращается на разливочную машину и равномерно подсыпается во все плавки, т. е. выплавка снова увеличивается, компенсируя потери при отсеве. Вроде все в порядке и никто ничего не теряет, наоборот, все получают кое-какую премию за экспорт. Но вот какой-то умник догадался, что если он будет плавить металл с низким содержанием кремния, то его плавки дробить не будут, но ему все равно будут подсыпать мелочь от дробленых плавок других бригад, т. е. те увеличат ему выплавку на 10–15 %, что больше премии за экспорт. И пошло-поехало! Равнение — на худшего! Никто из рабочих и не пытался остановить рвача — все стали снижать кремний в ФС-45 в надежде, что и им в плавки чужого металла подсыпят. Не помню, что уж этим бригадам подсыпали начальники, чтобы выполнять экспортные заказы, но пример показывает, насколько ушлым бывает гегемон, когда появляется возможность что-либо урвать.
Защита лучших
Опорой начальника всегда являются трудяги, на них можно положиться, им не требуется контроль, поскольку они работают с удовольствием, им можно поручить трудное дело. Но проблема в том, как трудягам воздать должное, чтобы не вызвать озлобление остального коллектива на них. Коллектив трудяг не любит.
В целом, конечно, и коллектив можно понять. С одной стороны, на фоне трудяг основная масса начинает чувствовать свою неполноценность, и ей обидно. С другой стороны, чувство неполноценности заставляет массу тянуться за трудягой, а далеко не всем это по плечу, да и не каждый этого желает. В старину алчные подрядчики поступали так. Нанимая на работу, к примеру, артель землекопов с оплатой 1 рубль в день, подрядчик одного землекопа тайно подговаривал, чтобы тот за 5 рублей в день копал изо всех сил, до изнеможения. Артель вынуждена была тянуться за лучшим, тот через неделю изнашивался и уходил, а подрядчик за те же деньги требовал от артели той же работы, что и раньше. Так что огульно обвинять людей за то, что они не любят передовиков, нельзя. В жизни разное бывает.
Надо помнить, что какой бы вашей опорой и ни были передовики, но ваше дело делает весь коллектив, и хорошие, дружеские отношения в нем чаще всего бывают важнее призрачных надежд на то, что все будут работать так же, как и трудяги. Стимулировать работу людей нужно обязательно с оглядкой на это обстоятельство.
Когда наши предки собирали артель, скажем, для зимних заработков на лесоповале, то они избирали артельщика, давая ему исключительные, диктаторские права. После единогласного избрания артельщика (недовольные могли выйти из этой артели) всякие голосования и совместные решения прекращались, все поступали только так, как скажет артельщик. По его приказу артель могла избить любого, кто ему не подчинится. Но главной задачей артельщика был даже не высокий доход каждого, а справедливость, никто в артели не должен был обижаться на другого члена артели ни в чём. К примеру, артельщик следил не только за тем, чтобы и ленивые работали столько же, сколько и средний член артели, но он также пресекал любые попытки сделать больше, чем остальные. Лесоповал — дело коллективное, один человек, разумеется, может свалить очень много деревьев, но дальше? Ведь требовалось их погрузить, вывезти, связать плоты. И каждый понимал, что лучше иметь в артели средний, но твердый доход, чем свалить много леса, который останется гнить на делянке из-за могущих возникнуть ссор между членами артели.
У меня был такой случай. Я, как уже писал, был председателем цехкома ЦЗЛ, и одним из моих дел было подведение итогов соцсоревнования, в ходе которого в экспериментальном участке выявлялась лучшая по итогам месяца печная бригада — одна из четырех сменных бригад. Делалось это до меня «на глазок», по общему впечатлению начальника участка от работы бригад. И вот я, то ли по указанию завкома, то ли по своей инициативе, решил подведение итогов совершенствовать, переведя мнение начальника в числа. Разработал систему баллов, оценивающих работу бригад. Во главу угла поставил технологию — то, как бригада исполняет на печи то, что ей задают исследователи, а также ежесменные обязательные работы, связанные с выплавкой, — за это 100 баллов. Но было еще довольно много работ, которые появлялись не каждую смену — прием и разгрузка сырья в бункера, его дробление, рассев, ремонты передней стенки печи (места, в котором находится летка) и т. д. За это я назначил от 2 до 5 баллов в зависимости от трудности и сложности работ. Получалось, что чем больше металлурги выполнят в смене работ, тем больше заработают баллов, и та бригада, у которой этот среднесменный показатель будет самым большим, является победителем соцсоревнования.
Сделал черновик Положения и отдал в экспериментальный участок для обсуждения. Приходит оттуда парторг цеха Леня Чеклинский и говорит, что дело нужное и полезное, мое Положение им нравится, но они хотят его немного изменить. Суть: за всю смену и все работы начисляется 120 баллов, а если кто какой работы не сделал, то за это из 120 баллов вычитаются от 2 до 5 баллов (как я и рассчитал).
— Леня, но вы же похерили всю мою задумку! Теперь же у вас главное не работу сделать, а от работы уклониться.
— А ты хочешь, чтобы мы всю смену бегали, искали себе дополнительную работу?
— Естественно!
— Не дождешься!
Слово за слово, и понесли мы свой спор к начальнику цеха. Меликаев послушал и присоединился к мнению Чеклинского, т. е. решил спор в пользу партии против профсоюза. Теперь, однако, я думаю, что Леонид Георгиевич был, безусловно, прав, а я административную горячку порол. Из-за придуманного мною Положения можно было вызвать ссоры между бригадами из-за пустяков, а чтобы вы поняли, о чем я говорю, приведу свой личный пример, о котором я в те годы не вспомнил, а надо бы.
В 1972 году был я на преддипломной практике в Челябинске на ЧМЗ. Практика была больше двух месяцев, и я, естественно, устроился работать на этот же завод. Из-за плохого зрения к печам меня не взяли, а поставили работать на шихтовый двор цеха № 6 шихтовщиком. В мою задачу входило разгрузить прибывающие платформы с ферросплавами, для чего нужно было зацепить стропами крана и снять с их помощью с платформ барабаны (бочки) с ферросплавами, поставить на платформы пустые короба и выполнять прочую похожую работу подкранового рабочего (стропальщика). (Сыпучие материалы, флюсы, металлолом крановщики разгружали и подавали на печи сами, без меня с помощью грейферов или магнитных шайб.) Я был сдельщик, а операции по разгрузке платформы стоили довольно дешево.
Была и более тяжелая, хотя и хорошо оплачиваемая работа, — загрузить флюсами и ферросплавами мульды — стальные короба метра 1,5 в длину и примерно 0,6x0,6 в сечении. Мульды специальная мульдозавалочная машина подавала в окно электросталеплавильной печи и там переворачивала. Загружать мульды надо было лопатой. С флюсами (известью, песком, флюоритом) проблем не было — они легкие и лопатой брались хорошо. Ферросилиций тоже легкий и тоже грузился без проблем. А вот с безуглеродистым феррохромом, металлическим хромом и ферромарганцем дело обстояло паршиво — куски этих ферросплавов очень тяжелые, с острыми краями. В закромах с этими ферросплавами даже по стальному полу подсунуть лопату под эти куски было практически невозможно. Приходилось ковырять их лопатой по одному куску или, если они были более-менее крупными, вообще грузить руками. А если печи начинали плавить нержавеющую сталь, то подать на них за смену нужно было тонн 10–15 безуглеродистого феррохрома. Тогда к концу смены устаешь страшно.
Но мне еще в первый день, когда я только учился, показали эффективный прием. Короба, в которых завозили ферросплавы, состояли из двух шарнирно соединенных половин, т. е. имели конструкцию грейфера (если кто знает, что это). Когда цепляешь за верхние серьги у шарниров, и кран короб поднимает, то груз давит на днище короба и не дает ему раскрыться, а когда цепляешь за нижние боковые серьги, то кран, выбирая стропы, сначала раскрывает короб, и содержимое остается на полу. Так вот, если был короб с феррохромом еще не вываленный в закром, то нужно было составить вместе штук 6 мульд, поставить на них сверху короб и дать крановщику осторожно его открыть. Феррохром в образовавшуюся в коробе щель просыпался в мульды, а если остаток феррохрома еще оставался в коробе, то стропы снова цеплялись за верхние серьги, кран тянул, короб снова закрывался, и этими остатками феррохрома можно было загрузить очередную порцию мульд. Проблема, однако, была в том, что полные короба с феррохромом редко оставались неразгруженными в закром, поскольку железнодорожники не забирали платформы, если они не были уставлены пустыми коробами. Придет платформа с 10–12 коробами, один используешь для облегчения себе работы, а остальные приходится разгружать в закром, чтобы отправить платформу.
И вот однажды приходит платформа с феррохромом, но я не стал его вываливать в закром, а обежал весь цех, собрал все пустые короба, однородный материал ссыпал из одного неполного короба в другой и т. п., но загрузил платформу пустыми коробами и отправил её. А полные короба феррохрома выставил рядком, один разгрузил в мульды своей смены, а остальными любовался, предвкушая, как шихтовщики всех смен суток на 3–4 облегчат себе работу.
Прихожу на следующий день и вижу: все мои короба разгружены в закром, причем так, что феррохром вывалился в проход и теперь его брать из закрома чрезвычайно тяжело. А пустые короба стоят аккуратненьким рядком. То есть, мой сменщик облегчил себе работу, разгрузив один короб в мульды, а остальные разгрузил в закром — позарился, сволочь, на те копейки, которые стоила эта разгрузка! Мне было обидно до слез, я бы тогда потерял веру в человечество, если бы уже не знал, что человечество — это штука достаточно сложная.
Так вот, возвращаясь к моему Положению о соцсоревновании, — я ведь тоже, по сути, создавал в экспериментальном участке этим Положением ситуацию для подобного рвачества, но умные люди меня вовремя остановили.
Зависть
Работая с людьми, сталкиваешься с ситуациями, когда люди совершают поступки, которые трудно назвать осмысленными, и которые, скорее всего, и описываются словом «зависть». И если уж человек впал в это состояние, то от него можно ожидать чего угодно.
Когда я после школы работал на заводе им. Артема, то там рассказывали такой случай. Четверо работяг умудрились «чисто» украсть три бытовых холодильника, продать их они почему-то не решились, и один из работяг, само собой, остался без добычи. Так он, бедный, терпел, терпел эту несправедливость, а потом пошел в милицию и донес на себя и на товарищей.
А мне запомнились такие два диких по своему смыслу случая. Я был начальником ЦЗЛ, а химлабораторию убирали две технички, которые, по идее, должны были работать с 8-00 до 17–00. Но часть залов и комнат была задействована только днем, и было трудно, да и глупо убирать их, когда там уже работают люди. Поэтому одной техничке изменили график работы. Она приезжала первым автобусом в 6-00, убирала наиболее сложные в производственном отношении помещения, а затем убирала кабинеты, все это делала без перерыва, посему и уезжала домой в 14–00. А вторая начинала в 8~00, мыла посуду и убирала проливы реактивов и грязь, образовавшуюся по ходу дневной смены, работая до 17–00. И вот приходит ко мне вторая уборщица и жалуется на «несправедливость»:
— Почему той уборщице разрешают уезжать в два часа, а я работаю до пяти?
— Потому что та работает с шести и без обеда, а ты с восьми я с обедом.
— Это неправильно, пусть тоже работает до пяти.
— Но тогда же получится, что она работает не 8 часов, а 10.
— Ну и что?
— Послушай, может быть, вас менять? Одну неделю она будет работать с шести, а вторую ты.
— Нет, мне не нравится работать с шести, пусть она работает до пяти.
Смех смехом, но я не смог её убедить в справедливости этого графика: она пропускала мимо ушей все мои доводы, что по фактическому времени они работают одинаково, она требовала, чтобы они обе работали до пяти, иначе это «несправедливо». Я вынужден был прекратить разговор с ней, и она, обидевшись, спустя некоторое время, нашла другую работу и перевелась в другой цех.
А вот дикий случай, который в свое время поразил меня. В химлаборатории работали лаборантками три молодые женщины, они вместе окончили техникум, вместе приехали на завод и были, как потом утверждали, подругами. Две вышли замуж, родили детей и уже имели двухкомнатные квартиры. А третья, Вера, вышла замуж позже и жила в однокомнатной. Пока она не была замужем, её, естественно, эксплуатировали на разных общественных должностях, в частности, она была депутатом горсовета, правда, она и по жизни была активной. Но вот она рожает, в очереди она первая, а нам с построенного дома дают не только обычную трехкомнатную, но и новую двухкомнатную. В цехкоме пятеро: я, два плавильщика экспериментального и обе подруги Веры. Распределяем трехкомнатную и освободившиеся двух- и однокомнатную. Предлагаю новую двухкомнатную Вере, все — за, подруги — обеими руками. Но когда документы уже ушли в завком, у нас вдруг отбирают новую двухкомнатную, причем замдиректора по быту Г.Л. Иванов от имени директора извиняется и твердо обещает, что в следующем доме вернет долг. Что уж тут делать, и Вера перенесла эту отсрочку спокойно.
Месяца через три сдается следующий дом, про обещанное, как водится, забыли, мне и Вере пришлось ходить в завком напоминать. В итоге для распределения квартиры на цехкоме остался день накануне выдачи ордеров. Поскольку вопрос был решен раньше, я не стал вызывать с выходных плавильщиков, а собрал у начальника цеха цехком из троих: себя и Вериных подруг. Как о решенном, сообщаю о выделении квартиры Вере, и вдруг обе её подруги голосуют против и требуют дать квартиру другой.
У меня глаза на лоб вылезли — три месяца назад голосовали «за»! Вера первая в очереди — как ей не дать? И вот, что эти стервы удумали. Завод строил несколько серий домов, и формальная жилая площадь однокомнатных квартир у этих серий была разная: 16,5 и 21,0 квадратный метр. При семье из трех человек получается 5,5 и 7 квадратных метров на человека, а по общему положению в СССР в очередь человека можно ставить, если у него менее 6 квадратных метров. У нас никто и никогда до этого не обращал на это внимания — раз семья три человека, значит полагается двухкомнатная квартира. А Верины подруги уперлись в эту союзную норму! Я попытался их урезонить и призвать к совести — бесполезно! Глаза стеклянные, тупо смотрят вниз: «не положено!» Начальником ЦЗЛ уже был Парфенов, я толкаю его — помоги! Но тому всегда и все было по барабану.
— Раз цехком так решил, то и я за.
— Какой к черту цехком, нас всего трое, завтра выйдут на работу плавильщики, и нас будет трое против двух!
— То будет завтра, а решаем сегодня, — взял бумаги на выделение квартиры другой работнице, подписал и свалил домой.
На другой день мне Иванов устроил выволочку, и завком тоже, мне Вере было стыдно в глаза смотреть. Ей на подруг смотреть тоже было тошно, и, как её ни уговаривали, но она уволилась, правда, потом работала начальником химлаборатории на молокозаводе.
Но интересен же был вопрос, а что случилось, почему Верины подруги сбесились? Прояснила ситуацию зам. начальника химлаборатории Иванова.
— Ты знаешь, они трое техники, молодые специалистки, и все трое претендуют на должность инженера. Месяц назад открылась такая вакансия, но поскольку Вера заметно лучше их подходит на эту должность, то мы Веру и поставили на эту должность первой. Подруги ей этого простить не смогли.
Вот, в общем-то, и оцените, что такое люди и что от них можно ожидать. Поэтому я и утверждаю, что трудяги всегда являются опорой начальника, но они как никто нуждаются в его защите.
Отец солдатам
Мне пришлось видеть очень много начальников — и хороших, и разных. Следовало бы сделать обобщение — дать совет, как себя нужно вести, став руководителем и возглавив людей.
Первое и, может быть, главное, что следует сказать: никогда и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь, не пробуйте и даже не думайте о том, чтобы завоевать себе авторитет и уважение. Это такие штуки, что чем больше вы их будете хотеть, тем меньше их у вас будет. Вам поручат дело, под это дело вверят людей, у вас будут служебные обязанности. Вы все свои силы положите на то, чтобы освоить свои обязанности как можно быстрее. А когда освоите, то приложите все силы, чтобы исполнять их как можно лучше. А когда и это будет позади, то начинайте думать, что бы такое еще сделать, чтобы было еще лучше.
Вот если будете поступать так, то авторитет и уважение у вас всегда будут, причем и у начальников, и у подчиненных. А все остальное — суета, мышиная возня.
С подчиненными нужно вести себя так, как отец ведет себя в семье. (Если никогда не видели настоящего отца, то книги, что ли, старые почитайте.) Ваши подчиненные — это ваше всё, ваша задача — сделать их жизнь как можно лучше, а для этого, в первую очередь, нужно, чтобы они порученное вам дело исполняли как можно лучше. Почему? Потому, что от того, как они будут исполнять то дело, которое поручено вам, зависит авторитет вашей организации, следовательно, ваши возможности по обеспечению ваших подчиненных.
Позиция отца не требует от вас сюсюканья, какой-то там показной доброты или проявления показной любви. Вы можете быть жесткими в любом случае, когда жесткость необходима, и люди поймут, что вы так поступаете ради блага всех. Поощряйте лучших, но не имейте любимчиков — остальные дети их возненавидят, подчиненные должны видеть, что перед вами они все равны, утрируя — что они вами одинаково любимы. Самая сильная ваша позиция — справедливость. Вводите её, отстаивайте её, наказывайте за её нарушение. Людям легче всего жить друг с другом при справедливости.
Отец в семье — на всю жизнь, вот и вы на любом месте устраивайтесь на всю жизнь. У вас будет соответствующий образ мыслей — вы будете думать о будущем, и это сразу увидят и оценят подчиненные. Ведь они, как правило, тоже поступают на работу, не собираясь её менять. И к вам возникнет доверие: ваши распоряжения, даже если цели их будут непонятны, будут исполняться с доверием — не может же отец давать вредное для семьи распоряжение.
Представьте себя отцом, и очень многое для вас станет понятным без объяснения. Скажем, разве вы позволите, чтобы ваших детей наказывал кто-либо посторонний, даже ваш собственный отец, их дедушка? Так что же будет непонятного в моих словах, если я посоветую вам никому не давать наказывать ваших подчиненных? Пусть те, кто хочет их наказать, жалуются вам, а уж вы решите, что делать.
Тятя
На нашем заводе работал ветеран, пускавший первую печь завода, — Анатолий Иванович Григорьев. Металлург, прекрасно знавший все работы и все специальности в цехе, и на какой бы он должности ни работал, всегда был, как говорится, «в каждой бочке затычкой», т. е. всегда и везде все проверял сам, сам за всем следил, и не потому, что не доверял подчиненным, просто такой по характеру человек. Помню, рассказывал бывший начальник смены о том, как работал с Григорьевым, когда тот тоже был еще начальником смены: «Идет обходить цех перед приемкой у меня смены. Через 20 минут возвращается и уже более грязный, чем я после 8 часов работы!». Мне Григорьев всегда был симпатичен, кроме этого, своим отношением к людям и делу он напоминал мне киношного Чапаева. Так вот, Григорьев получил от рабочих кличку «Тятя».
К пенсии в 50 лет он подошел в должности начальника плавильного цеха и стал проситься на легкий труд — старшим мастером. Юмор этой просьбы, наверное, трудно понять. По моему мнению, на заводе есть две должности, тяжелейшие по сумме ответственности, — это должности директора и начальника цеха. И две собачьи должности — старшего мастера и главного инженера. Собачьи потому, что ни тот, ни другой не имеют права покинуть завод, пока там что-то не работает или плохо работает. Главного инженера задерживают только крупные аварии, но на всем заводе, а у старшего мастера аварии любые, но всего на четырех печах своего блока.
Тятю не отпускали с должности начальника цеха, поскольку все плавильные цеха были в очень тяжелом состоянии, начальников, способных справиться с этой работой, было мало, найти и подготовить достойных не успевали, многие пробовали, да не все в тех условиях выдерживали эту работу. Но Тятя все же добился своего и начал работать старшим мастером, но недолго. Несколько месяцев спустя Донской, не сумев сам уговорить Григорьева, пошел на беспрецедентный шаг — надавил на Тятю партией. Я, само собой, на парткоме не был, но помню репортаж с него в заводской многотиражке. Члены парткома призывали Тятю вспомнить, как во время войны коммунисты первыми поднимались в атаку и т. д. и т. п. Заканчивалась заметка примерно так: «Анатолий Иванович встал, хотел что-то сказать, а потом махнул рукой и сел». Так Тятя снова стал начальником цеха. Но между этими событиями, в период своей работы на «легком труде» старшим мастером, Анатолий Иванович совершил запомнившийся мне подвиг, хотя я лично и не был его свидетелем.
Завод работал очень плохо, и все силы, что были, сосредотачивались там, откуда могло прийти решение проблемы, — в новых, сверхмощных плавильных цехах № 1 и № 6. В том числе и силы ЦЗЛ были там. А старые цеха (№ 2 и № 4), проектная мощность которых была перекрыта еще при Друинском, остались как-то на втором плане, а в них тоже было непросто. И в цехе № 4 на одной из двух закрытых ферросилициевых печей сложилась ситуация просто оскорбительная для завода. Одна из печей (не помню уже какая — 47 или 48) вышла из капитального ремонта и теперь до следующего капитального ремонта должна была работать 10 лет. После капитального ремонта печь разогревают где-то 30–40 дней, и после этого она работает на полной мощности в обычном режиме. Разогрев — операция ответственная, но разогревов печей после капремонта завод провел уже, надо думать, около 50-ти. Ничего нового и неожиданного в этой операции не было, но в данном случае цех не смог её провести! Я не знал и сейчас не знаю предыстории, но думаю, что в ходе разогрева много раз ломали электроды, их обломки забили ванну печи, на них наплавились карбиды, ходы металла от тиглей под электродами до летки были перекрыты козлами. («Козел» — это обычный термин в металлургии, обозначающий что-то густое, твердое и монолитное там, где все должно быть жидким и рыхлым.) Ферросилиций получался не на подине, а где-то вверху, и стекал не к летке, а выше угольных блоков, образующих внутренние пространства печи, к кожуху печи. Печь за полгода имела несколько аварий, в ходе которых металл вытекал из стен печи в самых разных местах. Свод печи сгорел, новый не ставили, поскольку было понятно, что и он сгорит через день. Закрытая по конструкции печь работала в открытом режиме, да и «работала» — это громко сказано: электроэнергию она жрала, а металла давала очень мало.
Время шло, а ситуация на печи менялась только к худшему, в результате «умники» стали вносить предложение заново капитально отремонтировать эту печь. А это означало построить её заново. (Для этого старую печь нужно было охладить, снять кожух, пробурить шпуры, заложить взрывчатку, взорвать ванну печи, убрать руками тысячу тонн обломков, снова смонтировать и отфутеровать печь. На все это нужно три месяца, огромные деньги и большое количество материалов, которые заказываются минимум за год. Но главное, все это было страшнейшим позором, поскольку уже лет 50 в СССР не было ферросплавного завода, штат которого был бы не способен разогреть печь.)
Думаю, что в цехе и все четыре бригады этой печи, и ИТР, в принципе понимали, что нужно делать, но рабочие не хотели это делать, а у ИТР не хватало духу и, главное, способов их заставить. За отказ рабочего что-то делать ИТР снимает с него премию, т. е. примерно 30 % его общего заработка. Но завод не выполнял план, и премий уже несколько лет не было. Рычаг, которым начальники управляют подчиненными, был сломан, и поднять рабочих на тяжелое дело было невозможно. А дело было очень тяжелым физически.
Козлы, образующиеся в печи, в принципе можно убрать и каким-либо альтернативным способом, например, дать на них флюс, иногда стружку и т. д. Но это далеко не всегда помогает. Наиболее очевидный путь — расплавить их, но для этого нужно подать в козел тепло в виде образующихся в тиглях под электродами раскаленных газов. В свою очередь, для этого нужно, во-первых, пробить вручную в этих козлах отверстия, чтобы газы могли проходить через них и нагревать их, во-вторых, непрерывно следить за колошником и лопатами или скребками засыпать шихтой отверстия, через которые выходят газы в других местах колошника. Такие операции легко делались на нашей печи экспериментального участка мощностью 1200 KB А, но на промышленной печи, мощностью 21000 KB А такие операции считаются невозможными. Ведь промышленная печь — это костер около 6 метров в диаметре. Вот нужно подойти к этому костру вплотную и прутом, весом килограмм в 20, либо уголком, либо швеллером, помогая себе кувалдой, пробивать отверстия в нужных местах колошника (поверхности шихты в печи). При этом на тебе начинает оплавляться каска, размягчаться и стекать на грудь пластиковый щиток, прикрывающий лицо, начинает тлеть и прогорать до дыр суконная одежда, а ты обязан долбить, долбить и долбить эти проклятые козлы. Хотя бы 4 часа в смену, а 4, уж так и быть, отлежись в питьевом блоке.
Печь каждые сутки обслуживают три бригады, четвертая — на выходном. И, естественно, у каждой бригады, принимающей печь, имелась мечта, что эту «заманчивую» работу по обработке колошника сделают остальные бригады. И все четыре бригады ходили вокруг печи, давали умные советы насчет того, чтобы еще такого в печь дать, чтобы ты не работал, а она заработала, и никто к операциям, которые действительно могли исправить печь, не приступал.
«Тятя» — А.И. Григорьев
Не знаю, действительно ли уже разобрался в тонкостях ферросплавного производства тогдашний директор С.А. Донской, бывший до работы на нашем заводе сталеплавильщиком, или Донской действовал по наитию, но он упросил Тятю стать на этой печи старшим мастером и, наконец, заставить печь работать. В этом Григорьев отказать директору не мог, он вышел на работу в цех № 4, взял под свое управление эту печь, и недели через две она уже прекрасно работала, её укрыли сводом, и она продолжала прекрасно работать уже без Тяти. Мне, естественно, было интересно, что именно делал Григорьев, какие технологические приемы применял, и я спросил об этом у начальника цеха.
— Тятя пришел утром, заставил всех плавильщиков в бригаде этой печи взять шуровки и долбить колошник. Пока стоял рядом, они работали, потом куда-то отошел, они сели. Тятя возвращается, схватил лопату и с матюками начал лупить лопатой по спине одного, другого. Они тоже с матюками взяли шуровки и снова встали к печи. И так Тятька несколько суток без перерыва стоял возле печи и заставлял всех работать до упаду. И печь пошла…
Время от времени по телевизору показывают иллюзионистов со всякими экстравагантными фокусами — они глотают шпаги, протыкают себе спицами живот и т. д. И голос за кадром предупреждает зрителей: «Не вздумайте повторять эти фокусы!» Вот и я предупреждаю: «Не вздумайте повторять приемы убеждения рабочих лопатой — морду набьют!» Чтобы использовать этот прием, вам нужно быть твердо уверенным, что ваши подчиненные уже дали вам кличку «Тятя», вам нужно быть твердо уверенным, что у вас авторитет отца в вашем коллективе. Если такой уверенности нет, то лучше не рисковать.
Почему такие выходки прощались А.И.Григорьеву? Во-первых, на печи уже перепробовали всё, что можно, и все если и не понимали, то чувствовали, что та тяжелая работа, которую заставляет делать Тятя, — это единственный оставшийся путь к исправлению работы печи, а, следовательно, к более легкой работе в недалеком будущем и к существенно более высокой зарплате. То есть все понимали, что Тятя старается ради них. Во-вторых, Тятю хорошо знали, знали, что он не уйдет с печи, пока печь не заработает, что он будет сутками тут стоять, прикорнув часок где-нибудь за пультом. А значит, он вот так — если нужно, то и лопатой, — заставит работать все четыре бригады, а это для русского человека самое главное.
Как все
Хочу акцентировать на этом внимание — не знаю, как другие народы, но русскому человеку (я бы сказал шире — советскому) очень важно знать, что его тяготы не отличаются от тягот остальных. Тогда он спокоен, тогда он способен (или был способен) перенести и преодолеть любые трудности. Мы своими корнями происходим от очень свободолюбивого общества, которое было таким благодаря исключительной преданности людей друг Другу. Для русского человека «как все» — это магическое заклинание, оно действовало на него безотказно.
Я однажды попробовал это заклинание и, не буду умничать, как-то автоматически — я не задумывался особо над тем, что я делаю, а обдумал свои действия уже потом — когда увидел, что получилось.
Умер Черненко, и СССР возглавил пятнистый олень, который поначалу решил стяжать себе славу как «минеральный секретарь» — на почве «борьбы с пьянством». Все шло по уже накатанному до тошноты пути — партийные органы бодро начали проводить кампанию «борьбы за трезвость», которая должна была закончиться тем, чем и все партийные кампании до этого, — горами всяких бумаг, отчетов, рапортов и новыми должностями для бездельников. В плане этих отчетов партия повелела создать общества трезвости во всех коллективах — собачий бред, который, однако, надо было исполнять. И вот в пятницу на общезаводской оперативке директор завода С.А. Донской дает всем начальникам цехов распоряжение.
— Это очень серьезно. Я знаю, что вы можете мне сказать, — я сам могу вам это сказать и еще лучше, чем вы! Поэтому я не хочу слушать никаких комментариев и возражений — это не обсуждается! Я приказываю всем начальникам цехов до следующей пятницы создать в цехах добровольные общества трезвости и записать в них не менее 20 % работников цеха. Всё! Повторяю, этот приказ обсуждению не подлежит!
А я, тогда начальник ЦЗЛ, играл на этих оперативках по пятницам роль некоего резонера — я подначивал коллег в случаях их неудачных мыслей или словосочетаний, но директора, само собой, подначивать побаивался. А тут меня черт дернул за язык подначить и его.
— Семен Аронович, а 100 % можно добровольно записать?
Директор рассердился и выдал гневную тираду о неких малолетних начальниках цехов, которые не понимают, что при несерьезном отношении к этому делу завод замородуют всевозможной критикой, проверками, придирками и прочим, а это заводу, при его нынешнем тяжелом положении, совершенно не нужно.
Я обиделся.
Иду с оперативки, злюсь и думаю, что я со своими подчиненными несправедливо поступать не буду, хоть ты меня на куски режь!
Тут дело в том, что добровольная запись в общество трезвости должна была сопровождаться уплатой годовых членских взносов на содержание аппарата бездельников этого общества (председатель городского общества трезвости уже был назначен, и его нам на оперативке представили). Сумма годовых взносов — 2 рубля, Деньги не велики, и если бы было за что их платить, то кто бы отказался? Но под эту херню?!
Положение усугубляло и то, что парторг цеха Чеклинский, неформальный лидер в цехе, начитался «Аргументов и фактов». А там демократические уроды по поручению ЦК КПСС топили это решение КПСС и объясняли народу, что общества трезвости — дело исключительно добровольное, что никакого насилия, даже морального, к людям применять нельзя и т. д. и т. п. — привычный интеллигентствующий словесный понос. Но тогда он был в диковинку, и народ на него клевал. Клюнул и Леня, а посему энергично начал проводить в ЦЗЛ мысль, что никто в это общество записываться не должен, и что если есть в цехе трезвенники, то вот пусть они в это общество и записываются. Конечно, он и мне принес эти «Аргументы и факты» почитать и со мною провел разъяснительную работу.
Это все хорошо, но мне-то приказ директора исполнять нужно! И я назначаю себя председателем этого самого цехового общества трезвости, секретаря цеха — секретарем и казначеем общества трезвости и поручаю ей отпечатать коллективное заявление всех работников ЦЗЛ с просьбой принять их в общество трезвости. Далее она печатает список добровольной уплаты членских взносов всех работников цеха, возглавляю список, само собой, я. Назначаю в красном уголке цеха № 4 (у нас своего не было) общее собрание ЦЗЛ по поводу вступления всех в общество трезвости. Докладывают, что Леня уже вошел в азарт и готовит мне на этом собрании бой за мое покушение на демократию и плюрализм. Собираем собрание в конце дня, но в рабочее время (чтобы пришли все), я беру слово и говорю примерно следующее:
— Директор приказал всем начальникам цехов, т. е. и мне, создать в цехах общества трезвости и записать в него 20 % штата. Мне это не нравится, как и вам, кроме того, не нравится и вот еще по какой причине.
С месяц назад мы отмечали профессиональный праздник ЦЗЛ — День химика. Как вы помните, мы отмечали его на втором этаже в банкетном зале ДК «Металлург». Хорошо посидели, поплясали, а когда в начале двенадцатого нас начали выгонять, что сделал весь коллектив цеха? Правильно — тут же смылся! А что делали активисты цеха до часа ночи? Правильно — убирали, мыли посуду, приводили зал в первоначальное состояние.
Так вот, мне надоело эксплуатировать активистов цеха! Как какая общественная работа ни возникает, она всегда достается активистам, а остальные — по кустам! Хватит! Нужно совесть иметь! Если я сейчас объявлю добровольную запись в общество трезвости и запишу 20 % работников, то это опять будут активисты. Всё, я этого делать больше не буду! И ставлю перед вами вопрос ребром: либо мы все запишемся в это хреновое общество, либо никто. Даже если среди вас есть трезвенники, то создавайте это общество сами, без меня.
Конечно, меня за это как-нибудь выдерут, всегда найдется повод за что-нибудь снять с меня премию, но я — начальник, и это издержки моей должности. Во всяком случае, сохранять себе эти деньги за счет активистов я не буду.
Я совершенно не веду речь о том, пить вам или не пить, поскольку у нас не такой коллектив, чтобы эта проблема не давала нам хорошо работать и посему волновала меня как начальника. Речь идет всего лишь о том, чтобы в четверг сдать заявления о приеме в общество трезвости и деньги. Вот я при вас сдаю 2 рубля и расписываюсь, призываю и вас это сделать. Секретарь цеха будет собирать подписи и деньги до обеда четверга. Если к этому времени запишутся не все, то я верну вам деньги, порву заявление и ничего сдавать не буду. Я все сказал.
Сейчас я уйду, а вы, кто хочет, записывайтесь, кто не хочет — не записывайтесь. Если есть вопросы — задайте.
Встал Леня Чеклинский, и по нему было видно, что я испортил ему песню. Махнул рукой.
— Все это неправильно, нельзя насильно записывать в трезвенники! Но если всем записываться, то и я тоже, естественно, запишусь.
К четвергу примерно из 150 человек ЦЗЛ в общество трезвости не записалась инженер, хороший специалист, но женщина себе на уме, и несколько беременных, которые после отпуска по уходу за ребенком, судя по всему, не собирались возвращаться на работу к нам. Этим можно было пренебречь, и мы сдали списки и деньги председателю заводского общества трезвости.
В следующую пятницу зам. директора по кадрам Ибраев начал читать итоги того, как начальники цехов выполнили приказ директора и план по трезвенникам. Темирбулат начал, само собой, с плавильных (основных) цехов, результаты у них были в пределах 7-12 %, директор эти цифры соответственно комментировал. Потом пошли крупные вспомогательные цеха с примерно таким же результатом, наконец, Ибраев сообщил: «ЦЗЛ — 97 %». Коллеги с удивлением повернулись в мою сторону, Донской, поняв, сколько у меня записалось, с уважением сказал:
— А я думал, ты шутишь, а ты — серьезно?!
Ну, так ведь и я сначала думал, что я шучу, а потом оказалось, что я говорил серьезно. Для меня это был эпизод даже не очень интересный в то время, поскольку у меня тогда было достаточно гораздо более интересных дел. Но теперь я думаю, что этот мой успех в деле с трезвенниками заставил директора и партийную власть взглянуть на меня по-новому: я оказался не просто диссидентствующим беспартийным начальником цеха, оказалось, что я имею в своем цехе авторитет, превосходящий авторитет в своих цехах других начальников цехов. Это, с одной стороны, было очень хорошо, но только в случае, если я вел цех туда, куда указывал директор, с другой стороны, это грозило большими неудобствами, если бы я повел цех в другую сторону. Повторю, в то время я об этом совершенно не думал, теперь же полагаю, что некоторое время спустя это предопределило в моей жизни короткий, в десяток дней, период, в течение которого мне небо казалось с овчинку. Но об этом после.
Немного в общем
Сейчас же я хочу повторить и подчеркнуть главную мысль — может случиться так, что вы никакими деньгами (разумными, конечно,) не заставите человека сделать то, чего не делают другие. Но, с другой стороны, люди могут пойти на любые издержки, если считают данное дело справедливым (правильно считают или ошибаются — это второй вопрос) и при непременном условии — на эти издержки идет большинство коллектива.
Понимание этого позволяет на многие вещи взглянуть правильно. Скажем, в 1941 году Гитлер полагал, что через два-три месяца русские, недовольные страшными издержками тяжелой войны, сметут правительство Сталина, как они в 1917 году смели царское правительство. Умники в Англии и США давали на это еще меньше времени. А все оказалось не так, и «свободные СМИ», и «интеллектуалы» по сей день объясняют это тупостью и рабской психологией русского народа. На самом деле большинство русского народа считало справедливой свою жизнь при Сталине и несправедливым то, что какая-то там «цивилизованная» немецкая сволочь хочет её изменить.
А с тем мусором, который из-за своего большого ума сориентировался и перебежал на сторону немцев, народ расправлялся с беспощадной жестокостью. Сегодня наши «цивилизованные СМИ» об этом мусоре (сдавшимся в плен, перешедшим на сторону немцев) стонут, умалчивая о том, что, к примеру, для власовцев в конце войны было главным проскочить народ — военнослужащих Красной Армии — и добежать до военного трибунала, чтобы спрятаться под его защиту. Трибунал давал рядовым власовцам 5 лет лагерей, офицерам — 10, а простые советские солдаты, поймав предателей, давали им только смерть, порою очень жестокую.
Гитлер же этого очень долго не понимал. Даже после начала войны с СССР, 16 июля 1941 года, он, как рассказал Шелленбергу Гейдрих, ставил перед гестапо такую задачу.
«Гитлер настаивает на скорейшем создании хорошо спланированной системы информации — такой системы, которой могло бы позавидовать даже НКВД; надежной, беспощадной и работающей круглосуточно, так, чтобы никто — никакой лидер, подобный Сталину, — не мог бы возвыситься, прикрываясь флагом подпольного движения, ни в какой части России. Такую личность, если она когда-либо появится, надлежит своевременно распознать и уничтожить. Он считает, что в своей массе русский народ не представляет никакой опасности. Он опасен только потому, что заключает в себе силу, позволяющую создавать и развивать возможности, заложенные в характере таких личностей».
Как видите, Гитлер, зацикленный на «личностях», образно говоря, ставит телегу впереди лошади, запутывая тему словами, не имеющими под собой конкретного содержания. Как 190 млн. граждан СССР «развивали возможности, заложенные в характере» личности Сталина? Что это конкретно означает? Бред! Просто Сталин делал то, что ожидало от него большинство советского народа, и именно за это советский народ, плюя на широко рекламируемые немцами прелести «свободного мира», уходя в лес и создавая партизанский отряд, называл его «За Сталина». (Это реальное название одного из отрядов крымских партизан.)
Однако вернемся в мирное время.
Исходя из того, что я написал выше, может сложиться логичное впечатление, что подчиненные — это толпа, пригодная только для манипулирования ею и нуждающаяся в постоянном контроле. То, что это толпа, — от этого никуда не денешься, и манипулировать ею, конечно, можно, однако такой подход к подчиненным перегрузит вас работой по контролю за ними, не даст ожидаемого эффекта, но, главное, лишит вас удовольствия от вашей работы, превратив ее в неинтересную рутину.
Подчиненные могут быть умнее и глупее, с более широким кругозором и с более узким, они могут получить удовольствие от работы и без вас, а могут ненавидеть свою работу и одиннадцать месяцев в году ожидать тот единственный, когда они смогут избавиться от работы и уйти в отпуск. Но даже в последнем случае они осваивают поручаемое им дело настолько, что способны в нем на творчество — на получение результатов новых для них, а порою и вообще новых.
Творчество рабочих
Поскольку самыми первыми подчиненными являются рабочие, то расскажу вот какой случай. В бытность мою начальником ЦЗЛ, в цехе № 6 случилась авария (я о ней уже упоминал), закончившаяся гибелью бригадира печи, инвалидностью начальника смены и травмой плавильщика — в печи произошел взрыв. Причиной взрыва занималась, как в таких случаях полагается, комиссия Министерства и Госгортехнадзора, но в первую очередь занимался сам завод, поскольку, сами понимаете, нам на этих печах работать, и нас их безопасность волновала больше всего.
Печи 6-го цеха сверхмощные, таких в мире не было, да, пожалуй, и сейчас нет. Взрыв имел свои специфические особенности отличные от взрывов на менее мощных печах, но причина его оставалась прежней — в печь поступала вода из охлаждаемых конструкций свода печи, и прекратить её поступление вовремя не успели. На маломощных печах, скажем, на печах мощностью 21 МВА (мегавольтампер) в подавляющем числе случаев взрыв под сводом срывал клапаны на своде печи и не влек за собою большого ущерба и тем более человеческих жертв, а взрыв на печи мощностью 63 МВА разворотил весь свод и, как видите, окончился трагедией. И на печах 21 МВА настоятельно требовалось быстро находить утечку воды, но теперь стало ясно, что это вопрос первостепенной важности. Тогдашний главный инженер завода Ю.Я.Кашаев собрал совещание и потребовал ото всех специалистов и инженеров срочно искать способы быстро обнаруживать прогоревший элемент свода, чтобы быстро отключить его от охлаждения и прекратить утечку воды под свод.
Искал технический способ решения этого вопроса и я, хотя, по большому счету, это был вопрос мехоборудования печей, а не их технологии, поэтому я это делал, как говорится, в порядке личной инициативы. Представьте суть проблемы.
Над колошником — над огромным костром, из которого могут выбиваться струи раскаленных до 2000° газов, находятся плиты свода, элементы загрузочных воронок и детали крепления свода — всего до 40 устройств, которые охлаждаются циркулирующей в них водой. Немного об этом.
Вода для охлаждения поступает из оборотного цикла — из запаса воды, который постоянно находится на заводе. Холодная вода прогоняется насосами через трубы и полости охлаждаемых элементов сводов печей и их конструкций (щёк, токоподводов и т. п.). При этом вода, забирая тепло у нагреваемых элементов, нагревается сама, нагретая вода подается на градирни — специальные сооружения, в которых горячая вода охлаждается атмосферным воздухом, а холодная вода с градирен вновь подается на охлаждение элементов печей — почему эта система водоснабжения завода и названа «оборотным циклом».
К печи подходят несколько водоводов холодной воды — труб, диаметром 100–150 мм. Они заканчиваются поперечной трубой с десятком кранов с «ершами» — патрубками, на которые надеваются резиновые шланги. Этими шлангами вода подается к каждому охлаждающемуся элементу печи. С него уже нагретая вода тоже по резиновому шлангу течет к коллектору — стальному корыту, собирающему горячую воду. Снизу к корыту подведена труба большого диаметра, по которой насосы откачивают горячую воду и подают её на градирни. Сверху в корыто подают горячую воду «гусаки», идущие снизу и изогнутые сверху вниз, в корыто — короткие стальные патрубки с ершами. Снизу к этим ершам подсоединяются шланги сброса воды, нагретой в охлаждаемых элементах печи. Резиновые шланги на подаче и на сбросе воды электрически разъединяют печь и заземленные водоводы оборотного цикла. Это необходимо, поскольку как ни изолируй конструкции свода, но во время работы они все же попадают под напряжение, а такие элементы, как щеки и токоподводящие медные трубы, изначально под ним находятся.
Итак, представьте, вдруг на печи какой-то из водоохлаждаемых элементов свода прогорел, то есть в нем образовалась дырочка или дыра, из которой там внутри под сводом, невидимо для вас, в печь начала поступать вода. При этом она поступает и в печь, и в коллектор, поэтому снаружи никаких видимых изменений нет. Приборы моментально показывают повышение водорода в отходящих газах, опытный глаз заметит изменение цвета пламени, становится понятно, что в печь поступает вода, но непонятно главное — из какого из 40 охлаждаемых элементов свода? На него немедленно нужно перекрыть подачу воды, но как узнать, какой из 40 кранов нужно закрутить?
Делалось это так. Отключают печь и по очереди, начиная с наиболее вероятных, перекрывают воду на охлаждающие элементы. Закручивают кран на подачу, затем слесарь снимает проволоку, удерживающую шланг на гусаке сливного коллектора, и снимает шланг. Бригадир берет шланг и над корытом сливного коллектора поднимает его срез выше уровня воды в проверяемом элементе свода. Дает команду, и его помощник приоткрывает воду на подачу в этот элемент. Из среза шланга вверх начинает бить вода, бригадир командует снова её перекрыть, и в удерживаемом им вертикально шланге смотрит на уровень воды. Тут два варианта: если этот уровень так и будет держаться, то значит водоохлаждаемый элемент свода, который сейчас проверяют, цел; если же уровень воды в шланге резко упадет, то значит в проверяемом элементе дыра, и вода из шланга ушла в нее под свод. Все просто. Но если не угадал, то тогда нужно снова присоединить шланг к гусаку и подать воду на охлаждение проверенного элемента свода. После чего приступить к проверке следующего элемента, следующего и т. д., пока не найдешь дырявый. А может оказаться, что их, дырявых, уже несколько, отключишь один, а через второй вода будет продолжать поступать. И простои по поиску поступающей в печь воды могли длиться до часа, в течение которого вода поступала и поступала в печь, делая её все более и более опасной.
Следовательно, проблема формулировалась так: найти устройство, которое бы позволяло быстро определить, в котором из 40 охлаждаемых элементов появилась дыра.
Я начал перебирать, какое бы устройство здесь можно было бы приспособить. Никакие датчики давления или электрического потенциала не подходили из-за непредсказуемого изменения давления воды на охлаждение и электрического напряжения на элементах свода. Получалось, что старый способ является, по сути, наиболее надежным. Но что делало его медленным? Процесс снятия и надевания шлангов на гусаки — это первое, и поочередность проверки охлаждающих контуров свода — это второе. Зачем снимают шланг? Чтобы поднять его срез вертикально и выше охлаждающего элемента. Ну, так надо заранее все 40 шлангов поднять вверх и выше! Тогда не нужно будет их снимать, а надо будет только найти тот, в котором уровень воды упадет. Но! Если сбрасываемую воду ввести в коллектор не гусаком сверху вниз, а вертикальной трубой вверх, то из этой трубки струя воды под давлением будет бить вверх на несколько метров и вокруг печи можно будет уток разводить, а то и карасей. А печь-то электрическая, а обычная вода — это неплохой проводник тока. Увеличь вокруг нее влагу, и плавильщиков будет дергать током непрерывно. Думал-думал, ничего путевого придумать не могу, все получается в виде каких-то громоздких, трудно эксплуатируемых конструкций.
Наконец, остановился вот на чём. Нужно водосбрасывающий гусак поднять повыше и врезать в него сбоку стеклянную водомерную трубку. Тогда, если отключить подачу воды на охлаждение всех элементов свода сразу, можно будет просто пройти вдоль коллекторов сброса и посмотреть на водомерные трубки на каждом гусаке: в которой не будет воды, тот охлаждаемый элемент и прогорел. На бумаге это выглядит неплохо, но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить!» Дело в том, что каждые три месяца во время ППР (планово-предупредительного ремонта) с печи лебедками стаскивают многотонные секции свода и натаскивают новые. И от такой технологии наших ремонтников все вокруг трещит — бетон лопается, сталь гнется. Что же это будет с моими стеклянными трубочками? Не помню, что я придумал, по-моему сделал корыто коллектора со съемными гусаками, чтобы перед ремонтом эти части свинтили и отнесли подальше от ремонтников в безопасное место. Хотя, надо признаться, я понимал, что относить корыта будут не часовых дел мастера, а плавильщики, а эти рационализаторы, скорее всего, их не понесут, а поволокут. Но ничего лучшего по первому вопросу я придумать не смог — не совсем красивым получилось решение, но на производстве нет времени ждать, когда родится идеальное решение.
Зато второй вопрос — как избежать очередности проверки контуров — я решил сразу. Нужно отключать их не кранами на Подводящих водоводах, а отключить весь водовод сразу, тогда останется пройтись вдоль коллекторов сброса и посмотреть на Водомерные трубки. Вся операция по поиску течи воды со свода могла занять не более нескольких минут.
Начертил эскизы, написал рационализаторское предложение («рацуху» — по принятому на заводах жаргонному сокращению) и отдал её главному инженеру, Кашаев утвердил и отправил в проектно-конструкторский отдел для разработки Чертежей. А я забыл об этом деле, так как у меня и плановых забот было достаточно. Однако спустя какое-то время на совещании по технике безопасности у главного инженера вновь всплыл вопрос о несовершенстве определения прогоревших элементов сводов печей, и я напомнил Кашаеву о своей рацухе. Юрий Яковлевич, соответственно, вспомнил о своем задании начальнику ПКО, сказал пару теплых слов начальнику проектно-конструкторского отдела Андронову, и тот пообещал немедленно заняться этим проектом.
Вечером или на следующий день ко мне пришел конструктор ПКО и сообщил, что ему поручили выполнить чертежи по рацпредложению, но он не понимает эскиза, и Андронов послал его ко мне. Конструктор начал задавать вопросы, и тут уже я перестал понимать, о чем он спрашивает. Попросил эскиз, это был довольно примитивный рисунок от руки и, вдобавок, не мой. Однако я был, что называется, «в теме», поэтому быстро разобрался что к чему и восхитился!
Напомню, самое простое было поставить трубки сброса вертикально, но тогда бы из них во время работы фонтанировала бы под напором вода. Я не смог найти решения, как от этого фонтанирования избавиться, и придумал эти дурацкие стеклянные трубки.
А теперь пойдите в ванну, снимите шланг душа, направьте сетку вверх и включите воду. Оцените, на какую высоту бьют её струи. После этого налейте воды в тазик, ведро или в саму ванну, суньте туда сетку душа отверстиями вверх и включите воду. Струи будут гаситься слоем воды над ними, никакого фонтана не будет, вода будет бурлить на поверхности и сливаться через край ведра. Элементарно, Ватсон!
Из эскиза следовало, что на конец вертикально поставленного сливного патрубка (одно- или полуторадюймового — не помню) приваривался стакан из куска трубы диаметром 100–150 мм. И это всё, и никаких стеклянных трубок. Рацуху подал бригадир печи цеха № 6 Иван Буле, единственно — он не догадался, что нужно не поочередно перекрывать краны, а перекрыть подачу воды на водоводе. (Потом Иван меня за эту идею похвалил, но не все же работяги должны придумывать, на что-то же нужны и инженеры.)
Я разъяснил конструктору, что тут к чему, пояснил, что нужно предусмотреть хорошую задвижку на подводящих водоводах, после чего написал главному инженеру служебную записку с просьбой аннулировать мое рацпредложение за ненадобностью. (А то бы еще ПКО и по нему начал проект делать.)
Свобода подчиненных
И сила любой организации состоит не в дисциплине, не в послушании, не в оснащенности техникой, хотя все вышесказанное, безусловно, имеет значение, а в том, насколько много членов организации вовлечены в творчество. Как видите, даже рабочие могут быть элементарно задействованы в творческом процессе, доказательством чему являются как результаты сталинских пятилеток, так и нынешние успехи японских предприятий, а ведь японцы не стесняются признаваться, что они используют сталинские методы работы с кадрами.
Помню, был на заводе японской фирмы «Шарп» в городе Точиге (между прочим, с сыном М.И. Друинского Игорем). Идем по длинному корпусу главного конвейера сборки видеомагнитофонов. Справа сам конвейер и, методично действующие руками, несколько сот японских рабочих, мужчин и женщин. Слева — глухая стена цеха с окнами у потолка. И на этой стене так же методично один стенд меняет другой: «Лучшие рабочие фирмы по производительности труда», «Лучшие рабочие по качеству продукции», «Лучшие контролеры брака», «Лучшие рационализаторы» и т. д. и т. п.
Когда я еще был начальником ЦЗЛ, то начал работать над теоретическими основами бюрократизма и к моменту, когда стал заместителем директора завода по коммерческим вопросам и транспорту, довольно далеко продвинулся в понимании основ управления. Как бы то ни было, но к этому моменту я понимал, почему надо предоставлять подчиненному свободу действий, почему ему нужно ставить задачу в максимально общем виде. Проблема, однако, в том, что, даже теоретически понимая это, практически об этом часто забываешь. Вот такой пример моей собственной глупости в этом вопросе.
Принял я вышеупомянутую должность зама, дня три посидел в своем будущем кабинете возле Валентина Мельберга, которого я менял на этой работе, наконец, вечером мы с ним выпили, пожали руки, и он оставил меня одного. За это время бухгалтерия взяла с меня образцы подписи для банка — я стал на заводе распорядителем кредита, т. е. имел такое же, как и директор, право распоряжаться деньгами завода.
Утром прихожу в уже по-настоящему свой кабинет, секретарь заносит груду финансовых документов, я на них смотрю и ни черта не соображаю, что мне делать. В правом верхнем углу отпечатано «Заместитель директора… Ю.И. Мухин», я понимаю, что я должен в этом месте расписаться, но я без малейшего понятия о том, что написано в документе, без понятия, что я проплачиваю или что списываю. Я никогда не слышал ни о таких потребностях проплаты; никогда не видел оборудования, которое мне предлагается списать. Что делать — идти разбираться с каждым этим вопросом? Но их каждый день до сотни!
Я пригласил к себе главбуха завода Х.М. Прушинскую.
— Христина Макаровна! Я «поплыл» — я ничего не соображаю в бухгалтерии, научи меня хоть чему-нибудь! — Прушинская задумчиво и с сомнением посмотрела на меня.
— Слушай, если я правильно понимаю, то тебя назначили на это место, чтобы ты расшил узкие места снабжения завода и транспорта. Так ты и займись этим, а в бухгалтерии у завода проблем нет. Поэтому ты пока нами не занимайся. На всех приносимых тебе финансовых документах внизу есть строчка «Главный бухгалтер», и если на этой сточке стоит моя подпись, то смело можешь подписывать и ты, я тебе гарантирую, что по такому документу у тебя никогда никаких проблем не будет.
Так мы и работали, я занялся теми делами, решения которых от меня ждали, а до бухгалтерской рутины за 8 лет работы распорядителем кредитов у меня руки так не дошли. Точно так же у меня сложились отношения и с плановым отделом, который несколько позже тоже оказался у меня в подчинении. Руководила им Людмила Дмитриевна Лопатина, женщина умная и аккуратная до такой педантичности, что и немцы позавидовали бы. И по плановому отделу у меня никогда и никаких «проколов» не было, хотя я и Людмиле все подписывал не глядя.
И вот, имея двух таких мощных подчиненных, у меня хватило ума начать с ними ссориться, больше, конечно, с главбухом. Возникает у меня идея, её нужно профинансировать, а Прушинская не подписывает — не положено! (Мы ведь до 1995 года были госпредприятием и работали в рамках еще советских финансовых инструкций.) Я сначала ругаюсь с ней, а потом иду жаловаться на нее директору. Раз сходил, два, а потом Донской, видимо, задумался над тем, что происходит, и говорит мне то, до чего я обязан был бы додуматься сам.
— Ты неправильно работаешь с Прушинской. Она очень хороший, надежный главный бухгалтер. А ты же ей предлагаешь сделать то, что, с точки зрения инструкций, является финансовым нарушением, за которое она отвечает своей свободой. Да еще и ругаешь её.
Да, то, что ты предлагаешь, нужно профинансировать, но ты в бухгалтерии смыслишь еще немного, так не выдумывай, как это сделать. Не ругайся с Христиной, а пригласи её, объясни ей, что ты хочешь сделать, и попроси её саму продумать, как это можно профинансировать. Вот увидишь, она, пусть и не сразу, но обязательно найдет, как это сделать.
Я понял, в чем я совершаю глупость при работе со своими подчиненными, и перестал на них давить. А Прушинской просто обрисовывал ситуацию, объяснял смысл своей идеи, её выгоды и просил ее придумать, что тут можно предпринять. Иногда было так, что она сразу же мою идею обзывала авантюрой, которую невозможно профинансировать, но потом все же находила, как ее оплатить.
Был такой мелкий случай, который запомнился мне своей уникальностью — ни до, ни после у меня не возникало потребности в таких решениях. Прорывались мы со своими ферросплавами на японский рынок. Японцы, как известно, очень агрессивны в своем экспорте — они ведут методичную экспансию на всех рынках мира, — но свой собственный рынок защищают очень тщательно. Между тем, японский рынок очень денежный, мы навели справки — ферросплавы в Японии стоили дорого, но проблема была в том, что японцы очень консервативны и не только никогда не делают то, что может нанести ущерб японским компаниям, но и неохотно меняют иностранных партнеров. Надо было как-то убедить их покупать ферросплавы у нас, но у меня это плохо получалось — мне японцы «пудрили мозги» про то, что они предпочитают очень надежных поставщиков и т. д. и т. п. Между прочим, наши западные партнеры, закупавшие у нас ферросплавы, тоже пытались выйти на рынок Японии, но у них ничего не вышло, хотя они в Токио даже фирму для этого создали. И я не особо надеялся, но пробовать надо было.
И вот как-то, наслушавшись в Москве японского нытья про «надежных поставщиков», я предложил представителям японской торговой фирмы приехать на наш завод и самим посмотреть, что это за предприятие. («Ниппон стил», их крупнейшая сталеплавильная корпорация, производила 200 тысяч тонн ферросплавов в год, а мы — миллион.) Хотел показать, что для нашего завода та тысяча тонн, которые я хотел им для начала всучить, это вообще не вопрос — «склады готовой продукции подметем» и как раз насобираем эту партию в 1000 тонн. Поскольку задача была в том, чтобы прорваться на японский рынок, то я не собирался требовать с них «японскую» цену. Думал продать им по ценам Европы, а, может, и ниже — важен был сам факт того, что наши ферросплавы вышли бы на японский рынок, и я, само собой, был готов и к демпингу.
Прилетели два японца, начинаю с ними разговор о контракте и, как и полагается, для начала предлагаю им купить партию по «японской» цене, чтобы было с чего начать торговаться. Они улыбаются, вежливо кланяются и говорят, что такая цена совершенно неприемлема, ну а я, само собой, показываю им цифры, добытые нашим внешнеэкономическим отделом, убеждаю, что именно по такой цене другие поставщики и продают ферросплавы в Японию. Мне спешить было некуда, поскольку на следующий день планировался показ японцам завода и окончательные переговоры, вот на них можно было и сбросить цену, поэтому мы пока остались при своем.
По плану их пребывания Володя Коробков, инженер внешнеэкономического отдела, отвозил их устроиться в гостиницу, а часов в 5 вечера в гостиницу должен был приехать я и устроить им обед. Думаю, хоть напою их, а надо сказать, что японцы «на халяву» пьют очень здорово. Одеваюсь проводить их к подъезду, а они вдруг начинают интересоваться моей шапкой.
С перестройкой у нас в Ермаке открылся кооператив по разведению норок, сам же этот кооператив и шапки шил. Не бог весть что, но из настоящей норки и настоящие ушанки, а не «обманки». И моя жена купила мне такую шапку. Между тем, их в Москве хоть пруд пруди, а японцы, видишь ли, заинтересовались моей! Ага, думаю, намек понял.
Примерно оценил размер их голов, проводил и звоню в норковый кооператив. Есть шапки, и продать могут немедленно, и по перечислению, и на слово мне поверят. Вся штука в том, что по советским инструкциям (по которым мы работали, не имея других) завод в качестве престижного подарка мог предложить иностранцам одну бутылку минеральной воды в день и, по-моему, стакан чаю или кофе. Вызываю Христину, обрисовываю ей нестандартную ситуацию: цели, которые я хочу достичь, и средства, которые, как я полагаю, в данном случае нужны.
— Макаровна, давай похерим инструкцию. Весь мир пользуется престижными подарками, одни мы связаны по рукам и ногам.
— Посадят!
— Христина, ну перестройка же ведь, и самостоятельность предприятий…
— Посадят!
Так ни о чем и не договорились. Поехал к японцам, исполнил свой долг хозяина. Утром приезжаю на работу — на столе две норковые шапки. Ага, придумала-таки как!
Привозит Коробков японцев, вид у них с похмелюги паршивенький, я дарю им шапки. Японцы веселеют, я наливаю им к кофе традиционное лекарство от похмелья — веселеют еще больше. Свозили их показать завод, возвращают ко мне, начинаю я торговаться, а они не торгуются — соглашаются на мои условия. Ах вы, родные!
Вечером им лететь, перед отлетом мы им влили от всего нашего радушия, повез их Коробков в аэропорт и еле в самолет посадил — пришлось ему их к креслам не пристегивать, а привязывать. В пьяном виде очень подвижные оказались…
Результат моей работы как распорядителя кредитов оказался в итоге таковым. В середине 90-х на завод обрушилась серия комиссий — проверялась и перепроверялась финансовая деятельность завода. Хлопали двери за одной комиссией, и тут же входила очередная. Наконец, приехала комиссия из контрольно-ревизионного управления Совмина Казахстана. Возглавлял её высокий худощавый старик, с ним было двое мужчин. Попросили себе отдельную комнату и начали сносить в нее документы — проверяли работу завода за 10 лет! Держались совершенно отчужденно — не то, что отказывались вместе пообедать, во время работы им чаю принесли из бухгалтерии, и старик холодно сказал: «Если мы захотим чаю, то у нас есть деньги его купить».
Нашли один вагон нашей продукции, на который отсутствовали документы об оплате (за десять лет завод поставил потребителям около 150 000 вагонов продукции). Прушинская была на грани истерики, но через пару дней и этот злосчастный документ нашли. Недели через три комиссия написала довольно объемный акт, старик нам его вручил для ознакомления и пригласил меня выйти в коридор перекурить. Тут он сказал примерно следующее:
— Меня уже давно не посылают в такие командировки, а тут послали… Как я понял, Правительству Казахстана требовалось найти у вас криминал — воровство или какие-то такие финансовые нарушения, за которые против вас, руководства завода, можно было бы возбудить уголовное дело. Я честно вас проверил, Но ничего не нашел, у вас даже ошибок и обычных нарушений меньше, чем можно было ожидать от завода с такими масштабами финансовой деятельности. Теперь ничего не бойтесь, если я не нашел, то уже никто ничего не найдет. Но берегитесь, если я правильно понимаю ситуацию, то Правительство хочет убрать руководство завода и ищет подходящий повод.
(Старик был прав, но что мы могли поделать? Если бы это иностранное государство хотело бы ограбить завод, то мы бы выкрутились. А что ты можешь сделать, если цель ограбить Казахстан поставило перед собой Правительство Казахстана?)
Вот я и думаю, смог бы я добиться тех результатов, которых добился, если бы не давал свободу действий и самостоятельность своим подчиненным, если бы висел над ними с каждодневным контролем, если бы угрозами и давлением заставлял их поступать, как мне казалось нужным? Да, конечно, все упирается в людей, а мои подчиненные были прекрасными людьми, однако уверен, что даже со скидкой на качество человека выгоднее сначала ему доверять, а уж после того, как он обманет, принимать меры. Кроме того, как я уже писал выше, человека можно понять порою по одному его поступку. Понять и насторожиться.
Все дело в тебе
Всё, что я выше написал о работе с людьми, преследует две цели. Первая банальна и равноценна рассуждениям о пользе молока, работать с людьми довольно сложно, с техникой работать гораздо проще (а еще проще, работать с бумагами). Это причина того, почему, к примеру, в армии офицеры норовят и в мирное время попасть в штаб или в какую-либо военную контору лишь бы не иметь подчиненных, а на заводах, кстати, многие инженеры предпочитают работать рабочими. Но это только одна сторона медали, с другой же стороны, если имеешь подчиненных, то резко увеличивается то удовольствие, которое ты получаешь от своей работы, ведь чем сложнее была задача, тем больше радости испытываешь от её удачного решения. И все дело в тебе, хочешь ли ты в своей жизни иметь настоящее счастье или по твоему умственному развитию тебе достаточно мелких радостей от удовлетворения животных инстинктов?
Вторая моя цель — с несколько другой стороны показать, насколько интересна работа на производстве, насколько полноценно человеческой жизнью живет человек, занимающийся действительно делом нужным людям, по сравнению с теми, кто пытается «устроиться» так, чтобы не работать, или, к примеру, кто развлекает людей в часы их досуга. Вот сегодня в толпе обывателей самыми популярными личностями являются артисты, по крайней мере, нас в этом пытаются убедить пресса и телевидение. Но вдумайтесь в их существование: остальные люди живут, а эти несчастные лишь изображают, имитируют жизнь остальных, да и то, не настоящую жизнь, а какие-то убогие фантазии драматурга или сценариста.
Еще более дико и глупо выглядит тот, кто считает себя счастливым от того, что увидал за жизнь очень много зрелищ, в том числе и с участием популярных артистов. Зачем было тратить время на эти зрелища, если можно было в это время жить самому? Я не против зрелищ как таковых, поскольку они позволяют отдохнуть мозгами от проблем реальной жизни, и без такого отдыха жить невозможно. Но заменить свою собственную жизнь только созерцанием чужой? Да еще и выдуманной?
Разве можно представить себе еще более глупое и тупое существование: с ненавистью и отвращением отбывать рабочие часы, чтобы потом по телевизору смотреть, как счастлив в работе, к примеру, полицейский. Я взял в качестве примера полицейского, поскольку сегодня детективы — наиболее часто используемая тема в зрелищах. Детективы интересны именно тем, что в них герой разгадывает загадки — это классика, этим раньше детектив и был интересен, с этого начинали Эдгар По или Артур Конан-Дойль. Но поскольку сегодня написанием сценариев (как и литературой) занимаются люди все более низкого уровня культуры, очень плохо знающие всё, что выходит за рамки жратвы и секса, то и из детективов решение загадок начало вытесняться сексом и традиционным мордобоем в конце фильма.
А теперь вспомните те случаи, которые я описал, — это же классические детективы, и они являются таковыми, поскольку реальная жизнь на производстве — это постоянное разгадывание загадок, которые тебе постоянно преподносит производство. Оцените ситуацию: кто счастливее — тот, кто сам разгадывает загадки, или тот, кто смотрит на разгадывание загадок другими?
Мне скажут, что и вторые тоже счастливы, и им неважно отчего — от собственных загадок или созерцания того, как их разгадывают Другие. Точно также как и шедевр человеческого идиотизма — футбольные фанаты, которые счастливы не оттого, что сами побеждают, а оттого, что видят эту победу. Да, мне скажут, что для счастья не имеет значения источник счастья, важно только то, что Данный человек счастлив.
Да это так. Вот червячок жует дерьмо и счастлив! И мне возразить червячку по этому поводу нечего, действительно, он счастлив. Остается маленький червячок в душе — а ты кто? Человек или червячок? У тебя что, точно не осталось уже ни ума, ни воли подняться над червячком и получить счастье человека? И твой жизненный удел — дерьмо? Даже если оно в красивой упаковке и рекламируется производителями дерьма как первосортный товар?
Да, я иллюстрирую книгу собственными примерами, но даже если бы я этого не делал, то все равно писал бы о себе — это мысль, которую люди массово не понимают. Я же писал выше, что человека можно распознать порою по одному факту из его жизни, а кто такой автор текста легко распознается по тому, на чем он акцентирует внимание, какую оценку дает тем или иным событиям.
Вот, к примеру, некий автор горько сетует о судьбе пленных — людей, которые должны были умереть в бою. Упаси господь вам с этим автором оказаться в одном окопе — он предаст вас и сбежит. Тут, как говорится, птицу видно по полету, а добра молодца — по соплям.
Так вот, М.И.Друинский, или тогда, скорее всего, Миша, был счастливым человеком, очень счастливым. Счастья червячка ему было мало, он получал счастье от своей работы, и это не осталось незамеченным его начальниками — Друинского начали повышать в должности, и к 30 годам он стал руководить цехом — коллективом, как я полагаю, примерно в 800 человек.
Может и случайно, но очень сжато и очень точно идеального начальника описал М.Ю. Лермонтов: «Полковник наш рожден был хватом, / слуга царю, отец солдатам…»
Я проработал под началом М.И. Друинского семь лет, из которых года четыре работал очень близко к нему, и я вас уверяю, что Друинский был именно таким полковником — слуга царю (государству), отец солдатам (нам, его подчиненным).
Единственно, он был по натуре хватом, но вынужден был это в себе задавить. И, как я полагаю, задавил в себе хвата по причине своей национальности — по причине того, что он был евреем. Это мое мнение основано на моем жизненном опыте, и ничем иным, даже признанием в этом самого Друинского, не может быть подтверждено. Поскольку в данном случае я сам становлюсь очень важным для того, чтобы признать это мнение обоснованным, расскажу и собственно о себе, тем более, что мне доставляет удовольствие вспомнить (что могу) о том прекрасном времени.
Глава 6 ЕРМАКОВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
Начало
Не претендую на особую научность, но хорошая работа имеет две составляющие: хорошие начальники (и подчиненные, если сам начальник) и свое содержание. И с хорошей работой мне везло во всем. Начнем с первого — с начальников и подчиненных, а согласуясь с хронологией, — с моих первых шагов на родном заводе.
Утром следующего дня после своего прибытия в Ермак я вошел в парадный (и единственный работающий) вход здания заводоуправления и на первом этаже свернул направо, вошел в отдел кадров и отрекомендовался. Инспектор ОК (наверное, это была Хузина) взглянула на мои документы и показала на закрытую дверь: «К начальнику!» Я зашел, за столом сидел пожилой мужчина с густой, уже седой шевелюрой. Пригласил меня сесть и стал рассматривать мои бумаги, потом взял паспорт и чуть ли его не обнюхал, потом стал расспрашивать, нет ли у меня родственников в Казахстане. Не попал ли я, случаем, на какое-то секретное военное предприятие? — подумалось мне, но ларчик открылся просто: оказалось, что начальника отдела кадров зовут Михаил Дмитриевич Мухин, и он заинтересовался — не родственники ли мы? (Потом мы с его сыном Владимиром, работавшим начальником электроцеха, приветствовали друг друга по фамилии: «Привет, Мухин!» — «Привет, Мухин!») Убедившись, что мы всего лишь однофамильцы, он в сердцах отреагировал на мое направление: «Ну, куда министерство вас присылает?! У нас два десятка инженеров-металлургов работает на рабочих местах, и мы не можем предоставить им инженерные должности, а вас к нам гонят и гонят!»
У меня челюсть отвисла от удивления: в Управлении кадров Минчермета меня убеждали, что на Ермаковском заводе ферросплавов катастрофически не хватает молодых специалистов, а тут, оказывается, их некуда девать! (Потом выяснилось, что это политика директора завода П.В. Топильского — нагнать на завод как можно больше людей, чтобы компенсировать потери штата от разбегающихся с завода работников, но я тогда этого не знал.) Я, естественно, обрадовался словам однофамильца, поскольку появилась реальная возможность открепиться и уехать из этой дыры с чистой совестью. Но моя радость не встретила ответной реакции у Михаила Дмитриевича — он как-то, то ли грустно, то ли досадливо заметил, что все решает директор, и директор вряд ли меня отпустит, поэтому лучше уж мне получить подъемные, раз я их не получал, получить деньги за проезд и идти устраиваться в общежитие. Я, однако, был уверен, что сумею уговорить директора, и, дождавшись времени, когда Топильский принимал начальника отдела кадров, мы поднялись на второй этаж в кабинет директора.
Директором оказался нормального телосложения брюнет лет под 50 с каким-то брезгливым выражением лица и тоном. Он презрительно повертел в руках мой «красный» диплом и распорядился оформлять меня на работу плавильщиком. Я начал упрашивать его открепить меня, раз на заводе перебор с молодыми специалистами, но он нас уже не слушал, и Михаил Дмитриевич потащил меня к выходу из кабинета.
В коридоре я выматерился, однофамилец меня успокоил, выписал мне документы в бухгалтерию для получения денег, направления в общагу и на медкомиссию. Я получил деньги, перевез чемодан из гостиницы в общежитие, пошел в поликлинику, где по всем статьям и всеми врачами был признан годным, кроме окулиста. Тот проверил зрение и сообщил, что в плавильщики я не годен, но сообщил таким тоном, по которому было ясно, что если я его попрошу, то он впишет в справку «Годен». Так оно всегда и было, скажем, у Женьки Польских зрение не лучше моего, а начинал он работать плавильщиком. Но я-то на этом заводе работать не собирался! Так что хрен вам, а не мои просьбы! И я вежливенько сообщил окулисту, что не смею толкать его на совершение должностного проступка, а посему пусть он мне смело вписывает: «Не годен».
Вечером, уже познакомившись с соседями по общаге, мы пошли прогуляться по городу, а там случайно встретились с белобрысым веселым крепышом, с которым меня познакомили, и который оказался А.А.Парфеновым — начальником металлургической лаборатории ЦЗЛ завода. Толя расспросил меня, кто я и откуда, чем в институте занимался и, узнав, что я и диплом имею «красный», и опыт исследовательской работы, с жаром стал убеждать меня остаться в Ермаке и устроиться на работу к нему в лабораторию. Договорились, что завтра с утра я сначала зайду к нему, а уж потом в отдел кадров. Утром он повел и познакомил меня с начальником ЦЗЛ Н.П. Меликаевым, и они оба стали убеждать меня, что я дурак, если хочу уехать. Доводов у них, может быть, было и немного, но зато все были точны и убедительны.
Если я хочу стать ученым, то мне надо будет писать диссертации. А для диссертации отраслевых ученых обязательно требуется внедрение ее результатов на заводе, и для институтского соискателя это самое трудное. Так зачем же мне уходить с завода, чтобы потом ездить на завод и хлопотать о внедрении? Надо начать писать диссертацию здесь, здесь же оформить акты о внедрении. Оба они, кстати, уже писали свои диссертации, и оба имели внедрение их результатов тут же, на заводе. Кроме того, потом, когда я уеду и поступлю на работу в институт, я, благодаря заводскому опыту, буду гораздо более ценным кадром по сравнению с теми учеными, кто на заводах никогда не работал (я буду человеком «с практическим опытом»), следовательно, меня скорее назначат на более высокие научные должности. Они были абсолютно правы, а я был человек молодой, холостой, и какая мне была разница, где начинать научную деятельность? Хотелось, конечно, в ДМетИ, но если не получается? Короче, они меня убедили, и я решил остаться на эти два года, что мне требовалось отработать как молодому специалисту.
Я спустился в отдел кадров и сообщил Михаилу Дмитриевичу, что в плавильщики я не годен, но могу начать работать в ЦЗЛ. М.Д.Мухин удивился, поскольку я был первым «негодным» молодым специалистом в истории завода, и снова повел меня к директору. Тот состроил на физиономии еще более презрительную мину.
— Как вас принимают на работу в институт, если вы по состоянию здоровья не способны работать на печах?
— Я не знаю, на кого учили вас в институте, но меня учили на инженера, и по состоянию здоровья я вполне годен работать инженером — очень некстати сострил я. (Но я ведь тогда не знал, что за штучка этот Топильский.)
Мое острословие Петру Васильевичу явно не понравилось, и это было видно без слов. Поэтому последовавшая от меня просьба назначить меня на работу в ЦЗЛ была тактической глупостью, о которой я тоже узнал позже. Поняв, чего человек хочет, Топильский делал все, чтобы помешать осуществлению желаемого. Такой был человек. Посему он довольно долго шевелил извилинами, пока выдал М.Д. Мухину:
— Назначить его помощником мастера блока в цех № 4!
Мы вышли, мой однофамилец был озадачен: оказывается, ни в штате завода не было такой должности, ни прецедента никогда не было — ни в отделе кадров, ни в отделе труда никто не знал, какой оклад мне назначить, и полагается ли мне вредный стаж. Но делать нечего, сказал директор «помощник», значит, «помощник».
Итак, получив на заводе загадочную для всех должность, я поднялся к ожидавшим меня Меликаеву и Парфенову, которые почему-то считали, что главное — это добиться согласия от меня. Когда я сообщил им решение Топильского, то Николай Павлович страшно разволновался и побежал к директору отстаивать мое назначение в ЦЗЛ. Вернулся быстро и с видом человека, о котором говорят «как говна нажрался». И стали они с Парфеновым сетовать, что как назло на заводе нет Друинского. Тут я узнал, что Друинский — это главный инженер, но он буквально на днях ушел в отпуск и выехал из города. Николай Павлович начал меня убеждать, чтобы я не делал глупостей, шел работать в цех, а через месяц вернется Друинский и все устроит.
Я 22 года проработал на заводе с Петром Васильевичем Топильским, но ни разу не разговаривал с ним на отвлеченные темы — только по производству. Посему я не знаю, каков он был вне должности, возможно, он был вполне нормальным человеком, возможно, в остальных вопросах он и не был глупцом. Но как руководитель и как инженер — это был вопиющий примитив. К примеру, он действительно был уверен, что научно-исследовательская служба завода — это ленивые бездельники, которые никакой пользы заводу не приносят, само собой, он не упускал случая лишний раз об этом напомнить. Между тем его уверенность базировалась на полном непонимании того, зачем мы нужны. Как директор он не охватывал завод в целом: он не видел в нем единого организма, не понимал взаимосвязи между звеньями завода, не понимал их функций. Образно говоря, он был подобен генералу, который уверен, что победу можно одержать только тогда, когда у него в окопах много стреляющих солдат, и это не только главное, но и единственное условие победы. При этом, этот образный генерал понятия не имеет, чем занимается разведка, как она действует и как использовать ее результаты. Посему уверен, что самое лучшее использование разведки — это посадить всех разведчиков в окопы, чтобы они тоже стреляли вместе со всеми.
Для Топильского исследовательские службы ЦЗЛ были отстоем, куда надо направлять людей, которых никаким другим образом использовать нельзя и уволить невозможно. Я был первым мужчиной на рядовой должности в метлаборатории, причем попавшим на нее добровольно. До меня, да и после, все при том же Топильском, в метлабораторию направляли только окончивших институт женщин-металлургов и только при условии, что к их приезду на заводе не окажется свободной должности экономиста.
Слава Богу, женщины в метлаборатории были прекрасные, особенно толковой и надежной была Люда Чеклинская, но ведь надо же понять, что инженерам метлаборатории работать приходилось там, где мужики зарабатывают себе горячий стаж, и круглосуточно, и в местах небезопасных. Когда посылаешь на такую работу мужика, то все в порядке — остальные мужики там работают, и ты работай! А как быть с женщинами? Как их задержишь после работы, если детские садики закрываются в 19–00, а мужья работают посменно? Как их выведешь на работу в ночь? Когда есть и мужчины, и женщины, то проблем нет — мужики больше в цехах, а женщины больше заняты счетной работой. Но как ты организуешь исследовательскую работу, если в штате только женщины? Очень трудно, когда у тебя в директорах завода придурок, но об этом я еще скажу.
Пары недель хватило, чтоб понять, что я не одинок в своей оценке Топильского. Когда он шел с обходом по цеху, то было видно, что все напрягаются: кто может удрать — удирают, кто не может — готовится ко всему. Вот появился директор, и у моих начальников, Хегая с Ениным, вид людей, которым объявили приговор, они, правда, не знают, за что и сколько, но знают, что объявили, однако у них выбора нет — им надо идти встречать Топильского. Мне, «помощнику», проще: я или остаюсь в комнате начальников смен, куда директор не заходит, или ухожу в склад готовой продукции, где он тоже редко появляется.
Но вот как-то заглядывает Енин и объявляет: «Друинский приехал!» Хегай бодро встал и направился к двери, мне стало любопытно, и я тоже вышел. У 42-й рядом с начальником цеха Березко стоял подтянутый, с приличной сединой мужчина, он улыбнулся подошедшим Хегаю с Ениным, и было видно, что разговор с ними начался «не по делу», какой обычно случается, когда люди давно не виделись. Потом все повернулись к печи, несколько минут, судя по всему, обсуждали ее состояние, перешли к печи № 43. Мне подходить было неудобно, и я вернулся в комнату начальников смен. Минут через 10 снова заглянул Гарик: «Тебя зовет Друинский». Я несколько удивился тому, что главный инженер узнал обо мне и решил познакомиться со мной прямо в первый день выхода из отпуска, однако шел я к нему ни на что особо не надеясь, поскольку уже не знал, что ожидать на этом чертовом заводе.
Друинский улыбнулся широко и искренне, отвел меня от гудящей печи на балкон и к моему удивлению начал подробно и обстоятельно расспрашивать, кто я, что я, откуда, какая тема диплома, кто были преподаватели и т. д. и т. п. Он не спешил, его интерес ко мне был искренним (ведь это чувствуется). В конце он сказал, что знает о моем желании работать в ЦЗЛ и я скоро буду там работать, но при этом сказал то, что нужно было сказать, — чтобы я не расстраивался, что сначала попал не в ЦЗЛ, а в плавильный цех, что для меня это очень полезно и я никогда не буду об этом жалеть. Это действительно так. Я полагал, что он уговорит Топильского перевести меня в ЦЗЛ, однако в отношении моего перевода Друинский сдержал слово иначе, причем очень быстро: как только Топильский уехал то ли в командировку, то ли в отпуск, а Друинский остался исполнять обязанности директора, он тут же подписал приказ о моем переводе. Тут я понял и то, что Топильский такая штучка, что даже главный инженер предпочитает с ним не разговаривать, если уж у Петра Васильевича начался какой-нибудь припадок дурости, как в моем случае.
Но, как говаривал принц датский: «Что он Гекубе, что ему Гекуба?» Директор был от меня на очень большой высоте. Непосредственно я подчинялся Анатолию Алексеевичу Парфенову — начальнику металлургической лаборатории ЦЗЛ, потом он стал начальником ЦЗЛ, а я начальником метлаборатории, т. е. Толя непосредственно командовал мною семь лет. Выше Парфенова моим начальником был Н.П. Меликаев, еще выше — Друинский и, так сказать, его начальник штаба в области технологии — начальник производственно-технического отдела Н.В. Рукавишников. Так что между мною и Топильским была дистанция, если и не беспредельного, то, по меньшей мере, приличного размера, и меня больше трогали мои непосредственные и ближайшие начальники.
Парфенов
Для меня А.А. Парфенов начальником был подходящим, и это при том, что людьми мы были совершенно разными как по взглядам на жизнь, так и по характеру. Как о человеке о нем можно сказать, что он был человеком широкой души — в этом тоже будет какой-то смысл. Где-то прочел, что на могиле бабника пишут эпитафию «Покойник любил жизнь». Толя тоже любил жизнь, хотя в маленьком городке это непросто. Но вообще-то, если использовать точную, но ненормативную лексику, то Толя был отчаянный расп…дяй. По-моему, в жизни не было ничего, к чему бы он относился серьезно, по большому счету, ему все было «пофигу». Казалось бы, он, как и многие, хотел иметь много денег и большие заработки, но и тут он был пофигистом, таким же он был и по отношению к людям и делам. Вот зарисовки нескольких запомнившихся случаев.
Как-то зимою после работы идем мы с ним по городу на какое-то мероприятие, и вдруг, проходя мимо одного из домов, он говорит, что ему надо на минутку забежать к Косачу и передать тому что-то. Я остался у подъезда, жду, прыгаю на морозе уже минут 20, наконец разозлился и спрашиваю у выходящего из подъезда мужика, в какой квартире живет Гриша Косачев? Взбегаю наверх, звоню, Гришка меня радостно впускает и приглашает за стол, а там человек 10 пьют, гуляют, а с ними уже раздетый и подпитый Толик — он, видишь ли, забыл, что оставил меня ждать у подъезда.
Или точно так же идем, а у него в руках толстый портфель с книгами, и возле своего дома он просит меня минуту подождать, пока он забежит к себе и оставит портфель. Я уже ученый, тоже зашел в подъезд, слушаю: хлопнула дверь — это Толя вошел, буквально через минуту снова хлопнула, и он сбежал вниз. Завернули за угол его дома, разговариваем, вдруг он остановился и досадливо поморщился: «Все-таки выбросила!» Я ничего не понял, а он вернулся назад и стал под домом рыться в сугробах, пока, наконец, не вытащил свой портфель, который только что занес домой. Тут я понял, что это Нина Парфенова выбросила портфель через форточку с четвертого этажа. Но на лице Толи была досада только по одному поводу — теперь весь вечер придется таскаться с этим Портфелем, а какой-либо досады по поводу такого своеобразия семейной жизни лицо Толи не выражало.
Или как-то весною пригласил он меня помочь дачу вскопать, я, не обремененный никакими домашними заботами, охотно согласился. Заехал он за мною в общагу на мотоцикле утром в субботу, с ветерком домчались мы до его дачи. Ей было года три, поскольку все соседи вокруг уже давно огородились, их участки были уже вскопаны, росли деревья и даже кое у кого не только туалеты, но и домики стояли. У Толи с прошлых лет было вскопано сотки две, даже того единственного участка забора, который отгораживает участок с улицы, не было, правда, под соседским забором лежала груда уже потемневших от времени досок. Толя вытащил из-под них две лопаты и предложил, пока мы не устали, копать целину. Начали, он раза три копанул и вспомнил, что ему срочно нужно что-то сказать Косачу, поэтому он к нему на участок съездит и через минуту вернется. Сел на мотоцикл и был таков. И вот часа три я ковыряю эту целину в одиночестве, даже воды, зараза, мне не оставил, а земля такая твердая, что на лопате приходится прыгать, чтобы вогнать штык в землю, да потом ведь надо и разбить вынутый ком и корешки сорняков повытягивать. Приезжает Толя, явно поддатенький, увидел, сколько я вскопал, обрадовался.
— Ой, как много! Теперь Нина не будет ругаться, что ей помидоры негде сажать. Хватит копать, садись и поехали домой. Мы сегодня и так много сделали…
При этом, поверьте, на него невозможно было долго обижаться, поскольку он такие подлянки мог устроить кому угодно, не исключая и самого себя. Как-то зимой у него на туфле лопнула поперек подошва из микропоры. У нас в цехе была толстая резина, и я предложил Толе вырезать на толщину этой резины часть подошвы по краям разрыва и аккуратно вклеить на это место резину, закрыв ею трещину. «Да кому это надо с этим возиться?» — возмутился Парфенов, взял кусок листовой стали, прибил ее снизу на трещину и стал ходить, гремя, как поручик Ржевский шпорами.
А надо сказать, что на внутренних авиалиниях пассажиров в СССР не проверяли на наличие оружия — чего их поверять? Однако где-то в это время отец и сын Бразинкасы захватили самолет, убили бортпроводницу Надежду Курченко и улетели в США, где стали национальными героями. (Потом сынок пристрелил и папашу.) После этого сначала вооружили экипажи советских самолетов и отгородили их от пассажиров дверью, а потом начали ставить в аэропортах и рамки металлоискателей.
И вот возвращается Толя из командировки и рассказывает, как вылетал из аэропорта, в котором эту рамку уже установили. Короче, он проходит — детектор дает звонок. Милиция предлагает вынуть все металлическое из карманов — звенит, просит разрешения и тщательно обыскивает его, расспрашивает, нет ли у него внутри каких-либо металлических протезов. Уже экипаж начал возмущаться, что прицепились к их пассажиру и задерживают вылет, а Толя звенит и звенит, а не имеющая опыта милиция не знает, что делать. И тут, наконец, Парфенов вспомнил про ремонт и прошел через рамку в одних носках.
Или вот помогаю ему оформлять диссертацию — черчу ему графики. А я не люблю, когда на графике кривые подвешены в пустом пространстве, поэтому жирно черчу оси координат, а затем рейсфедером тонкими линиями наношу сетку координат, а уж по ней даю кривые. Увидал это Парфенов: «Зачем ты глупой работой занимаешься? Да сделай побыстрее, все равно на твои художества никто смотреть не будет!» Вообще-то он прав, но меня так в инструментальном цехе приучили — какую бы работу ни делал, ее надо делать так, чтобы было не стыдно людям показать.
— Толя, ну чего ты нервничаешь? Это же не ты рисуешь, а я. Будут эти графики смотреть — не будут, но кому от этого плохо, если они будут выглядеть красиво?
— Да мне тебя жалко!
И в это можно поверить — у него натура, не переносящая серьезного отношения к делу. Поехал сдавать экзамены кандидатского минимума — не сдал. И если бы английский язык, а то — специальность! Тут он был, наверное, единственным соискателем ученой степени в СССР, не сдавшим этот экзамен и исключительно из-за своего пофигизма.
В любых конфликтах он пасовал уже при угрозе малейших неприятностей или дополнительных хлопот, полностью пасовал перед начальством. Порою за него было даже обидно. Такой вот случай.
Топильский вдруг решил получить Государственную премию Казахской ССР, а она давалась за научные разработки, К которым директор питал нескрываемое презрение и отвращение. Однако премия (само лауреатство, а не деньги, поскольку деньгами это составляло 2400 рублей на всех соавторов в сумме) его соблазнила, и он дал команду придумать, за что ее можно получить, после чего подготовить документы для получения.
Наши заводские работники уже в то время могли получить ее за многие дела, но она давалась не за инженерный труд, а за «научные достижения», т. е. описание работы требовало обязательной наукообразности — наличия авторских свидетельств на изобретения, публикаций в научно-технических журналах, элементов лабораторных исследований и т. д. Масса новых сплавов, которые разработал завод, не годилась, поскольку выпускалась не планово — их внедрение было на сталеплавильных заводах, а не у нас. На тот момент реальными были две разработки: использование шлаков ферросилиция и суспензионная разливка.
Основным автором использования шлаков был молодой тогда ученый из Свердловска Альфред Альфредович Грабеклис — он был рабочей лошадкой этой разработки.
Основным автором суспензионной разливки, о которой я уже упоминал, был Парфенов.
Работы имели все необходимые атрибуты: свидетельства об изобретении, внедрение с приличным экономическим эффектом и публикации в научно-технических журналах. Вот их и выбрали в качестве конкурентных. Соответственно определились и кандидаты на премию: Друинский (о роли которого я скажу после), Грабеклис и Парфенов. Допускалось не более четырех человек, посему возглавил список будущих лауреатов Топильский. Но при первом же сообщении о наших намерениях в Академию наук КазССР, которая и определяла, кому дать премию, оттуда последовало решительное «фе!» Нет, в отношении сути работ и их ценности академики сомнений не имели, им не понравился национальный состав авторов: русские есть, еврей есть, даже литовец есть, а где же казахи?! Да, действительно, с казахами мы не досмотрели… Их не только не было в числе авторов, на заводе вообще не было ни одного казаха инженера-металлурга. Я отвечал за техническое оформление документов на премию, через меня проходили все анкеты и характеристики (последние я частью сам и написал) кандидатов. Действительно: Топильский и Парфенов — русские, Друинский — еврей, Грабеклис — литовец. А премия-то казахская!
Начали мы искать подходящего казаха, но это отдельная песня и не по теме, главное было в другом — казах был пятым, а нужно не более четырех, следовательно, одного из числа прежних соискателей нужно выбросить. Для меня это не вопрос — нужно было убрать Топильского, которому в этой компании изначально нечего было делать, но Топильский имел на этот счет другое мнение и распорядился выкинуть Грабеклиса, благо он далеко — в Свердловске. Я не вспомню, кто сообщил об этом Альфреду, но он тут же приехал на завод с очень решительным видом, ругаться начал еще у нас в ЦЗЛ и тут же пошел к Топильскому. Надо думать, что он ему сказал то, что нужно, в результате Топильскии распорядился Грабеклиса в списке восстановить, а убрать Парфенова. И поведение Парфенова явило собой разительный контраст — он даже не трепыхнулся. Было видно, что Толя расстроен, но он не сделал ни малейших попыток сопротивляться. Поскольку завод казахскую премию все же не получил, то можно было бы сказать, что Парфенов ничего не потерял, но это не так — такое поведение и создает репутацию, и такая репутация далеко не лучшая.
Определенные трудности в работе с Парфеновым представлял его принцип: все делать тяп-ляп, стук-грюк — лишь бы с рук! Вот запомнившийся мне эпизод нашей работы. Я уже писал, что одно время выплавка ферросилиция ФС-18 представляла проблему ввиду большого количества в готовом сплаве мелкой фракции, образующейся из-за выделения графитовой спели в момент кристаллизации металла. Мы решали задачу в лоб: если углерод в сплаве является проблемой, значит, нужно убрать углерод, пока сплав еще жидкий. В черной металлургии углерод из жидкого металла удаляют кислородом — выжигают углерод воздухом, газообразным кислородом или кислородом руд. Последнее нам было недоступно из-за малого перегрева металла и невозможности хорошо перемешать руду с жидким ферросилицием, продувка воздухом или кислородом была возможна, но представляла массу конструктивных трудностей, поскольку цех под такую операцию не проектировался. Все же мы начали думать над устройствами, которые бы позволили вывести в ковш с жидким металлом фурму и через нее продуть металл воздухом. Проблем было очень много, уже, повторю, начиная с места, где это делать — какое ни присмотришь, а получается, что нужно либо резко усложнять остальные операции, либо ломать перекрытия, либо ухудшать условия безопасности. То есть мы еще и исследования не начали, ни килограмма металла не продули и не оценили, будет ли толк от такой продувки, а дело уже изначально выглядело очень нетехнологичным. Но брак по «мелочи» продолжал мучить цех № 2 и завод, и от нас требовали техническое решение.
И тут моя мысль пошла по следующему пути. Раз углерод стремится выделиться из раствора и образовать собственную фазу — графит, значит, его можно не жечь, т. е. не уничтожать в сплаве, а помочь графиту выделиться еще до момента, когда сплав начнет застывать. Согласно изученным законам физхимии (спасибо институту!), которые я тогда очень кстати вспомнил, для образования новой фазы (в моем случае — графита) нужна поверхность раздела фаз (в данном случае поверхность «жидкий металл — воздух атмосферы»). Чем больше будет площадь этой поверхности, тем больше графита вылетит из металла, еще когда тот будет жидким, посему оставшийся в сплаве графит не испортит вид застывших слитков. А большую поверхность металла можно было создать, разбрызгав его.
Я вспомнил виденное в какой-то книге или статье устройство для распыления (разбрызгивания) металла. Для этого нужно было направить струю жидкого сплава в точку, в которую будут радиально бить сходящиеся струи газа (того же воздуха, к примеру). Я растолковал эту идею Парфенову, для ферросплавного производства она была здорово пионерской, сулила заявки на изобретения, посему Толя воспылал энтузиазмом, и мы начали думать, как бы это ловчее аппаратурно оформить. Решения находились, но на первом этапе нужно было проверить эту идею, как таковую, — распылить ФС-18 и убедиться, что спель из него летит и углерод в сплаве падает. Нужно было придумать устройство попроще, поскольку речь шла не о том устройстве, которое будет внедрено, а об устройстве для проведения опытов. И я придумал вот что.
Нужно на выпуске из печи ферросилиция ФС-18 охватить струю льющегося в ковш сплава кольцом, согнутым из трубы, в этом кольце сделать ряд сопел, направленных к центру кольца и немного ниже, кольцо подавать к струе тоже на трубе, соединенной с кольцом, а к концу этой трубы-рукояти подвести сжатый воздух резиновым шлангом. А для того, чтобы при подведении кольца к струе ФС-18 жидкий металл не перерезал сталь кольца, в нем нужно сделать разрыв. В целом устройство напоминало ухват для извлечения чугунков из русской печи, если кто-то представляет, что это такое.
Струя металла на выпуске непостоянна: то тоньше, то толще, то отклоняется к носку, то резко уходит от носка, поэтому кольцо нельзя было сделать по внутреннему диаметру меньше, чем 250–300 мм, т. е. от сопел до центра схождения струй должно было быть около 150 мм. Это много, чтобы струи сохраняли свою энергию, и нужно было иметь хорошее исходное давление воздуха, небольшое сечение сопел и оформление их в виде сопла
М.И. Друинский и А.А. Парфенов
Лаваля. Все это, спасибо институту, я понимал, но не имел ни малейшего представления, как можно такое рассчитать. Тратить время на поиск методик расчетов не хотелось, и я решил, что проще будет изготовить изделие «на глазок», а потом уже, увидев дефекты, усовершенствовать его, т. е. действовать «методом ползучего эмпиризма».
Можно было сделать эскиз этого устройства и заказать его в БРМЦ, но поскольку это дело не аварийное, то его бы включали в план несколько месяцев, и еще не известно, с каким качеством исполнили бы. А поскольку я сам слесарь, да еще и инструментальщик, то я пошел в БРМЦ, взял там на складе шестиметровую трубу на полтора дюйма, притащил ее к себе в экспериментальный. Тут с помощью сварщика согнул кольцо, просверлил в нем четыре отверстия под сопла. На сопла отрезал четыре кусочка от 10-мм прута, засверлил по центру сверлом в 3 мм, сверло 6 мм остро заточил и рассверлил вход и выход сопел, чтобы они имели вид сопел Лаваля и сопротивление в них было минимальным. Сварщик мне вварил их в кольцо строго отцентрировано. Приварил трубу-рукоятку, вварил в нее гусак. Подсоединили к воздушному шлангу, опробовали: в центральной точке воздушные струи били здорово — в ладони оставляли явственную вмятину.
Но нести в цех № 2 оголенную стальную трубу было глупо: любое отклонение струи жидкого ферросилиция на выпуске ~ и она сгорит. Я решил ее торкретировать, т. е. защитить огнеупорной обмазкой. Взял два ведра и снова пошел в БРМЦ — в литейный цех. Там набрал ведро жидкого стекла и ведро молотого шамота. Возвращаюсь в экспериментальный, а туда уже пришел Парфенов, увидел, что я уже изготовил устройство для эксперимента, и прыгает от нетерпения.
— Пошли испытаем!
— Толя, труба голая, она же немедленно сгорит. Дай, я ее торкретирую, обсушу, и завтра испытаем.
— Вечно ты чепухой занимаешься, ничего она не сгорит, пошли!
— Толя, ты же мне всю работу угробишь, подожди до завтра.
— Нет, пошли сейчас!
Схватил трубу и поволок ее во второй цех, а что я мог поделать — он же начальник! Я поплелся за ним. На площадке горновых Парфенов подключил устройство к воздушной магистрали и на выпуске стал лично направлять ее на струю. Надо сказать, что сначала у него получилось — струя металла начала распыляться. Я же попросил горновых этой и соседней печи, чтобы они с началом распыления одновременно взяли две пробы металла — одну исходную из струи металла над распылителем, а вторую из распыленной струи как можно ниже. Но они и среагировать не успели, поскольку через секунду или две из летки выскочил шлак, а за ним толстая струя ферросилиция, которая лизнула кольцо и прожгла в нем дыру на весь диаметр трубы. Исследования закончились, не начавшись. Давления в соплах не стало — весь воздух уходил в прожженную дыру, Толя меланхолично дожег на струе ферросилиция остатки моего устройства и удалился, правда, с виноватым видом.
Я же плюнул и пошел в БРМЦ за новой трубой. Снова сделал устройство, торкретировал трубу шамотом, хорошо просушил и назавтра уже сам провел этот эксперимент. Провел успешно, поскольку все же уловил в распыленных пробах снижение углерода и понял недостатки опытного устройства. Можно было работать дальше над созданием стационарного распылителя на горне печи: технические идеи, как его построить, уже были найдены, но тут Друинский сделал все дальнейшие наши работы по ФС-18 не имеющими смысла. Вот тут я хочу отвлечься от Парфенова и начальников и поговорить о красоте.
Красота
Красота — это сугубо индивидуальное. Неслучайно же мы из тысяч женщин красивой считаем единственную, и это при том, что остальные мужчины совершенно не обязательно соглашаются с нашим взглядом по этому вопросу. Если говорить о технике, об инженерном деле, об управленческих решениях, то, на мой взгляд, красота — это простота. Да, безусловно, порой какое-нибудь хитроумное устройство может поразить воображение своей сложностью, но по-настоящему красивое решение — это простое решение. Если говорить еще более общо, это когда получается большой эффект при минимальных затратах на его достижение. Вот перед вами поставили задачу, дали вам для ее осуществления людей, но вы придумали что-то такое эдакое, и ваши люди пальцем о палец не успели постучать, а задача уже решена! Вот это красота!
Беда, однако, в том, что оценить красоту такого решения могут только умные, знающие почем фунт лиха люди. Для массы «ценителей» простое решение чаще всего является отсутствием решения, наша «наука» в подавляющем числе случаев ценит заумь, ненужные, а порою и искусственные сложности, для нашей наукообразной толпы признаком гениальности является такая белиберда, которую ни понять, ни представить невозможно. Эйнштейн — это голова! Его теорию образно представить невозможно, а посему он гений! А то, что благодаря бреду этого гения, физика, поразившая мир огромным числом открытий в XIX веке, в XX открытий практически не имела, — это до нашей наукообразной толпы не доходит.
Помню, тот же Толя Парфенов меня учил примерно так: «Если хочешь писать диссертацию, то результатом твоих исследований должно быть что-то «железное» — бункер, транспортер, какой-нибудь прибор или новый сплав. Что-то такое, во что ты Можешь ткнуть пальцем и сказать, что это есть результат твоей диссертации. Если же ты просто совершенствуешь процесс, то получи хоть миллионные эффекты, твою работу диссертационной не признают — если все просто, то тогда до этого любой мог догадаться, а у ученого все должно быть сложно».
Вот у меня сейчас беда с пропагандой закона об ответственности власти, и то, что он очень прост, даст огромный эффект, но не потребует никаких дополнительных затрат. Я чувствую по откликам и критике, что основная причина непонимания этого закона — его простота. Люди теряются: перед страной такие страшные, такие огромные проблемы, поэтому невозможно, чтобы их можно было решить так просто!
Так вот, Друинский сделал ненужными наши работы по снижению брака в ФС-18 очень просто, я бы сказал, гениально красиво — завод перестал этот сплав, дающий много брака, плавить. Напомню, что если в ферросилиции кремния выше 19 %, то графитовая спель в нем вообще не образовывается, и такой сплав в застывшем виде плотный и прочный. 18 % — ферросилиций мы плавили для литейщиков, и Друинский поставил вопрос так: а почему 18 %, а почему не 20 %? Чем 20-й процент будет хуже 18-го процента? Только тем, что 18-й был в ГОСТе, т. е. это была официальная марка, а 20-процентного не было — официально такой сплав не существовал. Завод выплавил опытную партию ФС-20, отправил поставщикам, Друинский заключил хоздоговорные работы с институтами, чтобы ученые оценили пригодность этого сплава и удобство работы с ним у потребителей. Получили заключение, что потребители довольны, завод создал техусловия на ФС-20, а потом добился включения его в ГОСТ, и все заводы Союза забыли о ФС-18 и начали плавить ФС-20, и теперь, наверное, никто и не вспомнит, что был когда-то 18-процентный ферросилиций.
С точки зрения своей простоты, это красивейшее решение: избавились от брака, увеличили производство печей по кремнию, получили крупный экономический эффект, и при этом на заводе ни один рабочий лишний раз пальцем не шевельнул, ни одного лишнего гвоздя не забил. Причем мне неважно, кому именно пришла в голову эта идея — самому Друинскому или кому иному. Когда поработаешь в настоящем деле, начинаешь понимать, что сами по себе идеи — это чепуха, главное — внедрение идей! Поскольку, повторюсь, внедрение идеи влечет за собою потребность в сотнях идей, как эту идею внедрить. Я обратил внимание, что чем безответственнее болтун, тем больше у него идей — он ведь не боится, что ему придется их внедрять лично. Сейчас на книжном рынке появились произведения в полном смысле слова сплошной бред. Но, как ни странно, среди этого бреда вдруг возникают и крупинки очень здравых мыслей — ведь сумасшедшему все равно, что вещать — умное или глупое, он ведь одно от другого не отличает.
Поэтому руководитель на производстве не только вырабатывает свои идеи, но и пропускает через свою голову тысячи чужих идей — от подчиненных, из научно-технической литературы и т. д. и т. п. — и это в первую очередь заслуга руководителя, если он остановится на такой идее, которую нужно и можно внедрить.
В жизни мне повезло — я человек спокойный в отношении самого себя, для того, чтобы чувствовать себя уверенно, чужое уважение мне требуется во вторую очередь, а в первую очередь мне нужно, чтобы я уважал себя сам. Помню, Парфенов меня учил, чтобы я немедленно подал заявление о приеме в партию, поскольку на 10 рабочих принимают одного инженера и ждать приема придется несколько лет, а без членства в партии карьеру не сделаешь. И мне как-то сразу стало не по себе. Ну, вот вступлю я в КПСС, чтобы сделать карьеру, и сделаю ее, так как я сам смогу узнать, что в моей карьере зависело от меня, а что — от членства в партии? Может, от меня — 0 %? Как это вычислить? И как после этого себя уважать? Нет, — решил я для себя, — что-что, а для карьеры я в КПСС никогда вступать не буду. Сделаю я карьеру или не сделаю, но сколько сделаю — все будет мое, все 100 %. Так и в работе. Передо мною, заводским исследователем, стояла абсолютно понятная задача — все поручаемые мне вопросы должны решаться максимально простым, т. е. самым эффективным способом, но эти способы редко бывают диссертабельны. И как быть? А так! Чтобы уважать себя, нужно добиваться, чтобы любая задача была решена красиво, а будет ли это решение диссертабельно — это второй вопрос. Будет — хорошо, не будет — и черт с ним! Уважение к себе дороже.
Разумеется, Бог не без милости, казак не без счастья, и мне удавалось находить красивые решения поставленных передо мною задач, порою на это уходила уйма времени, к примеру, поиск решения по электродам, столь же красивого, сколь и малодиссертабельного, как мне помнится, вряд ли занял менее 10 лет. Но самое красивое решение я нашел, когда уже оставил чисто инженерные дела и был заместителем директора по экономическим вопросам, т. е. это было хозяйственное решение. Если бы я над поиском этого решения помучился, если бы оно потрепало мне нервы хотя бы пару месяцев, я бы им гордился. Но я его нашел в считанные секунды: оно не только заводу, оно и мне ничего не стоило. Поэтому оно хорошо подходит только для того, чтобы перед другими похвастаться, самому же оно особого удовлетворения не доставляет, хотя это решение настолько блестяще, что годится в книгу рекордов Гиннеса. Дело было так.
Году, думаю, в 1990 звонит мне по прямому телефону директор и медовым голосом сообщает, что посылает ко мне двух товарищей и очень хочет, чтобы я решил их вопрос. Мы уже так давно работали вместе, что я не из сути разговора, а по тону сразу понял многое. В частности то, что эти товарищи сидели в это время в кабинете Донского и слушали это его указание.
Второе. Много лет спустя из американских детективных фильмов я узнал, что в американской полиции практикуется психологический прием работы с преступниками — «хороший и плохой парень». То есть один из полицейских бьет преступников, запугивает их, а второй относится к ним ласково, разговаривает по душам. Когда я примерил этот прием на свою прошлую работу на заводе, то чуть не засмеялся. Ничего не зная об этом, мы с Донским как-то автоматически играли в «хорошего и плохого парня». Само собой, что хорошим парнем был он, а я — плохим. Если бы вопрос, который поставили перед ним эти «два товарища», был решаемый, то Донской сам бы его решил и дал бы мне определенное распоряжение, а раз посылает ко мне, то вопрос, скорее всего, нерешаемый, но он ведь «хороший парень», посему отфутболить с завода просителей должен я. Однако тон, которым Донской говорил со мной, явственно предупреждал меня, чтобы я сделал это ласково, а не грубо.
Я понял, что на Донского откуда-то давят, причем со страшной силой. Дело в том, что шеф крайне не любил, когда на нас давят. И если он предупреждает меня своим тоном не делать резких движений, то, значит, на нас давят с такой высоты, что шеф не в силах сопротивляться. Как я понимаю, за этих «двух товарищей» хлопотал кто-то минимум из ЦК КПСС.
Итак, заходят ко мне двое мужчин и рекомендуются заместителем председателя правления и работником московского банка «Столичный», о котором я впервые тогда и услышал. Говорят, чего именно они хотят, и я сразу понял, почему шеф предупредил меня быть сдержанным: за такую просьбу мало было послать в традиционные места — это было слишком близко или мелко.
Поясню. Мы — госпредприятие, мы основную массу (около 80 %) своей продукции поставляли по госзаказу и госценам предприятиям СССР. Оставшуюся часть продавали на экспорт по мировым ценам, причем «ножницы» в то время были огромны. Если внутри СССР ФС-75 стоил где-то около 200 рублей за тонну, то на границе или в порту Венспилса — около 400 долларов, углеродистый феррохром в Союзе стоил 170 рублей, а на Западе — 1500 долларов. При этом уже существовал «компьютерный курс», по которому доллар стоил около 100 рублей. Так вот эти «два товарища» из банка «Столичный» просили продать им чуть ли не 30 % годового производства этих сплавов по госцене! Получалось, что мы должны были отдать им всю прибыль от экспорта, более того, еще и пойти на невыполнение госзаказа и остановку отечественных заводов. Предложение было наглым до изумления!
Но тон шефа! Я понял, что шеф не смог найти решение сам и надеется, что я найду такое решение, при котором мы бы и послали «Столичный» подальше, и при этом как бы и не виноваты были, что не исполнили «просьбу» тех, кто давил на Донского откуда-то очень свысока.
Я начал расспрашивать у посетителей, кто они были такие в своей прежней жизни, поскольку по их тону и спокойствию понял, что это по сути своей мелкие клерки, которые не представляют ничего — ни что они собираются покупать, ни как это выглядит, ни принципов банковского дела. Выяснилось, что один — какой-то ученый, кандидат, если не доктор, технических наук, второй — капитан ГРУ. (Я удивлялся, сколько в те годы возникло «выдающихся коммерсантов и финансистов» из числа советских разведчиков (само собой, говняных) и, почему-то, врачей-гинекологов.) Стало ясно, что мои собеседники совершенно некомпетентны, и решать с ними что-либо невозможно. Я спросил, собираются ли они эти пару сотен тысяч тонн ферросплавов продать за границу (для чего же еще он им нужен?), но, к своему удивлению, увидел, что этот вопрос они поняли, но прямо мне ответ тоже не дают. Меня это даже заинтриговало — что же эти сукины дети из «Столичного» задумали? И я им заявил прямо.
— То, что вы хотите, не решаемо в принципе. Как я понял, вы сами не понимаете, что вам нужно. Если не собираетесь продавать наш металл по мере его выплавки, то в СССР нет склада, на котором вы смогли бы разместить то количество, которое хотите купить. Как я понимаю, эта сделка является частью проекта, суть которого вы нам не сообщаете, либо не знаете ее. И я не знаю, смогу ли я вам помочь, даже если узнаю суть, но сейчас точно помочь ничем не могу. Посему рассказывайте нам все до конца или прощайте.
Они вышли, но прошло несколько минут, и снова звонок по прямому телефону от Донского — они снова оказались у него, и он их не послал! Да, дело серьезное — на шефа давили как никогда! Я спросил, снял ли шеф трубку (чтобы мои слова не были слышны в кабинете), он подтвердил, и я, обрисовав ему ситуацию, сказал, что завод может оправдаться тем, что «Столичный» не объясняет нам суть дела, а без этого мы банку не можем помочь. Это, конечно, хилая «отмазка», но все же хотя бы что-то для разговора Донского с теми, кто нас насиловал. Шеф понял, повесил трубку, и я решил, что мы от этих нахалов избавились, но через час они снова были у меня, однако теперь уже с сообщением, что они разговаривали с председателем правления (надо думать — со Смоленским), и он им разрешил ввести меня в курс дела.
Суть вот в чем. Предавшие СССР Правительство и ЦК КПСС начали разворовывать страну, создавая себе будущие кормушки и каналы перекачки денег, так называемые коммерческие банки. По идее, внедряемой в мозги советским людям, эти банки должны были убедить население нести к ним свои сбережения и из этих денег выдавать кредиты под высокоэффективные проекты и т. д. Но как много дураков доверило бы свои деньги этим завлабам и гинекологам? Поэтому, под прикрытием болтовни о том, что коммерческие банки задействуют ресурсы населения, Госбанк СССР начал выдавать этим банкам государственные ресурсы. Преступление было уже в том, что это были наши деньги — деньги, заработанные народным хозяйством СССР, и выдавать их надо было нам — предприятиями, а Госбанк выдавал их этим прощелыгам для спекуляций! В том числе он выдал огромные деньги и «Столичному».
Тот, само собой, задумал элементарную по тем временам спекуляцию — оплатить сделку по закупке на Западе чего-либо типа персональных компьютеров. В то время, если покупать на Западе промышленное оборудование (делать инвестиции, о необходимости которых все вопили), то рубль стоил от 4 до 10 долларов, а вот если покупать барахло, то доллар стоил и 20 и 30 рублей, но особенно выгодна была перепродажа компьютеров — здесь цена доллара доходил до 150 рублей. Это был так называемый «компьютерный» курс рубля и на него все спекулянты и ориентировались. Но чтобы оплатить компьютеры, «Столичному» нужны были не рубли, а доллары. И с этим проблем не было: какой-то банк на Западе сходу предложил «Столичному» кредит в 100 млн.
Однако была трудность: «Столичный», чтобы получить такой кредит, должен был предоставить западному кредитору залог, и этот залог должен был иметь вид ликвидного на Западе товара. Ни перевозить его на Запад, ни продавать там не требовалось, главное было в том, чтобы «Столичный» владел этим залогом на правах собственника. Вот банк и приехал к нам купить такой товар на сумму залога.
Решение у меня возникло немедленно, хотя это, конечно, не совсем так. Ведь до этого времени я уже много лет занимался принципами управления людьми и знал очень распространенную ошибку, особенно присущую бюрократам, — не видеть дело, не видеть то, что действительно нужно. Поясню на простом примере. Вы в пункте А, а в пункте Б вы можете получить большие деньги. Деньги — это главное, это дело. Зашоренный бюрократическими привычками человек начинает рассуждать: надо срочно ехать в Б, а для этого срочно нужна автомашина. После этого начинает тратить огромные усилия на приобретение автомашины, считая это главным, считая это делом. На самом деле, как вы понимаете, это не так. Дело — получение денег — как было, так и осталось главным, и наличие автомашины всего лишь один из путей это дело сделать, привычный путь, но, как может оказаться, далеко не единственный и далеко не самый эффективный. К примеру, в пункт Б можно добраться и другим путем, а можно получить оттуда деньги оказией или банковским переводом.
Вот и «Столичный» ломился к цели только тем путем, который видел, не понимая, что этого пути, по сути, нет. Когда я понял, что «Столичному» действительно нужно, я тут же согласился продать им весь необходимый металл и попросил «двух товарищей» с часик погулять, пока я подготовлю договоры. Быстренько написал тексты, Наталья отпечатала, и к приходу «двух товарищей» я их этими договорами порадовал.
По основному договору, предназначенному для предъявления в западный банк, банк «Столичный» в течение недели переводил заводу на счет всю сумму сделки, а я им продавал и хранил на складах своего завода требуемое количество металла, обязуясь отправить его в любой момент тому, кому «Столичный» определит. Я уже давно работал с западными партнерами, поэтому изготовил нужную бумагу так, что к ней не подкопаешься. Однако к этому договору было секретное приложение, в котором стороны договаривались, что завод купленный банком «Столичный» металл никогда и никому отправлять не будет. Когда «товарищи» поняли, что именно я им предлагаю, они изумились.
Получается, что мы переведем вам огромную сумму в рублях, а вы нам — ничего?!
— Как это ничего: а вот эти бумажки?
— Но ведь это же получается фикция!
— Ну не совсем фикция, договор на покупку выглядит ведь как настоящий. О секретном приложении к нему никто знать не будет. Да и потом, не могу же я упускать такой случай и не продать вам фикцию, если с вас за нее можно взять хорошие деньги? Звоните начальству, согласовывайте условия сделки.
Они уехали на почту, поскольку не хотели разговаривать при мне, а сотовых еще не было, приехали через какое-то время с сообщением, что в Москве тоже поразились, но деваться было некуда — согласились. Надо сказать, что, когда я с нашей стороны подписывал договор, то и Донской, и главбух Прушинская тоже удивились размаху моей наглости, но поскольку угроз заводу ни с каких сторон не просматривалось, то подписали.
Закончу, «Столичный» довольно быстро «прокрутил» западный кредит, я возил ему подтверждения о том, что храню залог, два или три квартала, потом необходимость в этом отпала. В последнее мое посещение банка на Пятницкой (они в это время капитально ремонтировались), я получил приглашение перейти к ним на работу с окладом в 2 млн. рублей в год (у меня в это время зарплата была где-то около 1,5 тысяч в месяц). Я отказался, причин было много, но главная в том, что и эта работа, и эти люди мне не нравились.
А та огромная сумма денег, которая свалилась на завод (две годовые прибыли, если я не ошибаюсь), задала нам огромную работу, особенно заму по капитальному строительству Ф.Г. Потесу. Мы создавали новые строительные участки, на эти деньги начали строить дома улучшенной планировки, поселок коттеджей, закупали различные производства товаров народного потребления, закупали цеха по переработке сельхозпродуктов всем колхозам и совхозам области, которые хотели с нами сотрудничать. Вот тут, может быть, впервые я понял, что деньги (вернее, их освоение) — это очень большая обуза.
Таким образом, если руководствоваться критерием эффективности, то договор с банком «Столичный» был моим самым красивым решением, повторю, прямо для книги рекордов Гиннеса, и похвастаться мне, конечно, есть чем, но у меня удовольствие от этого решения не бог весть какое, и даже не знаю почему — слишком легким оно оказалось, что ли?
Но вернемся к моим начальникам.
Учителя
Семь лет А.А.Парфенов был моим непосредственным начальником: сначала начальником метлаборатории, а затем, когда начальником этой лаборатории стал я, он был начальником ЦЗЛ. И, право дело, для меня он был прекрасным начальником. При его разгильдяйстве он занимался только теми делами, за которые начальство уж очень его ругало, да и те стремился сделать кое-как, лишь бы начальство отстало. Так что мне он особо не надоедал и времени для проверки своих собственных идей у меня было полно.
Кроме того, если он увлекался, то и сам влезал в тему, особенно если она сулила изобретение или рацпредложение. А поскольку мужик он был умный, то и участие его было ценным. Будучи довольно циничным прагматиком, он в наших работах искал дополнительную выгоду, которая для нас была возможна только в авторских вознаграждениях за рацпредложения и изобретения, поэтому эти дела он знал прекрасно и обучил меня так, что я уж без проблем сам подавал заявки на изобретения и добивался от ВНИИГПЭ положительных решений.
Заглянув в свою трудовую книжку, я с удивлением увидел, что свои первые вознаграждения за рацпредложения получил уже в 1974 году, а с учетом того, насколько длительным делом были выплаты вознаграждения, то, похоже, что рацпредложения я начал подавать чуть ли не с первых дней работы в ЦЗЛ, в том числе подавал и толковые рацпредложения. Я уже не помню, о чем они были, но заслуга Парфенова в них безусловна.
К примеру, он учил меня не быть глупым жлобом. Речь вот о чем. К примеру, возникает у тебя идея, и тебя распирает: я автор, я автор, я единственный автор! И тянет написать рацпредложение только от своего имени. Парфенов как-то очень быстро мне объяснил, что для внедрения любого новшества потребуется еще много ума и труда тех, кто будет внедрять это рацпредложение в цехе. Поэтому сначала нужно прикинуть, кто это будет, обсудить идею с ними, пригласить их соавторами и только потом подавать рацпредложение или заявку на изобретение. Поясню эту мысль на примере одной своей ошибки, свойственной молодости, вернее, малоопытности, следовательно, ее можно назвать и просто очередным уроком.
В цехе № 4 в шесть открытых печей шихта подавалась с помощью завалочных машин Плюйко. На колошниковой площадке вокруг каждой печи по круговым рельсам ездило по две таких машины, и на каждой был бункер, куда ссыпалась шихта из печных карманов (бункеров). А из бункера завалочной машины порция шихты (как мне помнится, около 20 кг) подавалась в лопату этой машины, и лопатой с помощью пневматики шихта бросалась в печь. Машина поворачивалась в горизонтальной плоскости, лопата — в вертикальной, с помощью этой машины порцию шихты можно было довольно точно бросить в любую точку на поверхности колошника. Бросок машины отдаленно напоминал плевок, поэтому я встречал людей, которые полагали, что «машиной Плюйко» она названа потому, что плюется. На самом деле ее сконструировал уральский слесарь по фамилии Плюйко. Между прочим, он приезжал к нам на завод для внедрения своей новой машины. Плюйко оказался глубоким, но крепким стариком, он сам своими руками пытался довести новую конструкцию до ума (изготовил ее наш БРМЦ), но эта новая машина оказалась неудачной.
Так вот, в 70-е годы на нашем заводе эти машины Плюйко работали ненадежно (причем, думаю, по нашей вине, а не по вине Плюйко), часто выходили из строя и были слабым местом в технологии. По тем временам начальником я был не очень большим, да плюс к тому и единственным мужиком в лаборатории, посему мне часто приходилось махать лопатой лично, перебрасывая материалы, которые задавались в печи в ходе наших экспериментов. И вот как-то мне пришлось перебрасывать шихту (напомню, что это смесь кусочков кварцита, кокса и железной стружки) в направлении какого-то круглого столба. И я обратил внимание, что если порцией шихты с лопаты попасть высоко в столб, то шихта разлетается в разные стороны, а если низко (под столб), то она и ложится кучкой у подножия столба. Но если попасть в столб на некоторой высоте от земли, то шихта охватывает его ровненьким конусом. Ага! — подумал я. — А ведь в этом что-то есть!
Дело в том, что смысл завалки шихты в открытую печь машинами Плюйко и заключался в том, чтобы поддерживать вокруг всех трех электродов конуса шихты. Только в таком случае раскаленные газы, выходящие из печи, равномерно пронизывали весь объем шихты и равномерно разогревали его. Если конуса не делать, то тогда газы из тиглей под электродами будут подниматься по пути наименьшего сопротивления — только вдоль электродов, а остальная шихта перестанет прогреваться и закозлится. Не знаю, смогли ли вы это образно себе представить, но тогда поверьте мне, что создание конуса шихты вокруг электродов было делом очень важным. А я, орудуя лопатой, как вы поняли, вдруг увидел, что такие конуса можно создать не только бросками мелких порций под электрод, но и подачей большой порции, но не под электрод, а ударом ее о поверхность электрода на определенной высоте. Если бы задумка удалась, то с печи можно было бы убрать завалочные машины и загружать печь через 4 труботечки. Потренировался я на столбе диаметром около 150 мм, позвал Парфенова с Меликаевым, показал им. И они согласились, что «в этом что-то есть», и благословили меня на дальнейшие исследования.
Рассчитать я ничего не мог и даже не знал, с какой стороны за эти расчеты браться. Самым разумным был путь моделирования. С помощью стеклодува создал модель колошника печи с электродами в масштабе 1:10, передробил компоненты шихты и рассеял их так, чтобы крупность используемых при моделировании частиц тоже была в 10 раз меньше. Стеклодув, соответственно, изготовил мне и стеклянные модели труботечек. Я их закрепил на штативах вокруг модели и стал через них забрасывать в «печь» шихту, меняя наклон и высоту труботечек. Не помню, сколько это у меня заняло времени, но я нашел все необходимые параметры: расположение труботечек, их число, высоту над колошником, расстояние от электродов и наклон их К электродам.
Тщательно вычертил эскизы и в душе ликовал — решение получилось чрезвычайно красивым. Написал рацпредложение (для начала, мы всегда писали сначала рацпредложение, а уж потом заявку на изобретение), но перед тем, как отдать его в БРИЗ, пошел на печи цеха 4 посмотреть, как пройдут через зонты печей мои труботечки и как красиво все будет. Глянул я, и ё-мое! В том месте, где должны были опускаться в печь мои труботечки, в печи проходили пакеты короткой сети — пакеты медных труб, по которым к электродам подается ток. Убрать куда-либо эти пакеты невозможно — изменится симметрия печи и резко вырастет реактивное сопротивление — печь потеряет мощность.
Вся моя работа пошла псу под хвост! А если бы я не жлобничал — не мечтал по молодости застолбить «гениальное изобретение» в одиночку, а сначала поделился идеей с теми, кому ее пришлось бы внедрять — с цеховыми механиками, то они сразу же указали бы мне на это обстоятельство, и я не терял бы время на ненужную работу. Вот от таких глупостей меня и отучал Толя Парфенов.
Конечно, были у него раздражающие меня недостатки, но в конце концов ко всему привыкаешь и находишь пути и способы, как избежать неприятностей от них. С другой стороны, как мне быть недовольным Парфеновым, если он вполне мог пойти и на некоторые издержки ради меня?
Вот был такой случай. Как я уже писал, мы с женой подали заявление и расписались во время моего отпуска, и через неделю после свадьбы я уже уехал в Ермак, а она осталась в Днепропетровске заканчивать аспирантуру. И вот следующей весной ее посылают в командировку в Алма-Ату, столицу Казахстана, вроде и поближе ко мне, но все же более тысячи километров от Павлодара. Я прямо разрывался, не зная, как поступить. Сказал Толе, и он аж вскричал:
— Ты что, дурак?! Молодая жена всего в тысяче километров, а он чего-то думает! Считай себя в отгуле, бери билет на самолет, и чтоб тебя тут не было!
Никаких отгулов у меня не было, и начни меня искать директор, Парфенову сильно влетело бы, но у него такой характер. И благодаря Толе я провел пять чудесных медовых дней в очень симпатичном городе. Ну как мне было быть недовольным таким начальником?
Пожалуй, меньше всего я получил от начальника ЦЗЛ Николая Павловича Меликаева, но нашей вины (моей и его) в этом не было. Я как-то сразу начал заниматься основной технологией — тем, что являлось планом завода, а Николай Павлович занимался выплавкой новых сплавов, и в этом он был дока, но мне это было мало интересно. Конечно, если Меликаев привлекал меня к работе в экспериментальном цехе, то я добросовестно делал то, что требовалось, да и всегда был в курсе того, что плавил экспериментальный, и какие исследования там проводятся. Но это было не мое.
Зато просто трудно оценить то, что я получил от Николая Васильевича Рукавишникова, который в то время был начальником производственно-технического отдела завода. Напомню, что по диплому я был сталеплавильщик, поскольку Кадинов был стале-
Н.В. Рукавишников
плавильщик, и всю учебу в институте я занимался проблемами стали. Мало этого, ферросплавное производство я считал однообразным и крайне неинтересным по сравнению со сталеплавильным, И ни работа на ферросплавных заводах во время практики, ни работа в цехе № 4 к этому ничего не добавили — я продолжал пребывать в уверенности, что технология производства стали более интересна. Рукавишников наставил меня на путь истинный, и именно он показал мне все сложности и проблемы выплавки кремниевых сплавов, показал то, что ни в одной книге не прочитаешь — ученые, пишущие книги, просто не подозревают, что такие проблемы или такие факты есть. Рукавишников был практик с острым умом, исключительной наблюдательностью и неизбывной любознательностью. Последующие 14 лет моих собственных исследований технологических процессов не дали никаких фактов, которые опровергли бы те установки, которые сразу же задал мне Николай Васильевич.
Работали мы с ним очень мало, так как его просто выжил с завода Топильский, но передал мне Рукавишников очень много, даже в материальном смысле. Он оставил мне свою небольшую, но тщательно подобранную библиотеку книг по технологии, причем пара книг была довольно редких. Оставил коллекцию образцов материалов, которые образуются в печи в разных условиях, научил на глаз оценивать шлак, оставил коллекцию фотографий обломков электродов. Более того, это он обратил мое внимание на общепринятое тогда заблуждение, что электроды ломаются от термических напряжений, и показал, насколько важна равномерность усадки электродной массы при спекании. Как исследователя он научил меня очень многому, но главное, указал направления наиболее эффективных исследований. Смешно, но он невольно придал мне уверенности в себе и в плане написания текстов.
Дело в том, что он не мог писать — не мог излагать мысли на бумаге, но и я ведь толком не знал, могу ли я это делать. Одно дело написать текст дипломного проекта или письма жене, а другое дело — текст для публикации в открытой печати. Напечатают, а потом все смеяться будут. И вот как-то Рукавишников объяснил мне свою проблему, дал свою статью для какого-то журнала и попросил ее исправить. Написана она была черт знает как, даже удивительно, поскольку устно Рукавишников все объяснял прекрасно. Я попытался исправить его текст — не получается. Тогда я сам написал текст этой статьи, своими словами объяснив читателям то, что Рукавишников хотел. Ему понравилось, и статью, по-моему, напечатали, а я получил уверенность в том, что у меня его проблемы нет: худо-бедно, а излагать мысли на бумаге я умею.
Моя первая глупость
После того как Друинский перевел меня в ЦЗЛ, жизнь моя стала прекрасной. Я имел ту работу, которую хотел, и при этом мне было наплевать на карьеру на этом заводе, а это давало упоительное чувство свободы и независимости. Мне не надо было ни перед кем унижаться, и ничего ни у кого не надо было просить. Я вам не нравлюсь? Увольняйте! Не дадите мне квартиру? А она мне и не нужна! Выговор мне по партийной линии? А я беспартийный! Вот и возьми меня голыми руками.
Но тут я совершил две глупости одну за другой, собственно, глупостями их не назовешь, но если бы я знал, чем они закончатся, то я бы, наверное, не стал бы их совершать, правда, и жизнь моя могла бы сложиться по-другому. Первая глупость была связана с общественной работой.
Желающих меня в нее запрячь было много, и первый, конечно, комсомол. Меня сходу включили в состав бюро завода. Мне, обозленному за свое направление в Ермак, это совершенно не улыбалось, но мне кто-то дал дельный совет соглашаться и не рыпаться, но ничего не делать, — тогда сами от тебя отстанут. Я так и поступил. Поэтому кроме каких-то обычных субботников мне запомнилось два случая.
Как-то комсорг завода Петя Разин взял меня на какое-то рабочее заседание горкома комсомола, которое вела молодая казашка, а я уселся рядом с очень яркой девушкой, но, как бы это сказать, таких габаритов, которые коня на скаку останавливают. Звали ее, по-моему, Вера. Я начал с ней заигрывать и вижу, что «эти глаза не против». Но это знакомство после окончания заседания и закончилось — назначить ей свидание я не решился — уж больно это был не мой размер. Но через пару дней Петя мне говорит, что казашка, второй секретарь горкома, приглашает меня в субботу на день рождения. Я очень удивился, поскольку мы с нею только поздоровались и попрощались, но я все же купил какой-то подарок и пришел. Она была холостячка, жила в однокомнатной квартире, день рождения предполагался по-казахски, т. е. с обязательным бешбармаком, которого я на тот момент еще не ел в натуральном виде, т. е. так, как его готовят казахи, и с тем ритуалом, с которым они его едят. Однако это не главное, главное, что гостями был Петька с женой, я и… эта Вера! Ага, сообразил я, вот кто меня пригласил. Я повеселел, и с совершенно лишним (это выяснилось позже) энтузиазмом стал поднимать тосты за хозяйку. Однако тут звонок в дверь, и входят еще две казашки — красавицы! Я уже начав танцевать с Верой, бросил это дело и переключился на них, причем так до конца и не выбрав, которая мне нравится больше. Я, конечно, видел, что Верка на меня уже волком смотрит, но эти казашки были ослепительно хороши.
И тут кончается очередной танец, и я вижу, как Вера манит Меня в прихожую. Я выхожу, а она закрывает дверь и бац мне пощечину! Оделась и ушла. Я, конечно, обрадовался, во-первых, уже некому будет на меня волком смотреть, во-вторых, нафига мне такая подруга, которая чуть что и сразу в морду? Довольный, что все складывается удачно, вернулся к компании, но все дело испортил Петька Разин. Жена его от себя далеко не отпускала, и он сидел и только и делал, что наливал. А я сдуру пил и вот почувствовал, что еще немного, и я упаду прямо на стол. Пришлось резко прощаться и уходить, меня не отпускали, видя мое состояние и учитывая, что была зима и сильный мороз, но я на него и надеялся, действительно, на улице стало легче, и я благополучно добежал до кровати в общаге, благо город маленький, и все рядом. Вот так позорно отрекомендовал я себя горкому комсомола.
Второй запомнившийся случай — это отчетно-перевыборная конференция горкома. Я был избран делегатом, но пошел потому, что делегатом была и Лопатина. В зале я четко забил возле нее место и предпринимал все меры, чтобы ей понравиться. Впереди сидел Валентин Мельберг и ревниво шикал на нас, дескать, мы мешаем ему слушать выступающих. А что их слушать? Не соловьи, небось! Правда, к концу прений случился какой-то шум, кто-то переругивался из зала с президиумом, но, наконец, всех распустили на двухчасовой обед, во время которого в типографии должны были отпечатать бюллетени для голосования.
Наша заводская делегация, само собой, пошла в столовую «через гастроном», а обед начали с компота, чтобы освободить стаканы под водку. И, как говорится, уже хорошо гудели, когда к нам подошел представитель делегации ГРЭС и начал ругать секретаря горкома комсомола, я уже забыл его фамилию, помню только, что она была на букву Ш.
Суть обиды была вот в чем. Были у ГРЭС какие-то критические замечания к горкому, наверняка, в целом терпимые, делегация ГРЭС подготовила выступающего для их оглашения. Но этот Ш. счел себя уже опытным номенклатурным волком и применил обычный в таких случаях прием — он поставил этого выступающего в конец списка, а впереди пустил болтливых и косноязычных зануд, которые замучили своими речами всех делегатов. И после двух или трех часов слушания этой белиберды, он предложил залу прекратить прения, так и не дав выступить делегату ГРЭС с критикой. Зал обрадовался и тут же проголосовал, грэсовцы пробовали возмущаться, но Ш. сослался на уже состоявшееся решение конференции. На конференции, само собой, присутствовали представители обкома комсомола, и Ш. хотел выглядеть перед ними уж очень хорошо. Это ему дорого обошлось.
Поскольку мы, заводчане, уже разогретые «компотом», тоже обиделись за грэсовцев, то дружно решили вычеркнуть Ш. из бюллетеней. Однако этого было мало. Ведь город был молодой, детей много и абсолютное большинство делегатов были школьниками или учащимися училищ и техникумов. А они, по малости лет, с нами не пили (мы бы им пить не дали — в те годы на пьющих несовершеннолетних смотрели очень плохо). Однако тут все дело решил один татарин, конструктор нашего заводского проектно-конструкторского отдела.
Я уже не помню, где именно проходила эта конференция, но зал был внутри здания, и фойе были с обеих его сторон. Голосовали так. Делегаты входили в боковую дверь, поднимались на сцену, там получали бюллетени, спускались со сцены и шли вдоль второй стены и рядов кресел к столику, на котором были карандаши для вычеркивания, а затем — к урне для голосования. После чего выходили из зала в фойе.
Этот татарин пошел в числе первых, проголосовал, но не вышел, а сел в кресло возле столика, и когда к столику подходил школьник, то татарин командовал ему: «Ш. вычеркивай!» И что школьнику было делать? Сидит солидный дядя в костюме и при галстуке и дает команду. Может, так и надо? Детки послушно вычеркивали. А этот Ш. вместо того, чтобы посидеть с нами в столовой, повел куда-то поить представителей обкома по примеру тогдашней номенклатуры. Вернулся в зал, когда голосование уже заканчивалось, и его довольная морда говорила, что он был в уверенности, что все идет по плану.
Это сильно разозлило счетную комиссию, которая даже намека не дала президиуму о том, что произошло. Собрались в зал слушать итоги. Председатель счетной комиссии начал зачитывать голоса, поданные за членов нового горкома. Начал с буквы «а» и звучало это: «А» — 220 — «за», «против — нет». И так вниз по списку по алфавиту. Ш. был благодаря своей фамилии последним. Доходит председатель и до него и оглашает: «Ш. - 40 — «за», 180 — «против». Надо было видеть, как в президиуме вытянулись лица Ш. и представителей обкома. А председатель счетной комиссии невозмутимо продолжает, Что в составе горкома не хватает одного члена, и предлагает добрать его открытым голосованием. Зал радостно поддерживает эту идею, тут же называют фамилию нового кандидата в Члены горкома и тут же зал за него голосует мандатами. Конференция закончилась, а мы поехали расслабляться, раз уж этот день оказался нерабочим.
Мы об этом быстро забыли, но много лет спустя, я как-то рассказал этот случай в компании, в которой оказался компетентный слушатель. Он, в свою очередь, сообщил, что этот случай произвел большие кадровые изменения не только в комсомольской номенклатуре вплоть до ЦК ЛКСМ Казахстана, но выговоры получили и партийные органы за то, что не знали истинного настроения комсомольцев города Ермака и предложили им не того секретаря. Но дело было не в этом. К тому времени вступление в комсомол было уже традицией, а комсомольские вожаки уже до того опустили себя формализмом и явным желанием карьеры, что персонально никого не волновали. Что Ш., что Б., что X. -какая разница?
Дело было в нашем татарине, который занял очень удобную позицию, и в том, что мы в обед не только компот пили.
Эти случаи я рассказал для показа атмосферы того времени, меня же они совершенно не задевали в отличие от выборов в совет молодых специалистов завода.
Ввиду моего холостяцкого положения заводской комитет комсомола решил спихнуть на меня должность председателя Совета молодых специалистов. Тут дело было серьезным, тут речь уже шла о работе на моих друзей, товарищей и приятелей, тут распределение квартир и, возможно, еще каких-то благ, о которых я так и не узнал. Отказываться было нельзя, и я согласился. Чтобы все молодые специалисты со мною познакомились, мне поручили выступить на отчетно-перевыборном собрании. Я подготовил резко критическое выступление, но по большому счету речь скорее всего шла о каких-то пустяках, думаю, что о качестве пищи в столовых и т. д. и т. п. Но я повернул выступление так, что в этом виноват директор завода Топильский. Строго говоря, мне необязательно было так выступать, но и он мог бы отнестись к этому спокойнее. А он тут же дал команду президиуму собрания, и те не только не предложили меня председателем, но и вычеркнули из членов Совета. Мне-то, в конечном счете, это было даже на руку: баба с возу — кобыле легче.
Но Топильский принял мое выступление близко к сердцу, я это понял на следующий день, когда зашел в техотдел, а работавшая там жена Топильского Марина Александровна с удивлением посмотрела на меня и сказала: «А ты, Юра, оказывается, храбрый портняшка!» Поскольку молодых специалистов в техотделе не было, то узнать о моем выступлении она могла только от мужа — ~ вот на такие пустяки Топильского хватало, а задуматься, почему кадры с завода разбегаются, нет.
Так что у нас и так с самого начала любви с Топильским не получилось, а тут он еще и обиделся на меня за критику, а мне, как оказалось, это было совершенно ни к чему.
Чтобы закончить тему общественной работы, скажу, что помимо председательства в цехкоме, я несколько лет возглавлял заводское Общество рационализаторов и изобретателей. Но эту должность мне дали собственно за мою активность в этой области. В принципе, она налагала и определенную ответственность — нужно было подталкивать народ, чтобы подавал побольше рацпредложений, и дальше пробивать их через плановый отдел, чтобы по заводу росло как количество рационализаторов, так и экономический эффект от новшеств. Работали мы под шефством Друинского, а поэтому завод и область выделяли Обществу деньги, на которые мы покупали призы лучшим по году рационализаторам и с Валерой Артюхиным и Ниной Атаманицыной устраивали в ДК ежегодные конференции. С семьями, застольем и танцами.
Я придумал для Общества эмблему и заказал значки с нею. Эмблема имела вид круга с надписью по ободу, а в центре был рисунок «Мыслителя» Родена. Тут вышел казус — заводской художник, местный умелец, никогда не видел фотографии этой скульптуры, а я не мог ему объяснить, что нужно нарисовать. Поиски фотографий ничего не дали, но в каком-то юмористическом журнале я наткнулся на карикатуру, в которой «Мыслитель» был посажен на унитаз. Я принес ее художнику и распорядился, чтобы он карикатуру перерисовал, но унитаз убрал и посадил «мыслителя» на камень. Тот так и сделал, получилось неплохо.
Но вернусь к теме. Итак, первой моей глупостью была публичная критика Топильского без учета его мстительности, о которой меня предупредили. А вторая глупость заключалась в том, что я показал ему свою деловитость. Вообще-то показать деловитость — это хорошо, это полезно.
Но не тогда, когда у тебя в директорах придурок.
Первое «дурное» дело
«Дурными» я называл дела, которые мне поручали делать, Но которые никаким боком не относились ни к моей должности, Ни к кругу моих обязанностей, более того, на заводе были люди, обязанные делать эти дела, но в силу разных причин эти дела все же поручали мне. Такие дела — это большая честь, это признание тебя как человека, способного разобраться в любых вопросах и добиться в этих вопросах успеха, но мне по тому времени было плевать на эту честь, поскольку эти дела отвлекали меня от той работы, которой я хотел заниматься.
Первое такое дело случилось в конце 1973-го, за неделю до Нового года. Точно уже не помню, но, по-моему, меня вызвал Друинский, поскольку Топильский вряд ли стал бы со мною общаться, и сообщил, что меня отправляют в командировку. Проблема: с нового года экспортная продукция завода должна сопровождаться накладными нового образца — с дублированием текста накладной на английском языке. Без бланков этих накладных железная дорога не будет принимать вагоны, следовательно, завод не выполнит плана по экспорту, а это для всех «прощай премия». Моя задача — съездить в командировку в Алма-Ату и разместить в типографии заказ на эти бланки.
Я обрадовался — тоже мне задание! Всего-то навсего какие-то бумаги в типографию передать, но зато на халяву за казенный счет съездить в Алма-Ату, в которой я еще не был. Увидев мою радость, Друинский посмотрел на меня как-то с сомнением, понимая, что я не понял, что мне предстоит, и отправил в отдел сбыта узнавать подробности.
Немного поясню. Это задание в наш век — век компьютеров и множительной техники — кажется смешным, но в то время основной множительной техникой была пишущая машинка да громоздкий аппарат «Эра», который занимал целую комнату и делал одну копию чуть ли не минуту и то — на специальной бумаге. Большие тиражи можно было сделать только в типографиях, а нам было необходимо таких бланков пара тысяч на год.
Второе. В СССР был строжайший надзор за размножением текстов. К примеру, в здании заводоуправления, открытом для всех круглые сутки, под охранной сигнализацией находились всего 4 комнаты: касса, спецотдел (секретная почта), комната с «Эрой» и комната с пишущими машинками машбюро. Скажем, кабинеты директора и главного инженера такой защиты не имели. Для того, чтобы в типографии что-то отпечатать, нужны были месяцы согласований в разных инстанциях — нет ли в размножаемых текстах какой-то крамолы? (За газеты ответственность несли редакторы.) А тут еще и текст на английском языке, т. е. требовался компетентный переводчик. Более того, типографии, имевшие латинский шрифт, были только в Целинограде и Алма-Ате, значит, согласовывать текст мне потребовалось бы в чужих городах, без поддержки своих руководителей. Кроме того, заказы в типографию надо делать заблаговременно, чтобы типографии включили их в план, а эти планы квартальные, т. е. заказ надо делать месяца за три до квартала, в котором будет выполнен заказ. А я, наивный, полагал, что меня посылают в Алма-Ату на экскурсию! Но это была еще не вся подлянка.
Пошел я в отдел сбыта, и там Вадим Храпон раскрыл мне глаза. Предупреждение, что бланки будут сменены, мы получили еще в начале года, но на заводе бланки в типографии заказывал административно-хозяйственный отдел. Сбыт сразу же передал образцы бланков туда, но начальница АХО Валя П-ва была любовницей директора завода Топильского и вела себя соответствующе этому статусу.
Отвлекусь на любовниц. Для нашего завода — это смех и слезы. Город же маленький, и как такое дело в тайне удержать? Ведь все вокруг знакомые. Уж не помню, сколько об этом слышал, но не один раз, как хоронили любовников, задохнувшихся в гаражах от выхлопных газов автомобиля, двигатель которого не глушили для тепла. А директору иметь любовницу — это «во-още»! Его же знают все абсолютно. Куда спрячешься?
Как-то сидим, выпиваем в мужской компании, не хватило. Гриша Косачев побежал, благо магазины у нас в городе до 22–00 работали. Прибегает, рассказывает.
— В очереди у винного отдела уткнулся в спину (Гришка невысокого роста) мужику. Мужик берет «огнетушитель» (портвейн в бутылке 0,75 л), и вдруг я вижу, что это Топильский! Я — «здра-сте», а он смутился, что-то буркнул и шмыг из магазина.
— Так, — итожит Володя Атаманицын, — это он к Вальке пошел.
— А чего он жлобится на шампанское или коньяк?
— Коньяк, водка и шампанское сразу по мозгам бьют, а портвейн постепенно тебя забирает, — компетентно разъясняет Володя. — И для этого дела лучше портвейн.
— Бедный Петруша, — сочувствует Топильскому Косачев, — ему же негде спрятаться с Валькой! Взяли мы на заводе автобус и поехали в Павлодар на футбол болеть за «Трактор», и он выиграл. Ну, мы после матча и заехали в ресторан эту победу отметить. Завалились в зал всей компашкой человек в 25, зал пустой, заняли столики, вдруг видим — в углу за столиком Топильский с Валькой! В Павлодар уехали от чужих глаз, а мы и тут! Ну, мы так тихонько, вроде не заметили, быстренько из кабака свалили и поехали в другой.
Но вернусь к теме моей командировки. П-ва ткнулась размещать печатание этих бланков, но типографии области их не брали из-за отсутствия шрифта, а искать нужные типографии ей было лень. В декабре сбыт пошел в АХО за этими бланками, тут-то все и выяснилось. Директор любовницу в обиду не дал, свалил вину на остальных, а Друинскому поручил решить вопрос. Вадим Храпон, исходя из реальности, считал, что если я найду в Алма-Ате типографию, где эти бланки можно напечатать, то это уже хорошо, а если сумею разместить в ней заказ, то это будет подвигом, потому что завод потом подключит всех, чтобы заставить эту типографию отпечатать бланки побыстрее.
Пошел в АХО к П-вой, та железным голосом, как будто я у нее работал, вручила мне приказ, командировочное удостоверение и образцы бланков и распорядилась, чтобы я немедленно получил деньги, купил билет (мне его уже забронировали) и чтобы завтра был в Алма-Ате. Получаю деньги — что-то очень много, смотрю в командировочное — а командировка-то у меня на месяц! Ни фига себе! Спустя уже много времени, я, став более опытным, понял, что мною просто прикрывались. Никто не верил, что эти бланки можно быстро отпечатать, а посему, когда начнется срыв экспортных поставок, Топильскому нужно было предметное подтверждение своего энтузиазма в решении этого вопроса — ему нужна была возможность говорить начальству: «У нас человек специально сидит в Алма-Ате, да вот ничего сделать не можем!» Вот он и выбрал для этого дела самого ненужного на заводе человека — меня.
Купил билет на завтра на дневной рейс, а вечером меня вызывает Друинский. Сказал, что подключил обком, а тот пообещал подключить ЦК. В аэропорту Алма-Аты меня будет ожидать инструктор Павлодарского обкома, который учился в Алма-Ате в Высшей партийной школе, он устроит меня в гостиницу и свяжет с необходимыми людьми в ЦК Компартии Казахстана. Дал фамилию этого инструктора и приметы для его опознания при встрече.
Как хорошо известно, жизнь — это чередование черных и белых полос. Наутро началась у меня черная полоса.
Дело в том, что у нас стояли морозы 25–30 градусов, я послушал прогноз погоды в Алма-Ате: там обещали на завтра плюс 17. А как мне одеваться? Володя Шлыков и предложил одеться легко, а в аэропорт Павлодара он доставит меня на «ЗиЛ-130», который шел в нужное время в Павлодар за грузами для завода. Вот я и оделся в командировку в легкую болоневую куртку и в туфли на тонкой подошве. Сел в «зилок» с водителем, повернули на трассу, начали нагонять «площадку» со щебнем, был встречный ветерок, с «площадки» слетел кусок гравия и нам в лобовое стекло. Стекло мелкими осколками упало нам на колени. Водила вернулся на завод, а я остался на ветру в степи, голосуя попутки. За те минут 10, пока дождался рейсового автобуса на Павлодар, замерз как собака. Добрался до аэропорта, дрожу от холода, а там ветром выдуло витринное стекло на фасаде, и в зале регистрации холодно, как на улице. Побежал в ресторан на втором этаже — там теплее, выпил 100 грамм коньяка, и вот передают начало регистрации на мой рейс. Доел, что заказал, спускаюсь из ресторана, а меня с рейса сняли, так как я якобы опоздал. Я пошел скандалить, начальство морды воротит, но на рейс не посадили (хотя по времени регистрация на него еще не закончилась), а исправили билет на вечерний рейс. Но ведь меня человек ждет с этим рейсом, и это наше единственное место встречи! Знающие люди в аэропорту объяснили, что мой рейс выполнял Як-40, а в нем всего 28 мест, а работникам аэропорта нужно было посадить на него «блатного» или начальство, вот они и посадили, а последнего, пришедшего на регистрацию — меня, с рейса сняли. (С тех пор я строго следил, чтобы при регистрации на авиарейс не оказаться последним!)
Поздним вечером сел в Ту-154, в салоне тепло, и я сразу уснул. Проснулся от удара шасси о бетон, смотрю в окно и вижу неоновую вывеску «Балхаш». Только подумал, с чего бы это в аэропорту Алма-Аты ресторан с названием «Балхаш» строить, когда объявили, что в Алма-Ате туман и мы сели в Балхаше. В аэропорту этого города ночь простоял в толпе пассажиров всех алмаатинских рейсов, согреваемый злорадством, что и мой дневной рейс тоже тут, а значит, тот «блатной», которого вместо меня на Як-40 посадили, тоже тут толчется. А к утру совсем весело стало. Алма-Ата полуоткрылась и начала принимать самолеты с пилотами 1-го класса, такие были на Ту-154, а вот на Як-40 пилоты второго класса. Поэтому я улетел, а «блатной» остался в Балхаше ждать, пока туман в Алма-Ате окончательно рассеется.
Вхожу в аэропорт Алма-Аты, а на душе тоскливо — что дальше делать, где ночевать? Ищу переговорный пункт, чтобы переговорить с заводом, и утыкаюсь в Горелова — в нашего главного энергетика. Федор Арсентьевич пытался улететь в Павлодар, но как только я обрисовал ему ситуацию, сразу же начал опекать земляка — дал мне адрес гостиницы, из которой выселился, и рассказал, как туда устроиться. Ага, жизнь стала налаживаться! (Тут должен повторить, что это же был СССР, билеты на транспорт стоили дешево, народу ездила уйма, гостиниц не хватало, и устроиться в них просто так было практически невозможно.)
Устроился в гостиницу, оставил там шапку (в Алма-Ате, действительно, было очень тепло), нашел ВПШ, узнал, где их общага, и к вечеру разыскал инструктора. Договорились завтра в 10–00 встретиться у ЦК. Совсем хорошо: иду по графику с опозданием всего на сутки.
Утром просыпаюсь, а в гостинице все воют: в Алма-Ате минус 25 градусов! Уверяют, что такого и старики не помнят. Короткими перебежками, отогреваясь в попутных магазинах, добежал до ЦК. Сначала попали к Уржумову, кем он был тогда, не помню, возможно, заведующим отделом. Простой рыжеватый дядька, в сером прилично поношенном костюме, посадил меня за стол, заказал секретарю чай, и пока я пил, расспрашивал обо мне и о заводе. Потом пошли вместе с ним то ли к завотдела, то ли к секретарю по пропаганде, поскольку издательства и типографии были в его ведении. Этот был щеголеватым, лысым и довольно молодым, но к Уржумову отнесся с уважением и тут же начал разыскивать по телефону типографии с латинским шрифтом. Первой в списке оказалась типография Академии Наук Казахстана. Предложил мне начать с нее, но дал мне свой телефон на случай, если там у меня не получится.
Маленькое двухэтажное здание типографии. Директора пока нет. Спускаюсь перекурить на первый этаж, а там курит худой мужик в синем халате, и вид у него человека, которому забыли дать опохмелиться. Поболтали, он оказался мастером и единственным начальником в печатном цехе, я сказал зачем приехал, показал образец бланка, он соответственно сказал, что им это как два пальца обмочить, но без директора ничего сделать нельзя. Я от нечего делать попросил его показать их оборудование, и он показал линотипные машины, как отливают строки, как их собирают и т. д. — все это оказалось очень интересным. Но тут пришел директор, и я пошел к нему.
Это был большой босс: сесть не предложил, разговаривал через губу, мои бумаги отбросил и заявил, что они подобной чепухой заниматься не будут. Я ему говорю, что это просьба ЦК, а у дурака хватило ума заявить мне, что ЦК в их вопросах не разбирается. Ага, я тебя за язык не тянул! Выхожу в приемную и прошу секретаршу разрешить позвонить по телефону, звоню и объясняю пропагандисту в ЦК, что я разговаривал с исполнителями и те говорят, что запросто могут этот бланк сделать, но директор не хочет.
— А вы ему говорили, что это просьба ЦК? — поинтересовался пропагандист.
— Да, — скромно ответил я, — но он сказал, что ЦК в их вопросах не разбирается.
В трубке послышалось обиженное сопение пропагандиста.
— Где вы?
— В приемной директора типографии.
— Никуда не уходите!
Через пару минут из кабинета как ошпаренный выскочил директор и позвал меня к себе. Зло подписал мою заявку, определив исполнение заказа во втором квартале 1974 года. Я попросил у него разрешения самому отнести подписанную им заявку в бухгалтерию, чтобы мне там оформили заказ и выписали счет для оплаты. Он разрешил.
И я вошел в азарт — я уже чувствовал, что черная полоса моей жизни сменяется белой. В бухгалтерии, оформив заказ, я предложил самому отнести его в цех — тому самому мастеру. Отдал бумаги и предложил ему перекурить, а в коридоре завел разговор, что скоро праздник, а мне придется сидеть здесь, и что я заплатил бы ему червонец, если он наберет бланк и сделает пробные оттиски. У мастера заблестели глаза, он взял червонец, написал мне расписку, чтобы я не расплачивался своими деньгами за государственные проблемы, побежал в цех, в считанные минуты отлил строки, набрал бланк и вручную откатал мне несколько оттисков.
Я сел проверять, он нетерпеливо топтался рядом, я исправил ошибки, он настроился прощаться, но я не согласился — работы на червонец было сделано еще очень мало. Мужик торопливо перелил ошибочные строки, снова набрал бланк и сделал оттиск — ошибок не было. И тут я попросил его откатать пару сотен бланков, что, по моему мнению, даже вручную заняло бы минут десять. Но у мужика «трубы горели», ему было некогда, и он предложил мне пойти пообедать и вернуться через час.
Возвращаюсь через час — мужик сидит за столом и весь светится Удовольствием, само собой, от него уже тянет спиртным.
— Ну, что — откатаем пару сотен? — спрашиваю я.
— Нет, — отвечает счастливый мужик, — я их уже сделал.
Поднимает с пола упакованную пачку в две тысячи штук моих бланков (их, пока он бегал пить, его работницы на печатной машине сделали) и дарит их мне! Вот так!
Я на радостях отнес бланки в гостиницу, купил билет на вечер следующего дня и пошел в кабак. Ресторан оказался национальным и безалкогольным. За столиком со мною сидел молодой казах, который был в этом кабаке как дома, слово за слово мы с ним разговорились и стали дружно ругать советскую власть и советские порядки. Он спросил, не еврей ли я, я удивился — почему? Он пояснил, что все диссиденты, которых он встречал, были евреи. Для душевного разговора чего-то не хватало, но тут оказалось, что для постоянных посетителей ресторана тот чай, который в белых чайничках разносили официанты, был вовсе не чай, хотя пить пришлось медленно и из пиалок. Наклюкались мы с этим казахским националистом «чая» до тяжелого состояния, но до гостиницы я все же добрался без приключений.
(Помню, когда читал Хемингуэя, то меня страшно раздражало, что его герои на каждой странице пьют, пьют и пьют. А вот теперь отмечаю, что что-то и у меня подозрительно много выпивок. А я-то вроде и не любитель… Ну да ладно.)
Через день уже в Ермаке в толпе народа вхожу в здание заводоуправления, иду к Парфенову рассказать о своих приключениях. Звонок из приемной — меня срочно к директору. А как он узнал, что я приехал? Беру документы и пачку бланков, иду к нему, Топильский с грозным видом сидит за столом, а за его спиной Валя П-ва. Ага, понятно, это она меня увидела.
— Как ты посмел вернуться?! — рычит директор.
— А что мне в Алма-Ате делать? — невинно вопрошаю я. Топильский аж поперхнулся от моей наглости.
— Ты обязан был сидеть там, пока не оформишь заказ! Я кладу перед ним бумаги.
— Вот заказ, вот документы на оплату. И вот, — я грохаю на стол пачку, — две тысячи готовых бланков!
У Вали челюсть отвисла, Топильский с удивлением уставился на мои трофеи.
— А как ты это сумел?
— Нашел в типографии подходящего мужика, дал ему червонец (вот расписка), и он мне отпечатал бланки.
Топильский обернулся в Вальке.
— Деньги ему надо вернуть. Валька кивнула.
Через день мне принесли приказ, в котором я «за своевременное обеспечение завода документами для отгрузки металла на экспорт» премировался 30 рублями. Но лучше бы я этого приказа не видел, поскольку Валька П-ва за это же премировалась 90 рублями. Ну и порядки на этом заводе!
Диспетчер
Тогда я этого не понимал и уж потом, сам став начальником и получив в подчинение людей, понял, что выполнением этого задания в Алма-Ате я создал себе авторитет очень ценного работника, потом я сам таких работников, способных любой ценой сделать дело, очень ценил. Неважно, что они пока чего-то не умеют — потом научатся, важно, что, поручив им дело, можешь быть за него спокоен — если уж они его не сделают, то вряд ли кто другой сделает.
Теоретически я знал, что в достижении любого дела требуется упорство, но тут я предметно увидел, что и в таком организационно-административном деле упорство тоже дает результаты. Ведь если бы я смутился от того, что меня выгонял директор типографии, то мог бы потом обойти типографии Алма-Аты, меня отовсюду бы выгнали, и я бы вернулся на завод ни с чем. Но от меня тогда зависела премия тысяч человек, мне не хотелось брать на душу грех, что это из-за меня, вернее, из-за меня тоже, они ее не получат. Это заставляло быть упорным. А упорство давало результаты. Это же упорство показало мне шанс в виде нуждающегося в опохмелке мастера, и я этот шанс использовал. Я и дальше буду давать примеры, когда результат достигался, скорее, все же упорством, упрямым желанием получить нужный результат нежели умом. Хотя можно сказать и так: упорство заставляло ум шевелиться. Я делаю это отступление потому, что в жизни вижу очень много людей, пасующих перед первым же препятствием, и уйму, которые и к препятствию не подходят, а пасуют уже перед собственными мыслями о тех трудностях, которые, может быть, возникнут. Это часто очень болтливые, но абсолютно бесполезные для дела и жизни люди.
Думаю, что результаты командирования меня в Алма-Ату удивили Топильского и изменили его мнение обо мне: если раньше я был просто бездельником, прячущимся в ЦЗЛ, то теперь я стал бездельником, от которого можно получить некий толк. И этот придурок стал от меня этот толк получать. Делал он это так.
Прихожу я на работу, а меня ждет приказ о том, что в связи с производственной необходимостью я назначаюсь диспетчером завода. По советскому Кодексу законов о труде работника можно было перевести на другую работу без его согласия на срок не более то ли месяца, то ли трех месяцев. И пошло-поехало. Заканчивается срок текущего приказа, я выхожу на работу, а через неделю новый приказ о том же. На заводе в диспетчерской службе четыре диспетчера и старший диспетчер. У каждого где-то по 40 календарных дней отпуска да плюс они болеют, поэтому вполне можно было ввести в штат шестого человека для подмены остальных — работал бы в диспетчерской 200–250 дней в году, а остальное время в производственно-техническом отделе, да плюс его собственный отпуск. Человек бы осваивал эту работу и был бы ею доволен. Но нет, Топильский штат диспетчеров пополнить не давал, а подписывал и подписывал приказы о назначении диспетчером меня. Не дает гад работать в ЦЗЛ, и все! Юра Максименко, старший диспетчер, уже, бывало, заходит ко мне в метлабораторию с очередным приказом и сам чуть не плачет:
— Юра, гад буду, я ему предлагал назначить диспетчером трех человек из цехов на выбор. И люди соглашаются работать диспетчером хоть постоянно, хоть временно. А Петруша ни в какую — только тебя!
Должность диспетчера завода одна из тех, которые должностью делают люди, на этом месте работающие, одна из тех, на которых не место красит человека, а человек место. То есть, если заинтересуется человек этой работой, то без этого человека вскоре перестанут обходиться, а другой может просто работать на этой должности «от и до», и тогда, в принципе, такого работника легко заменить на любого другого, а свою должность такой человек сделает никчемной.
После старого фильма о корабелах, должность диспетчера завода порою стали называть «ночной директор», и действительно, если диспетчером поставить человека опытного, хорошо знающего завод и все взаимоотношения в нем, то такой человек может найти директорские решения возникающих ночью проблем и отдать по ним распоряжения, с которыми утром согласится и сам директор. Такой человек действительно будет для всех необходимым ночным директором, но ему обязательно нужны соответствующий опыт и соответствующее присутствие духа.
А если нет опыта, как это было у меня, и нет желания его приобретать, как это опять же было у меня, то такой диспетчер обречен быть телефонистом и будильником при руководителях завода: что-то случилось такое, решение чего не терпит отлагательства до утра, значит, звони домой директору, главному инженеру или соответствующему специалисту и вези их дежурным транспортом на завод, пусть они решают.
Запомнился мне такой случай. Я дежурил ночью, и в начале девятого утра, когда в цехах только что сменилась ночная смена, а все специалисты только ехали на завод, у меня на пульте одновременно вспыхнули все восемь сигнальных лампочек печей второго цеха — это означало, что весь второй цех остановился одновременно. Чуть позже раздался звонок начальника смены электроцеха, который скороговоркой сообщил, что «вырубилась линия 110 киловольт» и что он занимается этим вопросом, после чего тут же отключился. Я понимал, что звонить ему и расспрашивать о подробностях нельзя — я отвлеку его от ликвидации аварии, но мне-то что делать? Линия электропередачи с ГРЭС до завода напряжением в 110 кВ питала главную понизительную подстанцию № 1 (понижающую напряжение до 10 кВ), от нее — второй цех. Почему отключились его печи, теперь стало понятно — они обесточены, но вопрос оставался — мне-то, пресловутому «ночному директору», что делать?
На мое счастье первым из специалистов завода приехал и зашел в диспетчерскую главный энергетик завода Федор Арсеньевич Горелов, который мне нравился тем, что всегда был невозмутим, как индейский вождь, я даже не могу припомнить, видел ли я его когда-нибудь в растерянном или возбужденном состоянии.
— Федор Арсеньевич, 10 минут назад вырубилась линия 110 киловольт, что мне делать?
— Ты отключил 4-й цех? — невозмутимо спросил Горелов и стал с телефона старшего диспетчера набирать номер ГРЭС.
— Зачем?! — поразился я.
Дело в том, что аварийная остановка печи — это ЧП, причем обо всех аварийных остановках каждой печи длительностью более 20 минут мы в конце суток сообщали в Москву в министерство, а здесь мало того, что у нас уже остановлено 8 печей, так Горелов считает, что нужно отключить оставшиеся 8!
— От ГПП-1 запитана циркуляционная насосная завода, сейчас на печах четвертого цеха нет охлаждающей воды, — ответил мне Горелов и стал разговаривать с начальником смены ГРЭС.
Тут меня аж потом прошибло — пересменка, печи на колошниковой площадке уже осмотрены, и бригадиры, мастера и начальник смены осматривают их на отметках или смотрят журналы работы за предыдущую смену. Они могут не видеть коллекторы сброса воды — не видеть, что воды на охлаждение нет! Сейчас печи цеха № 4 работают без охлаждения, следовательно еще немного и начнут плавиться элементы сводов и токоподводы.
Я разом опустил все рычажки вызова всех печей цеха № 4 и рычажок вызова начальника смены. Мне начали отвечать с печей, а я кратко сообщал причину и требовал отключить печь и бежать на соседние печи с этим предупреждением. Через несколько минут на пульте светились и все 8 лампочек печей цеха № А, я вздохнул свободнее — все же из-за меня, дурака, авария не случилась.
Вот для таких дел диспетчером и должен быть не пацан, а опытный мужик, чувствующий завод. Теоретически я, конечно, знал и схему электроснабжения, и схему водоснабжения, благо они висели на стенах диспетчерской. Но то теория, а тут в считанные минуты нужно почувствовать весь завод и принять решение. Конечно, если бы я собирался работать диспетчером и дальше, то я бы все это освоил, но ведь для меня эта работа была изуверским издевательством, придуманным Топильским.
Больше скажу, работа диспетчером делает тебя свидетелем многих оперативных решений, принимаемых руководителями завода, и если хочешь сделать карьеру начальника, то это прекрасная школа. Но я не собирался становиться начальником! Я хотел быть инженером-исследователем!
И я начал «дурить» — начал делать такое, что, по моему глупому мнению, должно было вынудить Топильского больше не назначать меня на эту должность. Вот пара случаев.
Было лето, а мощностей завода по водоснабжению (а снабжал завод водой и город) не хватало. Выхожу диспетчером в смену в ночь (с 21–00), вижу в диспетчерском журнале запись лично Топильского о том, что для накопления воды с 0-00 держать давление питьевой воды на цеха 2,6 атм. Почему 2,6 атм., я понял — самая высокая отметка (этаж) в цехах, на которых проложены трубы пожарно-питьевой воды — 26 метров. Вот Топильский и высчитал, что при давлении в 2,6 атм. вода в этих трубах будет. Но только миновала полночь, как из обоих плавильных цехов звонят — нет питьевой воды даже на отметке 6 метров — Топильский не соображал, что когда вода течет, то возникают потери давления от гидравлического сопротивления в водоводах и трубах. Приказ дал лично Топильский, следовательно, и отменять его мог только он. Надо было позвонить ему домой, но я звоню начальнику смены энергоцеха и говорю, что я, «ночной директор», отменяю приказ дневного директора и приказываю ему, начальнику смены, восстановить давление до 6 атм. Немного поругались, посмеялись, но я взял ответственность на себя, и давление воды по заводу восстановили, благо и начальник смены понимал, что работать без питьевой воды нельзя. А я в журнале жирно зачеркнул распоряжение Топильского, написал: «Отменил» и расписался. Утром несу журнал Топильскому, но, впрочем, об этом разговоре позже.
Или такой случай. Смена в день в субботу, в начале зимы. Заходит в диспетчерскую парень и говорит, что вернулся из длительной командировки, семья его живет в частном доме, профсоюз завез уголь, но не завез дрова, и разжечь уголь нечем. Уже очень холодно, и он просит помочь с дровами, так как у него маленькие дети. Конечно, он играл под наивного, а может, был обижен на свой цехком. Ведь этот работяга, по большому счету, вполне мог занять дров на пару топок у соседей, а в понедельник завезти дрова. Дрова для таких целей отпускал ремонтно-строительный цех — это срезки с торцов досок. Стоили они 4,80 рубля за пачку в два кубометра, но чтобы их выписать, нужно было, чтобы на заводе был и замдиректора по коммерции, и глабух, и работник бухгалтерии, и кассир. Так что мне полагалось предложить парню подождать до понедельника, а пока занять дрова у соседей. Но меня опять нагло назначили диспетчером, и я был обозлен.
Беру дежурный «газон» и еду вместе с этим парнем в РСЦ. Еще и спросил у водителя, есть ли у него монтировка, думаю, что если на цехе ввиду выходного дня будет замок, то сорву его к чертовой матери. Но замка не было, я нашел электрощит, подал на цех напряжение, загнал «газон» в цех И тельфером загрузил в кузов пачку срезок. Тут прибежал сторож цеха из вневедомственной охраны и поднял хай. Я написал ему расписку и отправил машину с дровами и парнем, взяв с него слово, что он в понедельник заплатит за дрова. Сторож не унимался и вызвал милицию, та быстренько приехала, оформила раскрытие хищения с моей стороны на сумму в 4,80 и довольная уехала.
Ну, думаю, придет на меня в понедельник бумага, начнут этот случай разбирать, а я Топильскому и выложу, что и дальше буду Поступать так — не хочет, пусть не назначает меня диспетчером.
И сам потом не мог поверить — в понедельник обо мне и милиция забыла, и Топильский даже слова не сказал!
Смешно, но только много лет спустя я понял, какую глупость совершал — я делал прямо противоположное тому, что хотел. Мне надо было этого парня отправить к дежурному горкома партии, а тот позвонил бы Топильскому и заставил бы его самого заниматься этими дровами. А я своим хулиганством обеспечил Топильскому спокойный субботний отдых. И с водой мне надо было в полпервого ночи поднять звонком Топильского с кроватки и самого заставить отменять свое идиотское распоряжение. И вообще, ни одну ночь не давать ему спать — выискивать на заводе любые происшествия и названивать, названивать, названивать. Он бы быстро забыл обо мне как о диспетчере. А я, по глупости, делал то, что хороший диспетчер и должен делать. Да, молодость, молодость…
Закончилось это безобразие с назначением меня диспетчером только тогда, когда я стал начальником метлаборатории, поскольку теперь перевести меня на работу диспетчером можно было только в виде наказания, а я таких поводов не давал.
Правительство и аппарат
Но, пожалуй, больше всего моему авторитету добавила работа по получению Знака качества, эта же работа в конечном итоге много дала мне и в плане понимания того, как устроено бюрократическое управление СССР, да и вообще любой крупной организации. А началось все, как всегда — мне опять начали всучивать работу, за которую я по своей должности не отвечал.
Где-то в октябре 1977 года Парфенов меня «обрадовал», что Топильским решено всю работу по получению заводом Знака качества возложить на меня. Меня эта новость страшно возмутила, и я начал готовить доводы для того, чтобы от этой обузы отбиться. Поясню ситуацию, чтобы вы меня поняли.
СССР к этому времени представлял собою всадника без головы, поскольку после смерти Сталина в стране уже не было вождя, способного самому разобраться в тех или иных стратегических вопросах развития страны. Во главу страны попадали по сути своей мелкие люди (причем чем выше, тем мельче), не только не желающие по-настоящему вникать в проблемы страны, но по своему умственному развитию и не способные на это.
Тут можно привести один характерный пример: Сталин все свои работы, тексты распоряжений, письма, часть заявлений ТАСС и многое другое писал лично — своей рукой — у него не было никаких спичмейкеров. А вот после него руководители СССР не оставили ни клочка собственных текстов, все им писал их аппарат. И эти руководители, как и сегодняшние, начиная от президента и кончая депутатами Госдумы, нагло уверены, что так и должно быть, что они получают деньги только за то, что подписывают и голосуют, а думать за них должны другие люди. Однако эти другие люди, сведенные в аппарат этих руководителей, физически не в состоянии заменить собою идиота или бездельника во главе организации или в кресле Госдумы, и вот почему.
Представьте себя на месте большого руководителя, и предположим, что у вас в аппарат подобраны десять самых умных, самых трудолюбивых специалистов страны. Но управление так устроено, и по-другому его устроить нельзя, что эти 10 человек будут отвечать за 1/10 вашей работы, они будут специалистами только в 1/10 части того, что поручено вам. А в 10/10 этой работы специалистом должны быть вы, т. е. хотя бы в принципе понимать суть всего, что у вас делается. И если вы идиот, «верящий» аппарату, то ваша организация в конце концов потерпит крах, поскольку будет тем, что я называю «всадником без головы». Но вы еще и не найдете 10 специалистов, а если речь идет о Москве, то у вас, скорее всего, будут 10 таких же ленивых идиотов, как и вы, и, что еще хуже, эти 10 будут иметь степень доктора экономических наук, а от этого их идиотизм, раздутый их амбициями, будет безмерен. Вот в такого всадника без головы вырождался СССР (таким всадником давно уже являются США, но это отдельный вопрос), в такого всадника вырождаются управления всех крупных корпораций, когда умирает их основатель и власть переходит в руки их «политбюро» — президента и совета директоров.
Наверное, Л.И. Брежнев и тогдашнее Политбюро ЦК КПСС хотели что-то хорошее, когда решили поднять качество товаров и услуг в СССР, но они ни в малейшей степени не представляли себе, что такое это самое качество и кому оно нужно. А зачем им было это представлять? Они же не Сталин. У них был аппарат и Академия наук СССР, зачем же членам Политбюро было о чем-то самим думать, если можно поручить думать за себя таким умным людям?
А аппарат и его самая тупая часть — Академия наук СССР в том, что такое качество, понимал еще меньше, чем члены Политбюро. Но для аппарата любое решение Политбюро и по любому вопросу имеет вид различных, двигающихся вниз и вверх бумаг, в которых должны быть вписаны соответствующие числа, дающие возможность контролировать и наказывать нерадивых внизу, а также объяснять начальству вверху свою полезность и необходимость награды.
И вот сидит наверху Брежнев, работать ему неохота, старику бы в домино поиграть, да на охоту сходить, но положение обязывает выдвигать инициативы. Какие проблемы? Свистнул аппарату, а тот и придумал, что в СССР продукция очень низкого качества, а, следовательно, надо его срочно улучшить, и тогда, наконец, мы увидим горизонты Коммунизма. Деду, конечно, не объяснили, что горизонт — это такая линия, к которой идешь, идешь и никогда не дойдешь, посему термин «горизонты Коммунизма» был официально принят советским аппаратом агитации и пропаганды.
Политбюро, само собой, обрадовалось, что появилась, наконец, свежая идея, а то Целина уже была, совнархозы были, борьба за прибыль была, бригады коммунистического труда были, а борьбы за качество еще не было, почему же не побороться? И потребовало Политбюро от аппарата и академиков подготовить ему для принятия соответствующую бумагу. Те соответствующую бумагу и подготовили — такую, которая давала им возможность находиться при этой борьбе, но самим ни за что не отвечать — и Советский Союз начал «борьбу за качество продукции».
Взгляните на этот вопрос со стороны, охватив его в принципе. Качество — это то, что нужно потребителю этого товара, а потребитель очень разный — у каждого свой вкус и свои манеры. Для того, чтобы добиться максимального качества, нужно было убрать всех посредников между производителем и потребителем, которые могут на качество повлиять. Во всем мире таким посредником является оптовик, у которого свои потребности и который резко снижает качество товара. А если этих перекупщиков много, то качество падает катастрофически, поскольку оптовики требуют, чтобы товар имел такой вид, при котором его можно было бы всучить любому покупателю, кроме этого, любой товар должен быть способен очень долго лежать на складе и находиться в пути. Между прочим, такого идиотизма в области качества, который явил нам Запад, в СССР не было.
Возьмите продукты с Запада, ведь в них уже столько консервантов, что о вкусе говорить даже не приходится, поскольку сразу нужно говорить об их ядовитости, но они чуть ли не годами сохраняют «красивый» вид. Но едите-то вы не вид, а продукт.
Немудрено, что на рынках появилась реклама «Колбаса — вкус 60-х!», или я слышал, как продавщица объясняла высокую цену такими основаниями: «Это же настоящая армейская тушенка брежневских времен!» Поскольку в России еще осталось достаточное количество гурманов, привыкших к вкусной советской пище, а не свиней, покорно жующих то, что внушает им жевать реклама, то интересны приемы, которые используют на московских базарах продавцы. Как-то я заглянул за базарные ларьки и увидел интересную картину: женщины рвали сетки на красивых пластиковых коробочках с импортными персиками и высыпали их в грязные ящики из неструганной дощечки — «лэйбл» советских колхозов. После этой нехитрой операции персики выдавались за крымские или узбекские. То же происходило и с помидорами, но только их еще и смешивали по крупности — ведь в советских колхозах овощи никогда не калибровались по размерам. Потом эти помидоры выдавались за ростовские или краснодарские. Для примера, реальные крымские помидоры в сезон стоят порою в четыре раза дороже голландских. Но последние, если соотнести с их ценой нынешнюю среднюю зарплату, стоят в несколько раз дороже тех советских, колхозных помидоров и немудрено, ведь паразитов-посредников нужно кормить, и кормит их потребитель, оплачивая высокие цены.
Кроме того, кормить приходится и производителя упаковки, которую опять-таки заказывает не потребитель, а оптовик для удобства сбыта товара любому случайному покупателю. В результате, в стоимости сигарет уже 70 % занимает стоимость их упаковки, примерно столько же стоит упаковка конфетных наборов — то, что потребитель в лучшем случае просто выбрасывает, если не тратит деньги специально, чтобы от этого мусора избавиться.
В СССР было не так, в Союзе тогда оптовиков практически не было, поскольку Госплан и Госснаб играли роль распределителей товаров, а договора заключались с непосредственными потребителями, если речь шла о промышленных товарах, или прямо с торгующими организациями. Поэтому производитель и потребитель могли договориться о тех параметрах качества, которые их устраивают, и в ряде случаев договаривались. Так что если уж партия взялась бороться за качество, то эту борьбу нужно было вести в направлении максимального сближения производителя с Потребителем и устранения любых посредников между ними. Но Для этого нужно было понимать, что такое качество, а понять это было некому.
Помню такой случай. Представители шведской фирмы, оптово торгующей ферросплавами, энергично пытались занять место на рынке и просили меня продать им партию ферросилиция. Однако у меня не было металла с содержанием алюминия до 1,6 % — такого, какой мы обычно продавали на Запад, но был ферросилиций с содержанием алюминия от 1,6 до 2,2 %. Я предложил им взять его, но оптовик отказывался, боясь, что потребители у него такой «плохой» металл не купят. Я ему объясняю, что алюминий является бракующим элементом при производстве только редких сортов стали, а при производстве остальных марок сталь раскисляется ферросилицием вместе с алюминием. Оптовик — торгаш, в технологии ни бэ, ни мэ, посему мне не верил и боялся. Тогда я слетал с ним в Швецию, поехали на сталеплавильный завод, зашли к снабженцу — покупателю этого оптовика, тот тоже торгаш, тоже не решается брать. Я прошу его соединить меня с главным инженером этого завода, чтобы я смог переговорить с ним на одном языке. Снабженец позвонил своему главному, который спросил, в чем вопрос, а когда понял, тут же разрешил покупать наш ферросилиций даже без встречи со мной. То есть даже добросовестные и работящие оптовики из-за своей некомпетентности и специфических интересов являются серьезнейшей помехой в предоставлении покупателю по-настоящему качественной продукции. В СССР их не было, и это было благо, но у нас был другой страшный бич — бюрократический аппарат управления промышленностью.
Поскольку именно он был даже не посредником, а лжепотребителем, поскольку именно он определял, что именно производить, и ему было плевать, устраивает ли это потребителя или нет. А аппарат руководствовался исключительно формальными показателями, ниже я подробно опишу, как он это делал. Кроме того, каждый член аппарата не хотел отвечать ни за что, поэтому впутывал в любое дело огромное количество согласовывающих инстанций, которые тоже ни за что не хотели отвечать, и в результате с началом борьбы за качество реально улучшить качество становилось практически невозможно. Поймите, мы, работники промышленности, люди конечно разные, но даже самому тупому и ленивому не хотелось, чтобы производимую им продукцию покупатели ругали из-за низкого качества. Ну какая от этого радость? Но как ты улучшишь качество, если даже для изменения формы рукоятки настройки бытового радиоприемника в Москве нужно было получить подписи двадцати чиновников, каждый из которых мог запретить ее менять. Причем обращаю ваше внимание, что все эти чиновники сидели в своих креслах для того, чтобы улучшить качество продукции в СССР, т. е. для того, чтобы у приемников, производимых в СССР, рукоятки настройки были лучшими в мире.
Это, между прочим, свойство бюрократического аппарата управления — если ему что-то поручили улучшить, то он это обязательно ухудшит, но об этом не в этой книге.
Подведем итоги. Государственный аппарат СССР начал улучшать качество продукции, и у него сразу же возник вопрос — а как начальство узнает, что аппарат качество продукции улучшил? За что премии и ордена получать-то? И аппаратом была придумана такая блямба, которая должна была ставиться на изделия или на документы к этому изделию, и называлась эта блямба «Знаком качества» или «почетным пятиугольником». Продукция с этой блямбой считалась качественной, но сам аппарат и наша доблестная отечественная наука, сознавая свою глупость, громко об этом заявить стеснялись. Посему на всякий случай вместе с учреждением Знака качества вышел запрет проставлять эту блямбу на продукцию, поставляемую за рубеж. Оно и понятно — высмеют иностранцы то изделие, которое лучшие научные умы СССР признали качественным, дойдет этот смех до Брежнева, а тот возвопит: «Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!» — и полетят со своих кресел аппаратные борцы за это самое качество продукции. А кому оно надо?
Так что эта блямба была только для внутреннего применения, но тут она была необходима каждому предприятию, вот мне и поручили получить ее для нашего завода.
Личная просьба
Мне же заниматься «Знаком качества» категорически не хотелось, и тому было несколько причин.
Первое. Если бы речь шла о том, чтобы исследовать качество наших ферросплавов и найти, какие параметры нужны нашим потребителям, то это мое, а доказывать, что уже выпускающаяся продукция какая-то очень качественная — это техотдел завода.
Второе. Если бы речь шла о том, как достичь каких-то параметров качества, заложенных в ГОСТах или техусловиях, то это мое — это металлургическая лаборатория, но разрабатывать технические условия, согласовывать их с потребителем и утверждать в Госстандарте — это техотдел завода.
Далее. Меня только что назначили начальником метлаборатории, и пары месяцев не прошло, как меня прекратили назначать диспетчером, а тут снова «не мытьем, так катаньем»?!
Кроме того. У меня родился сын, мы с женой были очень далеко от родителей и родственников, опыта обращения с младенцем не имели, нам было по этой причине очень трудно, а получение «Знака качества», что было очевидно, требовало длительных командировок, следовательно, требовало от меня надолго бросать жену одну с ребенком.
Ну, и наконец. Задание получить в текущем году «Знак качества» завод получил еще в прошлом году. В техотделе этим вопросом должна была заняться Марина Александровна — жена Топильского. Она была хорошим работником, но как работники женщины хороши тогда, когда знают, что делать, а тут дело было совершенно неизвестным. В таких случаях должен был включиться начальник Марины Александровны — начальник техотдела Шмельков, но он на заводе был пустым местом и протеже Топильского. Таким образом, эта компания дотянула время до конца года, расписалась в своем бессилии, и когда времени уже не осталось, Топильский вспомнил, что раз Мухин в свое время хорошо поработал за его любовницу, то пусть теперь он поработает и за жену с приятелем.
Вот это все я хотел объяснить Топильскому, когда он меня вызовет, чтобы дать задание, но он меня не вызывал, меня вызвал Друинский. Сказал он примерно следующее:
— Я знаю, что это не твоя работа, но кому еще я ее могу поручить?
Я прикинул. Действительно, штат технических служб завода был очень маленьким, Топильский не принимал мер к его увеличению, и Друинскому и в самом деле не из кого было выбирать исполнителя этого задания.
— Дело не только в том, что весь завод с будущего года будет лишен существенной премии, — продолжил Друинский, — во всей области нет ни грамма продукции со «Знаком качества», и если мы свою не аттестуем, то обком партии меня с говном сожрет.
Вот это тогда оказалось для меня наиболее убедительным аргументом — мне очень не хотелось, чтобы обком сожрал Друинского. Очень не хотелось! И я не стал тратить времени на отговорки: если есть такое дело, нужное заводу и лично Друинскому, значит, его нужно сделать!
Мой московский анабазис
Не ищите это слово в словаре — там его смысл не тот, что я имею в виду. Студентом я каждую сессию читал две книжки: «Двенадцать стульев и Золотой теленок» и «Приключения бравого солдата Швейка» — мне нравилось, как они написаны и, читая их, я снимал стресс от экзаменов. Причем «Приключения…» я читал в переводе на украинский, я и сейчас считаю, что он лучше, чем перевод на русский. В «Приключениях…» есть Глава 2 с названием «Будейевицкий анабазис Швейка», а в ее начале есть объяснение слову анабазис: «Идти без устали вперед, пробираться незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелями, которые ждут первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею, и идти вперед, не зная страха, — вот что называется анабазисом
У кого голова была на плечах, как у Ксенофонта или как у разбойников различных племен, которые пришли в Европу Бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей, — те совершали в походе прямо чудеса». Вот так и я с берегов Иртыша совершил набег на Москву в поисках «Знака качества» для своего завода. Но начнем сначала и по порядку.
Кампания со «Знаком качества» только начиналась, никто толком не знал, что нужно делать, чтобы его получить, но, по наивности, многие низовые работники считали, что речь идет о какой-то такой-разэдакой продукции, которую они пока не производят и которую нужно будет производить когда-то в будущем. Не скрою, что до момента, пока мне эту работу не всучили, так считал и я. После принятия задания к исполнению, мне уже было не до этого — надо было получать «Знак качества» на ту продукцию, которую мы производили, — на разработку какой-либо новой продукции времени уже не было. А тут у нас была неразрешимая проблема, скрытая в методах, которыми пользовался аппарат для определения продукции, достойной «Знака качества».
Делалось это так. На продукцию со «Знаком качества» нужно было разработать свои технические условия, а затем параметры этих условий сравнивать с такими же параметрами, заложенными в отечественных стандартах на эту же продукцию, но без «Знака Качества», и (что нам было особенно тяжело) со всеми иностранными стандартами. Сначала брались полезные параметры, например, содержание ведущего элемента в сплаве, и сравнивались с этим же параметром во всех остальных стандартах. Положим, в остальных стандартах содержание ведущего элемента 60 %, а в техусловиях, которые мы аттестуем на «Знак качества», мы гарантируем его содержание 66 %, следовательно, 66 делилось на 60 и получался коэффициент 1,1, т. е. продукция со «Знаком качества» по этому параметру на 10 % превосходила простую продукцию. Затем брались бракующие параметры, положим, в обычной продукции содержание серы допускалось не более 0,06 %, а мы обещали иметь серы в сплаве со «Знаком качества» не более 0,05 %, т. е. превосходили стандартные параметры на 0,06: 0,05 =1,2 или на 20 % относительных. Затем все эти коэффициенты складывались и высчитывался средний (в нашем случае (1,1+1,2):2 = 1,15). Если этот коэффициент был больше единицы, то продукция могла претендовать на «Знак качества», а если он был меньше единицы, то не могла.
А наш завод производил два типа сплавов: углеродистый феррохром и ферросилиций. С феррохромом положение было такое. Заводы СССР плавили лучший в мире углеродистый феррохром по всем параметрам, но препятствием к его аттестации на «Знак качества» был свой отечественный ГОСТ. Когда-то, еще в середине прошлого века, хромовые руды были кусковыми, и это давало возможность производить углеродистый феррохром с содержанием углерода до 6 %. Однако потом пошли в разработку руды мелкие, на которых до 6 % углерода невозможно было получить, поэтому были разработаны технические условия как бы на низкокачественный углеродистый феррохром с содержанием углерода до 8 %, эта марка вошла в ГОСТ, а потом требования к содержанию углерода еще более снизились и новые техусловия позволяли поставлять потребителю продукцию и с более высоким углеродом. Поэтому, чтобы разработать техусловия на углеродистый феррохром со «Знаком качества», нужно было заложить содержание углерода меньше, чем в существующем ГОСТе, а там оно было, как я написал выше, не более 6 %, хотя эти 6 % углерода уже ни один завод в СССР или на Западе получать не мог. Следовательно, феррохром как претендент на Знак качества отпадал сразу же.
Что же касается ферросилиция, то тут все дело рубили американские стандарты на этот сплав. Американцы получали ферросилиций из очень чистого сырья — кварцевой гальки, поэтому у них в сплаве алюминия было очень мало, а это, как я уже сказал, был бракующий элемент. И нам с нашими кварцитами, как ни ухитряйся, а получить ферросилиций с таким низким алюминием было невозможно, не говоря уже о том, что он нашим потребителям и даром не был нужен. Короче, куда ни кинь — везде клин, не было на заводе продукции, которую можно было бы аттестовать на «Знак качества» по тем правилам, которые разработали для этого лучшие научные умы СССР. Поэтому я не могу сейчас вспомнить, кто именно предложил аттестовать ферросилиций ФС-65, может быть, и я, хотя в те годы я еще мог и не быть таким циником. А может, А.С. Рожков, инженер опытный и расчетливый, но мне почему-то кажется, что это предложил сам Друинский. Как бы то ни было, но это была исключительная наглость, правда, это мало кто понимал.
Напомню, что сталеплавильщики для получения стали используют две основные марки ферросилиция: ФС-45, со средним содержанием 45 % кремния, и ФС-75 с 75 % кремния. Но экономически выгодно плавить ферросилиций в закрытых печах, а в них стабильно получать сплав с 75 % кремния невозможно. Вот был и придуман суррогат 75-процентного ферросилиция — ФС-65 с 65 % кремния. На Западе главное прибыль, и им наплевать на плановое снижение себестоимости и экономию: надо покупателю сплав с 75 % кремния, значит, они его плавят в открытых печах. И плевать им на цену и на загрязнение окружающей среды, поскольку потребитель все равно возьмет, куда денется, а если «зеленые» начнут сильно возмущаться, то Запад перенесет производство в Бразилию или Африку. Соответственно, ни в одном западном стандарте марки ФС-65 не было. А это исключало сравнение нашего ФС-65 с этими стандартами и, следовательно, исключало сравнение по заведомо непреодолимому для нас параметру — по алюминию. Но для того, кто был в курсе дела, наше решение аттестовать на «Знак качества» ФС-65 выглядело как намерение людей, производящих сосиски из сои, доказать, что эти сосиски вкуснее сосисок из мяса.
— А куда нам было деваться? Министерским умникам надо бы-бы думать, кому они дают план по производству продукции со «Знаком качества», и, кстати, они там в Москве обязаны были сами разработать техусловия на такую продукцию и включить нам ее в производство. А эти бездельники разверстали план по производству ферросплавов со «Знаком качества» равномерно по заводам, а нам фактически приказали: «Вы там, внизу, сами выкручивайтесь, как хотите — сами выбирайте, какую вам продукцию аттестовать на «Знак качества», и сами езжайте в Москву в Госстандарт, и сами там доказывайте, что ваша продукция достойна этой блямбы. А мы, министерство, с вас только премии будем снимать, если у вас это не получится». Вот нам и приходилось выкручиваться.
Была еще одна пикантная деталь. Бред со «Знаком качества» только начинался, и план по этой продукции был очень низким, где-то в пределах 1–3 % от общей выплавки, а ФС-65 в общей выплавке завода занимал чуть ли не половину. То есть, если наш завод аттестует ФС-65, то не только мы, но и выплавлявшие ФС-65 Запорожский, Стахановский, Кузнецкий ферросплавные и Челябинский электрометаллургический комбинат тоже получали эту блямбу и надолго забывали об этой проблеме. Вот такую работу мне всучили, не оставив времени на ее выполнение.
Прежде всего я засадил всех своих женщин в метлаборатории за статистические расчеты, мы взяли в работу выплавку ФС-65 за пять лет и определили средний реальный химсостав этого сплава. По ГОСТу в нем допускалось не более 2 % алюминия, а реально 95 % плавок имели алюминий ниже 1,5 %. Я взял для технических условий ФС-65 со «Знаком качества» предел в 1,6 % и получил по этому параметру по сравнению с ГОСТом приличный коэффициент в 1,25. Так же поступил и с остальными элементами, и на бумаге у меня все получилось великолепно. Для дураков, разумеется.
Но теперь осталась главная проблема — а как аттестовать? Инструктивные документы по этому вопросу были противоречивы и написаны в общем. И у нас, и в только что организованной в Павлодаре структурной единице Госстандарта — Лаборатории госнадзора(ЛГН). Начал наводить справки и выяснил, что из десяти заводов нашего главка к этому времени только на Челябинском электрометкомбинате аттестовали какой-то экзотический ферросплав, который во всем мире только этот комбинат и получал. Но главное было в том, что он аттестовал, а значит, знает, как это делается.
Вылетел в Челябинск, но в ЧЭМКе выяснил, что они, хитрые бездельники, сами ничего не делали, а наняли для аттестации на «Знак качества» научно-исследовательский институт, оплатив ему по хоздоговору этот подвиг. Поехал я в этот институт, нашел исполнителя, он оказался прекрасным мужиком и за рюмкой чая подробно мне все растолковал. Самым тяжелым был этап сбора подписей в Москве, если мне память не изменяет, всего надо было пройти 28 инстанций, из которых с десяток могли тебя завернуть навсегда. Я кратко записал характеристики каждой инстанции: «хороший мужик», «дура» или «говно страшное» — т. е. подготовился основательно. Тяготили меня сроки, поскольку мужик сказал, что нужно реально смотреть на вещи, а реальность такова, что заводские работники на прохождение этих инстанций даже с помощью своих министерств затрачивают в среднем два месяца. (Напомню еще раз, что у меня родился первенец, мы с женой был неопытны, и самые простые проблемы младенца у нас были головной болью. Помню, сидишь на заводе, нервничаешь, и вот, наконец, звонок жены: «Ваня покакал», — ага, теперь можно работать спокойно. Поэтому уезжать из дому на два месяца мне очень не хотелось, но куда денешься?) Правда, этот мой учитель похвастался, что он установил рекорд Советского Союза и однажды прошел все московские инстанции за 19 дней. Это, конечно, вселяло надежду, но он был дока в этом деле, а мне предстояло делать его в первый раз…
Вернулся домой и быстро дооформил все бумаги. Первым этапом была аттестация сплава на заводе комиссией, на которую надо было вызвать представителя своего главка, отраслевой науки и потребителей, председателем комиссии был начальник Павлодарской ЛГН. Были последние числа октября, и я прикинул, что, если я буду созывать эту комиссию до Октябрьских праздников, то никто из членов комиссии не приедет, и билеты на Павлодар могут не купить и побоятся засесть на праздники в Ермаке из-за отсутствия обратных билетов. Поэтому я подготовил телеграммы с вызовом членов комиссии на заседание на 10 ноября. Получив их подписи, я мог бы вылететь прямо В Москву числа 12-го и сразу приступить к прохождению московских инстанций. Телеграммы должен был подписать Топильский, который до этого даже не интересовался, как идут дела по аттестации на «Знак качества». И вдруг этот козел своей рукой исправляет в телеграмме дату на 5 ноября! Мы только руками развели — откровенный враг завода на такое бы не решился! Я пошел к нему, и этот урод мне выдал, что я бездельник, специально затягиваю аттестацию, и что он найдет на меня дубину. Ну что будешь делать с этим идиотом?
Естественно, что 5 ноября ни один член комиссии не прилетел, Друинскому через обком удалось уговорить председателя утвердить акт, в котором не было ни единой росписи членов комиссии! Теперь я должен был вылететь на все эти заводы и там подписать акт у каждого члена комиссии в отдельности. Была еще трудность: узнав из телеграммы, что именно мы хотим аттестовать на «Знак качества», возмутился главк — специалисты хреновы. Оттуда позвонили и сказали, что они на завод вообще не выедут и в комиссии участвовать не будут, потому что мы этот сплав никогда не аттестуем, потому что он не годен, потому что он суррогат и т. д. и т. п., в общем, сплошное горе от ума. Так что начинать мне надо было с Москвы, там подавить панику, а потом уже возвращаться в Свердловск, Челябинск, Магнитогорск, Орск и Волгоград для сбора подписей остальных членов комиссии, а затем снова лететь в Москву для прохождения этих 28 инстанций.
Купить билет на Москву на 9 ноября я не смог, рано утром зашел к Друинскому. Завод на все авиарейсы держал бронь, но распоряжался бронью сам Топильский — дефицит, однако. Я попросил Друинского позвонить Топильскому, чтобы он бронь на московский рейс отдал мне. Михаил Иосифович через громкоговорящую связь попросил об этом Топильского, последовала пауза, а затем голос Топильского проскрипел: «Пошли Мухина ко мне, я ему сейчас дам пинка под зад, и он быстро в Москве окажется». Друинский со злостью отключился, а я поехал в аэропорт. Так начался мой анабазис.
(Как, наверное, и многие я пытался понять логику амбициозных идиотов и пришел к выводу, что это бесполезно. Вот, скажем, Топильский поиздевался надо мною, поскольку вряд ли у него была цель помешать заводу получить «Знак качества», а себе премию. Но кто я был такой, чтобы получать удовольствие от издевательства надо мною? Неужели от этого кайфа было больше, чем Вальку П-ву на столе трахнуть? Зачем на издевательство надо мною надо было тратить свое время? Какой логикой это можно объяснить?)
В те годы, напомню, советские люди летали в десятки раз больше, чем сегодня, поэтому покупать билеты на самолет надо было заранее. Но перед отлетом всякое случалось — кто-то откажется от поездки, у какого-то предприятия окажется неиспользованной бронь, — и после окончания регистрации на рейс работники аэропорта сообщали в кассу количество свободных мест в самолете, и касса реализовывала обычно 2–3 билета. В расчете на эту удачу я и поехал в аэропорт, но на московский рейс не оказалось ни одного свободного места. Не было мест и на Омск, через который пролегали трассы многих авиалиний с востока на Москву. Я решил пересмотреть программу и сначала объехать заводы и собрать подписи членов комиссии там. Поехал на вокзал и взял билет на поезд до Орска.
Не буду описывать свои поездки по заводам Урала, скажу только, что это провинция, а, следовательно, деловые и приветливые люди. Как только я в нужном городе созванивался с тем, кто должен был подписать мне акт, то меня спрашивали, устроился ли я в гостиницу, и тут же занимались этим вопросом. А после мы встречались, и все дело занимало ровно столько времени, сколько требовалось расписаться в том месте, в котором я укажу, да покалякать на разные темы. Даже наука в провинции имела деловитый вид. Мне нужно было взять подпись профессора Щедровицкого — очень видного ученого в нашей области. Я приехал в воскресенье и позвонил ему домой, чтобы узнать, сможет ли он принять меня в понедельник в институте. Старик, однако, тут же пригласил меня к себе, напоил чаем с бутербродами, подробно расспросил о заводских проблемах и, конечно, подписал злополучные бумаги. Так что я смог вечером сесть на поезд, поспать в вагоне и утром в понедельник прибыть в заводоуправление легендарной Магнитки. Там тоже проблем не было: я подписал акт и приехал в аэропорт Магнитогорска, купил билет на Волгоград… и тут началась черная полоса.
Рейс отложили на один час по метеоусловиям Волгограда, затем еще на час, еще, еще и так до 12-ти ночи, когда рейс отложили до 6 утра, затем на час, еще на час и так до 12-ти ночи, а с 6 утра на час и т. д. В четверг я не выдержал и не столько ночевок на подоконниках, сколько этой дикой потери времени и взял билет туда, куда самолеты летели — в Оренбург. Оттуда поездом в Саратов, там пересел на волгоградский и в субботу был в этом городе-герое. Телефона члена комиссии у меня не было, я позвонил диспетчеру завода, и тот тут же устроил меня в гостиницу. В воскресенье я осмотрел Мамаев курган и то, что в Волгограде нужно посмотреть в первую очередь, а в понедельник утром получил нужную подпись и поездом поехал в Москву, так как аэропорт Волгограда по-прежнему не работал.
В Москве техотдел главка начал возмущаться, что мы авантюристы, что мы опозоримся с аттестацией ФС-65, что они не будут подписывать эти филькины грамоты и т. д. и т. п. Я им сообщил, что с удовольствием вернусь домой, если они снимут с завода план по «Знаку качества» до тех пор, пока сами не аттестуют на этот знак какой-нибудь ферросплав, который мы и будем выплавлять. Короче, бумаги мне подписали, сообщив, конечно, который раз в жизни, что я нахал и что с начальством так не разговаривают. Но заниматься гостиницей для меня категорически отказались: дескать, они меня в командировку не вызывали, а из того, что мы затеяли, все равно ничего не получится, поэтому я бесполезно потеряю время и деньги.
Тут следует сказать, что ходить с этими бумагами от инстанции к инстанции я не только не был обязан, но и не имел права — я обязан был послать эти бумаги по почте, и инстанции сами пересылали бы их друг другу. Но мало того, что это заняло бы полгода при благоприятном развитии события, но эти инстанции могли и отказать, а вот тогда дело очень осложнялось — если начальство уже сказало «нет», то убедить его сказать «да» становится трудно до невозможности. Поэтому мы и не воспользовались почтой, поэтому завод и послал с этими бумагами меня, на заводском жаргоне «приделал бумаге ноги».
И начал я преодолевать инстанцию за инстанцией. Из двух десятков московских «специалистов», отметившихся в документах по аттестации ФС-65 на «Знак качества», был только один мужик, бывший заводчанин, который знал, что такое ферросплавы и ферросилиций, и, кстати, именно он был «хороший мужик» и много мне впоследствии помог. Остальные московские «специалисты» были такие дубы, что хоть плачь, хоть смейся. Скажем, в каком-то институте стандартизации баба, естественно, кандидат технических наук и начальник отдела металлургии, упорно называла ферросилиций «феросалицидом», видимо, путая его с аспирином, а когда, наконец, нашла ГОСТ на него, то отказалась подписывать бумаги на том основании, что в нем всего 65 % кремния, а в ГОСТе есть и марка ФС-90, в которой 90 % кремния. При виде такого идиотизма я сначала не знал, что ей сказать, но потом быстро нашелся: «Поймите, в водке 40 % спирта, а в пиве всего 4 %, но это же не значит, что пиво нельзя аттестовать на "Знак качества"». Тетка не нашлась, что ответить, и подписала бумаги со словами: «Я подпишу, но дальше вас все равно не пропустят». И, понимаете, вот такие «специалисты» определяли техническую политику СССР, а потом они же в первых рядах перестройщиков орали, что при проклятом социализме они не получают зарплату «как на Западе».
Наконец, я дошел до инстанции, которая в моем списке стояла с пометкой «говно страшное». Это был директор какого-то учреждения Госстандарта, после его подписи мне в этом учреждении должны были заполнить красивое свидетельство о том, что сплаву ФС-65 присвоен Знак качества, и это свидетельство нужно было везти на подпись самому председателю Госстандарта, имевшему ранг министра СССР. Здание этого учреждения, как мне помнится, имело вид какого-то бывшего предприятия, окна были сплошные и в двух метрах от пола, кабинеты директора и зама имели частично остекленные внутренние стены и разделялись приемной с секретарем. Я сел в приемной дожидаться, когда «говно страшное» меня примет, в это время директор вызвал к себе зама и при открытых дверях начал его поносить самым хамским образом, фактически на глазах секретаря и посетителя. Зам, который и по годам был значительно старше, покорно молчал. Затем дошла очередь и до меня. Как и предполагалось, этот козел сделал вид, что взглянул на мои бумаги, и начал орать, что он такую туфту не подпишет, что партия и правительство взяли курс на повышение качества и т. д. и т. п. После чего он мою папку швырнул в находившуюся в кабинете сбоку от входной двери кучу таких же папок, а их, на глаз, было в этой куче штук 500. Но я заметил, в каком именно месте моя папка приземлилась. После чего этот хам меня выпроводил.
Ситуация была ясная. Это безграмотный и тупой кретин, которого как блатного начальственные родственники посадили на это место. Он лично ничего не понимает и не знает, посему боится принимать решения, за которые ему пришлось бы нести ответственность. Избегает он ответственности именно таким способом — он тормозит все дела подряд, а затем ждет, когда ему позвонит какой-нибудь министр или иное начальство по какой-нибудь конкретной продукции. Получится, что это начальство возьмет на себя ответственность за определение того, качественная это продукция или нет, после чего «говно страшное» бумаги по этой продукции подпишет. А если начальство не позвонит, то он через некоторое время выразит «сомнения» и отошлет их с отказом. Стало ясно, что единственный путь протолкнуть наши бумаги через это «говно» — это ехать в главк и просить, чтобы начальник главка, а лучше какой-нибудь заместитель министра черной металлургии позвонил в это учреждение и походатайствовал за наш ФС-65.
Начальник техотдела главка Герман Васильевич Серов мужик был неплохой, но в плане «Знака качества» он был мой политический противник, поэтому, когда я начал уговаривать его упросить кого-либо из министерского начальства похлопотать за нас, то он и слушать меня не захотел.
А надо сказать, что по приезде в Москву я заболел странной болячкой. С утра все было ничего, но как только я начинал ходить по московским учреждениям, у меня на коже начинали вспухать пятна вроде тех, которые появляются после ожога крапивой или комариных укусов. Начиналось все с подъема стопы, затем пятна ползли по ногам вверх и к концу дня начинали вспухать на лице. Зеркала я с собою не носил, но догадывался, что вид у меня становился ужасненький. И вот как раз во время разговора с Серовым у меня начало распухать лицо, я это понял по тому, что увидел, как очки у меня сами поднимаются вверх — это значит, уже начал распухать нос. Серов сначала в своем раже доказывания нашей глупости этого не заметил, а когда увидал, то перепугался. Я объяснил ему, в чем дело, и попросил не волноваться, поскольку к вечеру эта штука пройдет. Но это возымело обратный эффект, он начал материть мое начальство, которое послало в такую командировку больного человека, тут же попытался дозвониться до завода, чтобы потребовать отозвать меня домой телеграммой, начал убеждать меня срочно улетать домой, так как я и так уже сделал больше, чем кто-либо другой. Короче, он проявил ко мне искреннее участие, которое мне и на хрен было не нужно — мне нужно было, чтобы он убедил кого-либо позвонить тому уроду, а этого Серов делать не хотел.
Но по сути он был прав — я и так сделал все, что мог. Утром я выехал из Ясенево, где ночевал у родственников, на аэровокзал, чтобы купить билет на Павлодар, но не выдержал и снова поехал к этому «говну страшному». Никакого плана не было, я просто хотел еще раз с ним переговорить — а вдруг? Вдруг он встал с «той ноги» или съел чего-нибудь? Вхожу в ту контору, а он выходит мне навстречу… Но все же я поднимаюсь в его приемную и здесь сложилась такая ситуация, что я начал действовать по вдохновению. Когда я входил в приемную, небольшую комнату, из кабинета директора вышла секретарша и оставила двери в кабинет открытыми, я поздоровался, она что-то буркнула, взяла бумаги и пошла в кабинет зама. И тут я немедленно сделал несколько шагов, быстро вошел в кабинет директора, подхватил из кучи папку со своими документами и снова положил ему на стол — прямо на центр стола, а не в корзину «входящие». Тут же вышел и сел на стул для ожидающих приема. Первоначально я хотел, чтобы тот козел еще раз увидел мои бумаги, но поскольку первые шаги авантюры получились, то возник соблазн воспользоваться тем, что зам этого директора безвольная тютя.
Вернулась секретарша и объявила, что директор срочно вызван в Госстандарт, я сделал удивленный вид и попросился к заму, зам согласился меня принять. Я зашел и с деловым видом сообщил, что мой министр — министр черной металлургии СССР — вчера звонил директору и тот пообещал министру, что сегодня утром к 10–00 будет выписано свидетельство на ФС-65, я приехал, чтобы срочно отвезти его председателю Госстандарта, а директора нет! Зам растерялся, начал говорить, что директора срочно вызвали в Госстандарт, что он ничего про это не слышал. Я попросил его посмотреть в кабинете директора, может быть, свидетельство готово и у него лежит? Зам пошел, я за ним, подошли к столу директора, и я уверенно указал на свою папку: «Так вот же эти документы лежат, он, наверное, не успел распорядиться». Зам растерянно взял со стола папку, а ее расположение на столе говорило, что с ней работали, начал звонить в Госстандарт в тот отдел, куда поехал директор, но тот еще не доехал, а сотовых, слава богу, еще не было. Я же начал делать прозрачные намеки, что в порядочной конторе, если обещают министру СССР, то это обещание выполняют, и что отсутствие директора — это не оправдание, поскольку замы для таких случаев и существуют. Зам совсем растерялся, подписал мне бумаги, вызвал исполнителей и распорядился отложить другие работы и срочно выписать мне свидетельство.
Я сбегал в буфет, купил шоколадки исполнительницам и стоял над их душой, чтобы они ни минуты не потеряли — надо было успеть до возвращения директора, иначе тот мог бы прервать эту мою импровизацию. Успел, и когда со свидетельством в портфеле выскакивал из этой конторы, то в дверях вновь столкнулся с уже возвращающимся директором, тот взглянул на меня удивленно, и это прибавило мне прыти — я остановил такси и помчался в Госстандарт.
Но там «хороший мужик» вылил на меня ушат холодной воды: председатель Госстандарта уехал в командировку за границу, а оставшийся за председателя первый зам такая скотина, что еще никому не подписал свидетельства, и ему его лучше не носить, поскольку если он откажется подписывать, то потом уже и председатель не подпишет. «Хороший мужик» меня успокаивал, предлагал уезжать, а через неделю, когда вернется председатель, он сам занесет к нему свидетельство, подпишет его и Вышлет на завод. Деваться было некуда — это было единственное разумное решение, но меня глодала мысль — а что будет, если очухаются в той конторе, которую я только что объегорил?! Я попрощался с «хорошим мужиком» и, оставив ему свидетельство, спустился в вестибюль.
Одеваюсь в гардеробе и слышу разговор двух посетителей о том, что первый зам председателя Госстадарта, к которому один из них приехал, сегодня утром выехал в командировку на Урал. Ага! Снимаю пальто и снова поднимаюсь к «хорошему мужику»: «Если и первого зама нет, то обязанности председателя исполняет очередной зам. А он как?» Тот меня с полуслова понял: «Этот нормальный мужик. Иду к нему!» Возвращается, говорит, что договорился, но этот зам не хочет расписываться «через палочку» на фамилии председателя. Я нашел лезвие, аккуратно (насколько смог на защищенной бумаге) стер фамилию председателя и впечатал фамилию зама. «Хороший мужик» сходил и принес мне свидетельство уже подписанное и с печатью.
Все!
Мне надо было бы радоваться, но я был какой-то опустошенный, и у меня появилось такое чувство, как будто я от этой мутоты сильно устал и вот теперь, наконец, могу расслабиться. Я начал считать дни, которые заняло у меня прохождение московских инстанций — их оказалось 9. Это был новый рекорд Союза, но для меня лично он подтверждал только то, что я и так знал — победы добьешься только тогда, когда будешь упорно ее добиваться. Я и сам не понимаю, почему я в этом деле так уперся? Да, речь шла о премиях для моего завода, для моих друзей, да, речь шла о том, чтобы снять неприятности с главного инженера, но, думаю, главным было то, что мне очень неприятно было сознавать себя побежденным — мне просто не хотелось сдаваться.
Был четверг, часа 4 пополудни. Билет на самолет еще можно было купить в кассе Аэрофлота в Минчермете, и я поехал туда. Билеты были, и я поднялся в техотдел главка, сказал Серову, что завтра улетаю, и попросил разрешения позвонить на завод. Он разрешил, а поскольку вид у меня был усталый, то стал успокаивать тем, что я молодец, что на самом деле я сделал все, что мог, но невозможное никто не в силах сделать, и что когда он будет разговаривать с Друинским и Топильским, то обязательно меня отметит и т. д. Я в это время соединился с телефонисткой завода и попросил ее найти Друинского, она связала меня с ним, и я доложил, что свидетельство получено и что я прилетаю в субботу утром. Шеф сказал мне что-то хорошее, я попросил его, чтобы он разрешил телефонистке соединить меня с домом и он распорядился. Телефонистка, пока соединяла, успела меня обругать, сказав, что она соединила бы меня с женой и без Друинского (работая диспетчером, я хорошо познакомился со всеми связистками завода), я переговорил с женой, положил трубку и вдруг вижу, что Серов смотрит на меня, открыв рот.
— Ты, что, действительно получил «Знак качества» на ФС-65? Покажи!
Я вынул из портфеля свидетельство и дал ему, он пробежал его глазами и потащил меня в кабинет начальника главка Р.А.Невского. От него как раз выходил начальник техотдела Челябинского электрометкомбината. Невский, увидев наше свидетельство, возбудился, скомандовал челябинца вернуть и, тыкая ему нашим свидетельством, чуть ли не кричал.
— Вы! Трижды орденоносные! — на самом деле ЧЭМК имел один орден, но Невский таким образом утрировал разницу между нашими заводами. — Аттестовали на «Знак качества» всего полпроцента своей продукции, а захолустный Ермак аттестовал 40! Учитесь! — тут он распорядился срочно сфотографировать свидетельство и ткнул в меня пальцем. — Его не забудьте премировать!
(Это замечание было дельным, поскольку я вытащил весь главк в передовики по «Знаку качества», а в радостной суматохе дележа премий именно обо мне и могли забыть. Как бы то ни было, но я получил, может, и не самую выдающуюся в денежном выражении премию, но редкую по своему названию — «в размере месячного оклада».)
К утру следующего дня я очухался, и настроение было радостное — я бегал по магазинам Москвы, скупая гостинцы. Помнится, у Елисеевского на улице купил большой ананас, накупил апельсинов и бананов, всяких мясных деликатесов и великолепных московских конфет, в гастрономе на Арбате купил импортной выпивки, в основном, из-за вычурных бутылок, затарился на все 20 кг, разрешенных к бесплатному провозу Аэрофлотом. Весь день я все ожидал, когда же начнется приступ моей болезни, но он не начинался!
И вот вечером сижу я в Аэровокзале и жду объявления регистрации на мой рейс, а вместо этого объявляют, что по техническим причинам вылет на Павлодар задерживается на один час. И я немедленно почувствовал, как у меня начинают распухать ноги. Правда, задержка действительно была на один час, выше коленей опухоли не дошли, и это был последний приступ этой болячки. Дома жена тут же погнала меня в заводской профилакторий, там эскулапы, наверное, так и не поняв, что это было, искололи мне весь зад и все вены витаминами, а затем протащили через все процедуры. В результате (хотя кое-какие проблем с кожей остались) все же залечили эту болезнь, и она ко мне больше никогда не возвращалась, несмотря на то, что в последующей жизни стрессы, конечно, были и посильнее стрессов от моего московского анабазиса.
Самолет прибыл в Павлодар на час позже, я иду в здание аэропорта с досадой, что опоздал на прямой автобус до Ермака, и вдруг меня останавливает улыбающийся Иван Белоусов, личный водитель Друинского. Борт, выполнявший рейс Москва — Павлодар, дальше выполнял рейс Павлодар — Алма-Ата, и я решил, что Друинский вылетает в командировку в Алма-Ату, раз его водитель в аэропорту. Только хотел об этом спросить, а Иван объявляет:
— Михаил Иосифович послал меня встретить тебя и довезти до дому.
Я был тронут.
Качество
Вышеприведенный рассказ о добыче мною «Знака качества» для завода и отрасли требует от меня высказаться по вопросу качества продукции Ермаковского завода ферросплавов несколько подробнее.
За качеством продукции следил отдел технического контроля, а основные параметры качества — химсостав — определяла мощная химико-аналитическая лаборатория ЦЗЛ, в которой к моему времени сформировались прекрасные по своему умению работать кадры. Кроме того, нужно учесть чистоту людей на заводе: у нас были общие понятия, что подлости делать недостойно, а сунуть потребителю брак вместо товара это, согласитесь, подлость. Не хочу сказать, что никто не пытался это сделать, да я уже и писал о подобном случае с ФС-20, но такие случаи пресекались решительно именно в силу того, что рвачество не поддерживалось основной массой работников. У нас бывали периоды, когда тот или иной цех к концу месяца испытывал нехватку небольшого количества готовой продукции, чтобы выполнить план и получить премию. В этом случае оприходывалась, так называемая «незавершенка» — продукция, которая при нормальном положении должна была бы уйти в первый день следующего месяца. Но брак, который мог бы спасти план и премию, потребителю не отправлялся: обычные в производстве плавки ферросплавов с отклонениями по химсоставу (брак) возвращались на печи и постепенно переплавлялись. Повторю, скорее всего, какие-нибудь не выявленные начальством случаи и были, но когда я начал работать на заводе, они рассматривались как крайне негативные. Друинский поставил дело качества продукции на бескомпромиссные основы, и о том, что может быть как-то иначе, даже и не помышлялось.
Кроме этого, ЕЗФ был раз в десять мощнее среднего ферросплавного завода на Западе, сырье получал с очень крупных советских предприятий в огромных объемах, а это обуславливало хорошее усреднение сырья и, следовательно, мы могли получать ферросплавы с очень стабильным химсоставом, что для наших потребителей-сталеплавильщиков было особенно ценно. Кроме того, получив задание обеспечить ферросилицием литейные цеха автомобильного завода в Тольятти, завод построил в цехе № 4 дробильно-сортировочный узел, который давал потребителям ферросилиций с заданным разбегом размера кусков. По качеству своей продукции мы без проблем удовлетворяли любого массового потребителя, даже самого требовательного.
В начале 80-х завод получил из нашего главка, точнее Всесоюзного производственного объединения (ВПО) «Союзферросплав» сообщение, что в нашем 45 %-ном ферросилиции, поставляемом на экспорт, содержание кремния ниже, чем мы указываем в документах. Поскольку оплата ферросплавов ведется по содержанию ведущего элемента, в данном случае кремния, то получалось, что мы обманываем потребителей. Мы проверили — быть такого не могло! Затем из ВПО последовала команда прислать представителя завода для разбора этой претензии.
Подобными делами занимается ОТК завода, но тут были замешаны иностранцы, которых боялись — брякнешь что-нибудь не то в разговоре с ними или покажешь себя дураком, они этот случай раздуют, а тебя как минимум по партийной линии выдерут. Думаю, что по этой причине начальник ОТК предпринял героические усилия, чтобы спихнуть это дело на ЦЗЛ, и добился успеха — в ближайшую командировку в Москву мне дали задание зайти во внешнеторговое объединение «Промсырьеимпорт», Торговавшее за рубежом в том числе и нашими ферросплавами, и выяснить, в чем там дело.
Я зашел на эту фирму, люди оказались очень приветливые и радушные, которые, кроме того, очень мне обрадовались. Дело в том, что в «Промсырьеимпорте» работали чистые коммерсанты, довольно беспомощные в технических вопросах, а во мне они увидели человека, который сможет разобраться в непонятных им деталях и ответить западным покупателям не в общем, а по существу. Мне сообщили, что фирма, заявившая претензии, послала в Москву представителей, и назавтра назначены переговоры, на которых они меня просят быть. Так началось мое участие во внешнеэкономических делах завода, которых на тот момент просто не было — мы весь металл для экспорта продавали внутри СССР по прейскуранту и за советские рубли ВТО «Промсырьеимпорт», и что там дальше с ними делалось, кому они дальше продавались, было не нашим делом.
Претензии предъявила люксембургская фирма «Минрэ», тогда третий или четвертый оптовик мира по торговле ферросплавами, представляли фирму ее президент Роже Эрман, о котором я уже написал, и его заместитель Жан-Пьер Фридрих. Потом мне пришлось с ними работать очень много, а тогда за стол переговоров сели двое приветливых и улыбчивых мужчин, что было довольно необычно, если учесть, что речь шла о претензии с их стороны. Потом я узнал, что США постоянно организовывали торговую блокаду СССР, при этом, как и полагается подлецам, непрерывно сопровождая эту блокаду болтовней о «свободной торговле». А фирма «Минрэ» эту блокаду прорывала, несмотря на потери, и пыталась увеличить объем продаж советских ферросплавов на западном рынке.
«Минрэ» представила распечатки химанализов на каждый наш вагон с ферросилицием, и согласно этим данным получалось, что мы завышали содержание кремния в среднем на 2 %. Я-то считал, что речь пойдет о какой-то разнице в пределах ошибки химанализа, т. е. в пределах 0,2–0,3 %, а такой ошибки в 2 % просто не могло быть! Я объяснил это Эрману и Фридриху и сказал, что тут нужно вести разговор предметно: как они отбирают пробы, как анализируют, по каким стандартам и т. д. и т. п. Выслушав меня, они извинились, что недоучли эти обстоятельства и не взяли с собою специалиста, поэтому тут же договорились с представителями «Промсырьеимпорта», когда они приедут в следующий раз уже с компетентным человеком. А наши, довольные тем, как я повернул дело, соответственно, предупредили меня, что нужно готовиться к следующей встрече.
Получилось так, как и получается всегда — кто везет, на том и ездят. Отстаивать нашу правоту в вопросах качества продукции — это работа ОТК, но раз у меня получилось, то на заводе сразу все забыли, кто эту работу обязан делать — раз Мухиным «Промсырьеимпорт» довольно, то пусть Мухин и дальше этой работой занимается. Хотя я всем и объяснял, что при такой разнице в анализах бояться нечего и что с этим делом вполне справится и начальник ОТК С.С.Черемнов, но на следующие переговоры с «Минрэ» снова погнали меня.
Люксембуржцы привезли с собою специалиста с лошадиной физиономией. Оказалось, что «Минрэ» само никаких отборов проб и анализов не делает, а нанимает для этого специализированные фирмы, и это был представитель голландской аналитической фирмы, как он уверял, самой авторитетной в Европе. Сразу выяснилось, что голландец пытается отделаться общими словами и давит всем на психику авторитетом своей фирмы. Я его спрашиваю, по каким стандартам велся отбор проб и анализы, а он мне отвечает, что «по самым передовым», я требую конкретики — по американским? по западногерманским? — а он вешает лапшу на уши разговорами о том, что их фирмой уже 50 лет весь мир доволен.
Тогда я перестал к нему обращаться и начал расспрашивать Эрмана и Фридриха, где они разгружают наши вагоны, в каком месте эта голландская фирма приступает к работе, анализируется каждый наш вагон или более крупная партия? Взял лист бумаги и начал объяснять, как по советским ГОСТам нужно отбирать пробы, как их нужно усреднять, как сокращать (уменьшать в весе), объяснил, что конечную пробу делят на три части, одну анализируют, а две хранят для контроля и если окажется, что результаты анализа расходятся с результатами анализа, данными поставщиком, то вторую часть пробы посылают поставщику для повторного анализа, а третью — для анализа независимой лабораторией. Так делается в СССР. А что делают голландцы? Я получу конкретный ответ или мы тут будем праздновать 50-летний юбилей этой фирмы?
Пока я это объяснял люксембуржцам, с голландца слезла спесь, и он сильно стушевался, а Эрман и Фридрих стали задавать ему резкие вопросы, от которых голландец совсем сник, кончилось это тем, что «Минрэ» закрыло эту тему, объяснив, что им нужно разобраться у себя. Спустя несколько недель из «Промсырьеимпорта» сообщили, что «Минрэ» сняла свои претензии к нам и заменила голландцев на более порядочную фирму. Судя по всему, американцы, не сумев заставить «Минрэ» отказаться от торговли с СССР, заставили голландцев делать пакости Советскому Союзу, поскольку иными причинами объяснить столь большую разницу в анализах невозможно.
Прошло еще какое-то время, и «Промсырьеимпорт» сообщил, что Торгово-промышленная палата Люксембурга, проанализировав результаты продаж на мировом рынке, если мне память не изменяет, 100 тысяч тонн нашего ФС-45, приняла решение признать наш ферросилиций лучшим в мире, а для нас это было совершенно неожиданно и очень приятно. Потом, уже в 90-х годах, мы получили и бриллиантовую «Звезду качества».
Однако сейчас я на эти награды смотрю уже без прежнего восторга — в них все же есть много от рекламы, которую организовывала нам «Минрэ». Но дело в том, что качество нашего ферросилиция было подтверждено другим, более надежным способом — реальной торговой дракой. Было это где-то в 1984 году. «Промсырьеимпорт» снова затребовал меня на переговоры с «Минрэ», и на них выяснилось, что в США начата кампания по удалению нашего ферросилиция с их рынка.
Дело в том, что «Минрэ» начала торговать нашим Ф-45 и в США, и очень скоро американские сталеплавильщики начали предпочитать наш советский ферросилиций американскому, а когда, потеряв собственный рынок, американские ферросплавщики остановили несколько ферросплавных печей в Детройте, они организовали антисоветскую истерию и, на мой взгляд, это довольно точное слово.
Мало того, что американцы подали на «Минрэ» в суд, обвиняя ее в демпинге, т. е. в том, что она продает ферросплавы в США дешевле, чем их себестоимость в СССР, но пресса, конгрессмены и сенаторы США обвиняли наш ферросилиций во всех смертных грехах. В частности, в уменьшении рождаемости в США — раз американские ферросплавщики потеряли работу, значит, они грустные, жены им уже не милы, и рождаемость падает. Тут некстати для нас ПВО СССР подбила над Сахалином южнокорейский авиалайнер (добили его сами американцы, но это отдельная тема), это нашему ФС-45 тоже вставили в строку и обвинили американских сталеплавильщиков в непатриотизме и торговле с «империей зла».
Эрман передал мне подшитые вырезки из американских газет, и папка была толщиной с ладонь. Ему требовалась помощь для предстоящего суда — нужны были данные, что мы продаем свой ФС-45 в США не в убыток себе. Я быстро такие данные для «Минрэ» подготовил. Хотя в те годы наш завод работал еще очень паршиво, но ФС-45 самый легкий сплав и по нему мы работали с прибылью, т. е. его заводская себестоимость была ниже государственной цены в прейскуранте, а эта цена была процентов на 30 ниже чем та цена, по которой «Промсырьеимпорт» продавал наш ФС-45 фирме «Минрэ» даже при пересчете доллара на рубли по курсу 0,62 копейки за доллар. Тогда «Минрэ» отбилась от обвинений в демпинге, суд признал ее правоту, и она торговала на рынке США нашими ферросплавами до середины 90-х, когда был уничтожен наш защитник — наше государство — и великий СССР был заменен ублюдочными «банановыми демократиями».
Возвращаясь к моей эпопее с получением «Знака качества», хочу подчеркнуть, что продукция Ермаковского завода ферросплавов действительно была хороша, и я, получая для завода эту блямбу, имел моральное право крушить на своем пути всех, кто был не согласен с этой истиной.
Инженер-исследователь
Главным из того, что в конечном итоге оставило меня жить в Ермаке, была моя основная работа, поэтому хотя бы вкратце следует объяснить, в чем именно она заключалась и что я, собственно, делал, а то я больше пишу о том, чего я делать не хотел, но меня заставляли. В общем, это работа инженера-исследователя, я им был, да, думаю, им и остался. Если говорить в принципе, то целью моей работы был поиск решения имевшихся проблем в области технологии производства тех сплавов, которые выплавлял завод.
По сложившемуся в обществе мнению, таких людей называют учеными, но поскольку ученые уж очень много о себе мнят, то хочу сказать, что поиском решения проблем занимаются все инженеры, работающие в цехах, да и очень много рабочих. А куда же от этих проблем денешься? Не ждать же цеховым работникам, пока эти проблемы решат ученые, да и решат ли они их? Ведь все ученые в первую очередь решают свою главную задачу — как получить ученую степень, а решение учеными этой задачи (если кто этого не знает) производству не помогает ни на копейку.
Но у цеховых инженеров огромный объем времени и сил занимают организационные проблемы, и чего грех таить, из-за этих проблем производственники часто забывают, что они еще и инженеры. Я же этого забыть не мог, поскольку моя официальная должность инженера-исследователя хорошо освежала память. В отличие от моих друзей и товарищей, работавших в цехах, на мне не лежал такой большой груз организационных вопросов, посему мне требовалось выкладываться как инженеру, чтобы не чувствовать себя в их компании паразитом. Это на людей, далеких от реального дела, можно произвести впечатление ученой степенью, а кому она еще нужна на заводе, кроме ее обладателя? На заводе требуются решения, дающие возможность выполнять производственное задание, а кто найдет эти решения — работяга или академик — заводу безразлично. Поэтому, когда я мало-мальски освоился, то вскоре увидел, где именно от меня может быть польза.
Это мое заявление именно так и нужно понимать — я увидел, а не начальство мне показало. Начальство меня грузило делами, требовавшими быстрого, порою аварийного поиска решений, а мне этого было мало. Мне надо было другое — крупные, основательные проблемы, поиск решений которых, во-первых, можно было бы рационализировать, а, во-вторых, решением которых можно было бы загрузить своих подчиненных, поскольку, когда я видел своих подчиненных сидящими без дела, то у меня возникало нехорошее чувство, что я недорабатываю как начальник. Постепенно вырисовались два главных направления моих (наших, если учесть и вверенную мне металлургическую лабораторию) исследований.
Первое направление — собственно технологический процесс получения ферросплавов в печах. В описании он выглядит крайне примитивно: в печь нужно завалить шихту применительно, например, к ферросилицию — кварцит и кокс, подать на электроды напряжение, чтобы по ним пошел ток и на их торцах загорелась электрическая дуга, — вот, собственно, и вся технология. Однако вести эту технологию нужно так, чтобы на тонну получаемого сплава был минимальный расход электроэнергии и шихтовых материалов. Тоже не вопрос: для этого нужно было завалить в печь шихту с нужным соотношением кварцита и кокса, иметь на печи нужное соотношение тока и напряжения и иметь нужную длину электродов. И вот тут-то и начинаются проблемы.
Во-первых. Начисто отсутствовали хоть какие-нибудь приборы, позволяющие определить, какое же в данный момент в печи соотношение кварцита и кокса — нужное или ошибочное?
Во-вторых. Начисто отсутствовали приборы для определения длины электродов.
В-третьих. Вольтметры и амперметры, разумеется, были, но нужное соотношение напряжения и тока является нужным только для определенного вида шихты — только для шихты с определенным удельным электросопротивлением. На маленьком заводе так оно и есть: такой завод кварцит получает с одного рудника, а кокс — с одной коксовой батареи, в результате удельное сопротивление шихты на этом заводе постоянно, и можно быстро «пристреляться» к нужному соотношению тока и напряжения. Но мы были огромным заводом, и ни одно рудоуправление на тот момент не могло справиться с поставками нам кварцита, поэтому мы получали его со всех рудоуправлений сразу, причем мало предсказуемо, с какого сколько. В результате, печи могли работать то на антоновском кварците, то на овручском. С коксом (коксиком) еще хуже — его нам поставляли чуть ли не все коксохимические производства СССР, кроме того, мы вводили в шихту ангарский полукокс, что было экономически целесообразно, но резко меняло нужное соотношение тока и напряжения, следовательно, нужное соотношение нужно было заново определять, причем отдельно для каждой навески полукокса в шихте.
В-четвертых. И электродную массу мы собирали по брикету со всего Советского Союза, поэтому и с эксплуатацией электродов — с величиной их удельного перепуска — тоже были неясности.
В-пятых. И печи у нас были, во-первых, не такие, как на других заводах, во-вторых, два их типа были вообще новыми.
Как же решаются подобные задачи? Путем проб и ошибок. Цеховой персонал работает на одном соотношении кокса и кварцита — получается неважно, на другом — еще хуже, на третьем — получше, на четвертом — снова хуже и т. д., пока не будет найден оптимум. Одновременно точно так же ищутся оптимальное соотношение тока и напряжения и оптимальная величина перепуска электродов. Если, повторю, печи те же, и сырье поступает от одних и тех же поставщиков, то проходит несколько лет, и технология принимает оптимальный вид, при котором при данных условиях сплава получается максимальное количество при минимальных затратах.
Вот этим и занимались в цехах все мои друзья и приятели. Мне же надо было придумать что-то такое, чтобы максимально сократить им поиск оптимума технологии. Вот тут мне кстати будет сказать слово благодарности родному институту, вернее, кафедре электрометаллургии, а еще вернее, Е.И.Кадинову и своей работе в студенческом научном обществе, в котором я на практике освоил кое-какие методы математической статистики и, главное, понял, где их нужно применять. Посему я засадил за работу своих инженеров и занялся сам статистической обработкой результатов работы печей завода в разных условиях — на разных видах сырья и сплавах. Работа была кропотливой, если учесть, что печные журналы — основной источник данных для обработки — часто заполняются как попало, и в них много ошибок, посему пришлось сначала разработать методику того, как и какие данные из этих журналов брать в обработку. Обработка была очень трудоемкой, поскольку не было никакой счетной техники. Несчастные механические арифмометры и те были только в бухгалтерии, а когда завод получил первые отечественные счетные машинки «Электроника», которые были с ламповыми индикаторами и весили килограмм 5, я с большим трудом, через Друинского смог выпросить одну и для метлаборатории. Поэтому долгое время считать приходилось в столбик, в уме, даже логарифмической линейкой редко приходилось пользоваться, поскольку, как мне помнится, для расчетов коэффициентов корреляции (связи величин) нужны были все знаки и не допускались округления. Тем не менее, дело пошло: я строил графики, анализировал их и выдавал техническому отделу рекомендации, на каких ступенях напряжения работать и какие навески восстановителя иметь для всех возникающих на заводе ситуаций и печей. Сначала я оформлял свои рекомендации в виде отчетов о научно-исследовательской работе, а потом мне это надоело — кому я буду пыль в глаза пускать этими «введениями» и «теоретическими предпосылками»? Я стал выдавать результаты в виде справок на нескольких страничках, Рожков на основе моих справок готовил главному инженеру технологические распоряжения, а потом найденные мною параметры вносил в технологические инструкции.
Находимые метлабораторией оптимальные параметры работы печей были ориентирами, поскольку в цехах реально очень трудно придерживаться инструкций, но все же это были правильные ориентиры, и мы находили их быстрее, чем нашли бы цеховые инженеры без нас, а это давало нам уверенность в своей полезности, а такая уверенность дорогого стоит. Правда, вся эта громоздкая и трудоемка работа не предвещала никаких диссертаций — это был нормальный инженерный труд, но, повторю, он давал спокойствие мне и загрузку моим подчиненным.
Конечно, когда я освоил эту работу, то она стала мне малоинтересной, но я копался в технологии дальше — я хотел найти что-нибудь такое-эдакое в хорошо освоенном процессе, я хотел сделать какой-нибудь революционный шаг, чтобы его потом не
Я — начальник металлургической лаборатории ЦЗЛ
стыдно было оформить в виде диссертации. Чтобы понять, что же все-таки происходит в печи при разных условиях, я рылся в обломках взорванных при капремонтах ванн всех печей, изучал гарнисаж и «козлы», пытался понять, какие ответвления процесса могут происходить. В начале 80-х у меня было чувство, что вот еще чуть-чуть, и я найду базовое уравнение руднотермической печи, такое уравнение, с помощью которого можно будет и рассчитать печь, и задать ей автоматическое управление. Я даже восстановил частично знания высшей математики, поскольку для описания печи мне потребовалось интегральное исчисление. Было время, когда мне казалось, что я не вижу чего-то простого, которое где-то рядом, но не дается мне. Но это «простое» мне так и не далось — я ушел на совершенно другую работу, не успев найти то, что хотел.
Второй капитальной проблемой, которой я занялся, было изучение стойкости печных электродов. В те годы их обломы были очень большой проблемой, поскольку они буквально душили завод, а случалось этих аварий свыше двухсот в год. Облом электрода на печи был обычной аварией, порою даже печь не останавливали, но эти аварии уже сами по себе влекли за собой очень большой расход электроэнергии, кроме того, они в свою очередь приводили к еще более тяжелым авариям.
Я уже писал, что печной электрод состоит из стального кожуха диаметром от 1200 до 1900 мм, в который сверху загружается электродная масса. Получают эту массу путем смешивания кусочков антрацита, коксика и графита в расплавленном каменноугольном пеке. После смешивания масса застывает и поступает к нам в виде брикетов, которые и грузятся в кожух электрода.
Ток на электрод подается посредством контактных щек, прижатых к кожуху. В районе этих щек, от тепла, выделяемого током и поступающего из печи, брикеты электродной массы расплавляются, образуя сплошной жидкий объем, но при дальнейшем нагреве эта жидкость начинает коксоваться — из нее уходят летучие вещества и жидкий столб превращается в столб угля, по которому электрический ток стекает внутрь печи и зажигает на нижнем торце электрода электрическую дугу. По мере сгорания электрода от дуги, он, естественно, укорачивается, тогда кожух электрода перепускают в щеках — их отжимают и электрод проскальзывает вниз (вернее его опускает с шагом в 50 мм специальный механизм). А сверху стальной кожух электрода периодически наращивается новой секцией. Десять лет от капремонта до капремонта работает печь, и все это время идет непрерывное сгорание и наращивание электродов, их техническое название: «угольные, самоспекающиеся».
Так вот, вдруг появляется на уже спекшейся части электрода трещина, она увеличивается в размерах, и, наконец, нижняя часть электрода обрывается, дуга загорается в месте облома и начинается морока с тем, как быстрее извлечь обломок из печи, либо (на закрытых печах) «утопить» обломок в шихте и сжечь его, и одновременно быстро снова нарастить электрод до нужной длины. Почти всегда трещины на электродах образуются после простоев, а на простоях печь, само собой, охлаждается, посему и существовало устойчивое мнение, что эти трещины вызваны термическими напряжениями от охлаждения поверхности электрода. (Возьмите толстостенную стеклянную бутылку и плесните в нее кипятка, и вы увидите, как она лопнет от термических напряжений.) Поэтому все решения по предотвращению обломов электродов сводились к недопущению их охлаждения, поскольку связь обломов с охлаждением электродов была очевидна.
Однако мне повезло, что я застал на заводе Н.В. Рукавишникова, поскольку именно он посоветовал мне обратить внимание на совершенно иное явление — на усадку электродной массы при коксовании, а на это тогда ни на заводе, ни в литературе не обращалось никакого внимания. И я этим занялся: я обследовал все извлеченные из печей обломки электродов, фотографировал их, изучал по литературе условия коксования углей и сравнивал трещины на коксовом монолите, выгружаемом из коксовых батарей, с трещинами на наших электродах; я проводил лабораторные исследования, замеряя величины усадок различных масс. Короче, много лет электроды не выпадали из круга тех исследований, которые я вел, а уже будучи начальником ЦЗЛ, я убедил Донского создать и специальную лабораторию электродов.
В конечном итоге стало понятно, что трещины в электродах имеют усадочный характер, а термические напряжения только расширяют их. Если в электроде не образовались усадочные трещины, то тогда и любое охлаждение поверхности ему не страшно. Далее я выяснил, что усадочные трещины образуются, когда рядом спекаются слои массы с разной усадкой и, соответственно, стало ясным и решение вопроса: нельзя допускать, чтобы в электроды попадала масса, которая при коксовании дает разную усадку. Но наш завод не изготовлял электродную массу, мы ее получали. Я уже не помню всех деталей, но мы нашли параметр массы, посредством которого можно было оценить ее будущую усадку, — «жидкотекучесть». Далее с помощью ОТК и рекламаций заставили заводы-поставщики слать нам массу с узким разбегом жидкотекучести. Вопрос решился, и хотя печей на заводе стало больше, но число обломов сократилось, если мне память не изменяет, до 30–40 в год. Это очень хороший результат, и достигнут он был очень эффективным способом, т. е. почти без затрат (отборы проб массы и ее лабораторные анализы по затратам несущественны).
Вот это были основные, базовые направления моей работы, но кроме этого я переделал кучу дел, о которых сегодня даже вспоминать не могу. К примеру, в памяти всплывает, что я проводил работу в литейном цехе, но вот какую именно — убей, не вспомню.
Я очень не люблю рутинную работу, правда, без нее работать не научишься, да и делать ее кому-то надо. Поэтому если мне попадается рутина, то я стараюсь как-то ее рационализировать, чтобы отделаться от нее побыстрее. Но больше всего мне нравится работа, в которой все время что-то меняется. К примеру, я очень любил свою работу слесаря-инструментальщика, поскольку за год мне ни разу не попалась деталь, которую бы я изготавливал раньше, каждый день были новые чертежи. А в Ермаке у меня была именно такая работа — все новые и новые проблемы. Чрезвычайно интересно!
Кроме того, специфика завода была такова, что чем бы ты ни занялся, то тут же и становился главным специалистом по этой проблеме. Никто тебе не указывал, как работу делать, никто не поправлял, главное — дай результат! В то, что он правилен, все тебе поверят. Ну а если ошибешься? А если вместо положительного эффекта — убытки? Вину перекладывать не на кого — ты сам все делал, значит, и сам виноват. Вот эта ответственность придавала работе необходимую для жизни остроту, ощущение настоящей жизни: ты не в учебные атаки ходишь, ты находишься в настоящем бою.
Вот эти два обстоятельства делали мою работу для меня столь привлекательной, что я сам себе завидовал, и никогда бы с этой работы не ушел, если бы не занялся проблемой, решения которой от меня никто не требовал.
Открытие
А началось все с того, что стало мне за державу обидно. Мне и раньше за нее было обидно, но я просто не видел, как к этой обиде подступиться, поскольку не мог понять, в чем тут причина. Ну сами посудите: страна огромная, из минеральных ресурсов есть если и не все, то очень многое, образование народа — прекрасное, подготовка специалистов — тоже, народ, вроде, сообразительный, и при этом то здесь, то там отстаем от других стран. И шмотки у них моднее, и автомобили красивее, и многие вещи лучше, чем делаем мы. С одной стороны, мы делаем лучшую в мире космическую технику, а с другой стороны, не можем качественно сделать какую-нибудь детскую коляску. По мере того, как я ездил в командировки решать различные вопросы, начал приходить к мысли, что у нас в стране не все в порядке с управлением.
С одной стороны, то, что мы предельно централизованы — это прекрасно, это рационально, это экономично, т. е. по-хозяйски. Но с другой стороны, протолкнуть через эту систему управления что-то новое, что-то полезное было неимоверно трудно, а сверху, порою, спускались столь идиотские указания, вырабатывались такие тупые решения, что только руками разводи. Что за черт, в чем тут дело?!
Начал я над этой проблемой думать, разумеется, в свободное от работы время, начал все, что попадалось, читать под углом зрения этих своих новых исследований. И постепенно началось вырисовываться, что это действительно дефект управления и что этот дефект глобальный, т. е. он не зависит от того, социализм у нас или капитализм (у них). На Западе была та же болезнь, но только ее симптомы были слабее, хотя тогда мне было еще не понятно, почему.
Как водится, сначала я поплыл по поверхности и виноватыми во всем определил бюрократов, что в целом было достаточно точно, но я ошибся, считая их причиной. Не замечая этой принципиальной ошибки, я начал изучать бюрократов, полагая, что можно найти способы противодействия им. Я даже начал писать и успел изложить на бумаге почти все характерные свойства бюрократа, которые в конечном итоге сводились к его трусости, к страху понести наказание за свои ошибки при исполнении должностных обязанностей. Вроде намечалось, а, вернее, автоматически вытекало из этого исследования, что из системы управления нужно убирать людей трусливых и назначать на это место смелых и решительных. Однако что-то меня беспокоило: чувствовалось, что я все еще мелко плаваю, что дело тут в чем-то другом. В результате, я не только не стал оформлять эти работы в статьи, но даже не отдал их секретарю печатать.
И вот однажды в голове щелкнуло, что трусость — это то, что называется поведением человека, и возникла идея, а нет ли у человеческого поведения законов? Является ли поведение конкретного человека результатом его воли или инстинктов, либо оно подчиняется неким правилам, узнав которые, человеку можно задать нужное поведение? И я эти законы нашел, после чего все мои построения упростились необычайно, что доказывало истинность найденного. Стало понятно, что именно нужно сделать, чтобы решить глобальную проблему человечества, вызванную разделением труда, проблему, которую человечество, кстати, просто не замечает, т. е. не считает ее проблемой. Важность того, что я нашел (а это было во второй половине 80-х), была настолько велика, что потеряло значение все, чем я занимался до этого, вернее, оно потеряло для меня главный интерес и стало третьестепенным, мне стало ясно, что если я смогу опубликовать то, что нашел, то мне можно спокойно умирать — я уже выполнил то, зачем родился. Редко кому так везет!
Не буду загружать читателя сутью найденного, тем более, что еще в начале 90-х я опубликовал эту суть в двух книгах, просто скажу, что, размышляя над тем, смог бы ли я наткнуться на это открытие, если бы был в другом месте и не имел того опыта, что имел, прихожу к выводу, что вряд ли. Знаете, иногда, чтобы что-то понять умом, это нужно сначала прочувствовать. А чувства — это следствия воздействия на тебя окружающей обстановки, а была бы где-нибудь у меня такая обстановка, как в родном Ермаке?
Ну, да ладно, я-то взялся писать книгу не о себе, так что закончим на этом и перейдем к теме.
Глава 7 ПЕРВЫЙ ЕВРЕЙ
Главный инженер как инженер
Любой мемуарист «натягивает одеяло на себя», я вряд ли являюсь исключением, и у читателя может сложиться впечатление, что я был неким столпом Ермаковского завода ферросплавов, вокруг которого все крутилось. Это не так, я был достаточно мелкой величиной, особенно в первый десяток лет своей работы, а в первые 18 лет истории завода все дела крутились вокруг Друинского и крутились его мозгами.
Я не могу считаться ни его другом, ни приятелем — я был просто его товарищем по работе, причем не входил и в тридцатку тех, на кого он опирался в первую очередь. Я никогда не был у него в доме, я ни разу не участвовал в застолье с ним, даже на проводы, когда он уходил с завода, я не был приглашен. Поэтому с чисто бытовой точки зрения я не имею по отношению к нему никаких обязательств и пишу о нем исключительно с целью отдать долг ему как главному инженеру моего завода, очень достойному главному инженеру.
Из четырех главных инженеров, с которыми мне приходилось работать, по-настоящему инженерами, т. е. людьми, ищущими новое в технике и производстве и получающих удовольствие от находок, были двое — Друинский и Матвиенко. Пагубная привычка или обычай мемуаристов писать обо всех хорошо привела Друинского к тому, что он в своих воспоминаниях называет «главным инженером» А.В. Масленникова, которому Друинский сдал должность, уходя с завода. Я с этим категорически не согласен. Масленников был никем — он не только не был инженером, он не был и главным, не был и порядочным человеком.
Как-то на Новый год у нас в квартире была гулянка с нашими обычными друзьями, и вдруг часа в два приперся Масленников, тогда уже главный инженер завода, с бутылкой портвейна. Что делать — гость есть гость. Мы его усадили за стол, налили водки, и вдруг в перерыве между танцами он меня отзывает в прихожую и говорит: «Что у тебя делает этот Карев? Выгони его!» Ах ты падла! Ты мне еще будешь указывать, с кем дружить?! Я ему так вежливенько и говорю: «Саша! Забирай нахер свой портвейн и чеши с моей квартиры к едреной фене!» Он все свел к тому, что это он так шутит, но я сам шутник, однако таких шуток не понимаю.
Когда он стал главным, мы, его старые знакомые, собутыльники и одногодки, вдруг обратили внимание, что он на личной машине всегда ездит в одиночку. Едет в личной «Волге» на завод, проезжает мимо автобусных остановок, на которых стоим мы в ожидании автобуса туда же — на завод, и никого никогда не подберет, даже не кивнет головой, приветствуя, пялится перед собой, якобы никого не видя. А как же — большая шишка! Мы ему теперь не ровня.
Чтобы пояснить разницу в том, кого я считаю инженером, а кого нет, приведу случай, в котором участвовали и Друинский, и Масленников. Раньше я уже писал, что мне пришла в голову идея рафинировать (очищать) 75 %-й ферросилиций от алюминия серой. Надо было эту идею опробовать, а для этого нужна была сера. Чистая сера, имевшаяся в химлаборатории, не годилась, нужен был пирит — сульфид железа. Я знал из справочной литературы, что это был недефицитный и очень распространенный минерал, но в Минчермете его не было, поскольку сера — это исконный враг стали. Я начал искать выходы на Минцветмет и как-то случаем узнал, что в находившемся в нашей области рудоуправлении «Майкаинзолото» пирит есть. Позвонил туда, и мне любезно предложили взять его сколько угодно — хоть тысячу тонн сразу, поскольку пирит при обогащении полиметаллических руд шел в отвал, но взять его можно было только самовывозом. Я полагал, что мне для начальных опытов хватит 100–150 кг, но и эти килограммы надо было на чем-то вывезти. До Майкаина было километров 300, на рейсовом автобусе такое количество не вывезешь, нужна была автомашина, а приспичил мне этот пирит аккурат в августе, когда у завода забрали автомашины на уборку урожая и автохозяйственный цех едва обеспечивал технологию завода оставшимся автотранспортом.
Каждый день в 12–00 главный инженер проводил селекторную оперативку, в которой участвовали все начальники цехов и служб. Я стал настаивать, чтобы Парфенов, начальник ЦЗЛ, выпросил у Друинского автомашину на Майкаин для меня. Толя несколько дней ставил этот вопрос, но автомашин не хватало и для более серьезных дел, Друинский сначала отказывал, а потом спросил у Парфенова, что мы, собственно, хотим в Майкаине? Парфенов ответил, что Мухину нужен пирит для опытов, Друинский помолчал, а потом сказал, чтобы я пришел к нему после обеда и объяснил, что хочу сделать. Я пришел, рассказал химическую и термодинамическую суть своей идеи, Друинский оценил ее оригинальность, заинтересовался и теперь уже специально позвонил начальнику АХЦ по поводу автомашины для меня. Однако В.В. Бабченко совершенно искренне клялся и божился, что у него нет ни одного свободного колеса и что невозможно выделить на целый день автомашину, чтобы серьезно не поставить под угрозу выплавку ферросплавов. Друинский не стал настаивать, подумал и распорядился, чтобы завтра в 8-00 я был у входа в заводоуправление готовым к поездке в Майкаин.
На следующее утро я к 8 часам с десятком мешков из крафт-бумаги подмышкой уже стоял на ступеньках заводоуправления. Подъехал на своей «Волге» Друинский, вышел вместе с работавшей в отделе оборудования женой и еще кем-то, кто ездил на завод на халяву в машине главного инженера, показывает мне рукой на открытую дверцу и говорит:
— Садись! Поедешь в Майкаин с Иваном, он уже заправился и взял путевку.
Ну, ни фига себе! У Друинского объекты завода, на которых он мог в этот день потребоваться, были расположены в радиусе минимум 5~7 км, кроме того, его могли вызвать и в горком, и в Павлодар в обком, но он обрекал себя на хождение пешком и поездки на случайном транспорте только ради того, чтобы я как можно скорее мог провести опыты, которые для выполнения заводом плана не имели ни малейшего значения и без каких-либо проблем могли быть проведены и через два месяца, когда весь автотранспорт вернется за завод. Вот что значит инженерное любопытство!
Белоусов домчал меня до Майкаина как короля, но там меня ждало разочарование: я ожидал, что пирит будет, по меньшей мере в виде щебня, а это оказался очень пылеватый материал фракции 300 меш (то есть он весь проходил через сито, у которого 300 отверстий на квадратном дюйме). Для задуманного мною опыта это было крайне неудобно, но делать было нечего, я нашел лопату и загрузил мешками с пиритом багажник «Волги» так, что Иван с сомнением постучал по задним покрышкам, но асфальт до Майкаина был в прекрасном состоянии, и мы вернулись на завод без проблем.
Для того чтобы оценить, как сера очищает ферросилиций, мне требовалось перемешать ее с жидким ФС-75. Пирит по плотности в два раза тяжелее этого сплава, и если бы он был в кусках, то мне оставалось бы только бросить его в объем жидкого ферросилиция. Камешки пирита опустились бы на дно, здесь сера пирита соединялась бы с кремнием в четырехсернистый кремний, а он при таких температурах находится в газообразном состоянии. Пары четырехсернистого кремния поднимались бы вверх, пронизывая слой жидкого ферросилиция, и по пути реагировали бы с растворенным в нем алюминием, образуя сульфиды и вынося их к шлаку. Такая была идея.
Но пылеватый пирит в ферросилиции не тонул из-за большого поверхностного натяжения, и сера пирита окислялась воздухом до двуокиси серы, т. е. мой пирит горел на поверхности жидкого металла безо всякого толка.
По моей просьбе печь 1200 KB А в экспериментальном цехе перевели на выплавку ФС-75 да еще на грязном кварците, чтобы алюминия в сплаве было побольше. Эта печь выпуск металла делает прямо в чугунный поддон, металл быстро застывает, и я ничего не успел бы сделать. Поэтому я на этом поддоне для каждого опыта сооружал из шамотного кирпича емкость, в которой жидкий ферросилиций одного выпуска (около 70 кг) образовывал объем высотой до 200 мм, и его несколько минут можно было обрабатывать пиритом. Но при такой его пылеватой фракции мне это все равно толком не удавалось. Струйки ферросилиция на выпуске из летки была едва в мизинец толщиной, если я насыпал пирит на дно емкости, то эта струйка его прожигала, а потом образующийся объем жидкого ферросилиция поднимал пирит на себе, и тот горел на поверхности. В цехе сильно воняло двуокисью серы, все плевались, поскольку в ее атмосфере во рту появляется чувство, как будто сосешь медный пятак. Я деревянной рейкой пытался загнать пирит на дно, но сама рейка, коксуясь, выбрасывала из древесины газы, которые отбрасывали от нее пирит и опять-таки не в объем, а на поверхность ферросилиция. Начал я делать брикеты из пирита на жидком стекле, но если жидкого стекла дашь мало, то пирит не склеивается, если дашь много, то при сушке брикеты становятся пористыми и легкими. Короче, не могу запихнуть этот чертов пирит в жидкий металл, хоть ты убей!
Кроме того, на ФС-75 даже печь экспериментального идет непросто, выпустить металл без прошуровки (прочистки) летки трудно. Шуруют летку стальным прутом, а 75 % ферросилиций сталь мгновенно растворяет, и при мизерности веса плавки добавочное железо, входящее в сплав из прута, резко снижает про
30 декабря 1966 год. Первая плавка металла в экспериментальном цехе, крайний справа М.И.Друинский. Здесь я и проводил полупромышленные эксперименты
центное содержание кремния в сплаве. И уже ни черта не поймешь, отчего у тебя в ФС-75 понизился кремний: то ли ты его снизил разбавлением сплава добавочным железом, то ли кремний угорел от обработки сплава серой. А мне же важно было снизить в сплаве содержание алюминия, не снижая в нем содержания кремния.
Исходя из того, чем я реально располагал, наиболее эффективным было бы проведение этого опыта в плавильном цехе, в данном случае в цехе № 4, который частью печей плавил ФС-75. Там жидкий сплав был в ковшах, а из ковша его можно слить мощной струей, поэтому если дать пирит на дно второго пустого ковша, а потом резко накрыть его жидким ферросилицием из полного, то при таком сливе ферросилиций придавит пирит ко дну и быстро образует над ним жидкий слой, который и будет обрабатываться снизу парами четырехсернистого кремния. Иду докладывать результаты опытов в экспериментальном цехе Друинскому, поскольку он распорядился держать его в курсе дела, объясняю проблему и прошу разрешения провести опыт в цехе № 4. Но это дело никому еще не известно, а посему может оказаться опасным — может произойти взрыв, выброс жидкого металла, могут пострадать люди и оборудование.
Михаил Иосифович подумал и распорядился подготовить еще один опыт в экспериментальном, чтобы он сам мог посмотреть на результаты контакта пирита с жидким ферросилицием. Я подготовил, он приехал, сделали выпуск ФС-75 из печи 1200 KB А на пирит, я заталкивал его в жидкий металл рейкой, сыпал на поверхность дополнительно и перемешивал. Вони от двуокиси серы, конечно, было много, но ничего особенного не было — никаких вспышек, микрохлопков, каких-либо особо опасных эффектов. Друинский ограничил в опыте вес жидкого ФС-75 одной тонной и вес пирита 40 килограммами и дал распоряжение начальнику цеха № 4 провести этот опыт на печи № 42. Начальник цеха, естественно, дал команду старшему мастеру первого блока, а этим старшим мастером и был Масленников.
Я притащил пирит на балкон 42-й печи, пошел искать Сашку. Тот сидел в комнате начальников смены и травил мастерам байки. Я объяснил ему, зачем пришел, и Масленников скривил физиономию, как будто я оторвал его от важных государственных дел, но все же вышел со мной и дал задание бригадиру печи. Я объяснил тому, что надо, бригадир подозвал кран, я и крановщику растолковал, что хочу. Выбрали самый заросший шлаком ковш, чтобы уменьшить риск его проедания, крановщик поднес его под балкон печи, я вбросил в ковш два мешка с пиритом, после чего этот ковш поставили на площадку, вблизи которой ничего особо ценного не было. Выкатили ковш с плавкой, крановщик его снял с телеги, горновой надел на серьгу ковша крюк малого подъема, и все отошли подальше. До этого момента Масленников стоял рядом со мной.
Как и договорились, крановщик сразу плюхнул в ковш большую порцию металла, и тут из ковша вылетело пламя метра на три и даже не белое, а голубое, то есть, на глаз, с температурой градусов тысяч до трех. Пламя заканчивалось густым белым дымом, и этот дым, так уж получилось, понесло в кабину крановщика. Бригадир завопил, что надо кончать эту херню, а то ковш сожжем, крановщик матерится, хотя ему надо было бы закрыть рот и не дышать, я кричу: «Лей дальше!» — и оглядываюсь, чтобы Масленников поддержал меня своей командой, а его нет — как сквозь землю провалился! То ли у него очко сыграло, что произойдет выброс и мы пострадаем от жидкого металла, поскольку мы стояли так, чтобы видеть, что происходит в ковше, то ли он смылся, чтобы не отвечать за возможные последствия, хотя Друинский своим распоряжением взял эту ответственность на себя, но в любом случае я остался один и пришлось орать самым авторитетным голосом, чтобы мужики не прекращали эксперимент, пока не сольют тонну.
Слили, крановщик отъехал, пламя через несколько секунд спало, и тут появляется Сашка с матом, что я с Друинским затеял эксперименты, от которых пострадать можно. Я не стал с ним разговаривать, а спустился вниз и отобрал пробы металла и шлака. Между прочим, алюминий упал очень ощутимо, если мне память не изменяет, то с 1,6 % до 0,9 % при том, что падения содержания кремния вообще не было. Эксперимент в этом плане был очень удачным, но повторять его, само собой, было нельзя.
Чтобы дальше вести даже исследования, надо было строить герметичную камеру для обработки ФС-75 серой, нужно было подводить к этой камере мощный отсос газов с нейтрализацией двуокиси серы. А это очень дорого и имело смысл только в случае, если бы завод получил заказ на ферросилиций с низким содержанием алюминия хотя бы в 40–50 тысяч тонн. Поэтому идею с рафинированием ферросилиция серой пришлось отложить до такого случая, а он так и не наступил.
Но подытожу размышления об инженерах. Вот два главных Инженера ЕЗФ — М.И. Друинский и П.В. Масленников, два металлурга-технолога, и вот интересный инженерный технологический вопрос — можно ли отрафинировать ферросилиций серой? Первый, чтобы увидеть ответ на этот вопрос, целый день ходил по заводу пешком, хотя ему полагалась личная «Волга», а второму приказали это увидеть, а он смылся, убоявшись всего лишь должностной ответственности.
Друинский писал свою кандидатскую диссертацию на заводе, а в это время ходило много историй про разных начальников, включая партийных, которым писали диссертации специально нанятые ученые. Судя по всему, это было уже тогда обычным делом. Но в данном случае я помогал Друинскому в оформительских вопросах по его диссертации, как, впрочем, и Меликаеву, и Парфенову. Михаил Иосифович, по мере написания текста отдавал его перепечатывать в машбюро завода, а я забирал оттуда готовые страницы и черновики, мы с Людой Чеклинской вычитывали текст, сверяли его с черновиками, исправляли ошибки, Люда вписывала от руки слова и символы, написанные буквами латинского и греческого алфавита, а я перечерчивал графики с миллиметровки на белую бумагу, а затем отдавал их фотографу. И я могу засвидетельствовать на любом суде — черновики диссертации были исполнены рукой Друинского. Да, в общем, и надо знать Михаила Иосифовича — вряд ли он позволил бы кому-нибудь думать за себя.
Выше я написал о технологической части работы Друинского. Для меня, начальника метлаборатории, это была вся работа — все ее 100 %, но для него, главного инженера, эта работа вряд ли составляла десятую часть от того, что ему приходилось делать и, соответственно, от того, что ему надо было знать.
Завод потреблял до 800 МВт электрической мощности, если я правильно помню, то средняя мощность Днепрогэса всего 230 МВт, то есть мы были заводом, перенасыщенным электрооборудованием, причем уникальным. И все окончательные решения по этому оборудованию принимал главный инженер.
Завод был сверхмеханизирован, имел огромное количество механического оборудования, достаточно сказать, что для его ремонта, а частью и для изготовления, Ермаковсакий завод ферросплавов имел внутри себя механический завод — Блок ремонтно-механических цехов со своим литейным цехом со всеми видами литья. Таким образом, Друинский был и высококвалифицированным инженером-механиком.
Михаил Иосифович не пришел на все готовое, он построил этот завод в голой степи с первого колышка. Строили, конечно, строители, но поймите, будь они даже идеальными строителями, у них нельзя принимать работу, не зная, как и что они должны строить, иначе они тебе такое настроят! Так что ко всем перечисленным профессиям добавьте Друинскому и профессию инженера-строителя.
Мало этого, чертежи всего, что было построено на заводе, не принимались строителями в работу, пока Друинский их не рассмотрит и не согласится с проектантами завода. И будьте уверены, если бы Друинского назначили директором или главным инженером любого проектного института, к проектам этого института заказчики не имели бы никаких претензий.
Друинский был выдающимся мультиинженером — человеком, для которого не существовало непонятных вопросов в огромных областях техники. Мне могут сказать, что у него были заместители. Да были: был главный механик, главный энергетик, был отдел капитального строительства. Но все эти специалисты имели предел сложности своих вопросов, и как только проблема поднималась над этим пределом, окончательное решение принимал Друинский, а для этого он обязан был знать, что за решение он принимает, обязан был понимать, какие последствия за этим наступят. Это не нынешние президенты СНГ или премьер-министры, которые подписывают указы и распоряжения, не соображая, что за ними последует. Вспомните премьер-министра Черномырдина, еще и не самого глупого из череды премьеров России, с его ставшей знаменитой фразой: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». У Друинского чаще всего (не ошибается только тот, кто не работает) получалось так, как он хотел, и получалось только потому, что он понимал, как достигнуть желаемого во всех технических вопросах завода.
Проблемы проекта
У меня в жизни было так. Вот несутся со всех сторон вопли о каких-либо профессиях, для занятия которыми требуются якобы невиданный ум и таланты. И вместе со всеми относишься к людям этой профессии с почтением. А потом жизнь заставляет эту профессию освоить, и вдруг видишь, что эти «профессионалы» большей частью бездельники, своей профессии не знают да еще и глупы до невозможности, хотя и числятся в гениях. Так было, когда я поближе познакомился с писателями, с историками, с «учеными», с офицерами, с журналистами. Боже мой, какие идиоты населяют эти отрасли человеческой деятельности!
Но было и наоборот. Вот вроде профессия, которую все считают профессией для дураков — крестьянин. Я свою черную металлургию называл «темной металлургией» из-за того, что в ней еще масса темных вопросов, мешающих произвести то, что нужно, в необходимых количествах и с минимальной стоимостью. Но сколько этих «темных» вопросов у крестьянина! Сколько же ума ему надо, чтобы получать результат в этих до дикости изменчивых условиях его деятельности! Разве можно сравнить с объемом его творчества объем творчества какого-нибудь писателя, который в разных вариантах толчет в ступе одну и ту же воду своих сексуальных фантазий?
А вот по мере того, как я поднимался в должности, и мне становился понятен весь объем ответственности, которая лежала на директоре завода и главном инженере, то мое уважение к людям, честно занимавшим эти должности, непрерывно возрастало. Уважение возрастало потому, что становились понятными те трудности, о которых ранее просто не догадывался.
Вот Михаил Иосифович, как и полагается хорошему мемуаристу, хвалит Гипросталь — головной проектный институт нашего завода — и главного инженера проекта (ГИПа) нашего завода Лазаря Рувимовича Мортвина. По большому счету, претензий к этому харьковскому институту и к Мортвину, конечно, нет — они спроектировали гигантское и высокопроизводительное предприятие, но Друинский полностью оставляет за кадром то, каково ему было работать с проектантами. Я по своей должности никакого отношения к проекту завода не имел и столкнулся с Гипросталью лишь дважды. О первом случае расскажу позже, а сейчас о втором.
В середине 80-х цех подготовки шихты № 2 (ЦПШ-2) не справлялся с подготовкой сырых материалов для плавильных цехов № 1 и № 6, и было принято решение за цехом № 1 оставить ЦПШ-2, а для цеха № 6 спроектировать и построить ЦПШ-3. Я, тогда начальник ЦЗЛ, уже был привлечен С.А. Донским к проблемам снабжения шихтой цехов № 1 и № 6, поэтому участвовал и в обсуждении технологических идей будущего ЦПШ-3. Если мне память не изменяет, поиск идей возглавлял тогдашний главный инженер Юрий Яковлевич Кашаев, а участвовали в этом деле главные специалисты и начальники обоих уже работающих ЦПШ Валера Артюхин и Вася Недайборщ.
Идеи ЦПШ Гипросталью тогда уже были отработаны: эти цеха состояли из собственно складов сырых материалов — кварцита, кокса, руд, железной стружки и т. д., системы транспортерных галерей и башни главного распределительного пункта (ГРП), в которой происходили дробление и рассев кварцита и кокса (коксика). В принципе схема работала, но в ЦПШ-2 ее долго не удавалось запустить из-за ее неоправданно чрезмерной сложности. И тогда завод предложил свою идею — в ЦПШ-3 отказаться от отдельно стоящей башни с дробильно-сортировочным оборудованием и установить все это оборудование вдоль одной стены склада кварцита и кокса. Это здание метров 400 длиной, в полу которого выполнены 6-метровые приямки под сырье, по центру идет железнодорожный путь, а обслуживают работу всего оборудования мостовые краны.
Достоинства предлагаемой заводской схемы были в том, что все дробильно-сортировочное оборудование попадало в зону работы мостовых кранов и, следовательно, его легко было бы ремонтировать простой заменой узлов. И, главное, была бы возможность на всех этапах подготовки сырья создавать страховочные запасы уже подготовленной шихты и подавать эту шихту на печи, если дробильно-сортировочное оборудование аварийно остановится. Кроме того, эта схема выглядела ощутимо более дешевой в строительстве, нежели традиционная схема Гипростали.
Мы показали эту схему ГИПу, и вот тут я увидел, как прореагировал на предложение завода Мортвин. Как только он понял, что мы предлагаем нетиповую схему, он тут же «отключился». Было видно, что он перестал нас слушать, а когда мы закончили, он тут же отказался от нашего предложения, сославшись на то, что при такой схеме в одной из стен цеха не будет ворот для въезда в цех пожарных машин, а такие ворота по строительным нормам и правилам полагаются через каждые 100 метров. И дальше меня поразило его поведение: мы с пеной у рта доказывали, что с нашей схемой будет удобнее работать, а Мортвин со стеклянными глазами фактически доказывал, что он будет проектировать цех для того, чтобы пожарная команда могла посмотреть на пожар внутри цеха, не выходя из пожарной машины. Издевательство было в том, что в цехе нечему было гореть — кокс, без специальной организации подачи воздуха для горения, вообще не подожжешь, а кварцит не горит. Что же касается транспортерных лент, то тушить пожар на них удобнее, когда они находятся на уровне земли, как в нашей схеме, а не в башнях и галереях, как в схеме Гипростали. Но ни авторитет главного инженера завода, ни авторитет двух начальников уже действующих цехов подготовки шихты впечатления на ГИПа не произвели — он категорически отказался даже обсуждать нашу идею.
Только позже, когда я уже занимался проблемами бюрократизма и когда присмотрелся к нашим «выдающимся советским конструкторам и ученым», то понял, что подавляющая их масса занималась тупым копированием: дали задание сконструировать атомную бомбу — пусть разведка украдет ее чертежи у американцев, а наши «отцы атомной бомбы» их перерисуют, возможно, и без ошибок; дали задание спроектировать более мощный цех — возьми чертежи старого и увеличь на них размеры; дали задание сконструировать ручную электродрель — купи в Германии электродрель фирмы «Бош», разбери ее и перерисуй детали. И тогда, если дело получится, то ты будешь большим гением и «отцом» чего-то, а если не получится, то виноват будет кто-то другой — разведчики, которые выкрали не те чертежи; работники нового цеха, которые дураки потому, «что такой же цех прекрасно работает»; или конструкторы фирмы «Бош», которые сконструировали плохую электродрель.
Причем, поймите меня правильно, я обеими руками за то, чтобы скопировать удачную вещь: зачем же велосипед-то изобретать? Но когда конструкторы и ученые только этим и заняты, то ведь они же отвыкают думать (если когда-то умели) и от этой своей профессиональной беспомощности боятся всего нового, даже если им это новое бесплатно предлагают. Вот и оцените те трудности, которые стояли перед Друинским, построившим с такими проектантами самый мощный в мире завод, который в целом по его базовой схеме и вышел на проектную мощность, а потом и перекрыл ее.
Вторая трудность, о которой необходимо вспомнить, это партийно-государственная власть.
Гнилая власть
Я гражданин СССР — я был им, я им и умру. Но до этого сделаю все, что придумаю, чтобы его восстановить. Однако я сделаю все, чтобы в новом СССР не было той вонючей власти, которая и привела мою Родину к гибели, ну а то, что нынешняя власть в тысячу раз более вонючая, меня не успокаивает. Напомнив это свое кредо, я хочу заняться кое-какими расчетами.
Начнем с завода. Во всем мире ферросплавным заводом считаются 2–3 ферросплавные печи мощностью до 27 МВА. Или одна печь, мощностью в 75 МВА. В СССР нормальным ферросплавным заводом можно считать 16 ферросплавных печей мощностью 21 МВА в двух цехах (к примеру, Серовский или Новокузнецкий), а Стахановский ферросплавный имел всего 8 таких печей. Друинский ушел с Ермаковского завода ферросплавов, в основном построив его полностью, и наш завод имел 16 печей мощностью 21 МВА, 6 печей мощностью 33 МВА и 4 печи мощностью 63 МВА, итого — 26 печей. По суммарной мощности наш завод втрое превосходил даже аналогичный средний отечественный завод, а о западных заводах и разговора нет. Крупнейшая металлургическая корпорация Японии «Ниппон стил», напомню, имеет и ферросплавное производство, на котором тогда производила 200 тысяч тонн ферросплавов, а мы производили их свыше 1 млн. тонн.
Если бы Друинский стал главным инженером на уже построенном Ермаковском заводе ферросплавов, с уже отлаженной технологией на опробованных печах, то и тогда его оклад по справедливости должен был бы быть втрое выше оклада других главных инженеров. Но ведь он еще этот завод и строил, а печей 33 МВА и 63 МВА не было еще ни в Союзе, ни в мире. А Друинский имел средний по Союзу оклад 330 рублей, да плюс 15 % «казахстанских», да плюс 40 % премии, если она была. Итого около 550 рублей в месяц. Мне пришлось читать рукопись воспоминаний одного полковника, последние 10 лет прослужившего у Москаленко в Инспекции Министерства обороны СССР. Полковник скрупулезно вспомнил и где что ел, и сколько получал. В 1978 году он вышел на пенсию и для ее получения был рассчитан его средний заработок: он оказался 712 рублей. Я сказал: ни хрена себе — за что?! Какая, к черту, у этих инспекторов ответственность? Не обрыгаться, когда тебя напоят в проверяемом тобой полку?
СССР, конечно, был в тысячу раз более справедливым государством, нежели нынешнее ублюдочное СНГ, но до справедливости и в нем было еще очень далеко. (Правда, один подполковник, служивший в космических войсках на Камчатке, очень удивился заработку полковника в Москве в 712 рублей, но это, думаю, потому, что этот подполковник не знал, что «Родину защищать» выгоднее всего не на ее границах, а в Москве, и не в полку, а в Министерстве обороны.) Но это, так сказать, присказка.
Ведь Друинский помимо завода построил и содержал в исправном состоянии процентов 60, если не больше, города с 50 тыс. жителей (остальные 40 % построили и эксплуатировали ермаковские ГРЭС, завод железобетонных конструкций, завод металлоконструкций, птицефабрика и остальные предприятия города). Причем Друинский это сделал совершенно бесплатно, поскольку партийная и советская власть в Ермаке нагло спихнула на него эти обязанности.
Теоретически дело должно было обстоять так. Друинский должен был согласовывать с проектантами чертежи завода, принимать у строителей и вводить в строй печи и производственные объекты завода, после чего выдавать на них Родине плановое количество ферросплавов. И все. Какая бы у него ни была зарплата — такая или в три раза больше — но государство платило ее Друинскому только за это. Однако помимо денег на строительство собственно завода государство выделяло заводу деньги и на строительство жилья для работников завода, и на строительство объектов соцкультбыта, пропорциональных числу работников завода, т. е. на строительство больниц, кинотеатров, магазинов, водоснабжения, канализации и т. д. и т. п. Вот эти деньги завод должен был передавать органам советской власти города Ермака, а эти органы должны были создать соответствующие организации, заказывающие строительство нужных городу объектов и эксплуатирующих эти объекты. И советская власть, возглавляемая партийной, нагло отказалась исполнять эти свои обязанности: промышленным предприятиям было фактически заявлено — это ваши работники, вот вы для них сами стройте и сами все поддерживайте в рабочем состоянии. Получалось, что в городе Ермаке совсем нет граждан города, а есть только работники промышленных предприятий, и эти предприятия и занимались жизнеобеспечением своих работников. В городе не было ни одного объекта жизнеобеспечения, который бы принадлежал собственно городу, даже не было ни единой собственно городской торговой точки — все принадлежало промышленным предприятиям, на худой конец, сельскому райпотребсоюзу.
Возникает вопрос — а за что же отвечала в городе партийно-советская власть, за что ее работники зарплату получали? А ни за что! Вернее, они отвечали за порядок. То есть если предприятия выполняли план и содержали город в порядке, то секретарь горкома и председатель горисполкома вылезали на трибуну и сообщали, что это благодаря их мудрому руководству Родина получила сотни тысяч тонн ферросплавов, миллионы киловатт-часов электроэнергии и т. д. А если случался беспорядок, то за него отвечали руководители предприятий, т. е. та же партийно-советская власть залезала на трибуну и объявляла (утрирую), что это из-за ленивого дурака Друинского в городе нехватка воды, из-за ленивого дурака Панасенко не хватает торговых точек и т. д. и т. п.
Помню, П.П. Конрад, который в описываемое время был начальником жилищно-коммунального отдела завода (ЖКО), рассказал мне такую историю. Но сначала предыстория. Поскольку весь город по частям принадлежал предприятиям города, то каждое предприятие имело свой ЖКО со своими ремонтными службами. То есть в городе круглосуточно дежурили диспетчеры ЖКО, бригады слесарей и электриков, дежурные шоферы с ремонтными летучками и бойлерами нашего завода, ГРЭСа, ЗМК, птицефабрики и т. д., а аварии-то, в принципе, случались редко и люди фактически бездельничали. Кроме этого, в городе не было каких-то отдельных районов предприятий, а дома и объекты часто стояли вперемешку. И если случался порыв трассы в районе границ ответственности разных ЖКО, то сначала, само собой, происходило выяснение с помощью начальства вопроса, кому ремонтировать, и улаживание возникшего пограничного конфликта.
По московским понятиям, город в 50 тысяч жителей — это даже не московский район, а какой-то переулок в этом районе, и совершенно очевидно, что глупо было иметь в нем столько аварийных служб и столько техники для ликвидации аварий. И вот, как рассказал П.П. Конрад, появился в городе новый зампред горисполкома — молодой, наивный казах. Он удивился этой глупости с аварийными службами, и у него возникла здравая идея объединить все эти службы в одну, подчинив ее, само собой, городу, т. е. горисполкому и горкому. По его расчетам, только расходы снизились бы втрое. Он поделился этой идеей с Конрадом, тот в свою очередь удивился наивности этого парня, но согласился сопровождать его к секретарю горкома, чтобы поддержать энтузиаста как специалист. Секретарь горкома выслушал парня, а потом цинично сказал.
— Если сегодня ночью случается авария в городе, ты что — одеваешься и бежишь ее ликвидировать? Нет, ты звонишь на завод или на ГРЭС и спокойно спишь дальше. А если аварийная служба будет принадлежать городу, то кому ты будешь звонить — сам себе? Оно тебе надо? Так что забудь, дурак, об этом и никогда больше не вспоминай!
Надо сказать, что, когда я принял должность заместителя директора завода по коммерческой части и транспорту, то был уже теоретически подготовлен к встрече с бюрократами и циничными проявлениями бюрократизма. Но теория это теория, а в жизни о теории часто забываешь и всех судишь прежде всего по себе, отсюда и попадаешь в ситуации, в которых выглядишь крайне наивным. Так было и со мною.
Мои предшественники на этой должности не сумели отбиться от ответственности за производство товаров народного потребления (ТНП) и передали ее мне. У нашего завода был план по этому показателю — 130 тысяч рублей в год. На эту сумму мы на заводе обязаны были сделать что-то, что можно было бы продать непосредственно людям. Производство добавочного, непрофильного для этого завода товара имеет смысл только тогда, когда на этом предприятии имеются либо отходы производства, которые еще можно задействовать в производстве, либо не полностью задействованные высококвалифицированные специалисты, которых можно дозагрузить этой работой. Но даже при наличии этих двух условий выгоднее создать отдельное предприятие, которое бы специализировалось на выпуске подобных товаров.
У нас же на заводе по обеим этим позициям было хоть шаром покати — я облазил весь завод в поисках хоть какого-нибудь отхода, который можно было бы превратить хотя бы в элемент какого-нибудь ТНП — ноль! Мои предшественники организовали производство железных гаражей 3x6 метра, делали мы их из покупной стали, которой в тот момент катастрофически не хватало для основного производства. Гараж продавали за 600 рублей, но к моему занятию должности этими гаражами уже был забит весь Ермак, и мы их, чтобы продать, возили за счет завода по всей области, причем затраты на перевозку уже превышали стоимость гаражей. А этот чертов план в 130 тысяч рублей все равно выполнялся с огромным трудом.
Я, конечно, как трезвый производственник, задолбанный к тому же вопросами снабжения и транспорта, с которыми тоже еще не мог по уму разобраться, попытался ответственность за производство ТНП всучить кому-нибудь другому, в частности, заму по экономическим вопросам, но у меня это не получилось. Директор меня не поддержал (что оказалось к лучшему, так как потом выяснилось — это очень интересное дело). Так что ответственность за ТНП осталась на мне, на мне же осталась и обязанность ездить в Павлодарский обком и получать нагоняй за плохую работу завода в этом вопросе. С целью экономии обком «драл» нас скопом, т. е. собирал всех руководителей предприятий области и объяснял нам, какие мы лентяи, не желающие выполнять гениальное решение партии по пошиву модной одежды на угольных шахтах. У моих коллег с других предприятий положение было не лучше моего — ну какие, к черту, товары народного потребления можно производить из отходов завода по производству глинозема или завода по производству ракетного топлива?
А надо сказать, что моя жена дружила с редактором нашей многотиражки Екатериной Костюковой, а ее муж в подвале своей пятиэтажки (в них на каждую квартиру выделялось место под хранение овощей и консервации) устроил подпольную мастерскую и выделывал в ней овчины, а потом шил из них прекрасные дубленки. Мне стало завидно, я разыскал несколько инструкций, включая дореволюционные, по выделке овчин, сходил в старый Ермак, купил там у хозяина, у которого заметил во дворе овец, пять овчин (не тех, что нужно, само собой) и занялся в ванной их выделкой по инструкциям. Кроме вони ничего существенного получить не смог, а из того, что более-менее получилось, сшили какое-то подобие мехового жилета для сына, да и тот выглядел убого. (Этот опыт показал мне, насколько тяжело организовать какое-либо производство без специалистов, а только по описаниям его. Перестройщики остановили производство в СССР, но я бы повесил их не за то, что они уменьшили производство товаров и отдали рынок СССР Западу (хотя и за это стоит), а за то, что с этих производств разошлись квалифицированные кадры. Как восстанавливать эти производства?) Тем не менее, я понял идею того, что нужно для выделки овчин и кож, и, главное, понял, что овчины в области — не проблема. С тех овец, которых выращивали колхозы и совхозы, шкуры, конечно, сдавались государству, но были и сотни тысяч голов овец, принадлежавших частным лицам, а вот они эти шкуры зачастую выбрасывали. А спрос на кожу и дубленки в то время был огромен! Так что тут, в полном смысле этой поговорки, овчинка стоила выделки — стоила того, чтобы этим заняться.
Но, во-первых, подобное производство не имело ни малейшего отношения к нашему заводу и было для него совершенно инородным. Во-вторых, его нужно было делать в комплексе, т. е. включать и пошив кожаных и меховых изделий. И, главное, самому по себе заводу оно было не то, что не по силам, а очень хлопотным из-за необходимости иметь агентов по закупке овчин во всех населенных пунктах как минимум нашей области. Тут требовалась помощь и участие областной власти.
И я, переговорив с коллегами на других предприятиях, на очередном совещании по ТНП в обкоме партии внес предложение не мучаться дурью — не создавать на непрофильных заводах совершенно инородные карликовые и убогие участки по производству ТНП. А сброситься деньгами и ресурсами и на кооперативных началах построить в области фабрику по выделке овчин и пошиву меховых изделий. Для чего закупить для нее современное оборудование (это я брал на себя), пригласить хороших специалистов и выпускать высококачественные изделия, а уж эти изделия делить между предприятиями-акционерами по степени их вклада и считать эти доли выполнением плана по производству ТНП.
Далее мои коллеги с других заводов, которые еще не знали об этой идее, тут же активно меня поддержали, но я наткнулся на прямо-таки злобную реакцию обкома — он категорически воспротивился! Пошло тупое повторение, что «партия постановила организовать производство ТНП на каждом предприятии», следовательно, это производство нужно организовывать только непосредственно на предприятии и ни в коем случае не вне его. Никакие доводы, что этот завод будет как бы частью каждого предприятия-вкладчика, не помогали — каждый должен производить ТНП у себя и отдельно! Обком топил решение ЦК КПСС по производству ТНП и если не понимать, чего хотели работники обкома, то не поймешь, зачем они это делали. А причина была та же, по которой в Ермаке горком не хотел объединять аварийные службы. Предприятия принадлежат министерствам, и если предприятия не выполняют план по ТНП, значит, министерства плохо работают и эти министерства назначили руководить предприятиями области плохих работников, с которыми хорошие работники обкома не могут справиться.
Но кооперативно построенное предприятие не будет принадлежать ни одному министерству — оно будет принадлежать только области, следовательно, и за его работу будет отвечать непосредственно обком, а эти люди уже привыкли ни за что не отвечать! А я полез к ним со своей идей выделки овчин, наивно считая, что обком действительно хочет увеличить производство ТНП по Союзу. Да плевать они хотели на Союз, на коммунизм и на что угодно. И именно эту тупость и подлость эти обкомы КПСС и продемонстрировали в 1991 году. Быть тупым, не знать никакого дела, но получать большие деньги — вот чего хотели члены партийных и советских органов, и хотели они этого уже не одно поколение.
Вот и оцените, каково было Друинскому строить гигантский завод при содействии власти, укомплектованной подобными «государственными деятелями»?
Наши немцы
С другой стороны, не могу разделить негодование Друинского по поводу КГБ. На мой взгляд, это была самая безобидная для завода организация, и как выяснилось позже, самая бесполезная для страны. Михаил Иосифович обижается на КГБ за свою жену-немку, которую КГБ стремился выселить на восток. Но при чем здесь КГБ? КГБ исполнял решение Правительства, и если уж и обижаться, то на тогдашнее руководство страны, а оно, с позиций справедливости, поступало с немцами абсолютно правильно.
Чтобы не ставить советских немцев перед соблазном предательства, их в основной массе не призывали в армию и в результате потери советских немцев в войне были неизмеримо меньше, чем у остальных народов СССР, мужчин которых на фронте убивали немцы, конечно, не наши немцы, но тоже немцы. Так каково же было вдовам и сиротам воевавших народов СССР смотреть на не пострадавших на фронте немцев, пересидевших войну в тылу? Как выглядело бы Правительство СССР, если бы не попыталось как-то сгладить эту несправедливость? И немцев переселили осваивать малообжитые местности СССР не потому, что Правительство их ненавидело, а чтобы остальные народы страны были спокойны — и советским немцам эта война с немцами обошлась не просто так.
Конечно, в Ермаке, как и в области, было много немцев, я с ними работал, общался, дружил и могу сказать, что они ничуть не хуже остальных народов СССР, а утверждать, что они какие-то уж особо хорошие, я бы тоже не стал. Да, немецкие колхозы и внешне выглядели гораздо аккуратнее казахских, и дома немцев были устроены по-другому. Ну и что — ведь это народы разных культур. Другое дело, что повторное выселение этих потомков бывших переселенцев из Германии, так сказать, закалило их характер и сделало их предприимчивыми, особенно в плане ведения своего хозяйства. Поскольку именно от этого хозяйства зависели их жизни в XVIII веке, когда по призыву Екатерины II они переселялись в необжитые места России, и в XX веке, когда их вновь в связи с войной переселили в казахстанские степи.
Помню, я купил книжечку воспоминаний председателя немецкого колхоза «30 лет Казахстана» Якова Геринга, прочел и начал жалеть, что в свое время поступил в металлургический институт, а не в сельскохозяйственный. Изумительный по уму, воле и предприимчивости был хозяин! Потом я работал с этим колхозом по каким-то совместным проектам, Яков Геринг уже умер, но и его наследники заставили меня еще раз убедиться, что сельское хозяйство требует массу энергии, много ума и очень обширных знаний.
С перестройкой много наших советских немцев бросились переезжать в Германию в надежде на какую-то там счастливую жизнь. И выяснилось, что наши немцы и, так сказать, германские немцы, это очень разные люди. Мне сообщали и сообщают, что коренные немцы ФРГ гораздо спокойнее воспринимают переселяющихся к ним евреев, русских или украинцев, нежели советских немцев, которых они, по утверждениям очевидцев, откровенно не любят. А мои друзья-немцы, переселившиеся в Германию, в какой-то степени поясняют причины возникшего между немцами антагонизма.
Коренные немцы приготовились встретить своих нищих, бедных, забитых и запуганных собратьев из СССР и облагодетельствовать их подачками, но при этом коренные немцы со своим гонором не собирались признавать советских немцев ровней себе — цивилизованным. Скажем, у нас в Ермаке заведовал хирургическим отделением великолепный хирург Брух, и когда он переехал в ФРГ, так там его и санитаром в больницу не взяли, в связи с чем он вынужден был устроиться штамповщиком на какой-то завод. Для коренных немцев, видишь ли, его диплом и советский опыт совсем ничего не стоят. Само собой, что нашим немцам это не добавило любви к коренным немцам.
С другой стороны, наши немцы по духу сибиряки, для которых «100 рублей — не деньги, а 300 верст — не расстояние», и они с презрением и недоумением смотрят на коренных немцев. Те «по одежке протягивают ножки», и если их доход не дает им возможность купить готовый дом, то они всю жизнь будут снимать квартиру. А наши немцы этого не понимают. В Германии оказалось достаточно дешевой земли под строительство, для этих целей банки дают льготные ссуды, так чего мешкать? Руки есть, голова есть, и что «стоит дом построить» потомку пионеров, строивших дома на пустом месте сначала в Поволжье, а потом в Казахстане?
Ну и как коренным немцам на это смотреть? Они умные, цивилизованные, зарабатывают гораздо больше, но вынуждены арендовать квартиру, а эти «нищие» уже в своих домах живут?! Ну не обидно ли?
Или такой аспект. Как-то мы приценивались к одному производству в Германии, и хозяин фирмы пригласил нас на ужин в свое поместье, что, скажу откровенно, большая редкость, поскольку деловые обеды и ужины за границей проводят только в ресторанах, и домой там приглашают крайне неохотно. Поместье было большим, столовая была устроена в бывшей конюшне, которая стояла метрах в двухстах от собственно дома. У хозяина кулинария была хобби, и он приготовил нам ужин лично на китайской плите. Пожарил салат, а потом начал жарить бифштекс, моя переводчица, с которой я сидел рядом и которая уже много лет жила в Германии, сказала, что он его жарит из очень дорогого мяса высшего сорта — из незамороженного. Ну-ну, отрезал я кусок от своей порции, а мясо-то воняет! Причем так, что я такое на базаре даже с доплатой не взял бы. А тут все наши немецкие партнеры едят и восторгаются. Пришлось мне вернуть бифштекс хозяину и попросить его зажарить мою порцию еще сильнее, а потом все же съесть, чтобы не обидеть хозяина — он ведь искренне хотел нас порадовать.
Так вот, наши немцы и рассказывают, что в ФРГ мясопродукты для основного покупателя страшно паршивые — напичканы консервантами или глубоко заморожены. Но можно найти и отличную, как в СССР, колбасу, и отличное мясо, однако стоит это ужасно дорого. И коренные немцы, чтобы попробовать свежего мяса, раз в год ходят в ресторан или, как писк их предприимчивости, едут в Польшу и там покупают свежее мясо дешевле, чем в Германии. А наши немцы сбрасываются деньгами, едут в сельскую местность к бауэру (крестьянину), покупают по 2 марки за кг (рассказ о середине 90-х) живую свинью, колют ее, разделывают, делят, а дома делают из свежего мяса колбасы и разные вкусности. Ну и поставьте себя на место коренного немца: ты умный, цивилизованный, зарабатываешь много, а ешь замороженную свинину из Бразилии, которая, бог знает, сколько лет лежала в морозильнике, а эти нищие едят парное мясо, которое только очень богатым людям по карману.
Обидно, однако!
Ну да ладно о немцах, вернемся к КГБ.
Антисоветская пропаганда
Ну, а теперь о моей личной проблеме с КГБ, если это можно назвать проблемой. Летом 1977 года сначала Люда Чеклинская, инженер метлаборатории, сообщила, что ее допросил работник КГБ обо мне — о том, какие разговоры я веду с окружающими, и рассказала, о чем собственно она говорила кагэбисту. Затем Ленька Чеклинский, парторг ЦЗЛ, отозвал меня в сторонку и тоже рассказал, о чем его расспрашивал сотрудник КГБ. Если учесть, что в КГБ их предупреждали о неразглашении разговора, то такое участие Чеклинского в моей судьбе дорогого стоит — узнай об этом в КГБ, его бы если и не исключили из партии, то уж точно погнали ли из парторгов. Затем Алексей Семенович Рожков сообщил, что и его допрашивало обо мне КГБ, а когда я спросил, что именно он обо мне сообщил, то Рожков зло сказал, что послал их на х… и отказался с ними разговаривать на том основании, что я нормальный советский парень и им нечего ко мне цепляться.
Такому поведению Семеныча не стоит особо удивляться. Это в Москве перепуганный интеллигент сопровождал поносом любое воспоминание о КГБ и о том, что его могут выгнать «за 101-й километр», то есть заставят переселиться из Москвы в другие районы СССР. А нам чего было этого бояться? Тогда в моде был такой анекдот. Двое чукчей сидят в яранге за Полярным кругом, мороз -40°, пурга уже две недели, все занесло снегом, им нечего делать, и они уже рассказали друг другу все анекдоты. Наконец один чукча говорит:
— Давай рассказывать политические анекдоты.
— Да ну его, — отвечает перепуганно другой, — еще зашлют куда-нибудь!
Так, собственно, было и нам в Ермаке. Мы добровольно жили и работали в 200 км к северо-востоку от Экибастуза, в котором в свое время «страдал» сексот Солженицын, и за 2,5 тысяч километров к востоку от Горького, в котором в ссылке злая жена Ленка Боннэр била сковородкой по голове еще одного «страдальца» — академика Сахарова. Меня и по сей день тошнит, когда по телевизору начинают стонать о каком-нибудь уроде, которого при «страшном сталинском режиме» выселили из Москвы аж куда-нибудь в Воронеж.
Тем не менее, узнав, что мною занялось КГБ, мне стало довольно-таки страшновато. И, знаете, в первую очередь не за свою судьбу, и даже не за жену и только что родившегося сына. Я в те годы верил во всю эту хрущевскую брехню о том, что НКВД, якобы, заставляло на допросах оговаривать товарищей и близких. И я страшно боялся, что и меня сделают таким же подонком (как я потом узнал), как и Солженицына, который оговорил всех своих товарищей и жену. Я для себя твердо решил, что если меня будут спрашивать, с кем я разговаривал на политические темы и что мне говорили, то пусть лучше меня посадят, но я ни одной фамилии не назову. Однако все получилось не так страшно, хотя и не менее интересно.
И вот как-то звонок из отдела кадров, и меня просят срочно подойти, чтобы сделать кое-какие исправления в трудовой книжке. Я прихожу, а инспектор выводит меня из ОК и предлагает зайти в очень неприметную дверь рядом с дверью в отдел кадров, без таблички и всегда закрытую. Я прекрасно знал все в заводоуправлении и до того времени полагал, что это какая-то кладовка. Но оказалось, что это маленький, совершенно голый кабинетик с двумя столами буквой «Т», двумя стульями и железным ящиком, из тех, которые изображали у нас на заводе сейфы, и которые у нас же в БРМЦ и варили из 3-миллиметровой стали, идущей на кожуха электродов. В кабинетике меня ждал куратор КГБ завода.
Надо сказать, что до этого куратором КГБ был здоровый, толстомордый монгол. Я его визуально знал неплохо, поскольку он довольно часто заходил в диспетчерскую, но он всегда смотрел на меня как-то косо. К тому моменту я не знал, что его уже сменили, и теперь куратором был молодой парень-казах (если я чего-то не путаю, поскольку был еще и молодой парень, русский, инженер с нашего же завода, окончивший школу КГБ). Этот парень широко улыбался, приветливо поздоровался и, когда инспекторша вышла, сообщил, что со мною хочет побеседовать начальник КГБ города, и он просит меня к нему сейчас съездить. Куратор посадил меня в «Жигули», и мы поехали в город.
Горотдел КГБ располагался в маленьком отдельном двухэтажном домике, на первом этаже которого жил с семьей прапорщик (он нам и открыл дверь на звонок), а на втором этаже было несколько служебных комнат, в том числе и кабинет начальника КГБ. Это был довольно пожилой майор (впрочем, в форме я никого из КГБ никогда не видел даже во время праздников), который, встречая меня как родного сына, вышел из-за своего стола. Мы сели за стол для совещаний, что обычно всегда создает атмосферу некоторой близости и меньшей официальности, нежели разговор, когда начальник сидит за собственным столом.
Он начал беседу на отвлеченные темы, причем ругал наши советские порядки, словом, как я понимаю, пытался меня этим успокоить и расположить к себе. В конце концов наговорившись, он сказал, что я, конечно, понимаю, что меня пригласили для дачи объяснений по поводу моих антисоветских разговоров, на что я ему заметил, что не вижу в этом надобности, поскольку у нас в стране свобода слова. И тут он мне объяснил ситуацию, и знаете, абсолютно правильно и логично. Смысл его объяснения был вот в чем.
— Действительно, у нас свобода слова и можно говорить о чем угодно. Но дело в том, что слово — это оружие, и каждый должен отдавать себе отчет, зачем он это оружие применяет — с какой именно целью, а для этого понимать, кому и что он говорит. Если он говорит с людьми, которые, как и он, хотят исправить недостатки на благо Родины, то это одно — это свобода слова и можно говорить о любых недостатках. Но если он говорит с человеком, который возбужденный его словами пойдет и совершит теракт, то болтун тоже будет виноват в этом теракте. Таким образом, вся свобода слова упирается в вопрос — ты твердо уверен в том, кому ты это слово говоришь? Ты отвечаешь за него и за свое слово? За то, что оно не приведет к вредным последствиям для твоей Родины?
Я, надо сказать, его понял и не стал строить дебильную рожу правозащитников Ковалева или Новодворской и талдычить об общечеловеческих ценностях. Майор, по сути, был прав. Поэтому я согласился написать объяснение, но попросил, чтобы они сообщили мне, о чем я должен написать — что именно обо мне сообщили им их агенты. Они заулыбались, майор покрутил головой, но согласился. Они начали смотреть бумаги и сообщать мне суть моих высказываний (а я такое действительно говорил), и мне осталось изложить их в признательной форме на бумаге, закончив в конце какой-то надиктованной фразой о том, что я такое больше говорить не буду. Я написал, расписался и, между прочим, увидел, что облегченно вздохнул не только я, но и они. Я-то был несказанно рад, что они не спросили, кому я все это говорил, а свое облегчение они мне объяснили так.
Оказывается, дело на меня завел монгол, но когда он уехал и передал начатое дело преемнику, то тот нашел его никчемным и решил закрыть. Но для этого требовалось получить с меня объяснение. Если бы я отказался его давать, то они вынуждены были бы официально меня предупредить и установить за мною слежку, что в конечном итоге могло привести к возбуждению уголовного дела. А так все уладилось, и они дело закрывают. Мы тепло попрощались, и куратор на тех же «Жигулях» отвез меня обратно на завод.
Я был счастлив, что все так хорошо окончилось, но на следующий день куратор снова позвонил мне и вызвал к себе в комнатушку: «Ты знаешь, начальство посмотрело твое объяснение и теперь надо его немножко поправить». У меня опять все опустилось: ну, думаю, сейчас начнут про друзей расспрашивать! Однако все было не так, речь, по сути, шла о двух моментах.
— Вот ты тут написал, что рассказывал анекдоты о Л.И. Брежневе, — сказал куратор. — Давай переделаем, и ты напишешь, что рассказывал анекдоты о первых руководителях СССР.
Получалось как бы не так остро, и я без возражений согласился изменить эту часть своих показаний.
— А вот тут ты пишешь, что говорил о том, что в партию принимают рабочих и итээровцев в соотношении 10:1, чтобы партия была глупая и безотказно голосовала за ЦК, — продолжил куратор. — Давай это вообще уберем, а ты напишешь, что сравнивал экономические показатели СССР и Бразилии.
Такое действительно было. Я как-то в лаборатории просматривал газеты, и в «Правде» как о большом достижении сообщалось, что СССР за год дал прирост в 5 % национального дохода. А в еженедельнике «За рубежом» была статья о Бразилии, в которой было сказано, что «бразильское экономическое чудо окончилось» и что теперь Бразилия имеет прирост национального дохода не более 8 %. Я высмеял радость по поводу 5 % и скепсис по поводу 8 %, но когда куратор мне этот эпизод напомнил, то я в свою очередь вспомнил, кто в это время был в лаборатории, и понял, кто меня «закладывал», т. е. понял, в присутствии кого мне надо свободой слова пользоваться аккуратнее. Тем не менее, мои объяснения получались как бы мягче, и я согласился изменить и этот эпизод. На этом, наконец, мое дело с КГБ закончилось навсегда, но я, между тем, оставался с обоими кураторами в хороших отношениях.
Не могу сказать, что после этого я стал осторожнее. Наверное, стал, но не помню, чтобы меня очень уж сдерживал страх, если я хотел рассказать анекдот или что-то покритиковать. Разговаривал обо всем я вполне откровенно, особенно в командировках со случайными попутчиками или соседями по гостинице. Во всяком случае я не чувствовал себя очень уж стесненным в своих высказываниях, другое дело, что я стал понемногу с годами менять убеждения и приходить к выводу, что при всех маразмах социализма в нем есть что-то очень правильное.
Но чтобы закончить с КГБ, скажу, что спустя какое-то время я купил книгу «Уголовное право» — учебник для студентов юридических факультетов, и в нем внимательно прочел главу об антисоветской пропаганде. И тут я выяснил, что мои «добрые» кагэбисты не смягчили мои показания, а сделали их более соответствующими своей подследственности — сделали более законными те основания, по которым монгол завел на меня дело.
Штука в том, что пропаганда считалась преступной, если она готовила подрыв советской власти, и только. Как частное лицо Брежнев советской властью не был, следовательно оскорбление Брежнева не было антисоветской пропагандой, и дело по анекдотам о Брежневе должно было бы заводиться не КГБ, а милицией по статье об оскорблении и, кстати, после заявления об этом самого Брежнева. Заменив в своем объяснении Брежнева на «первых руководителей Советского Союза», я сам подогнал свои показания под статью об антисоветской пропаганде, поскольку руководители СССР были представителями советской власти. Далее, КПСС советской властью тоже не являлась, и всякая критика ее Вообще была неподсудной. Вот кагэбисты и убедили меня эпизод с партией убрать совсем. А, казалось бы, совершенно безобидное сравнение СССР с Бразилией все же бросало тень скепсиса именно на советскую власть, то есть это сравнение с натяжкой можно было все же считать антисоветской пропагандой. Так что правы зэки, когда говорят, что хороших следователей не бывает, что верить им ни в коем случае нельзя.
Однако в любом случае, если эти мои проблемы с КГБ и оказали какое-то негативное влияние на мою судьбу, то я этого не заметил. Более того, мне стало где-то даже легче, поскольку от меня с предложениями вступить в КПСС отстали сразу и все — от Лени Чеклинского до начальников. Видимо, круги по воде пошли, и я получил негласный статус антисоветчика, недостойного быть членом такой почтенной партии, в которой, как оказалось, из всех членов было всего 99 % примазавшихся алчных карьеристов, подлых негодяев и просто людей, которые и сами не понимали, зачем они в партию вступили. (Где-то году в 93-м я участвовал в областном собрании «Славии», на нем выступила учительница, на тот момент секретарь Павлодарского обкома КПСС. И она, как и полагается коммунисту, начала ругать «Славию» за то, что эта организация презрела интернационализм и пытается отделить славян от остальных народов Казахстана. Я спросил у нее, сколько членов КПСС осталось в Павлодарской области. «183 человека, — ответила она, подумала и добавила, — из бывших 18 тысяч». Так что число 99 % я взял «не с потолка».)
В целом же, по степени того, насколько различные организации мешали жить и работать заводу, КГБ был самым безобидным. Неизмеримо хуже были остальные.
Госгортехнадзор
Тут даже трудно отдать предпочтение каким-либо контролерам, поскольку они тоже были специализированы и разным службам завода досаждали в отдельности, а все вместе касались только высших руководителей завода и, конечно, главного инженера в первую очередь. Друинский об этом пишет, но не дает подробностей, поэтому давайте их дам я.
Начать нужно с самых пакостных контролеров, но сначала несколько слов в принципе. На мой взгляд и по моему убеждению, в контролеры шли и идут люди самые бездельные и неспособные работать. Попробую начать с пошлого, но образного примера. Любая работа помимо затрат энергии и ума дает и огромное удовлетворение своими результатами. Скажем, супружеские обязанности это тоже работа, но многие делают эту работу охотно, более того, стремятся еще и подработать на стороне, не требуя за это дополнительного вознаграждения или хотя бы награждения почетной грамотой. Но вот, представьте, что государство ввело бы контроль за этой работой и создало инспекцию по наблюдению за исполнением супружеских обязанностей. Ну, кто бы отказался от того, чтобы самому это делать, только для того, чтобы наблюдать, как работают другие? Только тот, кто сам эту работу выполнять не может и, соответственно, не может получить от этой работы удовольствие.
Вторая особенность контролеров в том, что они понимают, что если они не будут находить недостатков, то у начальства возникнет вопрос о том, а нужны ли эти контролеры и эти инспекции вообще, и тогда контролер может лишиться непыльной и доходной работы. Поэтому контролеры хуже свиньи: та ищет грязь, чтобы поблаженствовать в луже после того, как нажрется, а контролер ищет грязь, чтобы жрать. Свинья, не найдя лужи, поваляется и на травке, а контролеру грязь нужно найти обязательно, а если ее нет, то эту грязь нужно выдумать, чтобы было что записать в свои отчеты начальству. Короче, контроль — это самое яркое проявление бюрократической системы управления, и люди в инспекции собираются соответствующие.
Поскольку я пишу о работе главного инженера, то начать, пожалуй, нужно с Госгортехнадзора — с организации, которая, якобы, следила за соблюдением на заводах правил техники безопасности. Возможно, сейчас, при капитализме, когда алчность толкает владельцев предприятий на «экономию» в этом вопросе, эти примеры и несвоевременны, но при социализме, к примеру, нас наказывали, если мы не расходовали полностью деньги, предназначенные для ТБ. Порою приходилось искать, чтобы еще такое из области ТБ придумать, чтобы плановые деньги освоить: ну, например, помимо обязательной душевой в цехе еще и сауну построить. Кроме того, ну ведь мы же работаем со своими людьми вместе, подвергаемся такой же опасности, ну кого еще кроме нас, заводских работников, вопросы техники безопасности по-настоящему волнуют еще больше?
Тем не менее, и тогда над нами висел этот Госгортехнадзор со своими потребностями имитировать кипучую деятельность.
Я не помню по заводу ни единого путного решения по ТБ, которое вышло бы из этой организации. В лучшем случае в предписаниях инспекторов Госгортехнадзора содержались требования исполнять инструкции по технике безопасности, заводом же разработанные и Друинским утвержденные. А в остальном в их предписаниях был либо бред, либо вещи, которые условия безопасности на заводе косвенно ухудшали.
К примеру. Наши печи были электрические, а мы, соответственно, электрометаллурги, т. е. помимо того, что мы химики высоких температур, мы обязаны были быть еще и электриками. Иными словами, мы обязаны были уметь работать в условиях, когда вокруг нас находятся конструкции под электрическим напряжением. Это обычное дело, ничего особенного в этом нет, тут требуются элементарные знания электротехники и обычная для работающего внимательность, и только. Я уже писал, что электроэнергия подводится в печь тремя электродами — трубами диаметром от 1200 до 1900 мм, электроды в свою очередь крепятся в трубах мантелей, шихта в печь подается из печных карманов (бункеров) стальными труботечками. Все эти элементы печей теоретически изолированы от электродов, но это теоретически, а когда печь работает, то часть этих конструкций может оказаться под напряжением. Поэтому каждого рабочего с первой минуты его прихода в цех тщательно предупреждают и показывают, каких частей цехового оборудования нельзя касаться голой рукой, если печь работает, соответственно на этом оборудовании были сделаны предупреждающие надписи, а само оно огорожено забором из сетки. Соответственно у обслуживающего персонала выработались приемы обслуживания оборудования работающей печи, которые требовали осторожности, и стоящей печи, когда осторожность была излишней.
И вот Госгортехнадзор в плане обозначения своей полезной деятельности предписывает выполнить в этих огораживающих конструкции печи заборах калитки с концевыми выключателями. Теперь, если кто откроет калитку, отключалась вся печь. Доказать Госгортехнадзору идиотизм этого предписания не удалось. А огороженные пространства замусоривались просыпающейся шихтой и требовали регулярной уборки. Так вот, раньше при выполнении этой работы рабочие знали, что печь работает, а значит, вокруг них могут быть элементы конструкции под напряжением, в связи с чем они всегда надевали вачеги (рукавицы из толстой кожи) и старались не касаться опасных деталей печи. А после внедрения мероприятия Госгортехнадзора для уборки требовалось отключить печь, соответственно в понимании рабочих предосторожности стали излишними. Но я уже пару раз писал, что остановка печи на время свыше 20 минут уже была чрезвычайным происшествием, о котором докладывалось в министерство, кроме того, остановленная печь не давала рабочим заработать. Хорошо, если печь шла с перевыполнением плана, а если до плана не хватало металла, то как тут печь ни с того ни с сего остановишь? Знаете ли, 30 % зарплаты, поставлявшиеся премией, это деньги. И вот однажды молодой рабочий, как мне помнится, татарин, посланный убирать огороженное место, не стал открывать калитку, а чтобы не останавливать печь перемахнул через забор и начал уборку. Его нашли за этим забором убитым электротоком. Он был без рукавиц — ведь уже привыкли при этой работе на отключенной печи не бояться электротока. Воссоздали картину того, что произошло: вероятнее всего он держался одной рукой за какую-то заземленную деталь, а другой коснулся труботечки. Потом, в ходе эксперимента, создали экстремальные условия на печи, и напряжение на этой труботечке не превысило 70 вольт — мизерное напряжение для нас, электрометаллургов. Но парень и такого напряжения не ожидал, попал под него внезапно и погиб. А до этого предписания Госгортехнадзора никаких подобных случаев не было, мы создали трагедию из ничего, из желания инспекции отчитаться в своей полезной деятельности.
Еще инспекции
Поскольку я был замом директора по транспорту, то меня особо доставала инспекция железной дороги, контролирующая простой вагонов. Я об этом еще буду писать ниже, а пока скажу, что заводу было разрешено держать у себя для разгрузки и погрузки железнодорожные вагоны 15,2 часа. Эта норма средняя по месяцу, поэтому простоем отдельного вагона можно было пренебречь, но касалось это только обычного подвижного состава — полувагонов, платформ и крытых вагонов. А спецподвижной состав, в который входили и железнодорожные цистерны («бочки» на жаргоне железнодорожников) контролировался особо — каждая его единица в отдельности. И если простой «бочки» превышал 15,2 часа, то завод штрафовался инспекцией, и, что наиболее страшно, этот штраф накладывался на конкретных работников нашего железнодорожного цеха. Поскольку эти штрафы были одного порядка с месячной зарплатой, то наши железнодорожники пытались избавиться от спецподвижного состава в первую очередь и пренебрегали всем, включая и реальные потребности завода на тот момент.
Как-то сложилось у нас на заводе тяжелейшее положение с бензином, наконец, снабженцы, казалось бы, решили вопрос — выбили фонды и получили дополнительно 60 тонн бензина. Это топливо двинулось к нам в железнодорожной цистерне, отдел снабжения ее ждал, звонил на каждую узловую станцию и торопил железную дорогу. И вот как-то вечером начальник отдела снабжения В.А. Шлыков мне сообщил, что «бочка» с бензином уже на станции «Спутник» и ночью будет у нас. Утром с несчастным видом заходят Шлыков и начальник железнодорожного цеха Главацкий и только руками разводят. Железная дорога прицепила цистерну с бензином к составу с цистернами с мазутом для нас и так ночью и закатила на завод. Пока документы на груз от железной дороги поступили в наш железнодорожный цех, грузчики, увидев столько «бочек» сразу, и в страхе, что они не успеют столько цистерн сразу разгрузить и помыть за 15,2 часа, погнали состав к мазутохранилищу и слили в него все, в том числе и бензин. Ну что было делать?
А вот дикий случай контроля финансовых органов. Какие-то московские экономические придурки, из числа тех, кто готовил Правительству СССР постановления, съездили за границу и привезли оттуда «блестящую экономическую идею» — оказывается, у промышленности СССР оборотных фондов больше, чем ей надо, а от этого вся бесхозяйственность и невозможность построить Коммунизм. А вот на японских заводах этих самых оборотных средств раз в десять меньше, чем у нас, вот потому-то японцы так усиленно и развиваются.
Поясню о чем речь. Заводам для нормальной работы требуются запасы сырья, материалов и оборудования, отсутствие которых может вызвать остановку завода. Все это стоит денег и называется оборотными фондами. При наших зимах и длине дорог для подвоза, во избежание вероятных сбоев снабжения, наши заводы имели соответствующие запасы, скажем, по нормам наш завод за лето к зиме запасал трехмесячный запас сырья. Это было тем более разумно, потому что летом и рудникам легче работать, и железная дорога не так сильно загружена. Но московские умники попрекали нашу промышленность тем, что в Японии, дескать, на заводах и складов-то нет, и что там запасы не более чем на 5 дней, соответственно и оборотных средств японцам надо очень мало. (Потом выяснилось, что японские заводы имеют запасы больше, чем у нас, но только их склады не входят в состав их заводов, а являются отдельными фирмами, но московским придуркам не хватило ума в этом разобраться.) Соответственно появилось решение Правительства сократить на заводах СССР оборотные фонды, и, соответственно, финансовые органы стали это сокращение контролировать изуверским способом: если у тебя оборотных фондов больше, чем по норме, то банки не давали ничего покупать — останавливали завод на «законных» основаниях.
А у нас в этом плане сложилось тяжелейшее положение — проект строительства завода все время менялся, ранее запланированные цеха и участки не строились, а оборудование на них уже было заказано и пришло. Так, в частности, на складах завода лежало оборудование двух цехов по производству электродной массы, которые так и не начали строить; было начато, но не было закончено строительство копра, так как с завода сняли задание по выплавке синтетического шлака, который на этом копре должен был дробиться, и т. д. и т. п. Продавать оборудование, даже ненужное, завод не имел права — такая уж была «самостоятельность» советских хозяйственников. Нужно было сообщить о ненужном оборудовании министерству, оно сообщало Госплану, и тот, якобы, должен был найти, кому ненужное нам оборудование нужно, тому и передать. Но я не помню, чтобы эта схема хоть когда-нибудь сработала, хотя наш отдел оборудования постоянно сообщал наверх, что у нас склады затоварены ненужным заводу оборудованием. Вот и получилось, что у нас на заводе под видом оборотных фондов лежит то, что нам не нужно, а тут банк прекращает оплату того, что нужно для работы. И банку, как и любому контролеру, наплевать, будешь ли ты работать или остановишься, ему главное отчитаться в своей полезной деятельности контролера. Что делать?
И тогдашний директор С.А.Донской принимает единственно возможное решение, о котором, безусловно, все начальники и контролеры знали, — он приказывает нам, начальникам цехов, принять в цеха все ненужное оборудование со складов завода и «списать его на производство». Это означало, что мы, якобы, установили это оборудование в своих цехах и начали на нем работать, списывая с него стоимость на себестоимость продукции. По норме амортизации (тогда это было обычно 1/7 в год) через 7 лет оборудование как бы «изнашивалось» и списывалось с баланса цеха окончательно. Но это новое оборудование в цехах не было нужно, ящики с ним мешали работать (ведь это цех, а не склад), и начальники цехов все это новое оборудование прямо со складов вывозили в металлолом, оставляя себе только бумаги, что оно, якобы, в цехах. В тот год мы уничтожили оборудования на огромную сумму, но финансовые органы смогли отчитаться, что они доблестно выполняют решения партии и правительства и «приводят в норму оборотные фонды предприятий».
У меня дело обстояло так. Я тоже получил в ЦЗЛ массу оборудования, которое ну никак не мог приспособить в цехе, посему тоже вывез его в металлолом. Но воздушный компрессор, очень мощный, мне было страшно жаль (хохол все-таки!). И мы здоровенный ящик с ним и более мелкие ящики с комплектующими сняли краном и поставили в экспериментальном участке. Сначала я предлагал его другим цехам завода, потом городским предприятиям и колхозам, предлагал просто так — ну жалко мне было такую ценную вещь, на которую пошло столько человеческого труда, прямо в консервирующей смазке выбрасывать в металлолом. Один директор совхоза вроде загорелся его забрать, но когда узнал мощность двигателя, то сник — у него в совхозе не хватило бы электроэнергии его эксплуатировать. А экспериментальный меня долбит и долбит: из-за этих ящиков они банки с сырьем и металлом вынуждены складывать в три этажа, а это уже опасно и может привести к травмам. Пришлось махнуть рукой — слесари компрессор разрезали и вывезли в металлом.
А буквально через пару месяцев сижу на оперативке в цехе № б, и вдруг выясняется, что допущена проектная ошибка, и что в этом цехе не хватает сжатого воздуха. Компрессорная завода быстро увеличить его подачу не могла — требовалось ее расширение, заказ дополнительных компрессоров и т. д. И отделу оборудования дали срочное задание — найти хоть какие-нибудь компрессоры, чтобы решить эту проблему. А я сидел, как обкаканый, потерпел бы еще три месяца и, глядишь, помог бы заводу списанным мне в цех компрессором. Но при чем тут я? Это ведь если бы контролеры не заставили нас уничтожать оборудование, то компрессор бы ждал этого случая у нас на складе.
Теперь уместно вспомнить и о народном контроле, вернее, о том, во что выродилась эта когда-то нужная организация. Вспоминаю такой анекдотический случай из черного юмора. На еженедельных заводских оперативках обязательно присутствовал начальник ОРСа (отдела рабочего снабжения), и начальники цехов довольно часто попрекали его за работу заводских столовых: то посуды мало и приходится ждать, когда помоют, то целую неделю в меню одна курятина и т. д. и т. п. И как-то в какой-то праздничной компании наша приятельница, директор одной из заводских столовых, начала нас ругать — вот какие мы, начальники цехов, несносные, нажалуемся директору завода, тот отругает начальника ОРСа, а тот потом ругает их, директоров столовых.
Я удивился, неужели наши, довольно товарищеские требования к столовым являются единственным раздражающим фактором для директора столовой? А как же народный контроль? Он же регулярно проверяет столовые: закладку продуктов, качество еды и т. д. и т. п. Ведь от него должны идти главные неприятности директорам столовых.
— Да что народный контроль, — пренебрежительно ответила приятельница. — Они придут, нахватают дефицитных продуктов, да еще и на халяву выпьют. Тут как-то пришел С, — она назвала фамилию члена заводского народного контроля, — попросил опохмелиться, засосал полбутылки коньяка, тут же упал на мешки с сахаром и заснул. И, гад, обмочился и обмочил весь сахар под собой.
— Ну, какие проблемы, ведь вы же этот сахар наверняка в компот вбросили, — пошутил я, чтобы ее подначить.
Но она вдруг наивно подтвердила:
— Вбросили, но ведь все равно неприятно!
Да уж! Но я расскажу о своем случае с народным контролем, который произошел через некоторое время после случая со злополучным компрессором. Пришло время и заводскому народному контролю отчитаться в своей полезной деятельности, и его председатель, мой сосед по коридору, начальник ОТК завода С.С. Черемнов, выбрал, паршивец, меня в качестве мальчика для битья. Сделал у меня в ЦЗЛ ревизию и, естественно, «обнаружил», что у меня не хватает того самого оборудования, включая этот компрессор. И городской народный контроль оштрафовал меня на треть зарплаты — обозначили, сволочи, свою полезную деятельность. Я потом, правда, заставил за это и Черемнова попотеть, хотя до материальных потерь с его стороны дело не довел, все же я не такой бессовестный, чтобы так поступить с товарищем по работе.
А вот еще славные контролеры — Лаборатория государственного надзора (ЛГН), которая контролировала качество продукции. Расскажу такой случай. Когда-то во времена царя Гороха, когда кремнистые сплавы только начинали плавить, в море взорвался пароход, везший в трюмах ферросилиций. Дело в том, что при некоторых содержаниях кремния эти сплавы начинают разлагаться при наличии влаги в воздухе. Разложение идет с выделением газов фосфидов и арсенидов — водородистых фосфора и мышьяка. Эти газы в смеси с воздухом образуют взрывоопасную смесь. Когда поняли, в чем дело, то трюмы начали вентилировать, и взрывов больше не было, но от этого страха в ГОСТы на кремнистые сплавы вошло положение о том, что мелкие фракции (мелкие кусочки) этих сплавов должны затариваться в стальные герметичные барабаны (бочки). У нас было отлаженное производство этих барабанов и проблем не было — если потребитель просил мелкую фракцию, то мы затаривали ее, предъявляя потребителю счет за эту услугу.
Но вот нам дали заказ на производство силикохрома фракции 0-20 мм для нашего же родственного предприятия — для ЧЭМК. Он использовал наш силикохром для производства безуглеродистого феррохрома. Но что значит отправить сплав в барабанах? Это значит, что помимо того, что нужно изготовить барабаны из довольно дефицитного холоднокатанного стального листа, еще нужно из специального бункера отдозировать силикохром в барабаны, после чего тщательно и герметично закупорить их, затем, используя массу ручного труда, загрузить эти барабаны в крытые вагоны. А на ЧЭМКе все шло в обратном порядке: они, используя массу ручного труда, вытаскивали барабаны из крытых вагонов, откупоривали их и ссыпали силикохром в приямки, откуда грейферный кран подавал его в печные бункера. Сами же барабаны (то, что от них осталось) выбрасывались в металлолом.
А если поставлять на ЧЭМК мелкий силикохром, как обычный сплав (насыпью в полувагонах), то тогда у нас банки с мелким силикохромом мостовой кран практически без участия людей перевернет в полувагоны и все. А на ЧЭМКе прямо в плавильном цехе грузчики откроют люки этих полувагонов, и силикохром сам ссыплется в приямки. И — вся работа. Полувагоны открыты, если даже силикохром и намочит дождем, даже если из сплава и выделятся мизерные дозы фосфидов и арсенидов, то их выдует по дороге, и какая-либо опасность взрывов начисто исключена. То есть в этом конкретном случае вся эта возня с барабанами была совершенно ненужным идиотизмом.
Интересно, что когда мы запустили участок по изготовлению барабанов, то размечтались облегчить себе выполнение плана по экспорту в денежном выражении и предложили западным покупателям получать от нас ферросилиций в барабанах за отдельную плату, естественно. Они довольно долго думали, но потом сообщили, что согласны принимать наши сплавы в барабанах, но если мы им будем платить за то, что они будут выгружать барабаны из вагонов в порту Роттердама, раскупоривать их, высыпать ферросилиций в кучу на причале, из которой грейферный кран будет перегружать ферросилиций в трюмы судов. Мы, само собой, от этой мечты отказались.
Так вот, ЧМЭК попросил нас не маяться дурью с барабанами, а грузить им силикохром в полувагонах навалом. Это требование покупателя, причем разумное, дающее экономию и нам, и стране, и мы так и поступили. А эти сраные контролеры из ЛГН, которые о качестве продукции не имеют и приблизительного понятия, проверяя наш завод, вменили нам это в преступление и изъяли в бюджет всю стоимость поставленного на ЧМЭК силикохрома. И эти отчитались, сволочи, в своей полезной работе. Завод лишился премии, а они обеспечили получение своей зарплаты. И никакие жалобы, и протесты ни в какие органы не имели успеха — у всех стеклянные глаза и тупое: «Партия взяла курс на повышение качества продукции, а вы ГОСТ нарушаете».
Мало этих инспекций? Ну, давайте я вам расскажу об инспекции, контролирующей расход огнеупорного кирпича. Была и такая. Мы получали по году около 20 тысяч тонн огнеупорного кирпича, а он считался строго фондируемым, и его нельзя было продавать на сторону. Но как-то осенью один из совхозов района не успел отремонтировать свою котельную именно из-за того, что ему задержали поставки этого кирпича. Мой предшественник на должности зама по коммерции В. Мельберг и сам бы, наверное, этому совхозу помог, но тут еще и райком партии обратился в горком КПСС, а тот написал на завод письмо. Вот Мельберг и подписал продажу 18 тонн шамота этому совхозу, а инспекция это выяснила, оштрафовала завод на всю стоимость этих 18 тонн шамота, проданных этому совхозу, а суд заставил лично Мельберга всю сумму штрафа выплатить, т. е. получилось, что Мельберг из своей зарплаты подготовил этот совхоз к зиме.
Крапивное семя
Мало и этого случая? Тогда могу рассказать об инспекции, которая контролировала расход бензина, а какую песню могу спеть про предшественников нынешних зеленых придурков — про инспекцию по охране окружающей среды! Но все же самыми мерзкими, самыми гнусными и самыми подлыми контролерами были, само собой, прокуратура и суд. Самыми гнусными потому, что именно от прокуратуры и суда все ждут справедливости, именно в этих органах люди меньше всего ожидают увидеть моральных уродов, которых волнуют только деньги и спокойная жизнь.
В начале 80-х у нас в течение нескольких лет было осуждено за нарушение правил техники безопасности 23 цеховых инженерно-технических работника, причем в этих делах страшно было то, что практически все они были совершенно невиновны. Мы разбирали все случаи и пришли к выводу, что только в одном случае из 23-х мастера можно обвинить, да и то формально. Случай такой. В котельную для помощи в ремонте направили рабочих из других цехов, и мастер котельной поставил их на различные работы, а одному поручил «пробить» бункер со шлаком, т. е. в этом бункере шлак слежался и не проваливался в горловину. Этот работяга встал под этой горловиной и снизу стал тыкать в шлак прутом, а когда пробил слежалость, то весь бункер горячего шлака рухнул, естественно, на него. Рабочий погиб. Идиотизм этого рабочего полнейший, но все же мы исходили из того, что он пришел из другого цеха, что мастеру все же нужно было самому показать этому работяге, как нужно работать. И вот «натягивая» вину на инженера в этом случае, мы никак не могли выявить вины ИТР в остальных.
Ну, вот, скажем, крановщик разливочного пролета поднимает крюк крана, и когда он поднялся к балкам моста, крановщику надо было подъем остановить, но он то ли отвлекся, то ли понадеялся на концевой выключатель, который автоматически должен остановить подъем при приближении крюка крана к балкам моста. Но концевик не сработал, крановая лебедка оборвала трос, и крюк с траверсой упали. В любом случае в этом обрыве троса виноват крановщик, который не остановил подъем, и крановая бригада, которая не проверила надежность работы концевых выключателей. Все рабочие завода, как впрочем, и почти все в СССР, знали, что под стрелой крана стоять нельзя: табличка «Не стой под стрелой» мне помнится еще с раннего детства. Тем не менее, под этим крюком стоял раззява, хорошо, что в каске. Траверса и крюк упали рядом, но части траверсы задели этого работягу по каске, и он получил черепно-мозговую травму. А начальник смены Володя Атаманицын за эту травму получил от суда два года и отсидел их на зоне в Калкамане. У него как у начальника смены было около сотни рабочих в цехе размером, как я уже писал, с Курский вокзал, причем сразу на нескольких этажах и еще и в отдельном здании склада. Если начальник смены контролирует работу печи или 2~3 человек, то остальных своих рабочих он никак не может видеть. В чем тут вина начальника смены? Что он должен был сделать, чтобы один придурок вовремя остановил подъем крюка, а другой не стоял там, где стоять категорически запрещено?
Или вот такой случай. Во всех цехах шихта подавалась ленточными транспортерами, их было на заводе сотни, и что-что, но уж правила безопасности при работе с ними или возле них знали все. В цехе № 6 в середине ночной смены сошла с рельс натяжная тележка транспортера — авария самая обычная, и ее устранение занимает несколько минут. Пультовщица остановила кнопкой этот транспортер и, минуя мастера и начальника смены, сразу позвонила дежурным слесарям, чтобы те поставили тележку на место. Бригадир слесарей и слесарь поднялись наверх к транспортеру, там они проходили мимо щита электроснабжения этого транспортера, и им надо было отключить транспортер и перевернуть табличку на щите, чтобы на ней читалось: «Не включать — работают люди!» Секундная работа, но им было лень, хотя они обязаны были это сделать. Они подошли к тележке, там находился концевой выключатель транспортера, им надо было отжать и зафиксировать его рычаг. Секундная работа, но им было лень, хотя они обязаны были это сделать. И они сразу полезли под тележку ставить ее на рельсы. А в это время к пультовщице подошел симпатичный парень, они заболтались, и тут же звонит дозировщица и просит подать ей шихту, а подавать ее надо было, в том числе, и этим транспортером. И пультовщица, не теряя нити разговора с приятным парнем, начинает тыкать пальчиком в кнопки и включает транспортер, на который она сама только что послала слесарей. Транспортер включается, затягивает под ленту и отрывает слесарю руку, он гибнет. Вскрытие показало, почему слесарям было лень делать обязательную и секундную работу (перевернуть табличку на щите): содержание спирта в желудке слесаря все еще превышало его содержание в крови, т. е. слесари уже на работе выпили, и им стало море по колено. За эту травму суд осудил начальника цеха и его замов по электрической и механической части, которые в момент этой травмы спали дома.
Идиотство с осуждениями дошло до такой степени, что молодые специалисты начали наотрез отказываться уходить с рабочих должностей и занимать инженерные должности в цехах, а мастера и цеховые инженеры стали подавать заявления с просьбой перевести их в рабочие. На тот момент у нас на заводе и так была катастрофа с нехваткой кадров руководителей, а тут еще и эти идиоты из суда и прокуратуры! И я решил подраться за своих друзей, да и за себя тоже, поскольку ведь и я был начальником цеха, и я отвечал за вверенных мне людей. Но прежде всего надо было разобраться, почему прокуратура обвиняет, а суды так легко осуждают совершенно невиновных людей.
Начал покупать юридическую литературу и вникать в нее, и тут выяснилось, что, поскольку дела, касающиеся техники безопасности, это не дела об убийстве или воровстве, а дела технические, требующие специальных знаний, то главным доказательством является заключение эксперта по этим вопросам, чтобы ни говорили обвиняемый и свидетели. Тут же выяснил, что главное в экспертизе это то, чтобы эксперт не был заинтересован в исходе дела и был объективным. Вычитал в различных судебных примерах, что экспертами в судах выступают, как правило, опытные специалисты с других заводов или аналогичных производств. Начал выяснять, а кто были эксперты в делах моих осужденных товарищей, и у меня глаза на лоб полезли. Оказывается, прокуратура в этом качестве привлекала наш Павлодарский Госгортехнадзор и часто даже не его «специалистов», которых на суде обязаны предупреждать об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, а просто акты, которые сочиняла эта инспекция по каждому случаю травматизма.
А тут надо понять, что если инженеры завода предназначены плавить ферросплавы, то у инженеров Госгортехнадзора никаких иных забот нет, кроме безопасности работ на подведомственных предприятиях. И если случается травма, то значит, что это они не уследили. И виноваты они, специально получающие зарплату, чтобы травм не было. В результате, во всех своих актах по результатам расследования травм они обязательно указывают инженеров нашего завода в качестве виновных, поскольку если таких виноватых не будет, то виноватыми останутся они. А наша паршивая прокуратура, не назначая настоящих экспертиз, заводила дела по бумажкам этих очевиднейшим образом заинтересованных лиц и обвиняла людей, указанных в этих бумажках, после чего суд тупо штамповал приговоры.
Сначала я думал, что речь идет о какой-то судебно-прокурорской ошибке — наивности мне тогда хватало. Я полагал, что прокурор и судьи добросовестно заблуждаются. И я пошел на прием к прокурору города. Это был пожилой мужчина, у него были орденские планки за войну, что сначала вызвало у меня к нему искреннее уважение. Я начал объяснять, в чем ошибка дел по ТБ, стал говорить, что по делам наших осужденных товарищей нужно вызвать экспертов из других заводов, однако его глаза стали стеклянными, т. е. стало видно, что он меня не слушает и у него желание побыстрее от меня отделаться. Он достает из папок приказ Генерального прокурора СССР и зачитывает мне пункт, в котором Генпрокурор требует усилить борьбу с нарушениями техники безопасности. «И мы будем безжалостно бороться с нарушителями!» — подытожил он. «Но ведь посмотрите дела по нашему заводу, — просил я, — ведь осуждены совершенно невиновные!» «Нет, они виновны!» — и с этими словами прокурор достал том еще не рассмотренного в суде уголовного дела и рассказал мне его суть. Дело было о гибели строительного рабочего на каком-то предприятии города. Мастер дал задание троим слесарям разобрать свинченную болтами тяжелую стальную балку, которая опиралась концами на две опоры и висела примерно в полуметре от пола, а сам ушел на другой участок. Свинчены две половины балки были посредине. Двое слесарей закурили и наблюдали, а третий начал откручивать гайки. Открутил их сверху балки, снизу балки ключ плохо доставал, и слесарь лег на пол под балку и стал откручивать гайки лежа. Когда открутил последнюю, то балка, естественно, развалилась на две части, и концы их упали на голову этого работяги.
— Ну, при чем тут мастер? — спросил меня прокурор. — Что, Эти долбоны не понимали, что если балку развинтить, то концы ее упадут? — выдержал паузу и даже с каким-то удовлетворением объявил. — Однако же мастера мы посадим!
И я понял, что и этот прокурор, и наши судьи прекрасно понимали, что осуждают невиновных, но в своем подлом желании получше отчитаться в якобы исполнении приказа Генпрокурора все равно осуждали невиновных, попирая советские законы. Говорить с прокурором после этого было не о чем, и я ушел, обогащенный знанием того, кем же на самом деле является это крапивное семя юстиции. О продолжении этой истории мне удобнее будет рассказать ниже, а сейчас один из моих судебных случаев.
Зимы у нас, как известно, длинные и холодные, а вода при замерзании резко, более чем на 8 % увеличивает свой объем, и образующийся лед рвет любые материалы, пропитанные влагой. Из-за этого у нас в стране, по сути, нет надежных автомобильных дорог — как бы тщательно ни исполнялось на них твердое покрытие, а через несколько зим лед и его выведет из строя. С железными дорогами несколько проще, поскольку их кладут на балласте — на щебенке, которая, по идее, после дождей должна осушаться и не держать влагу, но и с железными дорогами не все просто — и они за зиму могут подвергнуться подвижке. И вот я стал замом директора и железнодорожный транспорт стал моей проблемой. Началась весна, она в Казахстане и так очень дружная, а в тот год вообще была стремительной, и у нас на заводе повсеместно началась подвижка колеи, а железнодорожных путей внутри завода тогда было 70 км. Ремонтники метались от одного места уширения колеи к другому и в целом с проблемой справились отлично — все грузы заводом были приняты и отправлены, остановок завода по вине железнодорожного цеха не было. Тем не менее, один полувагон у нас сошел с рельс, об этом было сообщено железной дороге, и она нас оштрафовала на несколько сот рублей. Эти деньги мизерные, если учесть те возможные убытки, которые возникли бы, если бы цеха хотя бы на час остановились из-за отсутствия сырья или затаривания складов.
Но тут партии в очередной раз ударила моча в голову бороться с бесхозяйственностью при помощи советской юстиции. Прокурор подает в суд иск с требованием выплатить этот штраф из кармана работников моего железнодорожного цеха. Меня это страшно возмущает, поскольку, как я уже писал, я очень не люблю, когда вверенных мне людей наказывают со стороны, да еще и с такой. И я требую суд заслушать меня, уже не помню в качестве кого — то ли эксперта, то ли общественного защитника. Помню только тупой судейский взгляд: я ему про то, что своей работой мои железнодорожники предотвратили простой завода и убытки государству, а он мне про то, что партия приказала бороться с убытками, наносимыми государству. Я ему про то, что согласно закону не могут с человека взыскиваться убытки, если они были вызваны необходимостью предотвратить еще большие убытки, а он мне про партию… Ничего не смог сделать и вышел из суда со своими невинно пострадавшими людьми как оплеванный, исходя матом. Начальник ЖДЦ Гловацкий, с которого в числе других тоже содрали сотни две, меня еще и успокаивал.
Вот давайте и оценим, что значит было быть главным инженером Ермаковского завода ферросплавов.
Зарплату Друинский получал как главный инженер построенного, отлаженного и давно работающего предприятия, опекаемого заботливым начальством в Москве и в области. А реально, кроме обеспечения собственно технологического процесса, М.И. Друинский обязан был превратить проект Гипростали в работающий проект и сделать это в непрерывной борьбе с проектантами, которым главное было ни за что не отвечать.
Обязан был обеспечить, чтобы горластые строители, нахватавшие рабочих в казахских степях и не успевающие их обучать, построили все объекты качественно и не строили то, что выгодно, а строили то, что надо.
Обязан был вместо местных органов власти построить и город Ермак.
Обязан был предотвратить всю придурь толп контролирующих организаций.
Обязан был обеспечить обозначение их полезной деятельности и обозначение полезной деятельности главных контролеров страны — партийных органов.
И при этом не забывать, что Родина ждет от него нужное ей количество ферросплавов, а труженики завода (это половина города) ждут от него обеспечение их зарплатами и премиями.
Мне могут сказать, что это ужасно тяжелая работа, соглашаться делать которую мог только дурак. Что касается трудности, то она еще труднее, чем я описал. А вот что касается дурака, то я не соглашусь, поскольку справиться с такой работой мог только очень умный человек, правда, фанатично преданный своему делу, но очень умный творец.
Ведь зачем нужен инженер? Для поиска технических решений возникающих технических проблем. Но каждое, доселе неизвестное решение — это творчество, и творчество требовалось от Друинского в огромном количестве. А что нужно было делать с массой той придури, которую выкатывали на завод все те паразиты, которые вокруг завода имитировали кипучую деятельность? Эти возникающие вне сферы техники проблемы тоже надо было решать, и решения этих проблем тоже были неизвестны и, следовательно, творческие. И Друинский за свою жизнь успешно решил бесчисленное множество творческих задач из множества сфер человеческой деятельности. А успешное решение творческой задачи дает такое удовлетворение, такое счастье, которое ни с чем нельзя сравнить — ни со жратвой, ни с бабой.
Поэтому я и пишу, что Друинский очень счастливый человек, поэтому и пишу, что я ему завидую, а то, что он сам порой жалуется на тяжесть своей работы, так не обращайте на это внимания — ну крутился он как белка в колесе, ну и что? Неужели всю жизнь натирать себе геморрой в какой-нибудь московской конторе, перекладывая бумажки из папки в папку, это лучше? Неужели это следует считать счастьем? Не заблуждайтесь: счастьем это считать может только безвольный кретин, который ни на что большее не способен, и если вы это считаете счастьем, значит, вы и есть безвольный кретин. А Друинский — это глыба, посему он и выбрал себе такую жизнь, при которой максимально реализовал свой ум и свою волю. Как же тут ему не завидовать?
И в славном городе Ермаке, переименованном тупыми и подлыми засранцами в Аксу, Друинский может спокойно петь песню со словами «здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня». Петь в очень большом хоре, но в этом хоре его голос звучал бы наиболее сильно и уверенно. Так, как он жил, жить стоит! Так, как он, жить надо!
Была, однако, в его работе на заводе проблема, которую он решить не смог. Эта проблема — директор завода П.В. Топильский, но о нем я напишу специально. А сейчас о том, как выглядел Друинский в частной жизни — как человек.
Мой шеф
Думаю, что Друинский по характеру сангвиник, а помнится он мне человеком стремительным: он очень быстрым шагом переходил от объекта к объекту. Но, подойдя, уже никуда не торопился, всех выслушивал, дотошно вникал в мелочи, хотя и это не занимало у него много времени, поскольку, в отличие от Топильского, он не был тугодумом и на вопросы реагировал очень быстро. Почему-то мне то ли помнится, то ли синтезируется такой эпизод.
Экспериментальный плавит какой-то новый сплав, получается не ахти, на выплавке присутствуют представители института, предложившего этот сплав, установлено круглосуточное дежурство, и я тоже на печи. Бригадиром печи в этой смене мне почему-то помнится Володя Родыгин, а может, Рафик Хузин с его вечно сползающими на нос очками. Плавильщик в окно увидел: «К нам свернула «Волга» Друинского». Рафик звонит в кабинет начальника экспериментального: «К нам Друинский», — начальник участка и Меликаев сбегают по лестнице встретить. Входит Михаил Иосифович, со всеми здоровается, со многими — за руку, поскольку со своей цепкой памятью помнит по именам многих старожилов завода, с Ниной Лимоновой шутит. Надо сказать, что если при появлении Топильского все старались смыться подальше, то с Друинским все было наоборот — его не боялись. Но это не значило, что его присутствие игнорировалось: все принимали озабоченный вид, оглядывались — все ли в порядке? Кто-то носком валенка быстро задвигал окурок под лавочку, поднималась и ставилась на место лопата. Друинский не цеплялся к мелочам, которых в работающем цехе уйма, но и беспорядка не терпел.
Главный инженер, не спеша, проходит по нулевой отметке, осматривает участок.
— Это что за провода висят?
— С ремонта времянка осталась.
— Нужна?
— Уже нет.
— Так снимите или закрепите, как положено.
Разговор ведется совершенно ровным спокойным тоном, но раз Друинский распорядился, то лучше сейчас же его распоряжение и выполнить, поскольку, если он и в следующий приезд увидит эти провода, то спокойного тона уже не будет.
Подходит к банкам со сплавом, берет кусок металла, рассматривает излом, нюхает, спрашивает, как сплав дробится, переходит к банке со шлаком и его внимательно рассматривает, обсуждая увиденное с Меликаевым. Поднимаются на колошник, заходят на пульт, Рафик освобождает стул у стола с печным журналом, но Друинский сначала здоровается с «наукой», с незнакомым знакомится и садится смотреть журнал. Начинается обсуждение результатов, а пока Друинский не принял решения, спорить с ним никто не боится, и все смело выдвигают свое видение проблемы, тем более, что на двух металлургов всегда приходится по три авторитетных мнения, посему есть что обсудить. Михаил Иосифович выходит из пультового помещения к печи, плавильщик открывает шторки зонта, чтобы был виден колошник. Рафик тычет шуровкой, показывая Друинскому жесткость колошника, поднимает электроды, чтобы шеф увидел их длину, рассказывает, что именно бригадиры уже предпринимали, чтобы улучшить ход печи, но толку пока мало, видимо, этот сплав негоден к производству. «А это пробовали?» — спрашивает Друинский. «Пробовали». «А это?» «И это пробовали». «А если вот так?» «Так ведь все равно не получится», — авторитетно заявляет Рафик. «А почему?» «А потому, потому и потому». «А ты это и это учел?» Бригадир печи Хузин поверх очков задумчиво смотрит на главного инженера завода: «А что, наверное, надо попробовать…» «Пробуй!»
Надо сказать, что такое спокойное общение работников завода с этим большим для нас начальником объяснялось разницей целей, с которыми встречались с людьми Топильский и Друинский. Топильскому главным было найти виноватого, а если его нет, то назначить кого-нибудь виноватым и на нем отваляться, а Друинский искал решение технических и организационных проблем, но их же искали и те работники, у которых эти проблемы возникли. Поэтому люди и чувствовали себя в присутствии Друинского спокойно и спорили с ним без страха, видя, что и он ищет то же, что и они. В ходе анализа могли определиться и виноватые, могло последовать и полагающееся виноватому наказание, но оно полагалось само по себе и не было связано с личностью главного инженера. Более того, если выяснится, что вина возникла от добросовестной ошибки, то Друинский, скорее всего, ограничит наказание укорами и разберется, в чем причина заблуждения, чтобы предотвратить повторение этой ошибки. Однако должен сказать, что разгильдяев Друинский не терпел, и хоть он и жалуется на то, что замминистра матерился, но он и сам русским языком владел в совершенстве, правда, знал, в каких случаях какие слова уместно употреблять. Вот мой собственный пример.
Немного о травмах
Иду я как-то зимой по колошниковой площадке цеха № 4 и вижу, что 43-я печь остановлена из-за облома электрода, и бригада как раз пытается вытащить обломок из печи. А я, повторю, занимался изучением стойкости электродов и процессами горения дуги. Мне было важно увидеть, какую форму имеет торец этого обломка. Умный человек на моем месте просто подождал бы минут 5, пока бригада не извлечет обломок из печи и не отволочет его на балкон, а потом бы спокойно его осмотрел. Но со мною что-то случилось, и я совершил очень большую глупость. Суть вот в чем.
Обломки электродов из печи извлекались пятитонной лебедкой, поскольку сами весили около 2-х тонн и были погружены в шихту где-то на метр. Остаток обломанного электрода поднимался до крайнего верхнего положения, петля толстой цепи на конце троса набрасывалась на верхнюю часть торчащего из колошника обломка, и лебедка тянула обломок, как стоматолог тянет зуб из челюсти. Но в данном случае из-за неравномерной завалки колошника вытащить обломок в сторону балкона не представлялось возможным, и бригада тащила его в сторону внутренней стены цеха. Для этого за колонну у этой стены крюком зацепили старый блочок, снятый с малого подъема крана, и через него пробросили трос от лебедки. В целом получилось что-то вроде рогатки, в которой роль резины выполнял натянутый трос, удерживаемый обломком и лебедкой, а роль камешка — блочок. А тут надо сказать, что когда лебедка натягивает трос, то стоять рядом с тросом и, тем более, переступать через него — это грубейшее нарушение правил техники безопасности, поскольку, если трос порвется, то в лучшем случае будет очень больно.
Я же догадался до совершенного идиотства — я переступил натянутый трос и подошел к печи, чтобы увидеть этот чертов конец электрода, когда лебедка вывернет его из шихты. Поскольку я был не в суконной куртке, а в обычном зимнем пальто, то не стал подходить вплотную к печи, чтобы пальто не обгорело, а остался, так сказать, «на линии огня» этой рогатки. Тут сработало еще и баранье чувство стадности — дело в том, что двое плавильщиков тоже стояли в этом треугольнике и швеллером пытались подковырнуть обломок, вот я и подумал: если они там стоят, то чего мне бояться? Они были в суконках, и я от пламени печи спрятался где-то в метре за их спинами.
Тут лебедка в очередной раз натянула трос, мужики легли на швеллер, обломок дрогнул и начал вылезать из шихты, я из любопытства подался корпусом веред, и в это время раздался щелчок. Боковым зрением я увидел, как из блочка вырвало крюк, и трос швырнул его на меня. Блочок поднялся в воздух и полетел, переворачиваясь по оси полета, подлетел он ко мне в вертикальном положении, ударил вскользь по лопаткам, поднялся еще выше, перелетел разливочный пролет, ударился о его стену и упал на пол. Причем все это я увидел за доли секунды.
Я понимал, что по мне попал снаряд весом килограмм в 30 и летевший со скоростью, если и меньшей, чем пушечное ядро, то не на очень много. Но боли не было. Так бывает при тяжелых травмах, когда возникает шоковое состояние. Я попробовал пошевелить лопатками — боли не было. Тут я понял, что блочок меня не ударил, а просто скользнул по спине.
Но этого не поняли остальные. Они видели, что блочок попал в меня, а то, что я подался вперед, сочли следствием удара. Народ бросился ко мне, схватил под руки и потащил в пультовое помещение печи, в котором было немного теплее. Я уверял, что со мною ничего не случилось, но народ мне не верил, поскольку видел у меня на спине следы известки, в которой был измазан блочок. Вбежал перепуганный начальник смены, мой друг Саша Скуратович, меня начали раздевать, бригадир дрожащей рукой набирал на телефоне номер здравпункта, чтобы вызвать «скорую». Раздели, убедились, что у меня на спине и маленького синячка нет, облегченно вздохнули. После чего набрали побольше воздуха и начали материть, особо изощрялся мой друг Саша Скуратович. Все вспомнили, ничего не забыли, особо акцентируя внимание на том, что этим долбо…бам из заводоуправления делать нех…й, они шатаются по цехам, а порядочным людям потом за этих пиз…ков отвечай! Я быстренько начал одеваться, но только надел пальто, как влетел начальник цеха Мустафа Адаманов, и теперь уж он потребовал от меня второй сеанс стриптиза, и сам меня ощупал. Ну, и потом этот горячий татарин присоединил свой солирующий голос к общему хору матерящихся. Я понял, что мне лучше побыстрее убраться, а на обломок посмотреть завтра.
Я бежал к себе в ЦЗЛ в заводоуправление с надеждой, что Адаманов, как умный человек, будет помалкивать об этом, в сущности, пустячном случае, поскольку он произошел в его цехе, соответственно, начальника цеха этот случай тоже не красит. Прибегаю, а Парфенов: «Что случилось? Тебя Друинский срочно вызывает!» Иду к шефу, захожу в кабинет и никаких тебе «садись». Все пришлось выслушать стоя, теперь уже в третий раз. В общем, если это изложить для дам, то смысл был в том, что «а я-то считал тебя умным человеком!». Назначил позорное наказание: тут же позвонил в отдел техники безопасности и распорядился провести мне внеочередной инструктаж и принять экзамены по ТБ. Ну что тут поделать — виноват! Я бы в таком случае поступил точно так же.
Чтобы вы поняли Друинского, следует сказать, что в зиму на 1943 год из-за ошибки товарища он получил тяжелейшие ожоги лица и шеи. «В горячке я не чувствовал мороза, пока шел до медпункта. Мне оказали первую помощь, забинтовали, и я отправился домой. Ожоги оказались серьезными (3-ей степени), проболел 2–2,5 месяца; после того, как раны зажили, долго оставались следы от ожогов», — пишет он. А летом 1946-го он получил вторую травму, ее подробности характеризуют Михаила Иосифовича.
«Я работал в смене с 8-ми до 16-ти. Печь № 4 ночная смена сдала нам в плохом состоянии, можно сказать, в аварийном. Всю смену металл выходил из печи плохо, его накопилось в печи большое количество. Мы приняли меры, чтобы сплав разогреть. На втором выпуске из летки пошла сильная струя, и пошла по длинному желобу в гранбак (грануляция), все обошлось благополучно. А вот на третьем выпуске струя была настолько мощной, что произошел сильный взрыв с выбросом воды и пара из бака вверх под крышу цеха. Я находился к гранбаку ближе всех, стремясь деревянной трамбовкой прижать струю металла ближе к рассеивателю воды (для уменьшения опасности взрыва), меня обдало горячей водой и паром… На машине «скорой помощи» меня отвезли в поликлинику к глазному врачу. Она определила, что в глаза попало много мелких частиц металла. Стала их извлекать… Правда, года через два-три был рецидив, я стал ощущать боль в одном глазу. Обратился к врачу, которая раньше меня лечила, фамилия ее Ким. Она внимательно осмотрела глаз и обнаружила крохотное инородное тело в белке глаза. Это была частичка металла, не извлеченного из глаза в первый раз. Поскольку прошло много времени, извлечь его было довольно сложно. Врач сделала надрез (так она мне объяснила) и извлекла эту частичку. После этого проблем с глазами у меня больше не было».
Обратите внимание на обстоятельства получения второй травмы — Друинский знал, что может быть взрыв и пытался его предотвратить. Но эту операцию обязан был делать не он — мастер, а рабочий, которого он должен был послать. Но он эту операцию пошел делать сам, то есть получил травму вместо рабочего. Это Друинского характеризует? Как-то объясняет, почему он в тылу награжден боевым орденом?
«Отец солдатам»
Я уже писал, что у меня никаких приятельских отношений с Друинским не было, хотя бы из-за большой разницы в возрасте. Тем не менее, как я сейчас вспоминаю, мы, оказывается, часто разговаривали на самые разные темы, скажем, он как-то рассказал, что его имя, полученное при рождении и по паспорту, Моисей, но еще в юности, с началом работы на заводе, его начали называть более привычным именем Миша, оно и закрепилось. В то время все очень много читали, и мы с Друинским не только обменивались впечатлением от прочитанного, но и книгами. Помню, что я хотел заныкать у него книгу (не помню автора) «Обратная сторона Америки», уж больно она меня впечатлила, однако не удалось, Друинский вспомнил, кому он ее дал почитать.
Помимо отличной памяти он имел еще одно интересное свойство — он почти мгновенно находил ошибки в документах. Бывало, принесешь ему на подпись письмо из двух страниц напечатанного текста, он вроде мельком пробегает его взглядом «по диагонали» И… находит ошибку. Потом вычитываешь весь текст, а в нем, кроме этой ошибки, никаких других нет. Меня это всегда удивляло, а он усмехался и говорил, что жизнь всему научит. Пояснял, что ошибки исполнителей документа могут поставить подписавшего в смешное и глупое положение. Скажем, однажды ему принесли на подпись письмо с адресом: «В раком КПСС» или принесли на утверждение инструкцию «По использованию оборотных отходов», в которой было написано «абортных отходов» (машинистка, видимо, была совсем новенькая и не знала терминов, применяемых на заводе).
К месту будет вспомнить случай с моей двухкомнатной квартирой. Когда мы с женой получили первую, однокомнатную квартиру, то сделали ремонт не в силу какой-то уж особой необходимости, а просто потому, что мне хотелось его сделать. Ведь к однокомнатным квартирам никто серьезно не относился, поскольку для семейного человека это было временное пристанище. Но мебели мы практически не покупали — зачем? Купим, когда я получу двухкомнатную. Купили диван-кровать, он был узковат, поэтому я снял с него спинку, приделал к ней складывающиеся ножки, и на ночь мы эту спинку приставляли к кровати и получали чуть ли не квадратную площадку. А утром ставили спинку на место и прятали под нее постель. Был еще кухонный раскладывающийся стол, да Скуратовичи поделились с нами купленным то ли румынским, то ли чешским гарнитуром — мы забрали стулья от него. Остальную мебель я делал сам, опять же потому, что мне это нравилось.
В нашем доме на первом этаже был магазин «Аэлита», в котором продавались, помимо прочего, стиральные машинки, холодильники и, что очень ценно, мотоциклы. Эта отечественная техника упаковывалась в деревянные решетки, и магазин их сначала выбрасывал к нам во двор, а потом увозил. Вот я эту упаковку разбирал на рейки, строгал и мастерил всякие стеллажи, полки, шкафчики, тумбочки и т. д. Помню курьезный случай. Маленький сын, ползая по дивану, начал пробовать вставать, но стенки дивана были для него высоковаты — он не мог достать до них ручками, чтобы подтянуться. Я быстренько сделал маленькую лесенку и привинтил ее к стенке, после чего Ваня, хватаясь ручками за ее перекладины, быстро научился вставать на ножки. Тут приходят в гости Каревы, и Рая, хотя и воспитатель детского сада, с первого взгляда не поняла назначение этой лесенки и наивно спросила, зачем она. Я тут же ответил, что эта лесенка мне нужна для того, чтобы по ней на жену залезать. Раиса смеялась до слез и еще долго потом эту шутку вспоминала. В принципе, нам было комфортно в этой квартире, но когда родился сын, то стало не так удобно, как хотелось бы, принимать гостей. Ребята стеснялись засиживаться, поскольку сыну надо было спать, или мы вынуждены были выключать музыку и приглушать разговоры.
Надо было получать двухкомнатную, но мы не спешили, поскольку хотели получить не какую попало, а новую и обязательно в 9-этажном доме. Поскольку в этих домах уже был мусоропровод и не надо было выбегать с ведром на улицу к мусорным контейнерам. Да и планировка квартир в этих домах была улучшена, а кухни увеличены. Поэтому я уже давно стоял первым в очереди на получение двухкомнатной квартиры, но пропускал впереди себя других, ожидая, когда цех получит двухкомнатную квартиру в новом 9-этажном доме.
И вот вводится в строй большой многоподъездный 9-этажный дом, и на ЦЗЛ из него выделяются две квартиры: 2-х и 3-комнатные. Двухкомнатная, естественно, распределяется мне. Я уже весь в планах, как я ее переоборудую и отремонтирую, и вдруг из завкома сообщают, что Топильский, просматривая списки тех, кто получал в этом доме квартиры, забрал у меня эту новую квартиру и дал старую в 5-этажном доме! Никакого организационного смысла это действие директора не несло, Топильский руководствовался единственным желанием сделать мне подлость, и только. Ну, можно было бы предположить, что на заводе был кто-то, кому Топильский хотел сделать приятное, а других свободных квартир в этом доме уже не было, ну вот он и забрал мою квартиру. Но и это, как оказалось, было не так. Топильский делал мне подлость в чистом виде — для получения удовольствия.
Замом начальника химлаборатории была Людмила Борисовна Иванова, а ее муж, Геннадий Леонтьевич, был замом директора по быту, т. е. он был техническим распорядителем при распределении квартир. Узнав об этой подлянке против меня, Людмила Борисовна возмутилась и тут же позвонила мужу самым решительным тоном, тот оправдывался, она положила трубку и развела руками: Топильский лично меня вычеркнул, и теперь его зам бессилен что-либо изменить. Я, конечно, расстроился, причем обидно было то, что накануне я как раз добыл для завода «Знак Качества», и вот тебе благодарность от директора! К Друинскому ходить было бессмысленно, поскольку он на распределение квартир по своей должности никак не влиял и мог в этом вопросе Только ходатайствовать перед директором. Но, узнав, что он, отобрав у меня квартиру, сделал пакость еще и главному инженеру, Топильский только больше обрадуется, и его уже никаким трактором с его решения не сдвинешь.
Захожу я к Друинскому подписать какие-то документы, он веселый, шутит, по ходу просмотра документов задает вопросы и замечает, что я отвечаю расстроенно. Спрашивает, в чем дело, и я выплескиваю ему эту свою историю с квартирой. И вот по мере моего рассказа Друинский начал краснеть, должен сказать, что это было редкое явление и происходило всегда перед тем, как он взрывался. Поняв суть, он перестает меня слушать и нажимает кнопку прямой связи с замом директора по быту. В динамике послышался голос Иванова: «Слушаю, Михаил Иосифович» — и Друинский взорвался.
— Вы что там с Топильским — совсем оху…ли?! Да как вы, пиз…ки, посмели лучшему инженеру ЦЗЛ подсунуть квартиру в старом доме?! Вы что, е… вашу мать, хотите совсем погубить завод?? — и т. д. и т. п.
Иванов пытался что-то объяснить, но Друинский его не слушал, а выговорившись, просто отключился. Глядя в стол и отходя от взрыва, буркнул: «Иди к Иванову!» Я не пошел, а полетел на третий этаж к Геннадию Леонтьевичу. Нет, серьезно — я ведь в первый раз услышал о себе слова «лучший инженер», и пусть они были сказаны под горячую руку, но сказаны!
Иванов встретил меня матюками, почему я не пришел к нему, а пошел жаловаться к Друинскому? Я не стал оправдываться в том, что Иванову и так было ясно: он был по своему рангу пятым руководителем завода и не посмел бы взять на себя ответственность и изменить решение Топильского. А вот теперь за это изменение решения директора нес ответственность Друинский. Иванов мог теперь ответить Топильскому, если тот спросит, почему не выполнено его распоряжение, чтобы тот сначала разобрался с Друинским, а то первый руководитель говорит одно, а второй за это материт. А ему, бедному, что делать — как и первого, и второго удовлетворить?
Когда я зашел к Иванову, его помощница уже раскладывала на столе поэтажные планы этого нового девятиэтажного дома, на планах на каждой квартире уже была написана фамилия того, кто ее получает. Мне стало неудобно, ведь теперь у кого-то, кому уже обещана 2-комнатная квартира в этом доме, ее заберут и отдадут мне. Но ничего подобного! Оказалось, что до десятка квартир в этом доме все еще были в резерве и никому не распределены, в том числе и три 2-комнатные: на 1-м, 5-м и 9-м этажах.
Ну, Топильский, ну сволочь! Я, конечно, взял квартиру на 5-м, и Иванов тут же чернилами вписал в нее мою фамилию.
На этом, пожалуй, я закончу разговор о личности Друинского, с досадой, что я, по сути, и не знал его как человека. Для меня он был шеф, с которым мне очень сильно повезло: он мною толково руководил, он меня учил, и он меня защищал. А что еще нужно подчиненному от шефа?
Клички
Если человек по какой-либо причине не безразличен окружающим, то те очень часто отмечают его кличкой, которая обязательно его характеризует, и причем очень точно, иначе кличка просто не приживается. В кличку по той же причине закладывается и отношение людей к этому человеку, и если кличка не соответствует этому отношению, то она тоже не приживается.
Где-то читал, что англичане, если очень уж уважают человека, то перестают называть его иначе, нежели просто по фамилии, допустим, просто Нельсон или просто Черчилль. И, несмотря на то, что в стране много Нельсонов и Черчиллей, но когда называют просто фамилию, то все понимают, что речь идет именно об этом человеке, а если с прибавлением титулов, имени и т. д., то о других. Что-то похожее было и с Друинским — его называли просто по фамилии, благо она довольно редкая, а когда речь шла о его сыновьях, то к ним добавляли имя, скажем, «Стас Друинский».
У меня, похоже, клички не было, по крайней мере, главбух завода Х.М. Прушинская, к которой стекались все сплетни, в том числе и обо мне, ничего об этом не сообщала. Отсутствие клички, конечно, довольно обидно, но с другой стороны, хорошо, если тебе дадут кличку, скажем, как А.И. Григорьеву — Тятька. А если, как нынешнему директору завода Коле Головачеву — Думпкар? — Напомню, что это такая железнодорожная саморазгружающаяся платформа для вывоза мусора. Сооружение, надо сказать, довольна мощное и солидное… но для мусора. В середине 90-х главный инженер В.А.Матвиенко, зам по коммерции В.Д. Менщиков и я, хотя мы и не дружили лично, но на заводе действовали, как я теперь понимаю, очень дружно: никогда не сваливали ответственность друг на друга, проблемы, возникающие у кого-то, воспринимали как свои, просьбы кого-либо из нас были обязательны для остальных двоих. А тут как раз на экраны вылез Леня Голубков, рекламирующий пресловутый МММ, вот завод и дал нам коллективную кличку «МММ», поскольку и у нас троих фамилии начинались с буквы «М».
Когда я вынужден был предложить ввести на заводе собственные деньги, то им немедленно дали название «мудон» — по первым слогам фамилий моей и Донского. Мне это название очень нравилось, поскольку вынудить завод вводить собственные деньги могло только мудацкое государство. Короче, за нашим народом кличка чему-то примечательному не заржавеет.
Директора завода Семена Ароновича Донского, как и Друинского, называли просто по фамилии, но ввиду особого расположения к нему работников завода, его часто называли и просто по имени — Семен. И все понимали, о ком речь, хотя Семенов на заводе было достаточно. Валерий Александрович Матвиенко имел твердую и уважительную кличку Матвей. При этом, ни Донской, ни Матвиенко не предпринимали никаких видимых усилий для того, чтобы вызвать к себе уважение.
Так вот, мне трудно припомнить еще какого-либо человека, который так много бы старался вызвать к себе уважение и так болезненно следил бы за тем, уважают ли его люди, как Топильский. Даже Масленников, хотя и копировал Топильского, но все же был в этом плане поспокойнее. Чтобы вы поняли, о чем это я, приведу пару примеров.
Первый мне рассказал, скорее всего, П.П.Конрад, который тогда был начальником ЖКО. Город только строился, тротуаров еще не было, почвы глинистые и хотя дожди у нас нечасто, и земля сохла быстро, но все же были периоды, когда не только по объектам, но и по городу без резиновых сапог нельзя было ходить. Учитывая это, у входа в заводоуправление стояло специальное корыто с водой и квачами, в котором можно было помыть сапоги перед посещением начальства. И вот, рассказывал Конрад, вызывает меня Топильский, я мою сапоги до блеска, поднимаюсь и вхожу в его кабинет, а он вдруг шипит: «Ты как посмел зайти ко мне в кабинет в сапогах?!» Да что же я должен был делать, — возмущался Конрад, — босиком к нему входить?
А у меня был аналогичный случай с Масленниковым. Зима. Директором завода был В.И. Кулинич, а главным инженером Масленников. Кулинич пригласил к нам с Серовского завода ферросплавов делегацию для организации помощи, а вечером, часов в восемь, поехал вместе этой делегацией в дом отдыха на сабантуйчик. В делегации серовчан был Яша Островский — начальник ЦЗЛ, и я был начальником ЦЗЛ, кроме этого, мы с Яшей были хорошо знакомы, посему и меня пригласили на этот пикник. Мы должны были вместе с Масленниковым подъехать позже, но у него что-то случилось с «Волгой», и надо было ехать на диспетчерском автобусе. Тот был пока в отъезде, Масленников остался в своем кабинете, а мне поручил проследить за приездом автобуса и сразу же ему сообщить. Я курил и болтал с диспетчером, минут через 10 подъехал автобус, я надел пальто, зашел в приемную и открыл дверь в кабинет Масленникова.
— Александр Владимирович, поехали!
А надо сказать, что мы были с ним знакомы уже лет восемь, и, надо думать, не один ящик вместе выпили. И он мне в ответ шипит:
— Ты как посмел ко мне в кабинет одетым заходить?!
И вот это упорное старание Масленникова добиться, чтобы его уважали, кончилось тем, что он получил кличку «Сашка». Мельберг был тоже в этом смысле не подарок и порою очень гонористым, но и того даже за глаза звали только Валентином, а Масленникова при общении величали «Александр Владимирович», а за глаза — только «Сашка». То же произошло и с Топильским. Он имел кличку «Петруша» или ее вариант — «Петруччио».
Этот пример Топильского и Масленникова впоследствии и привел меня к убеждению, что большой глупостью является постановка себе цели добиться уважения у людей. Чем больше ты будешь этого добиваться, тем меньше люди будут тебя уважать. Бояться, может быть, будут, поскольку заставить себя бояться можно, но уважать — никогда! Единственный способ добиться уважения — это забыть об этом и добросовестно работать и жить: стать хорошим специалистом и честно вести себя с людьми. Тогда они тебя зауважают и как мастера в своем деле, и как человека, на которого можно положиться.
Глава 8 БЛАТНЫЕ
Вопросы без ответа
Можете не сомневаться, что множество раз, собравшись по разным поводам в компанию и разогрев себя «рюмкой чая», т. е. расслабившись до состояния, когда в самый раз поматерить начальство, мы возвращались к обсуждению одного и того же вопроса: кто у Топильского «мохнатая лапа»? То, что он, как тогда говорили, «блатной», ни у кого сомнения не вызывало, интерес был к одному — кто его посадил на должность директора? Вот таких начальников, способных облагодетельствовать своих близких должностью, тогда называли «мохнатой лапой» или «рукой». Говорили: «У него рука в министерстве» — или: «У него мохнатая лапа в Москве».
Если бы Топильский был евреем, то тогда все было бы понятно — еврейские расисты рассаживают единоплеменников из своего кагала на должности. Даже если бы он был казахом, то и тогда было бы проще, так как и казахские роды обязаны продвигать своих членов вверх. Правда, в Павлодарской области, где казахов было всего 10 % населения, мы этого не видели, но теоретически такое могло быть. Но Топильский был русским, а это значило, что если он «блатной», то его «рука» обязана быть каким-то его родственником или в министерстве, или где-нибудь в ЦК.
Топильский приехал в Ермак с Челябинского электрометаллургического комбината, оттуда же было множество наших ребят, но они тоже ничего не могли предположить, поскольку никто и ничего о подобных связях Топильского не знал. А опыт показывал, что такого быть не может — если бы у Топильского были какие-то высокопоставленные родственники, то они обязательно бы проявились. Это была загадка: Топильский не имел ни малейших оснований быть директором, но он им был, вот нас и мучил вопрос — кто же его на эту должность протолкнул?
Встречаясь с чэмковцами, я всегда их попрекал, что они подсунули нашему заводу эдакую свинью, но они тоже ничего не понимали. На ЧЭМК Топильский был серой мышью, которая, имея диплом, к 40 годам, в условиях страшнейшей послевоенной нехватки инженерных кадров высидела себе всего лишь должность начальника технического отдела. Для примера, тот же Друинский, оканчивая институт заочно, уже к 35 годам, через год после дипломирования был начальником плавильного цеха, что по своему статусу намного выше статуса начальника техотдела. У нас на заводе В.А. Матвиенко в 30 лет стал главным инженером.
Непонятно было и другое. Должность начальника техотдела не была резервом для должности директора завода: если начальником техотдела работает уж очень блестящий специалист, то его с этой должности назначат, в лучшем случае, главным инженером. А резерв директоров — это должности главных инженеров, начальников отдельных производств и начальники плавильных цехов.
Более того, на Топильского и на ЧЭМКе серьезно не смотрели.
По-моему, Гриша Косачев, который перевелся к нам оттуда, рассказывал такой свой случай. Он работал на ЧЭМКе мастером блока и однажды ставил печь на разогрев после ремонта. Разогрев печи ведется не спеша, чтобы не вызвать больших напряжений на электродах и не накопить больших количеств жидкого металла при еще холодной подине. Если номинальная токовая нагрузка на высокой стороне трансформаторов, к примеру, печи 21 МВА около 1200 ампер, то начинают с 600 А, потом через час или два поднимают нагрузку до 700 ампер и так до номинала. Для этого в печном журнале пишется график разогрева, и Гриша его написал примерно так: 10–00 — 600 А, 11–00 — 700 А, 12–00 — 800 А и т. д. После чего пошел заниматься какой-то другой спешной работой. Вдруг прибегает плавильщик и сообщает, что начальник техотдела Топильский срочно требует Гришу на печь. Начальник техотдела для мастера — это все же начальник, и Гриша вынужден был прервать работу и идти на разогреваемую печь. Тут, рассказывал Косачев, Топильский мне и заявляет, что я баран и не умею даже график разогрева составить. Я не понял и решил, что, по мнению Топильского, я задал слишком быстрый подъем токовой нагрузки. Но он мне говорит: «Ты пишешь, что к 10 часам нужно иметь нагрузку в 600 ампер, а надо писать, что нагрузку в 600 ампер надо иметь к 10 часам». Я на него смотрю, — продолжал Гриша, — и не могу понять — он серьезно или смеется? Вижу, что серьезно, тогда меня такое зло взяло, я ему и говорю: «Если бы я был начальником техотдела, то от безделья еще и не такое выдумал бы!» Топильский пошел к начальнику цеха с требованием, чтобы Гришу разжаловали в плавильщики за неуважение к начальнику техотдела, но начальник цеха, узнав, в чем дело, только рассмеялся. Повторю, что я не совсем уверен в том, кто мне этот случай рассказал, но в его реальность я верю, поскольку был свидетелем точно такого же случая у нас на заводе.
У нас в ЦЗЛ не было на тот момент начальника экспериментального участка, и вдруг заходит М.Д.Сисько и объявляет, что он назначен на эту должность. Мы и обрадовались, и одновременно рты открыли от удивления. Дело в том, что Сисько (Дед) был на тот момент самым опытным металлургом на заводе — у него только горячий стаж был 28 лет. (Напомню, что при горячем стаже в 10 лет на пенсию уходили в 50 лет.) На заводе главные цеха — это плавильные цеха, снимать с плавильного цеха такого опытного металлурга и передавать нам — это безумие. Кроме того, мы, конечно, знали, что Топильский Деда не любил, но дела с кадрами на заводе были уже такие плачевные, что Деда все же назначили начальником 4-го цеха, и цех под управлением Сисько работал прекрасно. Мы недоумевали: за что можно снять с должности начальника цеха, выполняющего план и не имеющего травм? И Дед рассказал, но сначала немного предыстории.
По дороге домой на пути Деда стояло кафе, уже не помню его названия, но поскольку оно было в городе одно, то и называли его все просто «кафе». Не помню также точно, но, возможно, там и кофе можно было заказать, однако народ ходил туда побаловаться портвейном. И всю свою жизнь в Ермаке Сисько, если уходил с работы еще до того, как это кафе закроется, заходил в него, выпивал стакан портвейна и балагурил с тамошними посетителями, благо его все знали, а Дед был выдумщик и прикольщик. Между тем, по жизни Сисько не только не был алкашом, но не был и тем, о котором говорят, что «он злоупотребляет». Во всяком случае, за много лет знакомства с ним я не помню, чтобы он пил на работе или хотя бы был с похмелья. Дури для разных выдумок и приколов у него и так хватало, поэтому если он и пил, то только, как говорится, для запаха.
Так вот, в тот злополучный день, когда Петруша снял его с должности начальника цеха № 4, Дед с утра должен был поставить на разогрев печь, ремонт которой вот-вот должен был закончиться. Сисько осматривал печь и ждал ее включения, чтобы убедиться, что на ней и при подаче напряжения все в порядке.
— Прибегает секретарь, — рассказывал нам Дед, которого еще немного трясло от внезапного снятия, — и говорит, что Топильский требует меня к телефону. Я ей и говорю, чтобы она ему сказала, что я минут через 15 включу печь и позвоню. Но она опять бежит и говорит, что Топильский требует позвонить срочно. Я заволновался — может, случилось что, может, мой рабочий где-то в беду попал, раз директор отрывает меня от такого ответственного дела. Прибегаю в кабинет, звоню ему, а он мне таким гнусным голосом: «Ходят слухи, Михаил Дмитриевич, что ты вином злоупотребляешь». Ё-мое! Это он из-за этого оторвал меня от включения печи?! И я ему автоматически отвечаю: «А еще ходят слухи, Петр Васильевич, что ты у себя в кабинете на столе Вальку П-ву е…шь!» Тут я понял, что ляпнул не то, и начал было извиняться, но Петруша бросил трубку. Пошел, включил печь, возвращаюсь в кабинет, и тут же заходит Лешка Хегай (он тогда был начальником отдела труда — Ю.М.) и с порога: «Михаил Дмитриевич, твою мать, ну что же ты натворил! Топильский уже приказ подписал о твоем снятии и распорядился найти тебе место, чтобы подальше от цехов». Так, ребятки, я и попал к вам, — завершил Дед свою грустную историю о подробностях обсуждения с Топильским разных интересных слухов.
Потом он нам рассказал еще несколько случаев, но об этом позже, а сейчас закончу мысль о том, что и на ЧЭМКе Топильсий, если чем-то и зарекомендовал себя, так это дуростью, противопоказанной директору завода, но именно его директором назначили. Как это еще объяснить, если не «блатом»?
Амбициозный глупец
Был еще момент, который говорил, по крайней мере, мне, что Топильский не мог быть назначен директором. Он был глуп, причем настолько, что не понимал своей глупости. И это особенно бросалось в глаза, когда речь шла об инженерных вопросах.
Конечно, за 30 лет работы на одном и том же производстве можно выучить названия всего, что там находится, можно запомнить общеупотребительные команды, но ведь в инженерном деле важно понимание сути, важно образное представление тех процессов, которые не видны, а тут у Топильского был полный маразм. Из его личного дела я в свое время вычитал, что он поступил в Московский институт стали и сплавов в 1943 году. В том году впервые после начала войны был объявлен прием в гражданские вузы, и масса трусов бросилась поступать в эти вузы, чтобы не попасть в военные училища и на фронт. При такой конкуренции просто удивительно, как Топильский смог в этот институт поступить. Как я понимал, он сумел зазубрить многое из того, чему обучали металлургов, но повторю, как только дело касалось понимания, то тут Топильский был бессилен.
Выше я рассказал, что с целью избавления от обузы работать диспетчером завода, я начал творить всякие вольности, в том числе, однажды отменил приказ Топильского на установление давления питьевой воды в 2,6 атм. в ночное время. Так вот, понес я ему утром диспетчерский журнал и положил его так, чтобы он обязательно заметил, что я отменил его глупость. Думаю: он сейчас возбухнет, а я ему вывалю, что если я ему не нравлюсь как диспетчер, то пусть не назначает. А он посмотрел, поморщился презрительно и ни слова не сказал. Но мне жалко было упускать случай поскандалить и я говорю:
— Это неправильно: нельзя устанавливать ночью на насосной давление 2,6 атм., а нужно посылать слесарей на водовод, идущий на город, чтобы они прикрывали задвижку так, чтобы до задвижки было 6 атм., а после задвижки — 2,6. Тогда и на город уменьшится расход воды, и на заводе останется давление 6 атм.
Он посмотрел на меня презрительно (меня просто поражал его презрительный вид при разговоре с теми подчиненными, которыми он не был доволен) и говорит:
— И чему вас, дураков, учат в институтах? Ты что не знаешь, что по закону Бернулли давление в сообщающихся сосудах равно? Так что открой задвижку полностью или прикрой ее, а до задвижки и после нее давление будет одинаковым.
Во-первых, — промелькнуло у меня в голове, — закону Бернулли меня учили еще в школе, а не в институте, и в школе же учили, что этот закон применим только для статической жидкости. То есть, когда не действуют законы гидродинамики, которые, да, изучаются и в институтах, но тебя, придурок, почему-то им не научили. Ну неужели ты никогда не видел, как течет вода? — думал я. Неужели никогда не поливал участок перед своим коттеджем? Ведь когда начинаешь откручивать вентиль, то вода течет сначала под малым давлением, которое начинает увеличиваться по мере того, как открываешь вентиль полностью. Во-вторых, подумал я, на хрен я тебе, придурку, вообще что-то предлагаю, зная, что все равно от тебя уйдешь, как дерьма нажравшись?
О претензиях Петруши на «умность» и о его технической безграмотности рассказывали все, даже если и не понимали, в чем тут дело. Вот, к примеру, Сисько рассказывал, в чем была первопричина его ссоры с Топильским.
— Надо сказать, что это мне повезло, когда я поссорился с Топильским прямо с первых шагов на заводе, а с остальными дело было не так. Думаю, что постоянно чувствуя презрение к себе, Топильскии все время предпринимал усилия, чтобы расположить к себе людей, сделать их искренне «своими». Поэтому, уверен, очень многие после первого знакомства оставались о Петруше очень хорошего мнения, поскольку ведь это каждому приятно, когда начальство к тебе расположено, охотно исполняет твои просьбы и т. д. Так было и с Сисько. Дед рассказывал:
— Когда я приехал на завод, он принял меня очень хорошо, и отношения у меня с ним были прекрасные — он и сам спрашивал у меня совета, хвалил, от других требовал, чтобы со мною советовались. Но вот как-то зимой идем мы с ним с заводоуправления по дорожке вдоль главного коридора (дороги, пересекавшей завод с юга на север — Ю.М.). А слева от нее, как вы знаете, живая изгородь кустов. Так вот, слева сугробы снега под кустами лежат нетронутые, а справа они как бы подтаяли, даже земля кое-где обнажилась. И вдруг Топильскии ни с того ни с сего спрашивает меня: «А знаешь, почему тут снега нет?» — и показывает на правую сторону дорожки. «Почему?» — спросил я. «А потому, что это сублимация». Ну, мне бы и удивиться, что Топильскии знает такое умное слово, расспросить, что оно значит, а я возьми и брякни: «А почему же здесь сублимации нет?» — и показываю ему на левую сторону дорожки. Он посмотрел на снег слева, потом глянул на меня зверем и замолчал. И с тех пор пошло-поехало: и печи я не умею вести, и порядка у меня нет, и как только в цех зайдет, так и начинается — и тут я дурак, и там я дурак. И ведь что поразительно — он ведь взъелся на меня ни за что: это ведь не я, это он завел разговор про сублимацию, — возмущался Дед.
Поскольку Дед упомянул сублимацию, то нам, слушающим его, самим стало интересно, почему снег сублимировал с освещенной стороны и был не тронут в тени, то есть нам захотелось ответить на вопрос, на который не смог ответить Топильскии. Сублимация — это переход вещества из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. Ответ тут такой. Между парами воды в воздухе и водой в жидком или твердом состоянии всегда устанавливается равновесие, определяемое температурой воздуха — чем выше температура, тем больше должен быть процент влаги в воздухе. Если паров воды в воздухе меньше, чем требует это равновесие, то жидкая вода испаряется, а твердая сублимирует до тех пор, пока в воздухе не станет такое содержание паров воды, которое требуется упомянутым равновесием. Если температура воздуха падает и содержание влаги в нем становится больше равновесного, то избыточные пары конденсируются, образуя туман или росу, а при минусовых температурах — иней. Вот и получалось, что ночью, когда было очень холодно, влага из воздуха уходила — конденсировалась, но днем, когда температура воздуха поднималась (хотя и оставалась минусовой), паров воды в воздухе переставало хватать для равновесия, и снег испарялся.
Вот про это испарение снега, называемое сублимацией, кто-то когда-то что-то Топильскому рассказал, тот подивился этим чудесам природы и запомнил умное слово «сублимация». Но что происходит, Петруша так и не понял, поскольку не понимал, что переход вещества из одного состояния в другое всегда сопровождается либо поглощением, либо выделением энергии. Чтобы испарить воду, нужно очень много энергии, и естественно, что в тех сугробах, которым дополнительно энергию дают солнечные лучи, снег сублимирует быстрее, чем в тех, которые затенены. Ответ элементарен, но нужно понимать основы физики и химии, а этого понимания у Петруши не было.
Но дело даже не в этом, мало ли на какой вопрос не можешь сразу ответить — сразу ведь не вспомнишь, что когда-то знал или учил, но что уже много лет не применял и не вспоминал. Так на такие вопросы у инженеров существует универсальный ответ: «А хрен его знает!» А после этого ответа нужно вспомнить и разобраться, только и того. Однако Петруша не способен был сам разобраться, он даже не представлял, как это сделать, поскольку только поэтому он мог прореагировать на естественный вопрос Деда как на оскорбление, как на неверие в свою ученость, как на насмешку над собой.
Друинский пишет, что Топильский все расстройства печи воспринимал как кварцевание, как недостаток кокса в шихте. Поскольку трудно поверить в то, что человек тридцать лет работал на заводе, на котором плавят ферросилиций, и при этом имел такие убогие представления о технологии, то я мог бы и засомневаться в этом сообщении Друинского, хотя сам я с Топильским вопросы технологии никогда не обсуждал. Ну не верится, что такое могло быть, не верится, что Топильский не понимал того, что начинают понимать работяги через пару месяцев работы на печи. Однако это же подтверждал и Сисько.
— Он же ведь ни черта не разбирается в технологии, — уверял нас Дед, правда, используя более уместные русские слова. — Как-то приходит Топильский в цех и вызывает меня на 41-ю. «Ты тут старший мастер или кто? — спрашивает. — У тебя печь кварцуется, а ты мер не принимаешь». А на 41-й просто закоротили электроды, тигли поднялись, слой шихты под ними уменьшился, газы перестали успевать охлаждаться, ну и пламя у электродов стало белым, посадка их стала глубокой. Да, такое бывает и при кварцевании, но летка-то работает плохо, металл еле выходит, шлака нет — какое, мать-перемать, кварцевание?! Ты же на всю печь смотри, баран, а не только на пламя! — горячился Михаил Дмитриевич. — Я ему и говорю, что к обеду наращу электроды и все будет в порядке. А он мне: «Дай 300 кокса!» Я ему: «Не нужен кокс». А он: «Давай!» Я: «Не дам!» А он бригадиру командует: «Дать 300 кг кокса под электроды!» — и пошел дальше по цеху. Бригадир на меня смотрит — что делать? А что делать! Если дать кокс, то тигли вообще на поверхность колошника вылезут. Ну, я и говорю: «Запиши в журнал, что дал 300 кг кокса, а сам прими в машины 300 кг стружки». Бригадир пошел звонить на дозировку, а я встал на балконе и наблюдаю, когда Топильский обратно пойдет…
Тут надо сделать пояснение. При обработке металла на металлорежущих станках для смазки и охлаждения инструмента применяется веретенное масло или различные масляные эмульсии, поэтому поступающая к нам железная стружка была вся в масле, а масло, попадая вместе со стружкой на колошник печи, горело коптящим темно-красным пламенем. И Сисько в данном случае размышлял как художник, собирающийся смешать две краски.
— Вижу, что Топильский от 48-й идет к нам, — продолжал Сисько. — И я командую машинистам завалочных машин: вали стружку под электроды! Топильский подходит, а пламя на печи стало красным. «Вот видишь, — говорит мне, — как вас, дураков, все время учить надо!» А я думаю: шел бы ты быстрее к такой-то матери, а то масло сгорит, и пламя снова станет белым.
Мне могут сделать замечание, что ведь я эти разговоры передаю по памяти, и может ли такое быть, чтобы директор завода так часто обзывал подчиненных дураками? Скажу: мало этого! Если добавить и тот омерзительно-презрительный тон, которым он это делал, то воспринимать такие характеристики от кретина, уверенного в своем уме, было очень трудно. Как-то послал он меня в командировку, уже надо было в аэропорт ехать, а у меня какие-то письма еще не были им подписаны. Утром он, видишь ли, занят был и не успел, а теперь сидел в 4-м цехе. Пришлось взять письма, бежать в цех и зайти в кабинет начальника во время совещания. Топильский сидел за столом начальника цеха, начальник цеха Адаманов — за торцевым столом, в кабинете было человек двадцать цеховых инженеров. Я извинился, объяснил, в чем дело, Топильский смилостивился и подмахнул письма. Иду к выходу и слышу его речь:
— Так вот, я и хочу задать вам всем один простой вопрос, — я задержался, заинтересовавшись, и увидел, как начальник цеха Мустафа Адаманов подвинул к себе блокнот и взял ручку. — Когда же вы, идиоты, поумнеете? — задал вопрос Топильский спокойным и исключительно презрительным тоном, от которого Адаманов покраснел и опустил голову с видом человека, которому очень хочется кому-то вмазать в морду, но нельзя.
Когда Топильского все же сняли, то его тон тут же изменился, но в инженерном смысле он не поумнел ни на копейку. Как-то мне, уже заму директора, срочно потребовался Донской, я ему позвонил, и он предложил зайти. Захожу в кабинет директора, а у него сидит Топильский, который дорабатывал до пенсии начальником техотдела нашего завода (вот уж кому не везло, так это А.С. Рожкову — вечно он за кого-то работал). Я тоже присел, ожидая, когда они закончат разговор. И вижу, что Топильский принес Донскому черновики своего распоряжения о рабочих ступенях напряжения какой-то печи, которое он обязан был сделать как начальник техотдела. Меня это возмутило так, что я еле сдержался. Донской был не ферросплавщик, а сталеплавильщик, наше дело он осваивал быстро, но надо же и совесть иметь! Топильский, наконец, вышел, и я говорю.
— Семен Аронович! Ну зачем вы даете ему обсуждать с вами то, по чему он обязан принять решение сам? Ведь если он в свое распоряжение заложит глупость, то потом будет оправдываться, что это вы ему эту глупость согласовали, что это ваша глупость. Получает деньги как начальник техотдела, пусть и работает как начальник. Он же ведь подчиненный Матвиенко, но, как видите, к главному инженеру он боится ходить, поскольку Матвиенко его за глупости выдерет, так он к вам лезет!
Донской усмехнулся, поморщился и махнул рукой. Он ведь Топильского в роли директора не видел и посему, скорее всего, жалел его. А я же помнил, как смело Топильский давал технологические указания, когда за их глупость своей премией расплачивались цеховые работники, но как только он попал в положение, когда за свою глупость он обязан был отвечать сам, так тут и выяснилось, что он и элементарных технологических решении принять не может, поскольку не знает дела и посему не уверен в их правильности. Таков он был как инженер, и мы это видели, и это тоже давало уверенность, что он стал директором завода по блату.
Примитив
Тогда возникает вопрос: если он неспособен был охватить инженерные вопросы, то тогда как он руководил? Я с деталями его руководства редко сталкивался, поскольку величиной был незначительной, а при виде его в цехе старался, как и все, смыться с его дороги, руководствуясь армейской геометрией: любая кривая короче той прямой, на которой стоит начальник. Но по последствиям его руководства могу предположить, что у него было два нехитрых приема. Первый: объяснить своему непосредственному подчиненному, желательно в присутствии как можно большего количества людей, что этот подчиненный дурак и бездельник. По глупости Топильский был уверен, что подчиненный от этого воспитания тут же разберется во всех проблемах и начнет работать, не покладая рук. На самом деле, такой подчиненный после нескольких таких порок, проведенных Топильским, как правило, на совещаниях, быстро приходил к мысли, что ему на Ермаковском заводе ферросплавов делать нечего, и любые другие заводы становились для него более привлекательными.
Второй прием: собрать у проблемы как можно больше народу и не давать ему уезжать домой, пока проблема не будет решена. Даже нам доставалось, поскольку время от времени следовал его приказ, выставить метлабораторию на дежурство у какой-либо печи, например, при разогреве ее после капремонта. Смысла в этом не было ни на копейку, поскольку мы не имели никаких прав, да и не могли их иметь. Мы обязаны были обозначить некий контроль заводоуправления за цеховым персоналом, поскольку Топильский был уверен, что в присутствии контролеров народ будет лучше работать. А для цеховых инженеров команда Топильского: «Сидеть на печи, пока она не заработает!» — была как «здрасте».
Оговорюсь, что случаи бывают разные. Положим, в цехе авария, устранить которую необходимо в минимальные сроки. Тогда на такой аварии начальник цеха необходим. Во-первых, видя его, рабочие не мучаются мыслью «мы тут пашем, а начальство дома спит», во-вторых, решения по возникающим проблемам принимаются начальником очень быстро. Однако в таких случаях добросовестный начальник цеха и сам знает, где ему быть и сколько.
Но при непрерывных технологических процессах очень часто бывает, что выйти из трудного положения должен сам агрегат, а работы руками и головой у обслуживающего персонала не очень много. Собирать возле этого агрегата людей, у которых полно другой работы, это идиотизм, который Петруша принимал за высшее достижение управленческой мысли.
Вот запомнилась мимолетная картинка: подхожу к какой-то печи в цехе № 4, а возле нее сидит на лавочке начальник цеха Мельберг, рядом сидит старший мастер и рядом стоит мастер. Ага, это Топильский заставил их «сидеть на печи, пока печь не заработает». Подходит бугор, говорит мастеру: «Пожалуй, уже можно перепустить электроды еще на 50 мм». Мастер оглянулся на старшего мастера, тот посмотрел на Мельберга, Валентин ему: «Перепускай!» Старший мастер — мастеру: «Перепускай!» Тот бригадиру: «Перепускай!» Бугор пошел и перепустил. А не было бы рядом никого, бригадир выполнил бы эту операцию без лишней волокиты с испрашиванием разрешения на то, что он и без начальства знает, и за что несет ответственность своей зарплатой больше их всех. С другой стороны, пока начальник цеха, старший мастер и мастер сидят на этой печи, их же работу никто не делает, и сама она не делается. Идет накопление нерешенных вопросов, которые в конце концов возвращаются к персоналу цеха в виде новых аварий и новых проблем.
Холуй
На фоне исключительно хамского и презрительного отношения к подчиненным умиляло исключительно подобострастное отношение Топильского к начальству. По своей малой должности я не должен был бы его видеть в этом качестве — меня никто на его встречи с его начальством не приглашал, но это подобострастие было таким, что и я в нем отметился. Дело было так.
Приезжает на завод начальник ВПО «Союзферросплав» Р. А. Невский, и вдруг Парфенов мне сообщает, что я назначен на ночное дежурство, а явиться мне нужно вечером в заводской профилакторий, где мне и объяснят, что нужно делать. Прихожу в профилакторий, и оказывается, что туда в отдельную комнату поселили Невского, а я должен всю ночь дежурить на случай, если Невскому что-то потребуется. А что ему ночью может потребоваться?! При мне знакомые работники ОРСа затарили холодильник в комнате Невского коньяком, колбасой и прочими закусками — что я ему, пить, что ли должен был помогать?
Вечером приезжают в профилакторий Невский и Топильский, уже сильно веселенькие, и Петруша медовым голосом рекомендует меня Невскому как инженера завода, который будет всю ночь бодрствовать на случай, если дорогому Роману Александровичу чего-то захочется. Невский так, по-барски, со мною поздоровался и пошел к себе в комнату спать, а я всю ночь проспал на стульях в вестибюле. Замечу, что в профилактории был весь персонал ночной смены: вахтер и свои дежурные. Я-то был зачем? Утром Невский продрал глазки, позавтракал в столовой профилактория и отбыл с приехавшим за ним Топильским, а я поехал на завод своим ходом, так и не поняв, что я ночью делал — охранял, что ли, Невского? Поражало и то, что Невский благосклонно принял это хамство Топильского, а ведь, по уму, он обязан был отругать Петрушу и отправить меня спать домой, но ему, видишь ли, льстила эта угодливость.
Был еще случай с приездом Невского на завод. Прихожу на смену с утра в диспетчерскую, а у меня нет ни одной единицы моего дежурного транспорта — ни автобусов, ни «газона». Сменщик объясняет, что весь транспорт послан на поиски Невского, который куда-то пропал. До обеда через диспетчера идут звонки — и там Невский не обнаружен, и там… Выясняется, что Невский приехал специально для того, чтобы решить какие-то вопросы для завода у секретаря обкома, оттуда уже звонят, что назначенное время встречи минуло, что босс ждет, а мы Романа Александровича разыскать не можем! К обеду вернулись мои шофера и рассказали сплетни. Оказывается, накануне вечером Петруша подсунул Невскому какую-то голодную холостячку, и она так воодушевила Романа Александровича, что того потянуло на романтику. И он с этой женщиной забрался аж куда-то на луга, благо они близко от города, и прокувыркался с ней ночь в стогу с сеном, из которого и вылез только к обеду. Как я понял из подобных случаев, Невский приезжал к Топильскому в Ермак главным образом за тем, чтобы на халяву «оттянуться по полной программе».
Тут надо сказать, что начальства все побаиваются, а хорошее начальство еще и уважают. Однако, как вы должны понять, есть разница в том, как ведет себя по отношению к начальству подчиненный, назначенный на должность исключительно из-за своих способностей, и как ведет себя «блатной», которого это начальство назначило на должность по каким-то неслужебным мотивам.
Страх начальства
Как-то в командировке в каком-то аэропорту, ожидая задержанный рейс, подобрал часть страниц из толстого литературного журнала с романом о выдающемся русском хирурге Пирогове. В попавшем мне куске этого романа был эпизод, согласно которому Александр II предложил Пирогову стать министром образования. Пирогов был уже стар и болен и спросил царя, неужели в России нет желающих занять этот пост. На что царь ему ответил, что желающих полно, но ни один из них не понимает, что начальник — это слуга своих подчиненных. Меня тогда, помню, поразила парадоксальность этой глубокой и точной мысли. Начальник — это слуга, который обязан обслуживать своих подчиненных так, чтобы они могли эффективно и в срок выполнить то дело, которое начальник им поручил.
Так вот, малоопытные подчиненные, а также ленивые или глупые, заставляют начальника избыточно работать на себя: по факту они требуют, чтобы начальник не только обеспечивал им возможность эффективно работать, но и работал за них: принимал за них решения и напрягал средства всей организации, чтобы компенсировать их беспомощность. Начальники это либо понимают, либо инстинктивно чувствуют, и когда к ним приходит подчиненный с просьбой о помощи (а по сути, с требованием их обслужить), а эта просьба не вполне ясна начальнику или он по этому вопросу вообще имеет другое мнение, то для начальника естественным будет отшить подчиненного ответом: «Тебя назначили, чтобы ты вскрыл резервы своей организации и заставил эти резервы работать, а не ходил за дополнительными средствами с протянутой рукой. Тебе дали столько, сколько и другим, и даже больше, но другие успешно работают, а ты ищешь в лице начальства причины, чтобы оправдать свою несостоятельность!» Такой ответ, я бы сказал, это «проверка на вшивость». Если подчиненный не уверен, что сам действительно принял все меры, или он в свою очередь проверяет начальство «на вшивость», т. е. норовит на халяву что-либо у начальства получить, либо этой просьбой страхуется от возможных неудач, то подчиненный с этим ответом от начальства и уйдет.
Но если у него действительно проблемы, то он начнет нервничать, начнет доказывать свою правоту, его не будут пугать угрозы начальства прибыть к нему и лично проверить состояние дел, он сам будет пугать начальство тем, что пойдет к более высокому начальству. Тут начальник начинает понимать, что дело, судя по всему, действительно серьезное, что нужно если не сразу засучить рукава и начинать обслуживать этого подчиненного, то, по меньшей мере, ехать к нему и самому разбираться, в чем там дело, и какую помощь этому подчиненному нужно оказать.
Но так вести себя с начальником может только тот подчиненный, который занимает свою должность по праву. Да, это начальник назначил его на эту должность (или рекомендовал), но он назначил его потому, что данный подчиненный был лучше остальных. И если этот подчиненный оценивает обстановку в своем подразделении или на своем заводе так, то, значит, так оно и есть, и никто лучше его эту обстановку оценить не сможет, включая и самого начальника. Посему начальник ему обязан сделать то, что он просит, а не сделает, то подчиненный имеет полное право жаловаться выше и выше, поскольку этим он спасает порученное ему дело.
Но «блатной» не может вести себя с начальством так. Во-первых, поскольку он заведомо не соответствовал своей должности, то он и не способен сам понять, сделал ли он все необходимое или нет: вскрыл ли он все резервы или первая же приехавшая на завод комиссия их обнаружит, т. е. найдет те технические и организационные решения, которые обязан был найти сам «блатной»? Посему, когда начальство «пробует его на вшивость», то «блатной» предпочитает этим удовлетвориться, теша себя мыслью, что начальство теперь «все знает», а ему надо вернуться и надавать своим подчиненным по мозгам, чтобы они искали эти самые резервы, о которых говорит начальство.
Второе, «блатной» ведь знает, что он назначен на свою должность не благодаря заслугам, а благодаря благоволению начальства. Но это же начальство может его и убрать, хотя бы для того, чтобы посадить на его место другого «блатного». И у «блатного» и в мыслях нет кусать «руку», которая посадила его на должность — он никогда не пойдет жаловаться на своего благодетеля.
В результате «блатной» оставляет вверенное ему дело без обслуживания его высшими начальниками, и в результате «блатной» губит вверенное ему дело всеми способами и этим способом тоже.
Результаты трусости
Вот Друинский совершенно справедливо пишет, что Министерство черной металлургии СССР не сделало по отношению к Ермаковскому заводу ферросплавов то, что обязано было сделать — не обслужило наш завод. Но это только часть правды, поскольку это Топильский не убедил и не заставил Минчермет это сделать. Ведь когда на завод пришел Донской, то министерство все необходимое сделало, хотя и министерство, и обком, по меньшей мере, в начале, относились к Донскому гораздо хуже, чем к Топильскому, я бы даже сказал — враждебно. Но Семен Аронович «сломал» и Минчермет, и обком, в результате завод получил то, что обязан был получить еще лет 10 назад.
Вот одна из проблем, о которой упоминает Друинский, не конкретизируя, что она значила для завода.
У нас был очень маленький штат заводоуправления и он не мог справиться с таким гигантом, как наше предприятие, да еще в процессе его становления и строительства.
Количество нынешней бюрократии в России, количество членов различных управляющих инстанций уже вдвое превышает аналогичное количество во всем СССР, что и не мудрено — революция 1991 года была революцией бюрократии. Но и в СССР количество бюрократии было чрезмерным, однако бездельники, паразитирующие на советских тружениках, сидели где угодно — в партийно-правительственных органах, в контрольных, в науке, в армии, в КГБ. Но только не на заводах, где создавалось материальное богатство СССР. Здесь, в промышленности и сельском хозяйстве, понукаемое воплями бюрократов: «Нужно сокращать штаты!» — количество управленцев было очень невелико, особенно если сравнить его с тем количеством «белых воротничков», которое даже в те годы уже было на любых западных фирмах.
Помню, когда я попал в командировку на Магниторгорский металлургический комбинат, то меня поразила величина здания заводоуправления этого комбината по сравнению со зданием заводоуправления нашего завода: оно мне запомнилось пятиэтажным, но очень длинным. А потом в Токио у меня были дела на известной японской фирме «Ниппон стил», и мы поехали в ее токийское управление. Так вот это управление (а ведь были еще и управления на каждом заводе этой фирмы) занимало небоскреб не менее, чем в 30 этажей, поскольку, как мне помнится, далее 20-го этажа лифт не ехал, и мы пересели на второй лифт. Причем японцы говорили, что токийское управление «Ниппон стил» расположено в двух таких небоскребах. Но главное даже не это, а в открывавшихся картинках.
У нас помещения любой конторы представляют собою коридор, по обе стороны которого расположены комнаты, в которых сидят по 2–3, редко до десятка сотрудников. А у «Ниппон стил» расположение было американское: в центре небоскреба были лифты, а этажи представляли собою одну большую комнату, где-то метров 60 х 60, которая была заставлена чуть ли не вплотную столами, за каждым из которых сидел японец в белой рубашке, галстуке и очках и что-то высматривал на мониторе компьютера. У меня было такое впечатление, что я попал в муравейник. Я спросил, сколько «Ниппон стил» производит стали, оказалось, что 21 млн. тонн в год. Но Магнитка производила в СССР 17 млн. тонн — это числа одного порядка, но разница в количестве управленцев была оглушительной. Да и в Европе я сталкивался с удивлявшими меня числами (специально я их не искал), скажем, на производстве фирмы работает 18 рабочих, а ими управляет 40 человек «белых воротничков».
У нас же на заводе штата заводоуправления даже по советским меркам катастрофически не хватало. Я уже молчу про свою металлургическую лабораторию, в которой Топильский определял штатную численность по остаточному принципу — лишь бы была видимость, что и у Ермаковского завода ферросплавов тоже есть исследовательские силы, а реально штат этих «сил» обычно не превышал 3–4 человек инженеров-исследователей. Но ведь диспетчерская служба завода была органом, без которого завод не может работать, тем не менее, как вы видели выше, и у нее не было в штате человека для подмены отсутствующих, хотя по расчетам он должен был быть. И вот эта мизерность штата заводоуправления приводила к тяжелейшим потерям, поскольку невозможно было без людей выполнить весь тот объем работ, который необходимо было выполнять. Возьмем только один аспект и не самый тяжелый — прием проектов.
Друинский описал две тяжелейшие аварии — пожар в цехе № 2 и выход из строя уникальных печных трансформаторов в цехе № 6. В обоих случаях была вина проектировщиков — в проектах, т. е. в чертежах была заложена ошибка, которая в конечном итоге предопределила аварию. Но тут теоретически есть и наша вина — принимая эти чертежи и передавая их строителям, заводские работники обязаны были их отревизировать и оценить, к чему могут привести те или иные проектные или конструкторские решения. Но таких работников в штате заводоуправления не было, а главные специалисты со штатом своих отделов способны были оценить лишь принципиальные особенности проектов. А до таких подробностей, как возможность затекания расплавленного металла под трансформаторы при проедании ванны печи в определенном месте, ни у кого руки не доходили, как не дошли они до этого вопроса и на Зестафонском заводе ферросплавов. Да что уж об этом говорить, если у нас в то время технический отдел совмещал и функции производственного…
Впоследствии Донской решил и этот вопрос, хотя штат заводоуправления как проблема на фоне остальных проблем завода был проблемой незначительной. Первоочередной же встала проблема плана — мы технически не могли выплавить столько металла, сколько от нас требовалось. Печи у нас были — их строили, но не строили то, что должно было обеспечивать работу печей. А те вспомогательные цеха, которые для этого были построены, свою мощность имели только на бумаге, а реально не развивали ту производительность, которая требовалась. В результате завод перестал выполнять план и получать премию, а это единственный способ повлиять на дисциплину и, следовательно, на управляемость завода, но об этом позже.
Был вообще вопрос «смешной». Мы на заводе имели «казахский коэффициент» в 15 %, т. е. у нас зарплата была на 15 % выше, чем на заводах на западе СССР. Черт бы с ними, с этими 15 %, но рядом на ГРЭС этот коэффициент был 30 %, хотя все виды работ и их организация на нашем заводе были тяжелее, чем на ГРЭС. Эту местную несправедливость, из-за которой рабочие общих специальностей при первой же возможности переходили на ГРЭС, легко было объяснить любому начальству, как министерскому, так и партийному, следовательно, легко было решить, но Топильский даже этого не делал.
И вот эта боязнь начальства, эти многочисленные нюансы поведения Топильского, нюансы, которые как ни прячь и чем ни объясняй, а все равно видны подчиненным, еще больше убеждали нас, что Топильский — «блатной», хотя, повторю, мы не могли понять, чей он «блатной», так как не могли вычислить, кто у него «рука».
Однако наиболее ярким признаком «блатного» была беспримерная безнаказанность Топильского. И тут надо подойти к вопросу, почему я считаю Топильского самой большой нерешенной проблемой Друинского.
Издевательство над кадрами
Топильский, повторяю, был глуп самой страшной глупостью, которой обладают только люди с формальным образованием, — он не осознавал своей глупости. Это явление давно известно и сразу бросается в глаза любому мало-мальски умному человеку. Вот Лев Толстой в романе «Воскресение» описывает такого глупца с образованием: «Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно». Вот и Топильский был «глуп чрезвычайно», не осознавая этого, глуп до такой степени, что в принципиальных моментах я не в состоянии его понять.
Тут уместно сказать пару слов о методе. Когда я ищу причины того или иного поступка исследуемого мною человека, неважно, Сталин это или работяга, я мысленно ставлю себя на его место, т. е. на его должность, начинаю анализировать все, что я знаю об обстановке в тот момент, и пытаюсь найти свое собственное решение проблемы.
Если мое решение отличается от того, которое реально принял исследуемый мною человек, значит, скорее всего, я недостаточно оценил обстановку — не узнал всего того, что знал он. Приходится терпеливо собирать дополнительные данные, причем не только об этом человеке (о его характере или привычках), но, главным образом, об обстановке, его окружавшей. Так вот, что касается Топильского, то у меня есть основания полагать, что обстановку, на основании которой он принимал решения, я знаю не хуже его. Но объяснить его решения, понять причины, по которым он их принимал, я не могу, поскольку в них нет ни логики, ни даже пользы для самого Топильского, если не считать пользой какое-то болезненное утверждение своих амбиций.
Реально получалось так. Топильский вел себя с подчиненными как человек (как умный человек) до момента, пока подчиненный, совершенно не собираясь как-то уязвить Топильского и даже не подозревая об этом, выражал сомнение в чем-то, что Топильский считал плодом своего ума. Топильский это воспринимал почему-то как страшное оскорбление — это понятно и можно объяснить. Непонятно другое, почему он одновременно начинал считать этого человека глупцом? А это происходило со всеми, кто работал на заводе — к моменту снятия Топильского с должности на заводе не было ни единого человека (я имею в виду круг этээровцев, с которыми Топильский так или иначе соприкасался), который бы не отнесся к его снятию с одобрением, и который бы посочувствовал Топильскому. (Так к этому относились все, даже если он кого-то и не успел достать. Строго говоря, только Володя Шлыков сказал, что жаль Топильского, поскольку он все же хотел, как лучше, но Шлыков был человеком столь высокой пробы, что ему эта жалость простительна.) Таким образом, получалось, что на всем заводе из управленцев умный только Топильский, а остальные — идиоты. Подчеркну, что идиотами Топильский считал и тех, в чьих делах по своему образованию и опыту изначально ничего не понимал, следовательно, и оценить правильность тех или иных их действий изначально не мог.
Вот помню историю с главным бухгалтером завода Григорьевым (имя-отчество уже забыл). Я был еще только поступившим на заводе салагой, и мы с другими устроили курилку в торце коридора третьего этажа заводоуправления, где на подоконнике у нас стояла консервная банка под окурки. Через пару дверей от нас по коридору был кабинет главного бухгалтера завода, а поскольку его кабинет был маленький, а в бухгалтерии почти сплошь работают женщины, то Григорьев выходил покурить к нам. Для нас (а я помню в нашей компании Володю Шлыкова и Вадима Храпона) главбух завода — это большая шишка! Но совместная травля анекдотов и обсуждение сборных СССР по футболу и хоккею нас несколько сблизили. И вот как-то мы стоим и видим, как, поднявшись по лестнице и минуя свой кабинет, к нам направляется Григорьев, на ходу доставая пачку сигарет и прикуривая. Он запомнился мне мужчиной лет 40, интеллигентного вида в очках с золоченой оправой.
— Скотина! Сволочь! — начал Григорьев, выпуская дым и совершенно не сообразуясь с тем, что то, что он собрался нам рассказать, нам знать, в общем-то, не следовало. — Все, он меня доконал! Я на этом е…ном заводе больше работать не буду! — а после того, как мы поинтересовались, что же случилось, он вгорячах рассказал следующее.
— Вызывает Топильский и начинает меня драть ни за что. Я, получается с его слов, дурак, бухгалтерия у меня не работает. Я спрашиваю, что он имеет в виду? Что не так? Но ведь он же в нашем деле баран, он же в бухучете ничего не соображает и поэтому ничего мне сказать не может, а снова и снова заводит пластинку, что я дурак и бездельник, что всю работу завалил. Я сижу и ничего не могу понять, чего он хочет? И только минут через 40 из его намеков понял, чем он недоволен.
Всю его зарплату и премию получает за него его жена в кассе заводоуправления. А оказывается, ему, чтобы Вальку П-ву трахать, нужны деньги, чтобы о них жена не знала. И он, наконец, удумал, что такими деньгами, о которых бы его жена не знала, должны быть премии, которые приходят ему из министерства. И он меня! Главбуха! Драл, чтобы я догадался, что ему эти премии надо выдавать помимо жены?! Это я, получается, плохой главный бухгалтер, потому что не догадался об этом раньше него?! Это значит, у меня поэтому плохая бухгалтерия?! А позвонить мне и сказать как человек, чтобы ему эти премии не включали в расчет и выдавали отдельно, он мне не мог?! Все! Я с таким директором работать не могу!
И вот в такую ситуацию неумолимо попадал каждый, как бы он ни старался ее избежать. Народ-то в Ермаке был простой, всяким там московским политесам не обучен, посему так или иначе, но наступал момент, когда подчиненный брякал что-либо такое, чего Топильскии не хотел слышать. И после этого подчиненный сразу переходил в категорию дураков и плохих работников, которым Топильскии считал своим долгом постоянно и публично напоминать об этом. Не могу сказать, что люди не пытались найти способы, чтобы как-то с этим придурком работать. Помню как-то в диспетчерской сошлись вышедшие из кабинета Топильского главные специалисты и начальники цехов в соответствующем настроении, и главный механик завода, тогда Глеков, пытался поделиться с ними своими идеями.
— Тут нужно понять, что Петруша всех нас считает идиотами, неспособными предложить ничего правильного. Поэтому с ним нужно действовать наоборот — никогда не предлагать ему правильное решение, иначе он его забракует. Нужно предлагать ему херню, он все равно ее смысла не поймет, но раз ты ее предложил, значит, он объявит это негодным. И тогда ему можно подсунуть и нужное решение, но так, чтобы оно исходило не от тебя. Тогда он за него-то и ухватится. — Далее Глеков рассказал конкретный пример, в котором я забыл фамилии и даю их условно. — У меня в литейке уволился начальник, единственный, кто его мог заменить — Петров. Но если я прямо предложу Петрова Топильскому, то он его никогда не назначит, более того, сочтет, Что Петров близок ко мне, и начнет его шельмовать. Поэтому я прихожу к Петруше и говорю, что есть глупое мнение назначить начальником литейного цеха Петрова, но я категорически не согласен, кроме того, и Петров не хочет становиться начальником. Поэтому я предлагаю назначить Сидорова. Петруша, естественно, ни того, ни другого не знает, но он пожевал сопли и объявил, Что я — дурак, работать с людьми не умею и кадры в БРМЦ не знаю. Поэтому Петруша назначит начальником литейного цеха Петрова, а если тот не захочет стать начальником, то Петруша его заставит. Все, он принял то решение, что и надо было, — закончил свою поучительную историю Глеков.
Все это, конечно, логично, но как в жизни работать таким образом? Ведь основную массу вопросов нужно докладывать директору немедленно и немедленно предлагать вариант решения. Ну, когда тут разработаешь хитроумные планы для этого придурка?
Последствия
Когда я в 1973 году приехал на завод, с завода уже шло увольнение специалистов, хотя завод в то время работал еще прекрасно, и премии были регулярно — ведь Друинский свое дело знал и делал. И все специалисты уходили по одной причине — невозможность работы с Топильским. Поскольку я тогда с главными специалистами непосредственно не работал, то мне трудно вспомнить их фамилии, но могу гарантировать, что начальник цеха № 4 Березко ушел из-за него. За ним следующий начальник этого цеха, сильнейший технолог Мустафа Адаманов, тоже ушел из-за Топильского. Из-за него уволился и зам по быту Иванов, увезя с собой и жену, зама начальника химлаборатории ЦЗЛ. Из-за Топильского ушел и главный механик Глеков, который, казалось бы, знал, как с Топильским работать. Уход специалистов с завода был повальным. Я, сам того не желая, сделал в ЦЗЛ очень быструю карьеру именно потому, что из-за Топильского ушли Н.В. Рукавишников, Н.П. Меликаев и даже А. А. Парфенов, так и не дождавшийся снятия с должности самого Топильского. Уходили те, у кого нам, молодым, надо было бы еще учиться и учиться.
Мы очутились как бы на фронте. Из какой-то давно читанной книжки запомнил, что во Вторую мировую войну в американской армии смерть одного майора давала возможность повыситься в должности 40 человекам. Это многовато, но сам результат несомненен. Что значит, что с завода ушел главный механик? Это значит, что на его место назначается, скажем, начальник БРМЦ, на место того — начальник какого-либо из ремонтных цехов, на место начальника цеха — старший мастер, на его место — мастер, на место мастера — бригадир, а бугром становится простой слесарь или электрик. То есть уволился один специалист, а сразу шесть должностей на заводе заняли неопытные люди. А при такой их неопытности она била очень сильно в первую очередь по ним самим, во вторую — по Друинскому, а в конечном итоге била по заводу — по количеству выпускаемой им продукции.
Если человек неопытен, то ему требуется больше времени, чтобы разобраться с теми вопросами, по которым его должность требует принимать решения. Но когда речь идет о руководителях и когда решения нужно отдавать аварийно, то промедление в принятии решений означает, что рабочие в это время не получают нужных команд и ликвидация аварии затягивается. Неопытный руководитель в конце концов рискует дать собственное решение, а оно из-за неопытности может быть не лучшим, а это, как минимум, затягивает дело. Наконец, неопытный подчиненный постоянно обращается за советом к вышестоящему начальнику, и тот, вместо того, чтобы обдумывать стоящие перед ним проблемы, вынужден вникать в проблемы своего подчиненного, чтобы помочь ему. Перегруженными работой и испытывающими жесточайший цейтнот оказываются все шесть инстанций, осчастливленных повышением в должности, одновременно добавочная работа падает на того, кто замыкает на себе всех специалистов завода — на главного инженера. Друинский тратил годы добавочного труда, чтобы подготовить и дать научиться самостоятельно работать главному механику, но тот увольняется, и вся эта работа идет прахом — нужно все начинать сначала. А через пару лет, когда, казалось бы, на нового главного механика уже можно положиться и немного вздохнуть, Топильский добивает и его своей придурью, и тот в свою очередь уходит с завода. И Друинскому все нужно начинать сначала.
Завод стало лихорадить: мы уже не каждый месяц выполняли план, хотя инженеры завода, особенно цеховые, работали чуть ли не сутками. Потом к плану двух уже освоенных цехов (№ 2 И № 4) на бумаге добавилось производство двух цехов с уникальным, еще нигде не опробованным оборудованием, плюс цеха по обеспечению этих цехов шихтой, тоже с еще неопробованной проектной мощностью. Завод упал в такую глубокую яму, в которой у работников завода стали повсеместно опускаться руки, а министерские умники, на глазах которых это все происходило, не нашли ничего умнее, чем ввести в оборот термин «ермаковщина», Как крайнюю степень интеллектуально-психической деградации работников предприятий. И то сказать, что видимость оснований для такого термина была.
Невыполнение плана — это, когда план выполняется на 95–98 %. (Не выполняет план на 1 % только идиот, как и перевыполняет его на 5 % тоже идиот — резервы от начальства нужно прятать.) Мы же выполняли план на 70–80 % и даже, скорее на 70, чем на 80. Это совершенно исключало какие-либо надежды, что мы в обозримом будущем сумеем его выполнить и получить причитающиеся за это 40 % премии. К увольнению с завода специалистов добавилось бегство всех, кто мог. В округе, к нашему счастью, не было металлургических предприятий, поэтому кое-какие кадры рабочих-металлургов еще оставались, а слесари, электрики, сварщики, машинисты, крановщики и т. д. и т. п. разбегались кто куда — хоть в совхоз, лишь бы не на этом долбаном заводе. Из 5 тысяч человек штата на заводе не хватало около тысячи. Причем убегали опытные мастеровые, которых охотно принимали на работу в округе, а они все уже получили квартиры на заводе, которые, естественно, оставляли за собой, либо меняли, либо продавали. (Продать государственную квартиру было нельзя, но если очень хотелось, то было можно: за деньги прописывался в квартиру будущий ее владелец, а продавец выписывался.) К всеобщему развалу производства добавился еще и кризис жилья — теперь уже невозможно было привлечь работников перспективой быстрого получения квартиры.
«Работа с кадрами»
Казалось бы, что уже при первых признаках несчастья, при первых случаях невыполнения заводом плана Топильского нужно было гнать с завода вонючей метлой, но он был непотопляем, что окончательно доказывало нам его «блатное» происхождение. Наоборот, партийно-министерские умники, воспользовавшись тем, что наш завод был директивной стройкой, т. е. его освоение было обещано стране ЦК КПСС, устроили из завода нечто вроде концлагеря, сделав все, чтобы огородить его колючей проволокой партийных взысканий.
При увольнении с завода нарушалась непрерывность трудового стажа, а при переводе с завода на завод она сохранялась. Поэтому сначала те, кто уходил с завода, договаривались на новом месте работы о переводе, и то предприятие слало на наш завод письмо с просьбой отпустить работника в связи с переводом на новое место работы. В ответ такого работника тут же вызывали в Ермаковский горком и выносили ему выговор с занесением в учетную карточку, а Павлодарский обком слал письмо в обком той области, в которую хотел переехать увольнявшийся, а в письме грозил тамошнему обкому пожаловаться в ЦК КПСС, что они сманивают работников с директивной стройки. Соответственно, Минчермет СССР запрещал своим заводам принимать специалистов из Ермака. Перепуганные местные деятели отказывали в приеме на работу, даже если раньше они давали гарантии. Так было с начальником цеха № 4 Березко, которому уже предложили на Кузнецком заводе ферросплавов должность старшего мастера, т. е. уже с понижением, а после переезда в Новокузнецк он смог устроиться на Кузнецкий ферросплавный только плавильщиком.
Но бывали случаи, когда коса находила на камень, так было, к примеру, с главбухом завода Григорьевым.
Он уволился и уехал в какой-то город на Волге, в котором было предприятие из системы ВАЗ. Позже я встретил его на улице, он сообщает, что приехал в Ермак забрать семью, а я, естественно, интересуюсь, достал ли его на новом месте Павлодарский обком? Он рассмеялся.
— Достал, но эффект был не тот, что эти дураки ожидали — Павлодарский обком напоролся на умных людей. Когда я написал заявление о приеме на работу (еще работая в Ермаке), на новом месте работы меня не знали, поэтому предложили должность заместителя главного бухгалтера завода и квартиру через два года. А когда я уволился здесь и приехал туда, то письмо из Павлодарского обкома уже пришло, и на новом месте меня приняли главбухом и сразу же дали квартиру, — видя мое недоумение, добавил. — Ведь такое письмо — это самая лучшая характеристика работнику. Ясно же, что из-за дурака или бездельника обком не будет трудиться и писать письмо, а раз он его написал, то это сертификат того, что я толковый специалист. Это ведь только дураку и бездельнику пишут хвалебную характеристику, только бы он поскорее уволился, а толковых специалистов всеми силами стараются удержать. А раз уж меня пытались удержать силами самого обкома, то, значит, я очень хороший специалист. И то ли сам завод понял, то ли ему местный обком подсказал, что я, получив должность с понижением, могу обидеться и уехать в другую область, но они тут же сделали все, чтобы я не обиделся и остался у них.
Но, строго говоря, это был единственный такой случай, а вот Н.В. Рукавишников, толковейший специалист, устроиться на работу в системе Минчермета не смог. То, что Топильский смотрел на нас, как на негров на своих плантациях, народной любви ему не добавило, причем он прекрасно знал, что его ненавидят. Был Такой случай.
У нас одно время начальником цеха № 2 работал Шигунов, металлург старый и опытный, но, судя по слухам, слабый насчет выпивки. Поэтому не могу сказать, что его сняли с должности начальника цеха несправедливо, может, он уже начал злоупотреблять бутылкой и на работе. Кроме того, он и в личной жизни был как-то не очень счастлив, по-моему, о нем ходили слухи, что его единственный сын, врач военно-морского флота, утонул где-то вместе со своей подлодкой. И вот как-то вечером в общаге заходит к нам Люба Дорожкина, фельдшер «скорой помощи», вернувшаяся со своей смены, и еще дрожащим голосом рассказывает, что Шигунов застрелился, и она была у него на вызове, но помочь уже было нельзя: «Он выстрелил из ружья себе под челюсть — вся стена и потолок в крови и мозгах, ухо лежит на телевизоре, ну чем тут поможешь?» Она также передала рассказ жены Шигунова, что, когда муж, основательно выпив, зарядил ружье и закрылся в комнате, сообщив ей, что застрелится, она тут же позвонила Топильскому и попросила его приехать и переговорить с Шигуновым. Топильский категорически отказался, мотивируя это тем, что Шигунов его убьет. Потом мы обсуждали эту смерть, и, если я правильно помню, то особенно возмущался Топильским Масленников, работавший тогда во втором цехе: «Он же ведь сам хотел застрелиться — какого бы хрена он стал стрелять в Топильского?!» Но у Топильского, видимо, были основания опасаться, что Шигунов, услышав его голос, может вспомнить, что у него в ружье два ствола…
Вот тут должен сказать, что, к моему глубокому удивлению, впоследствии оказалось, что Топильский далеко не трус, т. е. не так уж боится собственной смерти, как ее боятся многие другие люди. Когда Топильского уже сняли с должности директора и назначили начальником техотдела, они с В.А. Матвиенко, тогда начальником цеха № 2, поехали на Актюбинский завод ферросплавов набраться тамошнего опыта.
— Идем по площадке электродов, — рассказывал Матвей, — я впереди, а Топильский сзади. Вдруг слышу сзади грохот, оборачиваюсь и вижу: лежит на полу Топильский и кривится от боли, а сзади за ним лежит тельфер…
Прерву Валерия Александровича. Это настолько дикий случай, что когда много лет спустя я напомнил о нем директору Актюбинского завода ферросплавов Никите Варфоломеевичу Новикову, то тот и тогда обсуждал его с ошарашенным видом. Тельфер — это устройство для подъема грузов, это подъемный кран особого устройства. Он крепится на крановой балке так, чтобы удержать не только свой собственный вес, но и вес поднимаемого груза, причем как и любой подъемный механизм, рассчитывается на 10-тикратный перегруз. Еще можно понять, если бы при подъеме груза оборвался трос — не уследили, перетерся. Но чтобы упал весь тельфер, причем никакого груза не несущий?!! Да скорее Луна упадет на Землю! Я, честно скажу, из-за поведения самого Топильского так и не разобрался, что же там произошло с этим тельфером, но в момент прохода под ним Топильского он оборвался, упал за его спиной, сбив с ног так, что при падении Петр Васильевич сломал себе руку и несколько ребер. Но характерно то, что в этот момент Топильский не видел, что на него падает тельфер, и не знал, что именно его ударило.
— …Я бросился к Топильскому помочь, — продолжал Матвиенко, — но он мне закричал: «Валера, не подходи, я под напряжением!»
Объясню ситуацию. Топильский ошибочно решил, что коснулся какого-то элемента, находящегося под электрическим напряжением (а на эту площадку выходят находящиеся под напряжением концы кожухов печных электродов). И, соответственно, Топильский решил, что его сбил с ног удар электрического тока и что токопроводящий элемент все еще касается его. Исходя из этой ошибки, он мгновенно оценил, что если сейчас Матвиенко дотронется до него, то и Матвиенко ударит током, причем свойства таких электротравм таковы, что последнему достается больше, чем первому. И в это мгновение Топильский не запаниковал и подумал не о том, как спасти собственную жизнь, а о том, как спасти жизнь Матвиенко… Снимаю перед Петром Васильевичем шляпу! Это совершенно мужественное поведение.
Я в те годы работал над теорией управления людьми, и среди многих ее тогдашних тупиков был и такой тупичок. Я уже видел, что бюрократа делает бюрократом страх, но я полагал, что это тот самый страх, который вызывает у нас инстинкт самосохранения. Когда я услышал о случае с Топильским и еще не знал подробностей, то не придал значения. (Топильский, как и полагается производственнику, чтобы не подводить коллег-актюбинцев, согласился скрыть эту производственную травму, выдав ее за бытовую.) Но когда Матвиенко рассказал мне подробности, то меня ошарашило: Топильский был для меня эталоном бюрократа и вдруг осмысленное действие в условиях непосредственной опасности для жизни!
Значит, что-то в моих построениях о трусости бюрократа не то, — подумал я. Действительно, бюрократом движет страх, однако нужно уточнять, что это, да, может быть, и страх, вызываемый инстинктом самосохранения, но типичный для бюрократа страх вызывается другой причиной — его некомпетентностью. Это страх показать начальству и людям эту самую свою некомпетентность и этим дискредитировать себя.
Замысел покровителей
Раз уж я заговорил о своих последующих исследованиях бюрократизма и принципов управления людьми, то скажу, что чем больше я узнавал об этом, то тем больше недоумевал над тем, что Топильского рискнули назначить директором «по блату». Дело в том, что должность директора завода, как и вообще любая должность, которая отвечает за дело — за нужный людям результат — это должность не для «блатных». Если тебя как «блатного» назначают директором завода, из ворот которого каждый день должны выкатываться 50 вагонов с готовой продукцией, и ты работаешь в этой должности, и эти 50 вагонов действительно выкатываются, то ты не «блатной», какие бы родственники или мафия тебя на эту должность ни поставили, — ты удачное кадровое назначение. Поставить директором завода человека, который не способен работать — это самоубийство для его прямого начальника, да и для вышестоящих тоже, без которых это назначение не состоится. Ведь «блатной» либо завалит дело, за которое этот начальник тоже отвечает, либо ему самому за этого дурака придется работать.
Должность «блатных» — это журналисты, академики, ученые, директора различных институтов, члены различных аппаратов управления, начальники и члены контрольных органов, прокуроры и судьи — все те, у которых результаты работы имеют вид бумаги с написанным текстом. Вот тут «блатной» в самый раз! Нужную бумагу за него кто-нибудь напишет, даже если он такой тупой, что сам этого не освоит, а реальной ответственности нет: «гуляй рванина»! Но должность директора завода, повторю, не для «блатного» — на ней нужно и знать работу, и работать. Поэтому, только прочитав воспоминания Друинского, я смог сформировать версию того, как Петруша оказался нашим директором.
Для этого надо понять, что вот эта необходимость обязательно давать продукцию и обеспечивать зарплатой вверенных тебе людей довлела над советской промышленностью настолько, что в ее высших органах управления в Москве все ключевые должности занимали только бывшие директора заводов. По крайней мере, я видел это в Минчермете СССР: заместители министров, начальники управлений, главков, главные инженеры — все до Москвы были директорами заводов на периферии. Главные специалисты Минчермета практически все были главными инженерами заводов. Для того чтобы просто устроиться на работу в Москве, нужна была прописка, но чтобы устроиться на высокую должность, скажем, заместителя министра или начальника главка, нужно было поработать на периферии, стать там директором завода, подержать вверенный завод какое-то время в лучших, а уж потом тебе дадут желанную должность в Москве. Поэтому если вы хотели, чтобы ваше протеже стало, к примеру, заместителем министра, вам нужно было послать его на какой-нибудь завод за директорским стажем.
Реально это кажется невозможным по вышесказанной причине — если «блатной» загубит завод, то загубит и тебя, рекомендовавшего «блатного». Поэтому мне и был непонятен случай с Топильским. Однако есть обстоятельство, которое может обеспечить такую возможность: а если на этом заводе уже есть человек, который работает как директор, и если «блатного» назначить директором к этому человеку, то что получится? Ведь тот человек будет продолжать успешно руководить заводом, а твой «блатной» будет вешать на грудь ордена, пока ты не переведешь его в Москву.
Эта версия пришла мне в голову вот по какой причине. Когда я приехал на завод, Топильский работал директором уже пятый год и, кстати, уже успел получить и орден. Но старожилы завода еще прекрасно помнили и предыдущего директора — Боровиченко. Я, разумеется, спрашивал, за что Боровиченко сняли, чтобы заменить его придурком, но все недоумевали: завод не просто успешно строился — он строился с опережением графика, печи успешно вводились в строй и выходили на проектную мощность. Почему сняли Боровиченко, никто не понимал. Однако в воспоминаниях была и другая особенность — в связи с собственно заводом Боровиченко никто не вспоминал, поскольку в рассказах постоянно присутствовал Друинский: «Друинский распорядился… Друинский вызвал… Друинский приехал…» И самого Боровиченко связывали только с городскими спортивными командами и с городскими спортивными сооружениями, а к моему приезду в городе не было только крытого хоккейного поля, а так все было — и полностью оборудованный стадион, и хоккейный корт, и спортивный техникум.
1966 год. М.И. Друинский и В.В. Боровиченко
Тут надо сказать, что на Актюбинском заводе ферросплавов, откуда приехал Боровиченко, все были традиционно шизанутыми на спорте, достаточно сказать, что директор этого завода Сорокин играл за заводскую сборную по футболу чуть ли не до пенсии. Но, как я понял, Боровиченко был «фанатом нового типа», и речь шла уже не о том, чтобы все работники завода в свободное от работы время занимались спортом. Боровиченко организовывал «профессиональный» спорт, т. е. речь шла не о массовости, а о создании команд из спортсменов, для которых спорт — это профессия. Их принимали на завод на рабочие должности, платили зарплату, а они только тренировались и играли. (Не только спортсменов, но и всех, кто числится подобным образом за цехами, называли «подснежниками».) Боровиченко, как я понял, задумал сделать из Ермака Нью-Васюки — столицу, по меньшей мере, советского спорта. К моему приезду все начинания Боровиченко уже были разрушены, даже хоккейный корт уже разрушался, основная часть приглашенных спортсменов разъехалась, но многие остались жить в Ермаке и работать на заводе. К примеру, Володя Коробков — футболист, Вася Недайборщ, которого сманили, как мне помнится, из одесского «Черноморца», и который играл в заводской футбольной команде вратарем — «ловухой», как он сам говорил. Он окончил институт и впоследствии был начальником цеха. Боровиченко восхищались, что в хоккейную команду он одно время пригласил играть даже Полупанова, в свое время выдающегося советского хоккеиста и члена сборной СССР.
Между тем, эти интересы Боровиченко должны были занимать у него много директорского времени, следовательно, настоящим директором на заводе был тот, кто делал за Боровиченко ту его работу, которую он делать не успевал из-за своего увлечения спортивными достижениями. Это, само собой, был Друинский. Не надо думать, что Боровиченко вообще на завод не являлся, нет, он ведь не был «блатным», дело знал, и когда от него требовалось директорское решение, то он его принимал или ехал в командировку пробивать заводу то, что заводу было нужно. Но вырабатывал эти решения, наверняка, Друинский и командировки (просьбы, документы, обоснования) тоже, наверняка, готовил он. То есть Боровиченко не только не мешал Друинскому работать, он ему и всемерно помогал. Если оставалось время от футбола.
Но ведь все минчерметовское начальство — это бывшие директора, их на мякине не проведешь, и в Минчермете наверняка поняли, что Ермаковским заводом реально руководит Друинский. Тут, понимаете, достаточно, чтобы Боровиченко пару раз не ответил на вопросы, на которые он как директор обязан отвечать немедленно, и достаточно было Друинскому пару раз задать вопросы, которые должен задавать директор, — и опытному человеку становилось понятно «кто есть кто». И, вне сомнения, возник соблазн сделать карьеру «блатному»: т. е. снять Боровиченко и посадить на его место Топильского, а Друинский завод все равно построит и освоит. А лет через 5, когда Друинский сделает Топильскому карьеру, забрать Топильского в Москву «как директора, прекрасно зарекомендовавшего себя на строительстве и пуске директивной стройки». Ошибка была в том, что те, кто продвигал Топильского, не предвидели, что он больший дурак, чем они о нем думали. От Топильского не требовалось, чтобы он был таким же, как и Боровиченко, от Топильского требовалась малость — не мешать Друинскому работать, т. е. поддерживать те решения, которые Друинский находил. Но Топильский, освоившись через пару лет в должности, вдруг возомнил себя специалистом и настоящим директором. И теперь уже и его «рука» в Москве не способна была ему помочь. Кстати, о ней.
1973 год. М.И. Друинский и П.В. Топильский
Какая мафия или какая персона тут были задействованы, было неясно, но ясно было сразу, что реальным воплощением этой «руки» является начальник ВПО «Союзферросплавов» Р.А. Невский. Но найти родственную связь между ним и Топильским не удавалось: они вместе одно время работали на ЧЭМК и только. Но во времена, когда Невский был на этом комбинате директором, там работала масса толковых специалистов, значит, дело не в том, что Роман Александрович был очарован деловитостью Петруши, Невский сам выполнял чью-то волю.
Выполнял он ее настойчиво, до последней возможности, уже и сам рискуя. Из воспоминаний Друинского видно его недоумение по поводу того, что его все время наказывали ни за что — Невский и обком все время создавали Друинскому имидж «плохого главного инженера». Но за все время его работы на заводе ему ни разу не предложили уйти с этой должности (в таких тонких делах как «плохая работа» начальство само боится разборок, которые последуют за прямым приказом о снятии, и поэтому обычно вынуждает работника самого подать заявление). Но вот, наконец, Друинский сам подает заявление об увольнении, но похоже не понимает, что за этим последовало.
Во-первых, Друинский весь свой гнев ошибочно сосредотачивает на замминистра Тулине, который его до этого ни разу не видел, но обругал как негодного главного инженера. Друинский не задает себе вопрос, а кто же рассказал Тулину о том, что Друинский такой плохой? Ведь кроме Невского некому было это сделать — это Невский подставлял Тулину Друинского, чтобы Тулин не замахнулся на Топильского. Но в то же время, когда Друинский написал заявление об уходе, о котором Невский, казалось бы, мечтал последние 12 лет, Невский год это заявление не подписывал. Это, между прочим, прием, который применяют начальники в надежде, что увольняющийся все же передумает. Невский как бы стоял враскорячку — он пытался и Топильского прикрыть, и свою задницу прикрыть, и причина этого может быть только одна — Невский понимал, что без Друинского и заводу крышка, и ему самому до пенсии не дотянуть. И ведь после ухода Друинского с завода Невский, по сути, до пенсии не дотянул.
Помню, уже во время, когда заводом руководил Донской, я был в командировке в Минчермете и обратил внимание, что начальником ВПО «Союзферросплав» по-прежнему числится Невский, а руководит ВПО в полном объеме Сафонов. Я, естественно, поинтересовался, что происходит, и мне пояснили, что Невский не может уйти на пенсию, поскольку за Ермак ему объявлен выговор комиссией партийного контроля. А этот выговор снимается (не помню точно) через год или два, но если выговор не снять, то Невский будет получать максимальную пенсию, как и все советские трудящиеся — 120 рублей. А ему хочется персональную, т. е. какую-то очень высокую пенсию, вот его мафия и держит на должности, пока придет время снять этот выговор, хотя он на этой должности фактически и не работает.
(Мой отец работал старшим мастером с окладом 140 рублей, а чтобы получать пенсию в 120 рублей, нужно было иметь средний заработок в 240 рублей. Поэтому за три года до пенсии отец перешел в рабочие и стал котельщиком, честно заработав себе эти 120 рублей и даже больше, поскольку на фронтах Великой Отечественной войны он был все же четыре раза ранен. А эти «партейцы» видите, как устроились — и не работают, и зарплата идет полностью, и персональная пенсия набегает. Но это к слову.)
Второй
Я уже упомянул, что на заводе был еще один «блатной», в чем мы тоже не сомневались, — А.В. Масленников. Кто у него «рука», мы тоже так и не выяснили, но Топильский делал Сашке карьеру точно так же, как Невский делал ее самому Топильскому. Правда, в отличие от Топильского Масленников был неглуп, но вот эта наглая уверенность, что у него «за все заплачено», все время снимала его с моральных тормозов до такой степени, что любой другой молодой специалист на нашем заводе сгнил бы на его месте в плавильщиках.
Был такой случай. Утром звонят мне из завкома и просят отпустить с работы всех, у кого есть моторные лодки, поскольку вчера вечером утонул Атаманицын и нужно осмотреть берега Иртыша и островов, поскольку не исключено, что можно будет найти его тело. Я передал просьбу Меликаеву, и от нашего цеха поехал Хузин, однако спустя час вернулся и рассказал, что произошло (потом мне это же рассказал и сам Масленников).
Сашка с Атаманицыным начали глушить портвейн после работы и вскоре решили разнообразить это мероприятие: накупили еще портвейна и на моторной лодке Атаманицына выехали на один из островов, чтобы закончить пьянку, так сказать, на лоне природы. Это лоно на Атаманицына подействовало плохо — он быстро вырубился и заснул в одних плавках на песочке, а Масленникову стало скучно, и он сел в лодку, завел движок и поехал кататься. Однако доехал он до первой мели, на которой сорвал винт, достать его был не в состоянии, упал в лодку и тоже вырубился. Лодку понесло течением, первые же встретившиеся лодочники ее зацепили и прибуксировали к лодочной станции. Там, конечно, сразу узнали, что это лодка Атаманицына, в лодке же лежала и одежда Атаманицына. Начали приводить в чувство Сашку, чтобы узнать, где Володя, но Сашка не приходил в себя и только провякал, что Атаманицын «за винтом ныряет». Осмотрели лодочный мотор — винта действительно нет. Поскольку Масленников был гораздо крупнее Атаманицына, то все, естественно, путем дедукции пришли к выводу: если Сашка в таком состоянии, то Атаманицын уж точно, нырнув за винтом, не вынырнул. Утром Атаманицын не объявился, а Масленников, спавший на лодочной станции, был по-прежнему невменяем, в связи с чем возросла уверенность, что Атаманицын утонул. Вот завком и обзвонил все цеха, чтобы спешно мобилизовать лодочников.
А бедного Атаманицына ночью протрезвили комары — Володя был в одних плавках, а вокруг не было ничего, кроме пустых бутылок, поэтому он всю ночь, то бегал по берегу острова, чтобы комары его не догнали, то прятался от них в воде, пока не замерзал. Надо сказать, что такой вытрезвитель, конечно, и нарочно не придумаешь. Утром народ, выехавший на поиски его трупа, к своей великой радости обнаружил Володю живым (его, надо сказать, на заводе уважали). А Масленников совершил прогул, который при таких обстоятельствах скрыть было нельзя. Однако легкость наказания удивила всех нас — Топильский снял Масленникова с должности старшего мастера перевел на работу мастером сроком на один месяц. При этом, надо сказать, если Топильский относился к Невскому подобострастно и в глаза, и за глаза, то Масленников относился к Топильскому подобострастно только в глаза, а за глаза отзывался о нем чрезвычайно презрительно, думаю, что и кличку «Петруша» Топильскому дал он. Это приводило нас в недоумение — тогда чей же Масленников «блатной» на самом деле? Несколько раз, хотя и в пьяных разговорах, но абсолютно серьезно, Масленников заявлял, что он станет министром черной металлургии. И судя по его карьере, такое действительно если и не могло быть, то готовилось.
По крайней мере, начальником цеха он стал точно так же, как Топильский стал директором завода. Напомню, что когда под руководством Боровиченко завод досрочно и успешно стал вводить в строй печи, давать металл и наступило время раздачи орденов, Боровиченко сняли и назначили Топильского. С Масленниковым произошло то же самое. Цех № 2 длительное время работал плохо и в основном потому, что почти все печи нуждались в текущих ремонтах, но начальник цеха (уже не упомню кто) в попытках выполнить план не выводил их в ремонт. В конце концов его сняли с этой должности и назначили начальником цеха № 2 Лейбмана.
А Женя (Евгений Матвеевич) Лейбман был старше нас лет на 5 и очень основательным. Уже то, что он после двухгодичной службы в армии вернулся не как все — старшим лейтенантом запаса, а капитаном, достаточно о нем говорит. И Лейбман основательно взялся за цех: он не стремился выполнить план любой ценой, а начал копить ремонтные силы и одну за другой ремонтировать печи. Спустя несколько месяцев, в течение которых Лейбман не уходил из цеха, а цех по-прежнему не выполнял план, все печи, наконец, оказались в рабочем состоянии, выплавка выросла, стало понятно, что в следующем месяце план будет выполнен и начнется его перевыполнение с компенсацией предыдущих потерь. И тут Топильский снимает Лейбмана и ставит на его место Масленникова, цех план выполняет, и Топильский начинает распространяться, что вот, дескать, Лейбман развалил работу цеха, а молодой и талантливый Масленников тут же начал выполнять план. Тем, кто видел, что происходило, слушать это было противно, да и за Лейбмана было обидно.
Полагаю, что покровители Масленникова тоже вели его налаженной схемой: он должен был несколько лет успешно поруководить цехом, а с этой должности его назначили бы директором на какой-нибудь из ферросплавных заводов, а после этого директорства — в Москву. Однако Масленников застрял у нас, так как Топильский развалил завод до такой степени, что использовать наши кадры для укрепления других заводов было просто невозможно. Тем не менее, Невский хотя уже и сам, словами Пушкина, «в гроб сходил», благословил Масленникова на должность главного инженера Ермаковского ферросплавного, хотя у нас без проблем можно было найти с десяток более подходящих кандидатур. Но должен сказать, что, тем не менее, у меня по работе и с Сашкой не было никаких проблем, поскольку он не страдал инженерной дурью Петруши, при необходимости мог вникнуть в любой технический вопрос и работать никому не мешал.
По своему интересен и конец его карьеры на нашем заводе, хотя, если подумать, конец его карьеры особенно интересен мне, поскольку одновременно и моя карьера чуть-чуть не кончилась.
Времена были андроповские, партия начала кампанию за укрепление трудовой дисциплины, а мы в ЦЗЛ накануне Первомая решили отметить этот праздник междусобойчиком на рабочем месте. Собрались после работы в метлаборатории, в которой, как я писал, шкафами был отгорожен и мой кабинет. У нас стояла большая печь для исследования электродной массы, что-то вроде жарочного шкафа, и женщины запекали в ней кур, насаживая их на бутылки с водой. Естественно, и из дому приносилась всякая всячина, и, как говорится, ничто так не спаивает коллектив как коллективная выпивка. Мы уже почти все выпили, и тут возьми и возмутись моя секретарь. Это была молодая, лет 23–24, но уже разведенная женщина и, надо сказать, очень видная и лицом, и фигурой. Она громогласно пожаловалась, что все тут женатые, а ей, холостячке, не догадались холостого мужчину пригласить. И добавила: к примеру, Масленникова. А тот был все еще холостым, хотя и жил с одной женщиной, которая, по общему мнению, моему секретарю и в подметки не годилась. И вот тут мне, как и в свое время Сисько, боком вышла моя любовь к шутливым подначиваниям.
Отвлекусь. Судя по рассказам о моряках, у них в традициях подначивать, особенно салаг, но я читал о случае, когда такая подначка плохо кончилась для самого шутника. Дело было так. На судно, стоящее в порту на ремонте, прибыл новый матрос, и боцман, сидящий в кругу бывалых матросов, решил позабавиться розыгрышем новичка. Он тут же вручил салаге ножовку по металлу и послал того на палубу с заданием отпилить лапы у якоря якобы для их ремонта. Кто видел эти лапы и представляет, для каких дел применяется ножовка, тот поймет, что ею не только нельзя отрезать лапы, но нельзя и серьезные повреждения нанести якорю. Через часок боцман с матросами решили подняться на палубу и полюбоваться на потного салагу, но тот явился сам с докладом, что лапы отрезаны. Все решили, что он догадался, что его подначили, и решил в свою очередь подначить боцмана. Но салага говорил совершенно серьезно и недоумевал, почему все смеются. Все бросились на палубу и убедились, что да, действительно, обе лапы лежат отдельно от того, что раньше называлось якорем. Оказалось, что салага до поступления в торговый флот окончил профтехучилище и был сварщиком. Он попытался пилить лапы ножовкой, но увидел рядом на пирсе работающих газорезчиков. Он их попросил, и они перебросили ему на палубу резак с кислородным и ацетиленовым шлангами, и салага быстренько отрезал лапы у якоря, радуясь, что так четко исполнил первое же задание на судне.
Так вот, в тот предпраздничный день и я доподначивался, как этот боцман. Не особо отвлекаясь от темы компанейского разговора, я подначиваю своего секретаря: у меня на столе телефонный аппарат с многими кнопками, сними трубку, нажми на кнопку «гл. инж.», и он тебе ответит. Мы продолжали разговор, когда она подошла и сообщила, что пригласила Масленникова, и он сейчас приедет. Все решили, что это она теперь подначивает меня, и еще больше развеселились, интересуясь, захватит ли он с собой выпивку, а то у нас заканчивается. Мы недоучли, что в своем инженерном кругу мы знали, какой Сашка стервозный, но ведь секретарь была не из нашего круга. Нам и в голову не могло придти, чтобы пригласить Масленникова в свою компанию, да еще и на рабочем месте, но для нее он был завидным холостым мужчиной и, думаю, даже красивым — высокого роста, крепкий, с правильными чертами лица. Поэтому мы, отсмеявшись на «шутку» секретаря, вернулись к прерванной болтовне.
И вдруг открывается дверь, входят Масленников, секретарь парткома и секретарь завкома. Масленников ноль внимания на моего секретаря, огляделся зверем: «Тэк, понятно, чем вы тут занимаетесь!» — повернулся, и они вышли. Даже комиссию с собой привел, сукин сын, чтобы надежно зафиксировать злостное нарушение трудовой дисциплины! Вечеринка была начисто испорчена. Доподначивался на свою голову!
Прошел Первомай, выхожу на работу, и часов в десять звонок секретаря директора: вызывает Донской. Иду, само собой, понимая, зачем. Вхожу, сажусь, и шеф начинает меня драть, я, конечно, оправдываюсь, но замечаю, что он дерет-то меня как-то неубедительно: без приличествующего случаю энтузиазма. И когда по селектору его секретарь сообщила, что явился начальник автохозяйственного цеха Харсеев, то Донской даже как-то облегченно вздохнул и тут же меня отпустил всего-навсего с каким-то «так в наше время поступать нельзя». Я радостно выбегаю, сталкиваясь в дверях с Харсеевым, и замечаю, что у Сереги лицо расстроенное. Ну, а его-то за что Донской драть будет? — промелькнуло в голове. Праздники мы отмечали вместе, Сергей ни на что не жаловался, ни о чем таком мне не рассказывал, за что Донской вызвал его на ковер? И я решил дождаться в коридоре выхода Сергея. Наконец он вышел, ругаясь:
— Да что же, Донской дурак, что ли? Не понимает, что это личный шофер! Да он скорее согласится, чтобы его уволили, но шефа не выдаст!
— О чем речь, Серега?
— Донской требует, чтобы я любыми средствами разговорил водилу Масленникова, чтобы тот сообщил, где он.
— А где Масленников?
— А хрен его знает! Последний раз его видели утром 1-го мая, валяющегося пьяным в каком-то подъезде. У него 1-го рабочий день, но на работу он не вышел, дома его нет, никто не знает, где он может быть, кроме его личного шофера, а тот молчит и шефа не выдает. Видимо, Сашка в таком виде, что его людям показывать нельзя.
— Ну, ни фига себе! Это же он провел борьбу с пьянством у меня в ЦЗЛ и сразу же сам ушел в запой?!
Теперь стало понятно, почему Донской не наказал меня хотя бы символически — как по доносу главного инженера накажешь начальника ЦЗЛ за безобидную вечеринку после работы, если у тебя сам главный инженер в запое и прогуле? Масленникова потом нашли, но на работу он больше не вышел: Донской объявил, что он уволился и уехал работать на другой завод, а главным инженером назначен Ю.Я. Катаев. А я еще долго подшучивал над своим секретарем, что это она лишила завод такого славного главного инженера, поскольку Сашка ушел в запой именно после того, когда увидел, от кого он, дурак, в ее лице отказался. Потом о Масленникове доходили слухи, что он переезжал из города в город, работал на разных заводах и сначала все было хорошо, и его даже повышали в должности, но он все-таки срывался и его увольняли. Последний раз Матвиенко рассказал, что устроил Масленникова начальником цеха в свою корпорацию, но он и у Матвиенко долго не удержался — запил.
Жанр требует, чтобы в этом месте я выразил сожаление о том, что, дескать, такой способный человек, а так сгубил свою карьеру, но я этого делать не буду — каждый выбирает себе жизнь, а он выбрал себе такую сам — мы его не заставляли.
Почему без борьбы?
Но вернемся к Топильскому, тем более, что я подошел к размышлениям над главным вопросом книги — почему Друинский не оказал должного сопротивления Топильскому, почему не добился снятия Топильского с должности, когда уже и ежу стало понятно, что Петруша разваливает завод?
Сам Друинский на этот вопрос отвечает, что при сложившейся практике, при ссоре директора и главного инженера, с должности снимают обоих. Да, это действительно так, но это не закон, а осмысленное действие начальства. Снимают с должности обоих тогда, когда их ссора разделяет и вверенный им коллектив, но если коллектив в массе своей поддержит одного, то тут решение предсказать нельзя, вернее, тут, скорее всего, начальство тоже поддержит того, кого поддерживает и коллектив. А коллектив завода безоговорочно поддержал бы Друинского. Так в чем же дело?
Поэтому давайте поставим себя на место Друинского и начнем поиск мотива его поведения с перебора вариантов его возможных действий в той ситуации.
Топильский был не просто сторона в конфликте — он был «блатной», а значит, за ним стояла какая-то большая сила. Но дело в том, что на любую силу можно найти еще большую силу, ведь в конце концов сила, стоявшая за Топильским, бросила его на произвол судьбы, когда и для нее стало небезопасно за Топильского цепляться. Тут, кстати, уместно рассмотреть и вопрос о том, что значит быть специалистом. Рассмотрите последствия увольнения с должности двух человек — специалиста Друинского и чиновного дурака Топильского.
Как только стало ясно, что Друинский увольняется, за него начали драться три ведомства, чтобы забрать его на работу к себе: секретарь обкома партии по строительству, научно-исследовательский институт металлургии и Павлодарский индустриальный институт. Причем два последних ведомства ввели высокооплачиваемые должности специально под Друинского, что, поверьте, в те годы требовало огромных усилий от руководителей этих организаций. Но эти руководители с помощью специалиста Друинского хотели решить важные для этих организаций вопросы и понимали, что с помощью никаких других людей их решить нельзя. Поэтому и шли на многое, чтобы сманить Друинского к себе.
А для Топильского даже о квартире в другом городе не стали хлопотать, а просто разделили производственно-технический отдел на два и дали технический в кормление Топильскому, да и то, зная, что в техническом отделе всю работу будет делать безотказный А.С. Рожков. Вот вам и сила «блата».
Тут, кстати, возникает вопрос, а не был ли Друинский по натуре трусом, размазней, органически неспособным противостоять хамству Топильского? Да, действительно, бывают такие люди, но к Друинскому это не имеет никакого отношения.
Вспоминается случай, когда я как-то зашел в приемную передать секретарю Друинского какие-то бумаги. В приемной завода, кроме стульев для посетителей, были два стола секретарей, а кабинеты директора и главного инженера были расположены напротив друг друга и снабжены двойными дверями, чтобы из приемной не было слышно, о чем говорят начальники. Пока я вынимал бумаги, с треском распахнулась наружная дверь кабинета Друинского, и из него выскочил Михаил Иосифович, красный как рак, и чуть ли не бегом пересек приемную, распахнул двери кабинета Топильского, вскочил в кабинет и от порога закричал: «Ты, пи…дюк, да как ты…» — и далее, как говорилось в фильме «Бриллиантовая рука», непереводимая игра слов на местном диалекте. Однако дело не в этом, а в том, что как только секретарь Друинского увидела его состояние, она тут же вскочила и бросилась вдогонку к дверям кабинета Топильского и немедленно захлопнула их, чтобы посетители не слышали, о чем шефы беседуют. И вот то, как шустро она это сделала, как по одному виду Друинского поняла, о чем будет беседа, подсказало мне, что она эту ситуацию видит не в первый раз и, вообще-то, к этому привыкла. Так что версию о робости Друинского нужно отбросить с порога и принять за основу наших размышлений, что храбрости у Друинского хватило бы, чтобы сцепиться и с Топильским, и с той силой, которая стояла за спиной Топильского. Сила-то она сила, да у любой силы есть, как говорится, очко, и оно не железное.
А посему болтовню нынешних «демократов» о том, что, дескать, в СССР начальству нельзя было противостоять, нужно отбросить как глупую пропаганду — можно было. И я приведу два примера того, чем именно можно было в те годы сломать очень большую силу, даже не имея того авторитета, который имел Друинский.
О способах борьбы
Выше я писал, что прокуратура, в раже отчитаться в своей борьбе в области техники безопасности, незаконно обвинила, а суд неправосудно осудил 23 инженерно-технических работников нашего завода, и что я какого-то черта полез защищать своих товарищей и ходил с этим вопросом к прокурору города.
После разговора с ним я очень разозлился и решил написать по этому вопросу коллективное письмо. Да, я помнил, что в свое время за написание такого письма меня выкинули из Днепропетровска в Казахстан, ну и что? Я ведь хохол, положение обязывает действовать по присказке «битому неймется». Но, строго говоря, и ситуация была другая, и я, полагаю, стал умнее. Я сел и написал объемный текст, в котором рассмотрел все случаи неправосудного осуждения, показал, как прокуратура фабрикует уголовные дела против заведомо невиновных, и каково участие в этих делах Госгортехнадзора.
Подписал сам и пошел к своему другу, начальнику цеха № 4 А.И. Скуратовичу. Тот прочел и, ни слова не говоря, подписал.
Потом пошел к Юре Ястребову, начальнику второго цеха, тот тоже пописал. Потом пошел к остальным начальникам цехов, и чем больше становилось подписей, тем быстрее они подписывали, даже не читая — люди не хотели оставаться вне коллектива. Затем обошел главных специалистов и в итоге получил документ, подписанный всем высшим звеном управленцев завода. К директору и главному инженеру не ходил, чтобы их не обвинили, что письмо подготовлено по их заказу. Тем не менее, уверен, что они о моей работе знали, но не препятствовали. Для начала послал это письмо в обком партии, и дней через пять нас собрали в актовом зале.
В президиуме был прокурор области, председатель областного Госгортехндазора и второй секретарь обкома партии, который начал с того, что партия взяла курс на снижение травматизма и т. д. и т. п. То же продублировал и Госгортехнадзор, прокурор молчал. Наступила пауза, и стало ясно, что кому-то нужно что-то сказать из зала, поэтому все стали бросать взгляды в мою сторону. Пришлось встать и с места сказать, что мы, заводские работники, и сами подвергаем себя опасности больше, чем сидящие в президиуме, и травмируемые работники нам ближе, чем им. Так что не нужно вопрос уводить в сторону — мы не против партии и не против снижения травматизма, мы против неправосудного осуждения наших товарищей, и в нашем письме внятно написано именно об этом. Я задал тон ответов, и после меня начальники цехов довольно дружно поддержали это требование. Было видно, что от этого напора президиуму стало не по себе — он действительно убедился, что коллектив в этом вопросе сплочен. Второй секретарь подвел итог совещанию ничего не значащим повторением слов о заботе партии, и совещание закончилось как бы ничем. Но!
Но прокурора города сняли с должности, а Госгортехнадзору «всунули по самое не могу». И ситуация изменилась коренным образом — прокурорский беспредел полностью прекратился, и я даже не помню ни одного случая осуждения наших работников после этого нашего письма.
Интересно сравнение: почему у меня во времена студенчества с коллективным письмом ничего не вышло, а на заводе получилось? Тут два важнейших момента, которые всем, кто пробует бороться за людей, нужно понимать.
Во-первых. В институте цель моего первого письма, по сути, не очень волновала тех выпускников, кого я просил это письмо подписать, поскольку все они были уверены, что устроятся там, где хотят, и без распределения, более того, их подпись под письмом могла им навредить. А в данном случае все начальники цехов были, безусловно, заинтересованы в том, чтобы не быть осужденными без вины.
Но еще более важным является другое. В первом случае я был лично заинтересован в цели письма и поэтому был уязвим: про меня легко было говорить, что Мухин, сукин сын, за государственный счет окончил институт, а теперь не хочет отдать свой долг и отработать там, где нужны специалисты — в Казахстане. И, дескать, поэтому он воду и мутит. А в данном случае, хотя осуждали и начальников цехов, и специалистов, но главный удар прокуратура и Госгортехнадзор наносили по мастерам и начальника смен, посему у нас, начальников, подписавших письмо, была прочная позиция людей, действующих во благо общих интересов. Если говорить в принципе, то наше письмо нельзя было свести к нашим личностям. Это надо понимать очень четко: повторю, ваш противник не должен иметь возможность свести дело, за которое вы боретесь, к дефектам вашей личности, то есть не должен получить возможность утверждать, что будь на вашем месте другой человек, то и дела не было бы. И в конфликте Друинского и Топильского это надо помнить в первую очередь.
Я описал один прием того, как можно было ломать противостоящую тебе силу — прямо через партийные органы. Но можно было выйти на них еще более эффективным способом — через прессу.
Многие читатели, надо думать, считают, что раз сегодня автор, к примеру, Мухин может говорить в газете «Дуэль» или в своих книгах о чем угодно, скажем, о том, что Ельцин сдох в 1996 году и вместо него были двойники, то это и есть свобода слова. Но разве в СССР люди не могли говорить свободно о чем угодно? На кухне. Не могли орать во всю глотку: «Долой Брежнева!»? В лесу. Могли. Да, — скажете Вы, — но на кухне и в лесу их слушали несколько их товарищей и все.
А кто сегодня слышит «Дуэль», кроме ее читателей? Велика ли разница в слушателях, чтобы так радоваться? Те, кто сегодня так радуются, не понимают сути свободы слова — нет и не бывает свободы слова без ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЬ!
И именно нынешние «демократы» подменили эти понятия, именно при них в прессе началась болтовня ради болтовни, именно при них государственные органы получили право не реагировать на то, что пишет пресса. «Демократы» уничтожили в СССР обязанность слушать и этим уничтожили свободу слова. До них было не так. Да, действительной свободы слова и тогда не было, но обязанность слушать — была! Так вот мой личный пример использования прессы для борьбы с тогдашними «сильными мира».
В середине 80-х наш завод во главе с Донским становился на ноги, появилась возможность с нашего завода кое-что взять, и масса чиновников стала показывать нам, насколько они значительные люди и что мы обязаны их очень сильно любить и не отказывать им в их личных просьбах. Мы и не отказывали, но этим людям хотелось чувствовать себя у нас, как в своей кладовке. Веселая это была компания — от прокурора города до директора банка. Последний учудил такое, что у меня кончилось терпение. Мы, по инструкции ВЦСПС, обязаны были бесплатно раздавать в горячих цехах чай и делали это, как и остальные заводы, десятки лет. Но в инструкции было написано «бесплатно доставлять в цеха чай». И директор банка прекратил оплату магазинам наших счетов за чай на том основании, что речь, дескать, идет только о бесплатной доставке чая в цеха, а рабочие на рабочих местах должны покупать его за наличные.
Главбух завода Х.М.Прушинская, помню, сетовала, что был бы старый секретарь горкома Григорьев, то за такие шутки директор банка мигом бы лишился партбилета и вместе с ним должности. Но секретаря горкома уже сменил болтливый перестройщик, будущий бизнесмен. А снабжение завода оставалось моей обязанностью и я, разозлившись, собрал все факты воедино (не забыв и прокурора, и милицию) и написал статью в «Правду» с делократическим предложением, как быть с этой бюрократической сволочью. Это предложение в «Правде» не поняли и из статьи убрали, но статью напечатали, приделав ей свое окончание.
Далее дело развивалось так. «Правда» у нас появлялась вечером, и номер с моей статьей «Чаепитие по-буквоедски» появился в четверг. В пятницу ее прочли, меня вызвал Донской и приказал ко всем упоминаемым мною в статье фактам собрать документальное подтверждение (а вечером еще проверил, как я его указание исполнил). И приказал все документы забрать домой. В субботу утром он позвонил мне на квартиру и распорядился вместе с ним ехать в горком. Там нас ждали: второй секретарь обкома, прокурор области, комиссар областной милиции, директор областной конторы «Промстройбанка» и масса других областных чиновников. Там же у стенки сидели все, кого я критиковал в статье. Кстати, чай заводу банк оплатил еще в пятницу, тогда же начальник ГАИ лично сломал все шлагбаумы, которые он до этого поставил на территории нашего завода и т. д.
Нас с директором посадили напротив прокурора области, перед ним лежала моя статья, размеченная по эпизодам. Он читал эпизод и требовал: «Документы!». Я вынимал из своей папки необходимые документы и подавал. Он их смотрел профессионально: атрибуты бланков, входящие номера и даты, даты распорядительных подписей, сроки и т. д. Если не видел признаков недействительности, складывал эти бумаги в свою папку. На одном документе между входящей датой и распорядительной надписью срок был три дня. Прокурор проверил по календарику — два из них были выходными. (Спасибо Донскому — у меня на все вопросы прокурора были готовы документы). Потом председатель комиссии — второй секретарь обкома — начал задавать вопросы, требующие устных пояснений. От стенки послышались жалобные повизгивания, что Мухин, дескать, все извратил, но председатель заткнул им рот и слушал только меня.
В понедельник меня вызвали в обком, и я целый день присутствовал при таинствах — обком писал ответ в «Правду», в ЦК Казахстана и в ЦК КПСС. Мне его не показали, но позвонил из «Правды» журналист и зачитал мне его по телефону с вопросом — согласен ли я с таким ответом? Я не согласился (хотелось заодно додавить и городского прокурора, замордовавшего моих железнодорожников дурацкими исками), но во второй, завершающей тему статье, которую «Правда» дала уже сама, вопрос о прокуроре не прозвучал. Жалко, конечно, но даже то, что было сделано «Правдой», уже было большой победой и подспорьем в работе, да и прокурор поутих.
И подобное отношение к прессе было общим государственным правилом. Донской, к примеру, заставлял писать ответы во все газеты, включая собственную заводскую многотиражку, если в них был хотя бы только критический намек на наш завод или его работников. После того, как я дал в морду пожарному, прошел слух, что статья об этом инциденте появилась где-то в ведомственной газете МВД в Алма-Ате. В области этой газеты найти не смогли, и тогда директор дал дополнительное задание ближайшему командированному в Алма-Ату. И только когда тот привез оттуда нужный номер, и когда директор убедился, что ни обо мне, ни о заводе в статье не было ничего плохого, успокоился.
Да, не все в советских газетах могло быть напечатано, но о советских людях, об их нуждах и интересах печаталось в сотни раз больше, чем сегодня. И главное, эти газеты обязательно читались теми, кого это касалось. Попробовал бы в СССР какой-нибудь козел-депутат или чиновник вякнуть, что он, дескать, «Дуэль» не читает. Не «Дуэль» бы была виновата, что ее не читают, а он, мерзавец, был бы виноват в этом. Потому что в СССР была обязанность слушать слово. Потому, хотя полной свободы слова и не было, но слово было в тысячи раз свободнее, чем сегодня.
Более того, у Друинского было и серьезное преимущество передо мною — он был членом партии и членом парткома завода. В конфликте с Топильским он мог повести за собою коммунистов (или членов КПСС, если быть точным), а учитывая разницу в авторитетах его и Топильского, можно не сомневаться, что не только мы, итээровцы, но и парторганизация поддержала бы главного инженера.
Поставив себя на место Друинского, видишь, что все козыри в твоих руках, и уж если при таком раскладе сил не драться, то когда уж тогда и драться? И по характеру Друинский был боец, и обязан был спасти главное дело своей жизни, но… Но что-то не дало ему это сделать. Что?
Пятый пункт
Вот тут я и возвращаюсь к мысли, что когда начинаешь драку, нужно иметь позицию, на которой тебя никто не обвинит, что будь на твоем месте другой человек, то и дело бы шло прекрасно, и этого конфликта не было бы. Нельзя наносить удар, который твои противники отобьют тем, что причиной его объявят не дело, за которое ты дерешься, а тебя. А поскольку они виновны, то можно не сомневаться, что именно это они и сделают. Была у Друинского такая позиция? Был ли он уверен, что причиной конфликта не объявят лично его? Тогда я этого не понимал, поскольку, повторюсь, мы на Друинского с этой стороны совершенно не смотрели, но сейчас я прихожу к выводу, что Друинский не смог начать драку потому, что был евреем.
Выступи он открыто против русского Топильского, и виновные во всем министерство и обком тут же объявили бы этот конфликт тем, что жид пархатый завалил технологию, не может освоить производство и начал свои жидовские интриги. Официально, само собой, об этом бы и слова никто не сказал, но неофициально виновные в развале дел на заводе только этим бы все и объясняли. Это версия, но опыт мне подсказывает, что эта версия наиболее реальная. В результате Друинского сняли бы со стандартной формулировкой «за плохую работу» (а завод ведь действительно отвратительно работал), но всем бы негласно объяснили, что он жидовский интриган и специально разваливал дела на заводе, чтобы этим свалить русского Топильского и залезть на его место. В конечном итоге Топильский еще пару лет добивал бы завод, а Друинский никогда бы не отмылся от этого позора. Что оставалось делать? Выбор очень не богат: чтобы доказать, что он работает на заводе не ради своей должности, Друинскому осталось самому бросить в морду министерству заявление о своем увольнении. После этого министерство и обком уже не могли сказать, что дело в интригах главного инженера — главный инженер не цеплялся за свою должность, — теперь надо было заниматься директором. Но теперь и после снятия Топильского Друинский не мог остаться на заводе, иначе это опять-таки выглядело бы той же жидовской интригой, но более тонкой. Теперь Друинскому надо было действительно уходить.
Мне тогда это было совершенно непонятно. Сменили директора, новый директор В.И. Кулинич был вполне адекватен, казалось бы, надо начинать работать, но по заводу упорно циркулировали слухи, что Друинский увольняется. Я не хотел в это верить — зачем ему увольняться, раз Топильского уже нет?! И когда о предстоящем увольнении Друинского сказали официально, я пошел к директору и заявил Владимиру Ивановичу, что так нельзя, что без Друинского будет неимоверно трудно, что он обязан сделать все, чтобы оставить Друинского в должности главного инженера. Кулинич досадливо поморщился, поскольку я, видимо, был далеко не первый, и сказал: «Я это понимаю и сделал все, что мог, но безрезультатно».
Вот так! Для нас «пятый пункт» Друинского ничего не значил, а для него он был, скорее всего, обстоятельством непреодолимой силы, для него «пятый пункт» был тем «булатом», который его сразил.
Таким он и остался
В конце рассказа о том периоде истории завода хочу описать пару случаев в виде эпилога. Сначала о Топильском.
Став начальником техотдела, он стал начальником штаба моего прямого начальника — главного инженера, т. е. и для меня начальником. А итогом работы научно-исследовательских Подразделений ЦЗЛ были отчеты о научно-исследовательских работах. Их подписывали исполнители, затем начальники лабораторий, затем я, после меня Топильский и утверждал отчет главный инженер. Началось с того, что отданный ему на подпись первый же отчет лежал и лежал в техотделе — Топильский его не подписывал. Я пошел к нему, узнать, в чем дело — чем он недоволен? Петруша по старой привычке скорчил презрительную физиономию и начал листать отчет, жуя сопли ни о чем — никаких конкретных замечаний не делал, но был недоволен «во-още». Я забрал у него отчет и пошел к Масленникову, положил отчет ему на стол, сообщив, что подписи Топильского я получить не могу и не понимаю, чего он хочет. Сашка в свою очередь презрительно ухмыльнулся и утвердил отчет, не глядя, из чего я понял, что Топильский по поводу этого отчета уже жевал сопли и у него.
После этого случая до Топильского дошло, что если главный инженер утверждает технологические документы без начальника техотдела, то это демонстрация того, что как специалист Петруша никому не нужен. А дальше я Топильского просто не помню — семь лет с ним работал, а в памяти ни единой умной мысли от Топильского, и ни единого конфликта с ним — как будто его и не было. Разве что анекдот, когда он предложил снова капитально отремонтировать печь, которую долго не могли разогреть после капитального ремонта. Как я писал, Тятька справился с этой проблемой за неделю. А последний оставшийся в памяти эпизод с Топильским такой.
К тому времени я уже лет семь работал заместителем директора и по своей должности подписывал работникам завода массу заявлений о выписке всякой всячины, в том числе без звука подписывал заявления и Топильскому, руководствуясь, в общем-то, неправильной мыслью американских президентов, что «Самоса — сукин сын, но это наш сукин сын». То есть у Топильского в принципе не могло быть ко мне никаких претензий, даже в принципе не могло быть оснований для вражды ко мне.
После перестройки, особенно после развала СССР в Казахстане, как и везде, повылезала всякая дрянь, которая общественно-полезным трудом заниматься не хотела, да и не умела. Стала эта дрянь передовиками национального возрождения казахского народа. А у нас в Ермаке стоял памятник Ермаку, работы (уже запамятовал фамилию) известного киевского скульптора. Памятник этот охранялся государством. И стал этот памятник вместе с названием города, как гвоздь в заднице у этой дряни, причем в основном у алмаатинской дряни. Наши казахи, включая наших местных казахских националистов, претензий к Ермаку не имели. Конечно, в многонациональной семье не обходится без бытовых конфликтов, в ходе которых, исчерпав все разумные доводы, начинают вспоминать и национальность. Но я не сильно преувеличу, если скажу, что мы жили со своими казахами душа в душу.
Помню такой случай. Приехала в Ермак пара автобусов казахских националистов из Алма-Аты устроить митинг по поводу переименования нашего города. Тут нет исключений: все столицы переполнены бездельными дегенератами, и во всех республиках маразм расползался со столиц на окраины. Так вот, на этот митинг пришли городские власти, собрались праздные зеваки всех национальностей, но не было наших местных казахов — они демонстративно не явились. В результате алмаатинские дегенераты вместо заявленной повестки весь митинг посвятили ругани в адрес наших казахов.
И вот однажды ночью по команде городских властей памятник Ермаку уничтожается. Команду дали русский и казах, а уничтожил памятник немец — интернационал, блин! Эта подлая выходка возмутила, в общем, всех — и русских, и казахов. А я к тому времени уже имел репутацию и публициста, и русского шовиниста, и… короче, много я всяких репутаций имел, и надо было их оправдывать. Само собой, я публикую в заводской многотиражке статью, в которой называю городские власти преступниками, совершившими деяния, предусмотренные двумя статьями уголовного кодекса Казахстана — разжигание межнациональной вражды и уничтожение памятника, охраняемого государством. Власти вызвали прокурора, и тот дал им справку, что он в их действиях ничего преступного не видит: и глазки протер, смотрит-смотрит, но ничего, даже близко, преступного, ну, не видит! С этой справкой власти обратились в суд в защиту их чести и достоинства, судья, само собой, от прокурора не отличался, мои доводы пропустил мимо ушей, признал, что власти не совершили двух преступлений, а меня обязал оплатить властям моральный вред где-то в объеме моей месячной зарплаты. Это он устно объявил в суде, а дня через три Верховный Совет Казахстана издал указ, обязывающий строго наказывать за разрушение памятников.
И судью заклинило: устно он-то уже сказал, что разрушение памятника Ермаку — это не преступление, а после указа свое решение изложить на бумаге боялся. А я начал ему звонить и требовать это решение в письменном виде, и хотя он долго уклонялся, но все-таки я это решение получил. И выяснилось, что судья не вписал в него то, что он объявил устно. Получилось так: власти подали иск с просьбой признать, что не соответствуют действительности сведения о том, что они преступники, разрушающие памятники и разжигающие национальную рознь, а он признал не соответствующим действительности только мое утверждение о разжигании межнациональной розни, но про разрушение памятника промолчал. Дело рассмотрел суд, значит, это суд установил, что соответствуют действительности сведения о том, что власти, разрушив памятник, совершили преступление. Я подождал 10 дней, чтобы власти не очухались и не подали жалобу в областной суд, и когда решение вступило в законную силу, опубликовал его, откомментировав, что у нас в Ермаке у власти преступники, причем это уже установлено судом.
И вот я, довольный, сижу в кабинете, думая, как же эти сукины дети вместе с прокурором будут выпутываться из этой ситуации (они, само собой, сделали вид, что этот номер газеты не читали), и тут заходит ко мне Топильский, как я полагал, что-то выписать. Но у Петруши в руках был номер многотиражки с решением суда и моим комментарием. И он завел разговор об этом решении. Я, как дурак, стал ему радостно объяснять суть дела с уничтожением памятника и с признанием судом преступности власти, он вроде бы меня слушал, но после моей тирады вдруг ткнул пальцем в цифры в решении: «Но все же тебя оштрафовали!» Я взглянул на Петрушу — он ликовал! А как же — с Мухина же такие деньги содрали!
…твою мать! — подумал я. — Как же мало тебе нужно для радости!
Невезучий, но счастливый
Что же касается Друинского, то сначала мне бы хотелось остановиться на его, так сказать, простой человеческой невезучести. Я уже писал, что мне, начиная с первых часов моей самостоятельной работы после школы, всегда везло с прямыми начальниками, даже Масленников, хотя был как человек сволочным, но как к начальнику я не помню к нему претензий. А Друинскому на начальников категорически не везло.
Вот он пишет о своих трудностях в работе с ректором Павлодарского индустриального института, по обыкновению щадя его. Я с этим ректором встречался один раз, но он меня так поразил, Что оставалось Михаилу Иосифовичу только посочувствовать.
Как я понимаю, это был «Топильский-2», они даже выглядели похоже — ректор был довольно высокий и без излишней полноты. А встреча с ним была такой.
Позвонил мне Масленников, сообщил, что у него в кабинете ректор Павлодарского индустриального, который просит в нашем экспериментальном цехе проверить какую-то серьезную идею. Посему мне надо срочно прийти, забрать у Масленникова этого посетителя, провести его в экспериментальный и там, на месте оценить, что нужно будет закупить, где расположить установку и что еще потребуется для проверки этой идеи ректора.
Привожу его в экспериментальный, садимся за стол, и я начинаю расспрашивать о сути того, что мне предстоит сделать. Ректор как-то непонятно темнит, но все же рассказывает, что речь идет о революции в области производства меди электролизом. Медь и электролиз — это не наше, это Минцветмет, но революция — это интересно. Поскольку он уверял, что все эксперименты уже проведены в институте и теперь нужна полупромышленная установка, то я прошу его нарисовать эскиз и электрическую схему. Он рисует, и мне как-то сразу все перестало нравиться — уж больно схема была примитивна, как из школьного учебника: сеть — трансформатор — выпрямитель — электроды в ванне электролиза. Так в чем же суть революции? — начал допытываться я. Ректор темнил, я настаивал, угрожая, что не буду заниматься тем, чего не понимаю. И он, в конце концов, сообщил, что вот по этой схеме у него мощность в электролизной ванне получается больше, чем та электрическая мощность, которую установка забирает из сети. Таким образом, часть меди будет получаться бесплатно с точки зрения затрат электроэнергии.
После этих слов я начал к нему присматриваться.
— Но ведь у вас получается, что КПД этой установки больше единицы?
— Да! — гордо ответил он, удивив меня чрезвычайно, поскольку с такими дубами я еще не встречался.
— Послушайте, но если в вашей схеме электроды в ванне соединить проводниками с входом в схему, то установку можно будет отключить от сети — она будет работать сама по себе.
— Да! — опять-таки гордо подтвердил он.
— Но ведь это же вечный двигатель, а вечный двигатель невозможен.
Тут ректор взглянул на меня со всем высокомерием профессора и кандидата физических наук и выдал что-то про то, что малообразованным людям трудно понять неисчерпаемые таинства природы и величие умов, которые эти таинства познают.
Меня это обозлило и я попросил его показать на схеме, в каких местах и какими приборами он замерял мощность. Оказывается, в сети он замерял мощность счетчиком активной электроэнергии, ток и напряжение на электродах * соответственно амперметром и вольтметром. Все стало ясно.
— На постройку вечного двигателя я не затрачу ни единой заводской копейки и даже за ваши деньги ничего делать не буду, чтобы не позориться.
Тут ректор, само собой, обиделся и покинул экспериментальный, не попрощавшись. Мы сидели за столом в пультовом помещении печи, а рядом молоденький КИПовец заправлял чернилами и бумагой самописцы. Я его подозвал.
— Посмотри схему! У этого мужика на выходе мощность получается больше, чем на входе.
— Естественно, — сказал электрик, бросив на схему беглый взгляд, — он же на входе замеряет активную мощность, а на выходе — кажущуюся.
Надо пояснить, что электрическая мощность рассчитывается как произведение тока на напряжение — это школьные знания. Но в случае с переменным током дело усложняется, и чтобы так подсчитать мощность, нужно, чтобы синусоиды тока и напряжения абсолютно совпадали, т. е. чтобы максимуму напряжения соответствовал и максимум тока. В реальных схемах такого не бывает из-за наличия реактивных сопротивлений, из-за которых максимум тока то отстает от максимума напряжения, то опережает его. Поэтому в таких случаях рассчитывается три мощности: активная — реальная мощность, которая у всех в доме замеряется счетчиком электроэнергии; реактивная и кажущаяся. Последней мощности реально нет — это просто произведение тока на напряжение и, как видите, паренек, закончивший ПТУ, немедленно понял, в чем дело. А дело в том, что кажущаяся, несуществующая мощность всегда численно выше активной, иногда, если реактивные сопротивления велики, выше в несколько раз.
Таким образом, последний начальник Друинского, защитив какую-то диссертацию по физике, не только не понимал принципов физики, но не понимал и элементарнейших вещей из электротехники. (Пожалуй, я поспешил, сравнивая его с Топильским, тот такие вещи знал.) Вот вам и везение Друинского на начальников.
И все же Друинский прожил счастливую жизнь, жизнь, в которой было трудностей на сотню мужиков. Вот и представьте, сколько же удовольствия он получил, преодолевая эти трудности и добиваясь выдающихся результатов! Это вам, батеньки, не в конторах сидеть, не по телевизору лялякать. Это настоящая счастливая жизнь, и то, что она счастливая, доказывает сам Друинский — он всегда сам хотел именно такой жизни. Ведь после увольнения с завода он мог уйти на пенсию и жить, ничего не делая, жить так, как мечтают миллионы идиотов. Но он хватается за совершенно новое для себя и совершенно неосвоенное институтом дело и создает кафедру, лучшую в Казахстане! Какой же запас жизнелюбия нужно иметь, чтобы начать жизнь с чистого листа в 55 лет!
Когда я последний раз разговаривал с Михаилом Иосифовичем, ему было 82 года и у него было шесть инфарктов. Поскольку совместный проект у нас не получался, я предлагал ему написать серию рассказов-воспоминаний для опубликования в «Дуэли».
— Когда?! — ужасался он. — Я же доктор инженерных наук Германии и пишу обзоры для металлургического журнала. Сейчас идет моя работа с продолжением из номера в номер.
— Да вы же немецкого не знаете.
— Я выучил, и потом моя жена его знает прекрасно, так что мы вместе переводим.
Ну, кто найдет доводы оспорить мое утверждение, что Михаил Иосифович прожил самую счастливую жизнь?
29 января 2007 года его не стало.
В его воспоминаниях не все оценки бесспорны, но, на мой взгляд, М.И. Друинский был и остался советским человеком, а закончил он свои воспоминания так:
«Я проработал 52 года. Из них 38 лет занимался тем, что плавил металл, 14 лет — учил студентов, будущих инженеров, как плавить металл.
Где-то я прочитал такие слова:
"Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть"».
Глава 9 ВТОРОЙ ЕВРЕЙ
Нас боялись
Тема книги обязывает написать о Семене Ароновиче Донском как о еврее, хотя писать об этом нечего — его национальность, похоже, никак не трогала ни его, ни, тем более, нас. А прибытию его на завод предшествовали такие события.
После Топильского директором завода около года был Владимир Иванович Кулинич, бывший до этого главным инженером Серовского завода ферросплавов, а еще до этого — моим коллегой на этом заводе — начальником ЦЗЛ. Друинский пишет, что начальник ВПО Невский уговорил и чуть ли не заставил Кулинича занять должность директора, и в это можно поверить, поскольку Владимир Иванович формально не подходил для этого и вряд ли был в резерве директоров министерства. Я писал, что стартовая позиция для должности директора — это успешная работа начальником плавильного цеха, т. е. опыт работы с большим количеством людей в жестких условиях необходимости регулярного выполнения плана. Возможна и даже желательна промежуточная работа в должности главного инженера. А Кулинич, хотя и работал недолго главным инженером, но на эту должность попал не из организаторов производства, а из ученых. Кроме того, Серовский завод маленький и хорошо работающий, а наш был мастодонтом, лежащим на боку. Поэтому нужно отдать должное Кулиничу за то, что он решился стать нашим директором.
Кроме этого, для Минчермета Кулинич был «последним шансом», поскольку у нас на заводе уже отметился весь резерв директоров «Союзферросплава». Я лично водил по заводу начальника цеха со Стахановского ферросплавного. Этот начальник цеха был в списках резерва директоров, и ему тоже предложили принять наш завод. Мы с ним за день успели осмотреть только плавильные цеха, в которых он переговорил с нашими начальниками цехов и к вечеру сказал, что ему достаточно: он не идиот становиться директором такого завода и находящегося в таком состоянии. «Лучше уж я в Стаханове до пенсии доработаю на-
В.И. Кулинич, 2003 год
чалышком цеха», — сказал он и отбыл к себе на Украину. Мы оказались сиротами, которых ни один здравомыслящий человек не хотел брать под свое управление.
А Кулинич не был здравомыслящим, он был романтиком, рискнувшим на безумный для себя поступок. Безумный потому, что Кулинич не соизмерил свой опыт и свой характер ни с размером стоящей перед ним проблемы, ни с подлым коварством начальства, эту проблему создавшим.
Кулинич сразу же неправильно сориентировался и решил, что главная проблема завода в технологии, т. е. в том, что мы не умеем плавить ферросплавы, посему с жаром бросился на совершенствование того, что было несовершенно по иным причинам. Между прочим, в тот год он загонял меня, поскольку как бывший начальник ЦЗЛ знал, как меня можно использовать, но толку не было. Вскоре и до него стало доходить, куда он попал, особенно после пожара в цехе № 2. Пожар начался в пересменку — около 16–00. Кулинич в это время был в цехе и начал лично давать команды рабочим на тушение пожара, но они равнодушно шли в раздевалку: «Тебе надо — ты и туши, а у нас смена окончилась». Как умный человек Кулинич тоже видел узловые проблемы завода и пытался их решить в Минчермете, но там его с нашими проблемами отшили, неизвестно на что надеясь, а у Кулинича не хватило воли и характера проломить эту стену. И тогда он поступил, как и Друинский, он бросил «в морду» Минчермету заявление об освобождении его от должности директора нашего завода.
Ситуация стала щекотливая, крупнейший в мире завод Минчермет довел до такого состояния, что ни один специалист не хотел становиться его директором. Вот так Невский с Топильским поработали, вот так понаустраивали «блатных» к кормушкам. Как видите, после этих «блатных» и нормальные люди неспособны были ничего сделать.
И тут засуетился ЦК компартии Казахстана, он бросился искать нам директора в республике и нашел. Помог случай: Назарбаев, в те годы первый секретарь ЦК, начинал свою трудовую деятельность на Карагандинском меткомбинате горновым доменной печи, а потом работал там же секретарем парткома, т. е. хорошо знал людей на этом предприятии. Вот Назарбаев и предложил Минчермету назначить нам директором главного сталеплавильщика (специалиста, обеспечивавшего производство стали в слитках на Кармегкомбинате) С.А. Донского.
Донской к нам не выезжал и с заводом не знакомился: он разменял шестой десяток, и было очевидно, что ему больше никогда не предложат стать директором, а он, как стало понятно позже, должность главного сталеплавильщика уже давно перерос. Для Донского это был последний шанс: или досидеть до пенсии в Караганде на этой хорошо им освоенной должности, или броситься в Ермак, в неизвестность, и тогда какая собственно разница, как именно эта неизвестность выглядит — другой уже не будет. Он бросился.
Я никогда с ним на эту тему не говорил, но думаю, что было именно так.
Знакомство со мной
Напомню, что Донской, получив в Москве назначение на должность директора, летел в Ермак, зная на нашем заводе фамилию всего лишь одного человека — мою. И знал он ее потому, что его московский приятель успел ему охарактеризовать меня как злобного антисоветчика. Думаю, что и уже на месте ему добавили информацию о том, что мною занималось КГБ, и это тоже полезного имиджа мне не добавляло. К делу, конечно, это отношения не имело, и эту характеристику он мог бы не принимать во внимание, но я, надо сказать, начал с того, что свой имидж еще больше усугубил тем, что дал Донскому основание думать, что я еще и интриган. И, надо сказать, были веские основания считать меня таковым.
Но сначала оцените один из аспектов ситуации, в которую Донской попал. На заводе катастрофически не хватало людей, напомню, что из общего штата в 5 тысяч человек не хватало тысячи, и сами понимаете, их не хватало не в конторах, а в цехах. Попытки Донского решить этот вопрос в министерстве наталкивались на упреки, что его послали в Ермак вскрыть резервы, а не ходить по Москве с протянутой рукой. Донскому требовалось предметно показать, что завод уже задействовал все резервы, если сделать образное сравнение нашего завода с воюющей дивизией, то ему надо было показать, что у нас уже и обозники, и офицеры штаба, и повара дивизии ходят в атаки как пехотинцы, а людей, чтобы сделать план, все равно не хватает.
И Донской берет и закрывает экспериментальный участок ЦЗЛ, а всех его плавильщиков и ремонтников переводит в плавильные цеха. То есть после такой меры и после других подобных мер он мог в Москве говорить, что уже собрал в плавильные цеха всех, кого мог.
Однако я этого не понимал и не хотел понимать.
Поймите и меня. Мой цех — цех заводских лабораторий — состоял из металлургической лаборатории, в которой я работал и из которой поднялся в должность начальника ЦЗЛ, химико-аналитической и санитарно-технической лабораторий и экспериментального участка, на котором работала полупромышленная плавильная печь мощностью 1200 КВА. А эта печь, повторюсь, во всей нашей отрасли была единственной постоянно работающей. На экспериментальном участке ЦЗЛ работало всего человек 20, что они могли решить при нехватке 1000 человек? Даже Топильский этот участок не закрывал! Я не мог это воспринять иначе, чем оскорбление, и заверения Донского, что, как только он решит проблему с кадрами всего завода, люди будут мне возвращены и экспериментальный снова начнет работать, меня не устраивали. Я считал это его решение глупым и вредным, и Донской где-то даже стал моим личным врагом. Но это одна сторона вопроса.
С другой стороны, и я был не ангел уже в том, что мог бы войти и в положение Донского, да и на экспериментальный взглянуть более трезво.
Во-первых. По большому счету его работа меня интересовала ровно настолько, насколько проводимые там работы были интересны любому металлургу, и не более того. Я уже писал, что лично сосредотачивался на проблемах плавильных цехов завода, а новые сплавы мне были неинтересны. Ими занималась «наука» — ученые из отраслевых институтов. Я, конечно, все о каждом новом сплаве знал — положение начальника ЦЗЛ обязывало, но душа за них у меня не болела — получится, так получится, а не получится, значит, не получилось. Я не собирался тратить свое время на то, чтобы выяснять, почему тот или иной сплав не получается уже в полупромышленных условиях. Это было не мое, мне хватало забот с технологией основных цехов и с электродами.
Единственно, чем мне был ценен экспериментальный, так это тем, что я мог проверить в нем свои идеи, предназначенные для плавильных цехов, так было дешевле. Но, в конечном итоге, таких идей, требующих предварительной проверки в полупромышленных условиях, было не так уж и много.
Сложно сказать, но то ли потому, что у меня, начальника ЦЗЛ, не было личного интереса к новым сплавам, то ли наука уже исчерпалась, но к моменту своего временного закрытия экспериментальный цех уже несколько лет почти постоянно плавил только ферросиликобарий. Шел этот сплав в полупромышленных условиях печи 1200 КВА прекрасно, получаемый металл наука развозила на сталеплавильные и литейные заводы, там опробовала, получала прекрасные результаты, писала диссертации, оформляла внедрение и была очень довольна и мною, и экспериментальным. Потребитель тоже был доволен силикобарием, спрос на него печь 1200 КВА не могла и близко удовлетворить, посему весь год была загружена, и экспериментальный участок сам по себе даже окупался, что, впрочем, даже для ЦЗЛ не имело особого значения, тем более не имело значения для завода с его многомиллионными убытками.
Поэтому, по большому счету, для меня остановка печи 1200 КВА не была такой уж проблемой или горем, но это было трагедией для тех институтов, которые проводили на ней работы, вернее, для тех исследовательских хоздоговорных работ, для которых наша печь и плавила силикобарий. Эти институты заключали хоздоговорные работы с литейщиками и сталеплавильщиками, обещая поставить под эти работы силикобарий с нашего завода, а теперь, когда печь была остановлена, наука лишалась и денег, и диссертаций. Институтские ученые, которые постоянно находились в командировках у нас в ЦЗЛ, зароптали. И у меня хватило ума зароптать на Донского вместе с ними! Правда, я полагал, что ученые как-то деликатно донесут наш ропот до министерского начальства, а начальство убедит Донского вновь ввести в работу экспериментальный, я не хотел делать Донскому никакой пакости. Но наука моих надежд не оправдала, она начала действовать нагло.
И в какой-то центральной газете, по-моему, в «Социалистической индустрии», появляется статья, чуть ли не фельетон, в которой Донской представлен ретроградом, не понимающим значение науки и губящим такой прекрасный сплав как силикобарий, без которого Коммунизм никак нельзя построить. Ни об одной проблеме завода и близко не было помянуто: дело было представлено так, что наш завод ни в чем не нуждается, работает прекрасно, да вот какой-то дурак назначил на него негодного директора. Много лет спустя я понял, что это само министерство и определенные партийные круги «топили» Донского, но даже тогда статья поразила меня своею несправедливостью.
Как бы я ни был зол на Донского, но я не мог не видеть, что это наш директор завода. Столько лет мучились с Топильским, и в кои-то времена получили настоящего директора, а теперь с моей помощью его снимут?! Я тут же написал в газету пространный ответ, подробно показав, где в статье полуправда, а где и откровенная ложь, впечатал фамилию Донского в подпись и пошел к нему согласовать текст, чтобы отправить его в газету. Он прочел письмо и явно удивился: «А я думал, что ты действуешь вместе с ними». (По сути, оно так и было, но как в этом признаться?) Я отговорился тем, что могу быть недовольным его решением, но никогда ничего не сделаю, чтобы силой заставить его это решение отменить. Не думаю, что при своем опыте он мне так уж и поверил. Однако он предложил мне снять с письма его подпись, вписать свою, отправить письмо в газету, а ему сделать копии, чтобы он мог отослать их в министерство тем людям, которые понимают проблемы завода и могут понять причины, по которым эта статья появилась.
Я так и сделал, потом позвонил в газету, убедился, что они письмо получили, и стал ждать, когда его напечатают. Однако вместо этого «Социндустрия» дает новую статью и еще более злобную и клеветническую, явно настаивающую на том, что Донского нужно снимать с должности. Я не знал, что делать: если его действительно снимут, то, как я буду товарищам в глаза смотреть?
Силикобарий
Чувство вины усилилось и уже не покидало меня, я лихорадочно искал решение, чтобы такое предпринять, чтобы нейтрализовать эффект той кампании, которая начата против Донского и начата не без моего участия. И у меня созрел коварный план, блестящий по тому своему эффекту, который должен был получиться после реализации этого плана. Однако надо объяснить ситуацию.
На печи экспериментального участка происходила только прикидка новых сплавов: возможно ли их получить в принципе, и какой состав и свойства они будут иметь. Но обеспечить промышленность производством этой печи невозможно. Поэтому, если получался сплав, который был нужен на сталеплавильных и литейных заводах, то после опробования его и отработки технологии его получения на печи 1200 KB A экспериментального участка должна была следовать кампания опробования его на промышленной печи в плавильном цехе — промышленная его выплавка. И только если вот эта промышленная выплавка получалась, то можно было считать, что такой новый сплав уже есть. Но если не получалась, то все успехи по его получению в печи 1200 KB А, становились никому не нужны: что толку получать на ней что-то, что впоследствии невозможно начать производить в таком объеме, в каком это нужно промышленности?
Пока наш завод до второй половине 70-х работал с перевыполнением плана, то так и было. Полученные на экспериментальном участке новые сплавы затем плавились на печах 21 МВА (в основном, в цехе № 2), и, между прочим, далеко не все сплавы там получались — то, что можно получить в лабораторных условиях, получить в промышленных условиях удается далеко не всегда.
А выплавка силикобария в промышленной печи не проводилась, поскольку этот сплав начали разрабатывать, когда завод уже не выполнял план и, следовательно, не имел свободного печного времени для экспериментов. И науку эта ситуация устраивала на 200 %. Во-первых, «промышленное внедрение» для диссертаций наука оформляла и по результатам выплавки сплава в опытно-промышленной печи, каковой считалась печь 1200 КВА. Во-вторых, если бы завод начал получать силикобарий в промышленных объемах, то мы тут же удовлетворили бы всех потребителей — все заводы СССР. И эти заводы внедрили бы у себя силикобарий безо всякой науки, силами собственных инженеров, у этих заводов пропала бы необходимость заключать с наукой хоздоговорные работы и платить ей деньги, по сути, только за то, что она имеет возможность завезти к ним на завод вагон силикобария с нашего завода. Ведь мы до этого по прямым договорам силикобарий никому не поставляли. В принципе дело выглядело так: наука у нас силикобарий как бы покупала, оплачивая нам работу печи 1200 КВА, а потребителям его перепродавала, беря с них деньги и за сам сплав, и за внедрение силикобария у них. На эту разницу неплохо жила, вот почему не в интересах науки было внедрять этот сплав в промышленное производство.
Как только я понял, в чем тут у науки интерес, у меня созрел и план. Понимаете, когда заводу до выполнения плана и получения 40 % премии не хватает каких-то 500 тонн ферросплавов, то задействовать промышленную печь под эксперименты просто недопустимо. Но если план выполняется на 70 %, если до плана не хватает 20 тысяч тонн, то тогда какая к черту разница, сколько ты недодашь потребителю — 20 или 20,5 тысяч тонн? Премии, хоть так — хоть эдак, не будет. Вот это и привело меня к мысли, а почему бы не дать науке сделать завершающий штрих своих работ по силикобарию, почему бы не дать ей промышленную печь, и пусть она попробует получить этот сплав в ней? Если получится, то промышленная печь за две недели даст столько силикобария, сколько печь 1200 КВА плавит за год, а если не получится, то какой смысл продолжать плавить этот сплав в экспериментальном, если внедрить его в промышленное производство невозможно?
План очень коварный, поскольку им мы хватали науку за…, скажем так, уязвимое место и не давали ей спекулировать на закрытии экспериментального участка: считаете, что силикобарий очень нужен СССР? Вот вам промышленная печь и получите на ней силикобария столько, сколько нужно. А не получите, тогда о каком обеспечении потребителей СССР силикобарием вы говорите? Донской понял меня с полуслова и распорядился немедленно начать подготовку к промышленной выплавке силикобария на печи № 42 цеха № 4, сообщив об этом науке и министерству.
Я подобным делом занимался впервые, но подготовительная суть мне была ясна, а собственно выплавкой сплава в промышленной печи обязаны были руководить его разработчики — ученые, написавшие на тему выплавки этого сплава диссертации и кучу бодрых статей в научно-технических журналах. Поэтому, сообщив министерству и науке о дате начала выплавки, я запросил потребителей, сколько им в текущем году нужно силикобария и получил результат раз в пять превосходящую ту, что мог выплавить экспериментальный. Заказал барит — сырье для получения силикобария. Поднял архивы экспериментального, сделал необходимые расчеты и подготовил технологическую инструкцию по выплавке силикобария в промышленной печи. Ознакомил с нею цех № 4, обсудив, какие могут быть проблемы. Разработал методику контроля будущей выплавки, ознакомил с ней своих инженеров-исследователей, поскольку им предстояло круглосуточно контролировать печь в начальный период: мы обсудили, где и сколько проб металла и шлака будем отбирать, как будем контролировать шихту, какие показатели будем рассчитывать и как их использовать. Начальник химлаборатории П. Тишкин соответственно доработал методики текущих и экспресс-анализов силикобария и его шлака. Мы свое дело делали, но тут я заметил, что ни наука, ни министерство никак не отреагировали на мои письма — не дали ответа. Я письма повторил, фактически потребовав, чтобы ученые прибыли на завод как минимум за день до перевода печи № 42 на выплавку силикобария. Ответа не последовало. Я встревожился и доложил об этом Донскому, тот распорядился дать телеграммы и пообещал через министерство надавить на ученых. Но эффекта было ноль. Эти гады молчали, и стало ясно, что они на промышленную выплавку не приедут.
И тут я понял, в какое дерьмо я вскочил со своим гениальным планом. Я хотел «обуть» науку, а она «обула» меня. Элементарно. Я хотел (если выплавка сплава в промышленной печи не получится), чтобы завод имел возможность сказать, что какой толк плавить этот сплав в экспериментальном, если у него нет будущего? Наука же, не явившись на выплавку, получила в этом случае возможность утверждать, что завод без них, научных умов, попробовал плавить силикобарий, да ничего не смог, а что еще нужно было ожидать от баранов-ермаковцев, руководимых таким ретроградом, как Донской, не понимающим величия и необходимости научных исследований? Наука применила против нас старый бюрократический прием — не присутствовать в том месте, где может случиться неприятность, за которую нужно отвечать.
Давайте я прервусь, чтобы показать, что прием этот действительно старый, и чтобы рассказать об инженере, фамилию которого я, убейте, на данный момент не могу вспомнить.
Старый инженер
Мне стыдно, что я не могу вспомнить его фамилию, довольно небезызвестную в нашем кругу, помню только, что она была чисто украинской, заковыристой. Пусть его родственники меня простят. Когда он приехал к нам на завод в командировку, ему уже было далеко за 70, он работал консультантом в каком-то институте и приехал к нам опробовать свои идеи по определению оптимальных параметров печи. Помню, что я к этим идеям отнесся скептически, поскольку они не совпадали с моими, кроме того, по своему образованию и опыту работы он был инженер-электрик, а не инженер-электрометаллург, хотя, как вы увидите ниже, вся его жизнь была связана с ферросплавными (руднотермическими) печами. Тем не менее, как-то вечером я пошел к нему в гостиницу, чтобы и о его работе поговорить и старика развлечь. За рюмочкой, слово за слово, я в конце концов раскрутил его на воспоминания, поскольку, повторю, его идеи виделись мне неправильными, а углубляться с ним в спор мне не хотелось. И вот тут он рассказал мне о вещах, которые в те годы замалчивались, а сегодня считаются неинтересными. Его рассказ я помню хорошо, поскольку потом много раз его рассказывал в разных компаниях инженеров, поэтому думаю, что и вам его перескажу без особых искажений.
Он окончил институт где-то в середине 30-х и был направлен на Запорожский завод ферросплавов, а здесь быстро отличился, поскольку тогдашний нарком (министр) тяжелой промышленности СССР С. Орджоникидзе пригласил его жену в Москву на слет жен передовиков производства, а самого его наградил велосипедом. (Кстати, когда его призвали на кратковременные сборы в территориальные войска (были такие), то форму не выдавали, более того, призвали его в армию вместе с велосипедом.)
Днепрогэс был на ту пору гордостью советской энергетики, и для использования электроэнергии, вырабатываемой этой электростанцией, в Запорожье были построены энергоемкие производства — ферросплавный и алюминиевый заводы — первенцы отечественной качественной металлургии. И к началу войны этот инженер стал главным энергетиком Запорожского ферросплавного завода.
После поражения наших войск под Киевом немцы стремительным броском вышли к Запорожью, захватив его правый берег и остров Хортицу. В городе началась паника. Надо отдать должное инженерам Днепрогэса — они так изящно вывели станцию из строя, что этим потом восхищался и министр вооружений гитлеровской Германии Шпеер. Взрывчатки не оказалось, поэтому инженеры Днепрогэса максимально открыли подачу воды на турбины, развили на генераторах максимальные обороты, а затем отключили подачу масла в систему смазки турбин и генераторов. Подшипники расплавились, и немцы потом так и не успели станцию восстановить.
Дирекция Запорожского ферросплавного получила приказ из горкома и НКВД немедленно взорвать завод, но чем? Никакой взрывчатки на заводе не было. Тогда директор и остальное начальство бросилось из города удирать, приказав главному энергетику завод сжечь. Издевательство этого приказа было в том, что, как я уже упоминал, специфика ферросплавного производства такова, что плавильные цеха как раз и строятся так, чтобы они не горели. А поскольку начальству нужен был бензин, чтобы уехать от Запорожья как можно дальше, то для исполнения приказа этому инженеру и бензина оставили всего одну бочку. Увидев, что начальство удирает, с завода сбежали и все рабочие, и очень скоро инженер остался на заводе один с бочкой бензина и приказом, за невыполнение которого мог последовать расстрел.
Тут надо понять, что сами по себе ферросплавные печи состоят из довольно простых металлических конструкций, изготовить которые можно довольно легко — было бы из чего. Самым ценным оборудованием печей являются печные трансформаторы — это изделия в несколько десятков тонн весом, изготавливаемые на специализированных заводах. Большую ценность представляли также большое количество медных элементов конструкции печи, кабели, мостовые краны цехов и многое другое, но чтобы вывести завод из строя в тех условиях сжатого времени, нужно было попробовать сжечь хотя бы трансформаторы. Если б Днепрогэс работал, и была электроэнергия, то для электрика сжечь трансформатор (расплавить его обмотки) — это пара пустяков, но электроэнергии не было.
Однако в каждом трансформаторе было с десяток, если не несколько десятков тонн трансформаторного масла, а это, в принципе, топливо. Инженер открыл на одном из трансформаторов вентили и стал сливать масло в приямок под ним, а оттуда по кабельным канавам масло затекло и под остальные трансформаторы цеха. Затем поверх масла слил бочку бензина. Надо было бы слить масло со всех трансформаторов, но ему было страшно — в городе уже шла стрельба. Поэтому он зажег метлу и ею поджег бензин в одной из кабельных канав. Бензин вспыхнул, и огонь быстро распространился по всем канавам, чего недоучел инженер, поскольку теперь он оказался посреди цеха, со всех сторон окруженный выбивающимся из кабельных канав пламенем. Ничего не оставалось — он разогнался и начал перепрыгивать через эти костры, а выскочив из цеха, бросился уходить из Запорожья, догоняя остальных рабочих и работников.
Навстречу шли подразделения и части Красной Армии, а на каком-то расстоянии от города, навстречу колонне беженцев выскочил легковой автомобиль, из которого вышел тогдашний нарком (министр) черной металлургии СССР Тевосян, как мне помнится из рассказа, с маузером в руке. Тевосян приказал всем работникам черной металлургии вернуться в Запорожье и начать демонтаж и эвакуацию оборудования металлургических заводов города. Причем предупредил, что кто не вернется, того он расстреляет на месте. За Тевосяном с грузовых машин сбрасывали катушки с кабелем — на Запорожье из Донбасса подавалась электроэнергия.
Вернулись. Заводское начальство на машинах проскочило Тевосяна и убежало далеко, посему этот инженер возглавил демонтаж завода. То, что он не слил масло с остальных трансформаторов, оказалось для них спасением — они не сгорели, сгорел всего один — тот, что был без масла. Из Донбасса подали напряжение переменного тока, а мостовые краны работали на постоянном. Уже не помню, в чем там было техническая проблема, но этот инженер собрал и соединил вместе в единую схему сварочные трансформаторы с выпрямителями и через них запитал краны, без которых демонтировать завод было невозможно.
Наши войска сбили немцев с левого берега, но Хортица осталась в руках немцев, и они оттуда обстреливали из минометов все, что шевелилось на левом берегу. Поэтому пришлось днем все оборудование развинчивать, а ночью подгонять вагоны и кранами их грузить. Инженер собрал все более-менее ценное оборудование, все двигатели, смотал весь кабель, все медные провода. Более того, он выяснил, что «цветники» (работники цветной металлургии) бросили Запорожский алюминиевый совершенно нетронутым, посему он перешел на алюминиевый завод и оттуда отгрузил в Новокузнецк (куда шла эвакуация Запорожского ферросплавного) все ценное — медь, электрооборудование и т. д. Он работал, пока немцы вновь не ворвались на левый берег, в результате он не успел забежать домой за вещами и ушел из города в чем был. Но зато в Новокузнецк на строящийся ферросплавный завод из Запорожья прибыло 79 вагонов отправленных им грузов.
Он добрался до Москвы, до наркомата черной металлургии, но наркомат уже был в эвакуации, оставленный в здании дежурный приказал ему ехать в Новокузнецк. Инженер пошел на вокзал, но на тот день билеты были только в жестких вагонах, а он неимоверно устал, посему взял билет в спальный вагон на следующий день. А когда назавтра его поезд отъехал от Москвы, то вскоре на насыпи они увидели пассажиров вчерашнего поезда — немецкая авиация его разбомбила, и их тела еще не были захоронены.
В Новокузнецке он включился в строительство Кузнецкого завода ферросплавов как главный энергетик, дав очень ценное предложение. Ферросплавные печи на Запорожском ферросплавном были печами Миге — однофазными. Это был уже вчерашний день техники, современными на тот момент были трехфазные печи, вот инженер и предложил строить именно такие печи, поскольку это давало возможность увеличить мощность строящегося завода при том же количестве печей почти вдвое. Но для этого нужны были трехфазные печные трансформаторы, а их в СССР не было, и построить такие трансформаторы было невозможно, поскольку трансформаторный завод тоже остался в Запорожье, и трансформаторной стали не было. И тогда этот инженер предложил перемотать имевшиеся однофазные печные трансформаторы в трехфазные своими силами. Соблазн резко увеличить производство ферросплавов был велик, но и риск был велик — инженер предлагал в условиях строящегося завода сделать то, что можно делать только на специализированном предприятии. Если после его перемотки трансформатор сгорит при включении, то не будет ни вдвое больше ферросплавов, ни сколько-нибудь вообще. Тем не менее, согласие дали, и он начал эту переделку, одновременно руководя как главный энергетик монтажом вообще всего энергетического оборудования завода.
Такие бытовые оценки. Он почти не покидал завод, но ему дали место в общежитии. Пайки были маленькие, но ему в виде премии давали водку, которую он хранил в своей комнате, чтобы в воскресенье обменять ее на продукты. Костюм у него был единственным, поэтому раз в неделю он стирал его в цехе в ведре бензина, чтобы смыть масляные пятна, сушил и более-менее чистым выходил в город. И вот однажды он понес на рынок менять водку, и выяснилось, что в бутылке вода, и его чуть не прибили за обман. Оказывается, его мерзавец-сосед каким-то образом выпивал водку и заливал бутылки водой…
Наконец, к июлю 1942 года первая печь Кузнецкого ферросплавного была готова к пуску. Вообще-то это всегда было очень торжественным случаем, на который съезжалось все начальство и не только заводское, но и областное. А тут инженер уже готов включить печь, а возле нее никого, кроме рабочих. Все начальство сбежало с завода! А вдруг перемотанный трансформатор сгорит при включении? Если ты, начальник или специалист, тут был, то виноват, а если не был, то тоже виноват, но вроде как-то не так — дескать, если бы срочные дела не отозвали, то уж я бы, мудрый руководитель и инженер, аварии не допустил.
Инженер расставил электриков к рубильникам с приказом, чтобы они по его крику немедленно размыкали схему (все же нагрев обмоток трансформатора даже при коротком замыкании требует какого-то времени), и включил масляный выключатель. Трансформатор ровно загудел… Все получилось!
И через полчаса сбежалось все начальство, которое издалека следило за ситуацией, и начало друг друга поздравлять, писать представление к орденам. Но, правда, и этого инженера наградили, причем боевым орденом — «Красной Звезды». А это по меркам 1942 года была очень высокая награда. Достаточно сказать, что мой отец, призванный 23 июня и принявший первый бой уже 28 июня 1941 года, тяжело раненый при обороне Одессы, участник второго этапа Московской битвы, участник Сталинградской битвы, свой первый орден, именно этот — «Красной Звезды» — получил только тогда, когда на Курской дуге в 1943 году поставил минное поле радиоуправляемых фугасов и лично взорвал его под немецкой атакой. Но то, что сделал этот инженер, этого ордена, безусловно, достойно.
Однако я хотел подчеркнуть не только это, я хотел обратить внимание на то, что, как только возникает рискованная ситуация, бюрократы мигом разбегаются с места события, надеясь этим снять с себя ответственность за возможные негативные последствия.
Так случилось и в моем случае с силикобарием.
Для чего наука несколько лет плавила его в полупромышленной печи? Чтобы потом выплавлять его в промышленной. И вот подошло время это сделать, наступил «момент истины» — где оказалась эта наука? Вот то-то!
На грани позора
Итак, барит уже был в печных бункерах, печь № 42 проплавлена — в нее перестали грузить шихту для выплавки ферросилиция и понижали уровень колошника в печи, чтобы быстрее получить новый сплав. Приехали ученые — не приехали ученые, а отступать мне, вернее, нам, было уже некуда. Начальник цеха № 4 А.И. Скуратович (светлая тебе, Саша, память) распорядился, и в печь начали грузить рассчитанную мною шихту. Сначала из печи должен был выходить все еще ферросилиций, получаемый из остатков оставшейся в печи шихты для его получения. Затем промывочные (переходные) плавки, по своему химсоставу — смесь ферросилиция и силикобария, а к утру печь уже должна была давать годные плавки силикобария с содержанием бария где-то от 13 до 18 %.
Однако утром на печи творилось что-то непонятное. Мало того, что она «свистела», т. е. из колошника били свищи, но на колошниковой площадке и на площадке горновых все было укрыто, как снегом, какими-то белыми хлопьями. Открыли летку, и из нее задул факел, который чуть ли не доставал до горнового, а в воздухе закружились эти непонятные белые «снежинки». Мы пришли с начальником химлаборатории, я распорядился как можно быстрее сделать хотя бы качественный анализ этого «снега», поскольку такого явления никто никогда не видел, в том числе и при выплавке силикобария на печи 1200 КВА. Тишкин быстро отобрал пробу и пошел в лабораторию, а мы со Скуратовичем встали перед вопросом, что делать? Внешний вид печи: свищи, глубокая посадка и газящая летка — как будто четко указывали на то, что в печи катастрофически не хватает восстановителя, но я не мог ошибиться в расчетах — из-за неконтролируемого изменения влажности кокса его могло не хватать, но не настолько же!
Но деваться было некуда, и Саня распорядился поднять навеску кокса в колоше и давать добавку кокса на колошник. Позвонил из химлаборатории Петрович: «снег» оказался практически чистой двуокисью кремния. Час от часу не легче! Я-то ожидал, что это какое-то соединение бария, раз мы плавим силикобарий, но двуокись кремния! При выплавке ферросилиция даже с очень высоким содержанием кремния и при очень большом недостатке восстановителя такого никогда не видели, а тут кремний вдруг попер из печи в атмосферу. Почему?! Что в печи происходит? Главное, что весь опыт выплавки силико-бария в экспериментальном цехе ничего мне не давал — там такого явления не было.
Тем не менее, добавки кокса привели к изменениям: хлопья «снега» исчезли, факел, выбиваемый из летки, уменьшился, печь взяла токовую нагрузку, шлака не было, вернее, как на кремнистых сплавах, было очень мало, но выглядела печь ужасно! Колошник весь был в свищах, и плавильщики не успевали забрасывать их шихтой. Но что было самым непонятным, так это то, что в сплаве не было бария. Вернее, он был, но в пределах 5–6 %, а ведь шихту-то я задал на получение 15 %! Итак, в печь мы барий грузим, в атмосферу он не уходит, из летки не появляется, значит, он накапливается в печи. Но в виде чего — в виде каких соединений? В виде металла, окислов или карбидов? Не уяснив это, невозможно было исправить положение.
Беда была в том, что, как я уже писал, меня лично не интересовало получение новых сплавов, а посему в моей личной картотеке не было литературных данных по барию. Искать ссылки на статьи в имевшихся реферативных журналах черной металлургии было бессмысленно: для черной металлургии барий был абсолютно новым элементом. Следовательно, поиск информации о соединениях бария нужно было начинать с реферативных журналов общей химии, а потом искать статьи в общехимических журналах. Но их в библиотеке завода не было. Все необходимые для исправления положения на печи данные должны были быть у науки, которая, разумеется, такой поиск уже давно провела для своих диссертаций и отчетов, но науки-то не было на заводе!
И к вечеру следующего дня положение никак не изменилось: печь работала очень горячо, а барий в выходящем металле был очень низкий. Скуратович был хмурым: если мы что-то вводим в печь, а из летки это не выходит, то, значит, скоро оно выйдет через стены или подину печи. И тогда будет проедание пода или ванны с аварией, при которой надо будет молиться, чтобы не было человеческих жертв и больших разрушений, а уж печь надолго выйдет из строя. В этот день мне сообщили, что на завод приехал Парфенов, который на тот момент как раз работал в институте — разработчике силикобария. То есть наука обозначила свое присутствие на промышленной выплавке, но только обозначила, поскольку Толя разбирался в силикобарии еще хуже меня. Но все же это было хоть что-то, поскольку я мог заставить Парфенова срочно связаться со Свердловском и затребовать оттуда специалистов для консультаций. Правда, меня удивило, что он сразу же не зашел ко мне, но я не обеспокоился, поскольку полагал, что он сидит на 42-й печи. После утренних оперативок я пошел на печь встретиться с ним, но его там не оказалось, мало того, выяснилось, что он был на печи всего несколько минут. А работяги как-то странно стали посматривать и на меня, и на печь. Я стоял на колошниковой площадке, ожидая, что, может, Парфенов подойдет, но ко мне, смущаясь, подошел бригадир печи.
— А правда, что у тех, кто плавит барий, х…й не стоит?
— С чего ты взял?!
— Парфенов сказал…
Ах, ты, твою мать! Ну, скотина! Я побежал к себе, связался с Людой Чумаченко, начальником сантехнической лаборатории, и Тишкиным, чтобы они немедленно подготовили справку по этому вопросу, а сам стал по телефону разыскивать Парфенова, но бесполезно — на следующий день я выяснил, что он прямо с завода уехал в аэропорт. Люда и Петрович принесли справочники, вместе пошли на печь успокаивать работяг тем, что барий абсолютно безвреден, что его пьют перед рентгеном желудка, что им штукатурят стены и т. д. и т. п.
Утром следующего дня все оставалось прежним, Саня стал еще более хмурым.
— Юра, это безобразие надо кончать — печь проест! Надо переводить ее на ферросилиций, пока не поздно.
Инженеры метлаборатории контролировали работу печи круглосуточно и каждую смену считали баланс — сколько чего в печь поступило и сколько из печи получено. Для этого они контролировали точность взвешивания шихты, металла, шлака, отбирали представительные пробы и сдавали их химикам для анализа, хим-лаборатория тоже работала быстро, и не было оснований сомневаться в точности химанализа.
Получалось, что извлечение бария едва 25 %, то есть с начала выплавки из печи вышла едва четверть загруженного в нее бария. Улетом бария в атмосферу можно было пренебречь, сколько-то его могло пойти на обновление гарнисажа — защитного слоя полурасплавившейся шихты у внутренних стен и подины печи. Но остальной барий где и в каком виде?
Баланс показывал большой избыток восстановителя, т. е. мы давали в печь углерода больше, чем нужно было, чтобы восстановить (перевести в металлическое состояние) весь барий и кремний. Но печь избытка восстановителя не показывала — сопротивление шихты было велико, и электроды сидели глубоко. Значит, данный в печь лишний углерод находится в ней не в виде хорошо проводящего ток коксика, а в виде химического соединения. По логике это мог быть только карбид бария, о котором я практически ничего не знал, но поскольку барий аналог кальция, то полагал, что это соединение аналогично карбиду кальция.
— Слушай, Саня, мы, скорее всего, переводим барий в карбиды, а уже карбиды с остальной шихтой связываются в какое-то густое шлаковое соединение, которое из летки не идет. По крайней мере, я ничего умнее придумать не могу. Но если это так, то нужно снять кокс с навески, и снять сильно — ниже стехиометрии (точного расчетного количества). Тогда избыток окислов начнет окислять углерод карбидов, а освободившийся барий пойдет в сплав.
Скуратович оценил мое предложение очень скептически, ведь вид колошника показывал противоположное — показывал, что печи не хватает кокса.
— Ну что же, давай снимем, поскольку, собственно, выбирать не из чего, вряд ли станет еще хуже. Но лучше бы печь сейчас же перевести на ферросилиций, — ответил Скуратович.
— Саня, не получим силикобарий, позора не оберемся! Впрочем, Скуратович это и без меня знал. Он распорядился снять кокс с навески, но поздно вечером, уже около 20–00, нас вызвал Донской. Директор держал выплавку силикобария под неусыпным контролем и при посещении им цеха, Скуратович, скорее всего, высказал ему свое мнение.
— Какой последний анализ? — спросил меня директор.
— Семь процентов, Семен Аронович.
— А надо?
— Ну, вы же знаете, не меньше 13 %.
— М-да… Что будем делать?
— Надо проплавлять и переводить печь на ФС-45, - поколебавшись, предложил Скуратович, — пока не поздно.
— Мы сняли навеску кокса, давайте подержим печь на силикобарии еще хотя бы сутки. Ну, не может такого быть, чтоб в экспериментальном его три года плавили без проблем, а у нас не получилось, — говорил я, понимая, что они это и так прекрасно понимают, но меня толкало упрямство, мне было очень больно сознавать, что мы потерпели поражение.
Возникла пауза, которую по идее должен был прервать Скуратович и настоять на своем предложении. Но Саня молчал.
— Ладно, — подытожил паузу Донской и отдал распоряжение Скуратовичу, — завтра с 16–00 проплавляйте и переводите печь на 45-й.
Ферросилиций ФС-45 был, так сказать, «легким», с точки зрения его производства, сплавом и на выплавку ФС-45 переводили печи, если нужно было привести их в исправное технологическое состояние после глубокого расстройства или промыть печь после предыдущего сплава. Тут это требовалось по обеим причинам.
Мы со Скуратовичем вернулись на 42-ю печь, а вид ее был прежний, содержание бария в сплаве по-прежнему очень низким. Все было беспросветно.
Ночь я спал паршиво, а утром ехал на завод с отвращением, чего со мною никогда не было, и с чувством, что нет в жизни счастья.
Я зашел в общую комнату метлаборатории к 8-45, времени начала моей работы, и направился в закуток своего кабинета, но меня окликнула из своего угла Людмила Чеклинская, старший инженер метлаборатории, которая дежурила смену в ночь и должна была уехать домой еще в 8-00.
— Юрий Игнатьевич, вторая плавка ночью — 16 %.
Я сначала даже не понял, о чем это она, а потом развернулся и побежал к химикам. Тишкин рассчитывал результаты химанализа третьей плавки ночной смены, химанализ четвертой плавки еще был в работе. Петрович отложил логарифмическую линейку, записал и объявил результат — 17,5 %! Я рванул к себе наверх, подхватил куртку и каску и побежал по переходу на 42-ю. На пульте печи Скуратович рассматривал журнал за ночную смену.
— Саша, мы этот хренов силикобарий сделали — третья плавка 17,5 %!
Скуратович кивнул головой в сторону окна, за которым был виден колошник печи. Он, конечно, был еще горячим, но печь успокоилась, свищей практически не было, и вид колошника был не хуже, чем при выплавке обычного для этой печи 75 %-ного ферросилиция. Мы спустились на площадку горновых посмотреть первый выпуск дневной смены. Металл сошел активно с небольшим количеством шлака, летка газила нормально. Получилось, черт возьми!
А дальше анализы выскочили за 20 % — в следующую марку силикобария сплав вошел без проблем, и цех № 4 в несколько недель выполнил все тогдашние заказы заводов Союза. А поскольку силикобарий был дорогой, то эта кампания даже улучшила показатели работы цеха. Впоследствии цех производил этот сплав сам без проблем и без участия ЦЗЛ, причем и перевод печей на силикобарий проводил быстро и без тех неприятностей, которые были у нас.
А тогда я так перенервничал, что у меня даже радости не было, была какая-то опустошенность. Только потом я осознал, насколько эта экспериментальная выплавка силикобария нужна была мне лично, ведь благодаря ей я осознал себя настоящим начальником ЦЗЛ. Я и так умел или мог по своей должности разобраться практически во всем, но новых сплавов не касался, а теперь я смог с научно-технической стороны обеспечить внедрение в производство нового сплава, причем в условиях бойкота науки и недостатка информации, ну что еще от меня надо как от начальника ЦЗЛ? Не помню, но уверен, что Донской премировал всех участников этой кампании, но разве это главное? Разве осознание того, что ты свою должность занимаешь по праву, за деньги купишь?
Ну и, конечно, мы вручили Донскому хороший ломик для работы в Москве. Теперь ему было, что говорить в ответ на упреки, что на Ермаковском ферросплавном плохо идут дела из-за того, что у нас, дескать, плохой, низкоквалифицированный персонал — «ермаковщина». Мы освоили новый сплав, от которого в разные стороны сыпанула наука, значит, ермаковцы умеют работать, и то, что завод не выходит на проектную мощность, это не вина работников завода.
Кстати, прошло около года, Донской решил проблемы завода, работники экспериментального были возвращены в ЦЗЛ, и мы снова ввели печь 1200 КВА в работу.
Проблемы
Но давайте вернемся к Донскому и оценим те проблемы, которые встали перед ним. Немного повторюсь, но выглядели эти проблемы так.
Примерно таким мы впервые увидели Семена Ароновича
Крупнейший в своей области завод в мире, две трети его печей (по мощности) — уникальны и еще никем не освоены. Вводились эти печи в строй как директивные, то есть начальству в Москве в тот момент главным было их включить, чтобы отчитаться о своевременном строительстве завода — о «плановом вводе мощностей». А вспомогательные цеха были на втором плане (за их строительство не отчитывались), строили их кое-как и их возможности не соответствовали потребностям завода.
Штат завода упорно разгонял предшественник, в результате к принятию Донским завода практически ни на одной должности не было специалиста, который проработал бы в ней хотя бы 2–3 года. До штата заводу не хватало 1000 человек и это при том, что и само штатное расписание завода было меньше, чем такому заводу требуется. Работа на заводе потеряла престиж, и с него ушли рабочие кадры универсальных специальностей. Плановые мощности завода не освоены, и план выполнялся едва на 70–80 %. Нет плана — нет зарплаты, а нет зарплаты — нет перспектив, что этот завод можно поднять. Таким был, образно говоря, «враг внутренний».
Я помню знакомство с Донским. Нас, начальников служб и цехов, собрали в кабинете директора завода. Представлял Донского начальник ВПО (уже не помню, Невский или Сафонов). Встал плотный, среднего роста, тогда еще рыжеватый мужчина и начал докладывать нам о себе: как зовут, какого года, где родился, сообщил, что еврей, окончил Киевский политех, далее шло перечисление должностей и заводов, на которых Донской работал. Наверное, многие тут же отметили, что он не ферросплавщик и даже не электрометаллург, а сталеплавильщик мартеновских печей и конверторного производства стали. Но одновременно отметили, что это сугубый производственник, причем цеховой — всю свою жизнь он проработал только в цехах и, в основном, руководителем. Даже с первого взгляда Донской выглядел очень основательным. А сам он сказал примерно так:
— Я новый директор Ермаковского ферросплавного, но я не новая метла и не собираюсь мести по-новому. Я не собираюсь приглашать на наш завод никаких специалистов со стороны. Мы поднимем наш завод сами и тем составом, который сейчас на заводе есть.
Не могу сказать, что нас сильно пугали специалисты со стороны, которые займут наши должности, полагаю, что об этом никто и не думал. Но то, что Донской с первой минуты начал говорить «мы», то, что он никак не отделял себя от нас, конечно, не могло нам не импонировать.
И начал он «пахать». И мы вместе с ним.
Поскольку аспектов его работы, аспектов того, как он поднял завод и вывел его в передовые, очень много, и они взаимосвязаны, мне придется рассказывать о них вне хронологии, полагаю, так будет понятнее. Но пока продолжу перечень проблем, вставших перед ним, и расскажу о проблемах внешних.
Конечно, раз мы работали на этом заводе, то как с нас снять вину за то, что он плохо работает? Но мы были встроены в систему управления народным хозяйством СССР, и над нами было еще много начальников. И пока Топильский уродствовал на заводе и низкопоклонствовал уже перед первыми своими начальниками — перед начальником главка (ВПО) и секретарем горкома — и никогда не критиковал их, то все выглядело так, как будто плохой работой завод был обязан только своему штату, т. е. нам.
Однако, строго говоря, уже для министра вина штата завода не должна была быть очевидной — да, может, виноват и штат, а может, и начальник главка. А для Совета Министров СССР вина штата завода была еще менее очевидна — да, может, виноват штат, а может, и министр черной металлургии. Точно также и для высших партийных органов не все было очевидно — может, виновата заводская парторганизация, а может, и обком с ЦК Казахстана.
Пока директор ЕЗФ помалкивал о роли нашего начальства, а доклады в высшие инстанции делали главк и обком, мы, заводские работники, в глазах всех были дураками и бездельниками. Но как только директором стал Донской, и как только он, не решив вопросы в главке и обкоме, пошел выше и там стал объяснять ситуацию на заводе, вышестоящие инстанции начали смотреть на это дело его глазами: теперь вина заводских работников стала отодвигаться в сторону, а на первое место в качестве виновных начали выходить министерство и республиканские парторганы.
Поясню эту мысль на таком примере. Повторю, у нас на заводе был казахский коэффициент, т. е. приплата к зарплате — 15 %, а рядом на ГРЭС — 30 %. А почему? А по кочану! Мелочь, казалось бы, а из-за этой мелочи, повторю, слесари, сварщики, токари, шоферы и т. д. и т. п. переходили с завода на ГРЭС. И когда упрямый Донской дошел до ЦК КПСС и там добился, чтобы и нам ввели коэффициент 30 %, то, помимо этого, у ЦК не мог не возникнуть вопрос: а что же там все это время делал Павлодарский обком? Он что, не видел, что из-за такой чепухи завод не комплектуется штатом? А если видел, то почему молчал?
И вот так, с каждой поездкой Донского в Москву, с каждым посещением им ЦК и Совмина у начальства возникал вопрос: а тех ли людей мы держим в должностях секретаря обкома, начальника главка, министра? И под многими чиновниками зашатались кресла.
В результате у окружающего завод начальства возникло сначала раздражение против Донского, а потом и ненависть к нему, основанная на собственном страхе потерять из-за Донского должности или репутацию. И, как я понял это уже много-много лет спустя, эти начальники делали все, чтобы Донской стал покорным, чтобы отучить его обращаться в высшие инстанции. Но этот еврей с упорством хохла ломал все препятствия и не останавливался ни перед кем, пока не решал тот вопрос, который наметил.
Причем, что интересно, у Донского было кредо — никогда и ни с кем не портить отношения. Бывало, какое-нибудь начальство запросит у нас что-то непомерное, я откажу, а Донской махнет рукой — да дай ты ему, а то по какому-нибудь поводу развоняется, нам же дороже будет! Со всеми исключительно он старался поддерживать только хорошие отношения и мог пойти на любые уступки. Но как только дело касалось принципиальных «болевых точек» завода, тут он становился как кремень, тут он себя не щадил — если заводу действительно надо, то он это добудет.
Провокации
Был случай, о котором я вспомнил, когда уже начал писать эту книгу, и только потому, что сравнил тот случай со своим собственным.
По-моему, года через два после того, как Донской стал директором, ОБХСС вскрыл хищение у нас в подсобном хозяйстве, и прокуратура завела дело на директора подхоза Бориса Егорова. Борис обвинялся в воровстве мяса, следует сказать, что если воровство и было, то речь вряд ли шла более чем о 10 кг в неделю, поскольку подхоз-то у нас в то время был небольшой, и вряд ли Борис резал и передавал в столовые завода больше одной коровы в неделю. Но дело было необычайно громким, причем весь город, если не область, обсуждала, сколько же воровал с подхоза сам Донской. Обычно в СССР до суда милиция и прокуратура глухо молчали о сути дела, а тут как-то необычайно много сплетен сопровождали все следствие, длившееся довольно долго. В результате Борис получил 10 лет лишения свободы, а Донской вынужден был выступать на суде свидетелем, причем весь завод был уверен, что обком его «отмазал» и что Донской и сам воровал. Честно скажу, в те годы я и сам был уверен, что Донской воровал. Однако потом, уже работая замом Донского и лучше его узнав, я этот вывод пересмотрел.
И дело не в какой-то там исключительной честности Донского, а в том, что он был начальник от Бога — он «нутром» понимал, как себя нужно вести с подчиненными. А тут дело вот в чем. Конечно, можно попросить подчиненного что-либо украсть для себя, почему нет, но тут должно выполняться условие — этот подчиненный должен быть вам близким другом. И дело, заметьте, не в том, что он вас не выдаст (вряд ли выдаст вас любой подчиненный — это ведь он украл, а не вы, он ведь тоже виноват), а в том, что как другу вы такому подчиненному и так уже должны. Но если это человек вам близок не более чем остальные, то просить такого о личном одолжении — это самому попасть к нему в подчинение, попасть к нему в долг. Грубо говоря, такой подчиненный получит возможность шантажировать вас, и вы не сможете вести себя по отношению к нему как настоящий начальник, вы потеряете свою свободу настоящего начальника.
Насколько Донской чувствовал эту дистанцию, я понял после того, как поездил с ним в командировки. В те годы мы порою были рады, если получали один номер на двоих, я знаю массу разных подробностей о нем, которые узнаешь при совместном проживании. К примеру, он каждый день менял рубашки, но чтобы не перегружать себя, имел 2–3 и каждый вечер стирал их сам. Для чего покупал рубашки только с 70 % полиэстера, поскольку они мокрые отвисали на плечиках и не требовалось их гладить, возил с собою пакетик стирального порошка и складные плечики, на которых рубашка сохла в ванной комнате гостиницы. То есть я, казалось бы, был достаточно близким к нему человеком, тем не менее, он не взял у меня ни копейки.
Вот, скажем, сидим мы в аэропорту, задержка рейса, у буфета очередь. Не буду же я его, человека старше меня чуть ли не на 20 лет, заставлять стоять в очереди? Соответственно я отстоял, взял по бутылке лимонада, по паре бутербродов, мы съели, и он тут же спрашивает: сколько с меня? Я отказываюсь — о чем речь? Какие-то 60–70 копеек! Он сердится и настаивает — отдает все до копейки. Мне даже обидно было. На чай даю официантам в ресторане, а он потом выясняет, сколько я дал, чтобы внести свою долю. Всего один раз он принял от меня «угощение», да и то потому, что случай был курьезный и я удачно пошутил. Ехали мы на машине то ли во Франции, то ли в Бельгии, помню только, что денежной единицей был франк. На заправке пошли в туалет, а он оказался платный с автоматами на входе, и чтобы пройти, нужно опустить монету, по-моему, в 2 франка. Донской шарит по карманам — у него нет мелочи, а у меня пригоршня. Вот я и бросаю монету в щель, делаю широкий жест: «Разрешите, Семен Аронович, угостить вас пос…ть!» Он засмеялся, не стал кочевряжиться и потом часто об этом «угощении» вспоминал.
Вот этот опыт общения и сделал для меня весьма сомнительной версию того, что Борис Егоров мог воровать для него мясо, Донской не стал бы из-за такой чепухи попадать к нему в зависимость, кроме того, как бы плохо мы в те годы ни работали, а его директорской зарплаты на мясо, безусловно, хватало. И, тем не менее, Донского потаскали по ОБХСС и прокуратуре и вытащили на публичный позор суда. Зачем это сделали, повторю, я понял, когда проанализировал свой опыт.
А у меня был такой случай. Я работал замом директора по коммерции, и, как я уже писал, у меня было амплуа «плохого парня»: я окружающему нас начальству не давал, отказывал, требовал положенного, жаловался в высокие инстанции. Все те областные начальники, кто хотел что-то получить от завода не по заслугам, а только потому, что они начальники, сначала получали от меня отлуп, а если начинали давить на завод, то я жаловался в вышестоящие органы, поэтому я был очень плохим парнем. И тогда все эти начальники шли жаловаться на меня Донскому — «хорошему парню». Но теперь они на него уже не давили, а просили его. Донской решал их вопрос, обещал переговорить со мною, чтобы я не настаивал на рассмотрении моих жалоб в высоких инстанциях по существу, после чего уже не завод был должен этим начальникам, а они были обязаны Донскому за услугу и за то, что он меня успокоил. Таким приемом, причем не сговариваясь, мы с Донским утверждали статус завода — у нашего завода можно попросить, и мы, если сможем, сделаем, и сделаем потому, что мы, в принципе, хорошие. Но на нас нельзя давить, нельзя нам угрожать, нельзя потому, что и мы можем быть плохими.
И вот как-то, когда я еще не решил принципиально вопросы снабжения завода, и меня вечно друзья-коллеги поносили за отсутствие на заводе того или другого материала, у секретаря партркома завода Шепилова на служебной «Волге» износились покрышки, и начал он со своими лысыми покрышками на каждой оперативке вылезать и мне пенять. Тут — то меди не хватает, то коксика, то карбида, то леса, то фитингов, то хрен знает чего (служба снабжения обязана была доставить на завод 10000 позиций), и все эти нехватки действительно не давали работать заводу, увеличивали простои, а секретарю парткома все по хрену! На оперативке все говорят про завод, а дают ему слово — он опять про покрышки!
Мне уже и Серега Харсеев, начальник АХЦ, посочувствовал: Юра, ты скажи Донскому, чтобы унял Шепилова. У него же где-то в Павлодаре любовница, и он постоянно туда катается, в связи с чем его «Волга» жрет бензин, как директорская, но директор по делам ездит, а этому мы бензин и покрышки на бл…й списываем.
Не помню, говорил ли я это Донскому, но, во всяком случае, эффекта это не имело, и однажды Донской оставил меня после оперативки: «Да достань ты Шепилову эти покрышки, он же мне уже плешь ими проел!»
В.А. Шлыков, начальник отдела снабжения, конечно, про эти покрышки знал, но мне просто стыдно было напоминать ему про них, учитывая, как и чем был загружен отдел снабжения. Но пришлось просить Володю, чтобы он снял с меня эту головную боль, однако тут выяснилось, что в системе Госснаба в Павлодарской области этих покрышек нет и надо подождать, пока их к нам в область завезут. А Шепилов долбит и долбит.
И тут ко мне заходит казах, то ли председатель колхоза, то ли директор совхоза, а я, надо сказать, очень уважал этих мужиков за их собачью работу, к которой помимо всех наших трудностей еще приплюсовываются трудности урожайной или неурожайной погоды. Поэтому мы всегда этим ребятам помогали, чем могли. Он выписал у нас то ли сталь, то ли трубы, и зашел ко мне подписать письмо. Ему бы выписали и за подписью Шлыкова, но у казахов свой менталитет, и они считают, что я обижусь, если узнаю, что они были на заводе и не зашли ко мне. Я подписал не глядя, мы немного поговорили, и тут я вспомнил про покрышки и про то, что совхозы и колхозы снабжаются не через Павлодарснаб, а через Сельхозтехнику, и спросил, не смог бы он выписать в Сельхозтехнике комплект покрышек для «Волги» и продать их нашему заводу.
Обычно мы у совхозов и колхозов практически ничего не просили, поэтому они, все время что-нибудь выписывая у нас, чувствовали себя перед нами в долгу. И этот председатель тут же горячо пообещал, что немедленно этим займется.
Проходит несколько дней, председатель заходит в кабинет и сообщает, что покрышки он достал, но, по положению, он не имеет права их продать на сторону. Поэтому он списал их у себя в колхозе и привез мне просто так — бесплатно. Мне, надо сказать, это было побоку — бесплатно, так бесплатно. Я выглянул в окно и осмотрел автостоянку перед заводоуправлением, но на ней не было не только машины Шепилова, но и вообще ни единой машины из АХЦ. Даже Федю со своим УАЗом я куда-то услал, и только в уголке в тени стоял «пирожок» («Москвич» с будкой) отдела снабжения. Я, довольный, что помог снабжению решить этот вопрос, звоню Шлыкову, объясняю ситуацию и прошу его перебросить покрышки с багажника «Волги» председателя в наш «пирожок» и отвезти их в АХЦ. Шлыков несколько удивленным голосом сказал, что сейчас сделает.
Председатель ушел к Шлыкову, я занялся своими делами, и вдруг минут через пять заходит Володя. А надо сказать, что еще в первые годы моей работы на заводе, когда мы уже стали со Шлыковым приятелями, я как-то прочел «Дедушку Сандро» Фазиля Искандера и под впечатлением грузинской тематики назвал его «батоно Шлыков». Он обиделся — чего ругаешься! Я, смеясь, пояснил, что по-грузински «батоно» — это что-то вроде «господин» или «уважаемый». И ситуация изменилась: я уже забыл про «батоно», а он меня начал так называть (неофициально, конечно). Шлыков сел, посмотрел на меня поверх очков с толстыми стеклами и говорит:
— Батоно, давай не будем брать эти покрышки, даю слово — дня через три я эти гребаные покрышки сам достану.
— Но почему?!
— Ну, не нравится мне что-то в этом деле — не лежит душа!
Я озадачился, но не стал спорить: я слишком уважал Шлыкова, чтобы заставлять его делать то, к чему у него не лежит душа. Я попросил его извиниться от моего имени перед председателем, чтобы тот не обиделся. Шлыков повеселел и вышел.
Проходят дня три, и заглядывает ко мне в кабинет Володя Олещук, то ли тогда сотрудник, то ли начальник ОБХСС города.
Отвлекусь. Олещук сначала работал на заводе и одно время был моим соседом по площадке, а потом организовал небольшую артель по строительству для себя капитальных гаражей, куда вошел и я. Мы артелью сделали фундаменты, выкопали подвалы, возвели стены и перекрыли, а потом уже каждый доделывал свой гараж сам, и мы с Олещуком, таким образом, стали соседи по гаражу. Потом он окончил школу милиции и стал работать в городском ОБХСС. При том, что мы были приятели, он все же оставался ментом.
Как-то у меня сгорело несколько вагонов метел. Надо сказать, что потребность завода в них была очень большой, и как-то отдел снабжения сходу завез их чуть ли не с десяток вагонов. Деть их было некуда, и железнодорожники разгрузили их в пустынном месте вдоль путей. Лето было очень жаркое, и проклятые метлы загорелись, надо думать, от окурка, брошенного грузчиками, вывозившими порцию этих метел в свой цех. Мы бросились тушить, но куда там! Хорошо, Серега Харсеев, как только услышал, что именно горит, тут же пригнал бульдозер, и мы им оттащили еще не загоревшиеся метлы от горящих. Но сгорело где-то тысяч на 50.
И отдел снабжения мой, и железнодорожники мои, так что я виноват. И по некоторым признакам, как я понял, Олещук завел бы на меня дело, если бы можно было придумать, что я должен был сделать, чтобы предохранить эти метлы от окурка, брошенного грузчиком. При этом, надо сказать, у меня не было на него ни малейшей обиды — у мужика такая работа, в общем-то нужная (это особенно понимаешь сегодня), и он делает ее честно.
Надо сказать, у меня была симпатия к нашим местным ермаковским ментам: они были, может, даже слишком менты, но какие-то свои, городские. Выше я писал, что у меня были проблемы и ссоры с начальником ГАИ города, который у меня на территории завода наставил шлагбаумов. Тем не менее, ну как на этого старлея было сердиться, особенно после такого случая, над которым тогда потешался весь город.
Детей в городе была уйма, в каждой семье, считай, по двое, по трое, выйдешь из подъезда, а детьми во дворе кишмя кишит. И кто-то пожаловался в горком, что, дескать, автовладельцы заезжают во двор на автомобилях, а это создает опасность для детей. Секретарь горкома вызвал этого начальника ГАИ и приказал ему это дело пресечь. Старлей взял под козырек и вывесил на въездах во дворы «кирпичи» (знак «Въезд воспрещен»). И само собой, пошел по дворам посмотреть, как народ этот знак уважает. Заходит во двор, в котором жил секретарь горкома, а там перед подъездом стоит его служебная «Волга» — секретарь горкома на обед приехал. Старлей взял и свинтил с нее номера — не «скорая», не пожарная, не милиция — какого хрена под знак заехала?! Говорят, что секретарь горкома до потолка прыгал, возмущаясь выписанным его водителю штрафом. А чего возмущаться — это мент, а закон есть закон.
Ну и как мне было долго на этого начальника ГАИ обижаться: человек честно делал свое дело — как его не уважать? Вот по этому я и пишу, что у меня осталось искреннее чувство уважения к ермаковским ментам, хотя ни к одному прокурору города, ни к судьям такое чувство не возникло.
Но вернемся к покрышкам. Итак, заходит ко мне Володя Олещук. Вижу, и дела у него ко мне нет, и такое впечатление, что он мне что-то сказать хочет, но не может. Поболтали на отвлеченные темы минуты две, он попрощался и пошел, но в дверях кабинета вдруг обернулся и спросил:
— А покрышки ты почему не взял?
Улыбнулся и вышел. Я ошарашился — о покрышках знал я, Шлыков и этот председатель. Олещук-то как о них узнал? Понятно, что это ОБХСС, что у Олещука должна быть агентура, но не Шлыков же!
Вечером у нас был какой-то сабантуйчик, и собрались мы после работы немного выпить в своем кругу: Наташа, главбух Х.М. Прушинская, Л.Д. Лопатина, Шлыков и я. Начался обычный треп, и я вдруг вспомнил и рассказал Шлыкову о странном визите Олещука и о моем недоумении, от кого он мог узнать про покрышки. Женщины выспросили подробности и хором начали меня ругать за то, что я с моими «авантюрами» скоро сяду. Потом начали думать, что тут могло быть, и коллективно пришли вот к чему. У меня была «Нива», а к ней как раз подходили покрышки для «Волги». И в областном ОБХСС разработали против меня провокацию: мне подбросили ворованные, халявные покрышки с уверенностью, что я тут же отвезу их домой, а меня перехватят. Председатель от меня бы отказался, товарного чека у меня нет — украл на заводе! И началась бы следственная бодяга, в ходе которой меня, может, и не осудили бы, но попытались бы согнуть и подчинить. Причем провокацию осуществлял именно областной ОБХСС, поскольку наш городской ОБХСС к председателю из другого района отношения не имел и не мог такую операцию провести. Олещук, скорее всего, узнал об этом, когда все кончилось, и счел нужным хоть намеком меня предупредить на будущее. Спас меня Шлыков, который каким-то шестым чувством заподозрил неладное — может, председатель вел себя как-то неестественно. Христина и Людмила страшно разволновались, поняв, что меня «обкладывают», и запретили мне без их совета что-либо такое делать. На этом и порешили, но зная, что они «на всякий случай» будут меня ото всего отговаривать, я не сильно этого решения придерживался.
И вот теперь, сравнивая этот свой случай с обвинением Донского в воровстве мяса с подхоза, я волей-неволей прихожу к выводу, что это одного поля ягодки, что и против Донского была затеяна провокация с одной целью — подчинить его бюрократическому аппарату области. Конечно, все это дела давно минувших дней, но все-таки хочу обратить ваше внимание на этот факт и на ситуацию в принципе.
Вот хозяин, он хочет сделать свое предприятие процветающим, чтобы и государству от его предприятия была польза, и работающие на этом предприятии люди были довольны. И вот бюрократический аппарат государства. А ведь не то, что в СНГ, а даже в СССР масса его членов лезла на свои кресла не для того, чтобы государству и людям было хорошо, а чтобы им, членам аппарата, было хорошо — чтобы они, даже тупые, могли кичиться своей должностью, жрать и трахаться вволю. Вот и оцените, может ли так быть, чтобы между хозяином предприятия и бюрократами, т. е. между людьми, имеющими совершенно различные цели, никогда не возникло никакого конфликта?
И в СССР так было: или ты хозяин и иди на риск лишиться свободы (а в СССР достаточно хозяев-председателей колхозов сели за свою самостоятельность), либо играй по правилам этой бюрократии. Но для этого стань животным, как и они: имей целью только поменьше работать, жрать, трахаться, иметь много барахла и все. Творчество и какие-либо высокие цели тебе уже будут недоступны.
Отдам Донскому должное — он не хотел становиться, как эти животные, он имел высокую цель — он хотел поднять завод и сделать его знаменитым. И посему шел на риск и на конфликты.
Отношение к советчикам со стороны
Однако такие случаи, надо думать, были все же редки. А сначала вышестоящая бюрократия при обсуждении проблем у высокого начальства пыталась задавить нас инженерными и техническими аргументами. Но у Донского аргументы тоже были, причем более весомые, поскольку брались с завода — с места события. И бюрократия начала использовать как свой козырь науку. На завод, фактически с того момента, как завод перестал выполнять план, ездили комиссия за комиссией разных «специалистов». Порой это были специалисты с других заводов, которые помогали дельным советом, но зачастую комиссии состояли из увенчанных учеными званиями и степенями работников различных отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов. Это тоже специалисты, но в очень уж узких вопросах тем своих диссертаций, которые к проблемам завода отношения не имели. Однако ученые звания обязывали их говорить что-либо и по проблемам завода. Чем глупее были эти ученые, тем охотнее они в общих словах авторитетно провозглашали те выводы, которые требовались организаторам этих комиссий.
И вот где-то в начале директорской карьеры Донского, но уже после того, как он успел наступить в Москве на очень многие мозоли, начальник ВПО привез к нам на завод комиссию ученых. Привез для того, чтобы потом их выводами козырять, дескать, наука подтверждает, что плохая работа завода — это не вина главка, а результат плохой работы самих работников завода. Ученые день или два ходили по заводу, насобирали, само собой, миллион разных очевидных замечаний, после чего нас собрали в кабинете директора на оглашение научного вердикта.
Встал какой-то кандидат наук, по-моему из Харькова, и начал читать перечень замечаний, банальных до тошноты, о которых и на заводе все, разумеется, знали, и в цехах. А в то время проблема была в том, что цех Подготовки шихты № 2 (ЦПШ-2) был не способен снабдить цеха № 1 и № 6 шихтой в плановом объеме. Ну и «науку» понесло: там — то сломано, там — то не работает, там — прогулов много, там — рабочие на рабочих местах спят и т. д. и т. п. Дальше — выводы: необеспеченность плавильных цехов шихтой объясняется низкой трудовой и технологической дисциплиной. И рекомендации заводу: крепить трудовую и производственную дисциплину. (А мы, без тебя, дурака, этого не знали?! Ты бы сказал, как ее укрепить, не имея к этому средств?) Докладчик с победным видом сел, чувствуя, как удачно он перевел стрелки с министерства на завод. Зашелестели своими бумагами остальные члены комиссии, в свою очередь готовые рассказать нам про необходимость укрепления трудовой и производственной дисциплины. Но тут взял слово Донской.
Такие «разборы полетов» для нас не были новостью, и по опыту работы с Топильским я предполагал, что последует что-то в его духе. Топильский обычно тут же присоединял свое мнение к мнению комиссии и начальства, и начинал говорить, что вот он тоже каждый день требует от начальников цехов крепить дисциплину, а они не крепят. Он говорит, а мы не крепим! Ну, вот что ему, такому же умному, как начальство и комиссия, с нами делать?!
Однако Донской, с одной стороны, покраснев, а это подсказывало, что он разозлился, с другой стороны, каким-то нарочито спокойным и ласковым тоном вдруг спрашивает докладчика:
— А сколько вы в Харькове получаете?
— 350 рублей, — замявшись и не понимая, к чему этот вопрос, ответил ученый.
— Переезжайте к нам, я вас назначу начальником ЦПШ-2, гарантирую заработок в два раза выше и трехкомнатную квартиру в течение месяца. Вы укрепите трудовую и технологическую дисциплину в этом цехе, а мы поучимся у вас, как это делать.
Мы опешили от неожиданности, а у бедного ученого челюсть отпала, ведь предложение последовало абсолютно серьезно и 700 рублей в месяц в СССР были такими деньгами, от которых не отказывался никто, тем более тот, кто зарабатывал 350. До ученого, надо сказать, мигом дошло, чем болтовня отличается от работы, он начал юлить и объяснять, что не может принять это предложение. И тут Донской совершенно демонстративно поскучнел и выразил на лице крайнюю степень презрения: о чем говорить с болтуном, который за свои слова не отвечает? Перевел взгляд на очередного члена комиссии — что у вас?
Тот понял, что и ему после доклада последует предложение, от которого трудно отказаться, поэтому запихнул свои бумаги в папку и стал от себя невнятно мямлить, что положение очень сложное, что так сразу сказать нельзя, что надо думать и т. д. За ним в том же духе высказались и остальные — о крепеже дисциплины они боялись упоминать, а ввиду такого поведения членов комиссии и начальник главка вынужден был спустить вопрос на тормозах.
Напомню, что я на тот момент, мягко скажем, недолюбливал Донского, но здесь он меня восхитил: ну молодец! Это же надо так элегантно размазать по стене и комиссию, и начальника главка! Потом Донской часто рекомендовал меня как человека, способного найти нестандартные выходы из положения, но на этом совещании он сам показал, как это делается. И я, между прочим, рекомендую запомнить этот прием всем, кого подобная ситуация может коснуться.
Дело в том, что в примитивных умах понятие «образование» считается аналогом понятия «уметь делать дело». И уйма народу, заучив что-то или самостоятельно прочитав о чем-то, считает себя «специалистами» и «профессионалами», при этом они по своей глупости уверены, что то, что заучили они, никто кроме них не знает А посему охотно вякают, что на ум взбрело, с уверенностью, что дают умные советы, которым остальные должны следовать. При этом они, со своими умными советами, если и не навредят вам прямо, то отнимут уйму времени на обсуждение их глупости с нулевым результатом даже для них — они глупости своих идей все равно не поймут. И вот тут нужно применить этот замечательный прием Донского — предложить этим умникам самим, под свою ответственность свои идеи внедрить. Тут сразу и выяснится, что болтать и дело делать — это разные вещи.
Помню, на этом пресловутом Первом Съезде народных депутатов, которые в конце концов и развалили Советский Союз, эти ныне уже забытые либералы типа Гайдара, Попова и разных прочих буничей постоянно вякали, что они, доктора и профессора экономических наук, ох как здорово умеют эффективно управлять промышленностью, не то, что всякие там малограмотные директора. Этим они в конце концов достали депутата, если не ошибаюсь, Сомова, директора часового завода. Он им и предложил взять у него под управление один цех завода и внедрить в нем свои «передовые методы». Какой вопль поднялся в стане либералов! Они стали кричать, что Сомов — последователь Мао Дзэдуна и хочет их, выдающихся интеллигентов, послать на трудовое перевоспитание, но у Сомова ничего не выйдет!
Однако вернемся к Донскому. Его поведение и в деле с комиссией, когда он, новоиспеченный директор, тут же встал на нашу сторону и стал защищать нас, своих подчиненных, тоже не могло не впечатлить. И вот с таких, постепенно накапливаемых моментов, мне стало ясно, что как бы я к Донскому ни относился, но он наш, он хозяин, он настоящий директор нашего завода. Что это не поставленный к нам сверху наблюдатель за нашей работой, а тот, кто работает вместе с нами (то, что он работает больше и по времени, и по качеству, мы уже увидели, но об этом позже).
Проблема уменьшения плана
Итак, перед Донским стояли очень большие трудности в работе с начальством, и начальство принимало различные усилия, чтобы попридержать его, и мотивы такого поведения начальства просматривались четко. Еще раз напомню тот замкнутый круг, который пытался разорвать Донской.
У нас был завод определенной мощности, под эту мощность нам был дан план производства, который мы не выполняли. Причина невыполнения: прямая нехватка людей, а имевшиеся люди мало работали. Причина этого: отсутствие премии, составлявшей треть заработка, соответственно невысокие заработки на заводе по сравнению с другими предприятиями и области, и отрасли. Причина невысоких заработков — невыполнение плана. Круг замкнулся.
Разорвать этот круг можно было только уменьшив план, тогда люди начнут получать премию, и тогда можно будет ими руководить, можно будет заставить их работать больше и качественнее, и тогда завод поднимет производство до проектной мощности.
Но что значило в то время взять и уменьшить план? Да не на 2–3 %, а на 20–30 %! В Москве сотни людей поставили подписи под проектными решениями завода, под числами его планового задания. Многие из них имели правительственные дачи и персональные «Волги», если не «членовозы». Что же получается — эти люди не компетентны, а блага, предоставленные им государством, даны не по заслугам?! И Донской, доказывая в Москве, что заводу нужно снизить план, попутно доказывал, что московские специалисты некомпетентны!
Соответственно, Донской не мог ехать в Москву просто с жалобой или просьбой. Он обязан был быть подготовленным до крайних пределов. Как он сам говорил, на любой вопрос начальства, твой ответ должен от зубов отскакивать. К каждой поездке Донского готовил весь завод. В отделах заводоуправления и в цехах делались обсчеты, готовились данные, обдумывались доводы и в их доказательство собирались и документально оформлялись факты. Непосредственно перед поездкой собиралось совещание, на котором по сути разыгрывались варианты разговоров Донского в Москве. Сам Донской на этих совещаниях чаще всего играл роль того начальства, у которого он собирался решить вопрос, и пытался опровергнуть наши доводы, доказать несостоятельность наших аргументов, а мы искали новые доводы и новые аргументы в защиту требований завода. Я воочию увидел, как основательно готовится настоящий директор для решения в верхах важного для его дела вопроса. Думаю, что мы в это время ускоренно обучали Донского ферросплавному производству, поскольку он считал себя обязанным знать и понимать все тонкости вопроса, который он собирался решить в Москве или Алма-Ате по своему, теперь уже ферросплавному, заводу.
Еще одна трудность, о которой, кстати говоря, я задумался только в момент написания этой книги.
Представьте, что у вас есть автомобиль, у которого максимальная скорость 120 км/час и на котором нужно проехать 100 километров между пунктами А и Б. Вам дают план каждый раз проезжать это расстояние за 1 час. И с технической точки зрения, для этого вроде все есть. Но у вас на этом автомобиле молодой водитель, которого вы никак не можете стимулировать работать, а обслуживают автомобиль неопытные и ленивые механики, которых тоже нечем стимулировать. Кроме того, и тех и других не хватает. В результате ваш автомобиль проходит эти 100 км за 1,5 часа. И хоть убей, вы ничего сделать не можете, а вам пеняют, что вы дурак и не умеете работать. Начинаешь объяснять про людей, а тебе затыкают рот тем, что это твои люди, ты и обязан с ними разобраться.
И вот тут нам, волей или неволей, но пришлось впутывать в это дело и сам автомобиль — оборудование завода. То есть пришлось доказывать, что это не только люди, но и «железо» не едет со скоростью 100 км /час. Причем, не буду умничать, завод — это мои товарищи и приятели, и в те годы я искренне считал, что все дело в автомобиле, т. е. в самой конструкции завода и его агрегатов. Я, конечно, и тогда знал сталинский лозунг: «Кадры решают все», — знал, что этот лозунг взяли на вооружение японцы и теперь утирают нос всему миру, но я тогда не понимал, как это кадры решают все!
Не знаю, какими числами и доводами вооружали Донского отделы труда, кадров и планово-экономический, но остальные отделы, и я в том числе, валили все на «железо». Формально это было неправильно, поскольку получалось, что мы правильную цель разрыва порочного круга достигали неправильными средствами, но цель-то мы достигли — план нам снизили, дисциплину мы восстановили, на проектную мощность вышли и перекрыли ее! Так что цель все же оправдывает средства, как утверждал Игнатий Лойола.
Польза военной кафедры
Я, по своей должности, вооружал Донского для поездок в Москву тонкостями технологического порядка — недостатками новых печей, электродной массы и прочего, но что реально означало «вооружить Донского», хочу рассказать на примере моих исследований не из своей области.
Выше я упомянул, что цех подготовки шихты № 2 не обеспечивал шихтой плавильные цеха № 1 и № 6. Это дело было не мое — не ЦЗЛ, а главного механика, поскольку речь шла сугубо о механическом оборудовании. Не помню уже, почему, но через какое-то время Донской дал и мне задание разобраться в причинах того, почему ЦПШ-2 не выходит на проектную мощность. Я не стал сопротивляться, скорее всего, потому, что хотя еще и не любил, но уже начал уважать Донского, начал верить в то, что он знает, что делает. Кроме того, хотя мехоборудование — это и не мое дело, но исследование — мое, а тут нужно было исследовать эту проблему с ЦПШ-2.
Первоначально я предположил, что установленное в ЦПШ-2 оборудование реально не дает той производительности, которую заложил в проект этого цеха проектировщик завода — харьковский институт «Гипросталь». Прикинув, как мне организовать замер фактической производительности дробилок и грохотов, установленных в ЦПШ-2, я пошел к начальнику этого цеха (уже не помню, кто именно это был — Валера Артюхин или Вася Недайборщ), чтобы согласовать с ним время этих исследований и их детали. Но в ЦПШ-2 меня сразу же огорошили: оказывается, главный механик завода В.Д. Меньшиков такие исследования уже провел, и выяснилось, что все оборудование в этом цехе имеет реальную производительность выше, чем паспортная! Это же было советское оборудование.
Ну и дела! Получалось так (числа случайные): в цехе все оборудование по проекту должно перерабатывать 100 тонн сырья в час, а работать 18 часов в сутки, выдавая, соответственно, 1800 тонн в сутки. А реально оно дает 150 тонн в час! Но при этом работает чуть ли не 24 часа в сутки, а в итоге выдает едва 1000 тонн. Прямо Бермудский треугольник какой-то!
Начал расспрашивать начальника цеха, как он видит проблему. Оказалось, что ничего нового: цех огромный, протяженность транспортеров многие сотни метров, оборудование и рабочие разбросаны на многих десятках гектаров, проследить за рабочими и за качеством их работы нет никакой возможности. Пока стоишь у них над душой, они вроде что-то делают, отошел на другой участок, они сели. Качество ремонта и обслуживания отвратительное — все делается кое-как и как попало. Людей не хватает, а те, что есть, ждут, когда освободится рабочее место где-нибудь на ГРЭС или в другом месте, чтобы уволиться с нашего завода. Начинают подавать шихту на плавильные цеха, и то там головка транспортера с рельс сошла, то там что-то не включается, то там завал шихты и т. д. и т. п. Наконец, вроде все заработало, и шихта пошла, но через полчаса снова остановка — в какую-то течку попал кусок шпалы, и она забилась. Посылает начальник смены рабочих пробить течку, те двигаются как полуживые. Всю смену итээровцы бегают по цеху туда-сюда, а эффект нулевой.
Было очевидно, что итээровцы не виноваты, поскольку 10 лет назад в ЦПШ-1 были такие же проблемы, но эти же инженеры тогда с ними справились, и если они, с уже 10-летним опытом ничего не могут сделать с ЦПШ-2, то тут не их вина. Между прочим, оказалось, что бедный институт «Гипросталь» тоже нещадно били за то, что спроектированный этим институтом цех не выходит на проектную мощность, и этот институт уже предложил построить еще один цех подготовки шихты в помощь ЦПШ-2, но то, что в самом ЦПШ-2 есть какие-то проектные ошибки, институт, конечно, категорически не признавал.
По сути надо было бы сделать вывод, что во всем виновато то, что в ЦПШ-2 кадрами невозможно управлять, но в Москве услышали бы только слово «кадры» и начали бы кричать, что они давно говорят, что на ЕЗФ работают тупые бездельники. Мне такой вывод не годился, честно скажу, такой вывод у меня душа не принимала, да я о нем тогда даже и не думал. Мне нужно было обвинить в плохой работе ЦПШ-2 «железо», а оно было невиновно!
Ни о каких махинациях не могло идти и речи: подтасуй я какие-нибудь данные, их бы немедленно разоблачили проектанты. Ведь я бы этой подтасовкой обвинил их в ошибке, и они бы тысячу раз все проверили — я этим шулерством только навредил бы заводу. Надо было найти то, даже не придумаешь что, но такое, чтобы его нельзя было оспорить, и чтобы оно оправдывало нас, работников завода, и чтобы в конечном итоге дало Донскому лишний довод убедить Москву, что нам нужно снизить план. Вот так выглядела задача, вставшая передо мною.
Выбрал я время, сел и начал думать, с какого же конца к этой задаче приступать, в какой области может находиться решение, если оно есть? Начал рисовать на бумаге кружочки, обозначающие оборудование ЦПШ-2, и соединять их линиями ленточных транспортеров, и получилась у меня некая цепочка. Я смотрел на нее, смотрел, и вот тут мне в голову стукнула мысль — да ведь эта же цепочка аналогична колонне танков на марше!
Давайте-ка я прервусь и порассуждаю над тем, как вообще в голову приходят мысли.
Когда ты занят поиском решения какой-то задачи, то думаешь о ней постоянно и везде. Если это решение ищется в области твоих увлечений, то это даже приятно — найдешь это решение, значит, получишь кайф, а не найдешь, то сам поиск его тоже приятное развлечение. Но когда это решение нужно найти обязательно, то поиск его начинает изнурять, хотя сам по себе этот поиск остается интересным делом. Отсутствие решения висит над тобой, давит тебя, в мозгу начинает твориться такое, что уже простые вещи в этой области перестаешь понимать — забываешь их значение. Понимаешь, что нужно прерваться, нужно начать думать о чем-либо другом, желательно приятном и необременительном. И хотя это понимаешь, но так не всегда удается, ты постоянно возвращаешься к мыслям о проблеме: ты их гонишь, а они лезут и лезут к тебе в голову. Складывается впечатление, что у тебя как бы два мозга: один думает над тем, над чем ты его заставляешь думать, а другой где-то там, в неподконтрольной тебе области, перелопачивает в твоей памяти все, что ты в жизни узнал, перелопачивает в попытках все же найти то решение, которое тебя волнует. И потом вдруг бац — и решение готово! Голова сработала!
Память держит один незначительный случай, который интересен мне только тем, где именно меня настигло решение задачи, над которой я думал. В то время прошел слух, что в Швеции вступила в строй полупромышленная плазменная руднотермическая печь, и в Москве, и в среде нашей отраслевой науки немедленно возникли идеи, что и нам хорошо бы заняться плазмой для получения ферросплавов. А поскольку наш экспериментальный участок был единственным в отрасли постоянно работающим и, следовательно, имеющим опытный штат, которому по силам любая работа, то эти идеи с плазмой стали стекаться на завод — ко мне в ЦЗЛ. Оказалось, что в СССР уже разработан плазмотрон мощностью 1 МВт, и вот хорошо бы его опробовать на выплавке ферросплавов в Ермаке. А я, однако, не видел в этом ничего хорошего.
Давайте немного о сути. В нашей обычной руднотермической печи электрическая мощность (энергия) вводится в зону реакции тремя угольными электродами. Ток идет сначала по ним, затем через газовый промежуток между торцом электрода и расплавом — в расплав и там уходит в нулевую точку трехфазной схемы, соединенной на звезду. М-да, что-то это слишком специально, поэтому забудьте о вышесказанном и попробуйте представить только прохождение электротока через газовый промежуток между торцом электрода и расплавом. Этого никто не видел, и я в том числе, хотя много думал над тем, как бы это увидеть. Однако считалось, что у нас при выплавке ферросилиция на печах мощностью 21 MB А между торцом электрода и ванной жидкого ферросилиция горит электрическая дуга диаметром около 12 см и такой же длины. Температура этой дуги около 10000 градусов, и вещество этой дуги и есть плазма. Однако в данном случае речь шла не о ней.
Плазматрон представлял из себя медную водоохлаждаемую трубу, в центре которой проходил еще один медный водоохлаждаемый стержень. На конце трубы между нею и стержнем зажигалась дуга постоянного тока, а в промежуток между внутренней поверхностью трубы и центральным стержнем подавался газ, который выдувал плазму дуги, образуя плазменный факел. Так вот, не просто дугой, а вот этим плазменным факелом имелось в виду вводить в печь энергию для выплавки ферросплавов. У такого способа введения в печь электроэнергии никаких особых преимуществ перед старым не было, а одно сочетание слов «вода» и «10000 градусов» у любого цехового металлурга вызовет инстинктивное неприятие и фантазии на тему, какие могут быть разрушения и травмы рабочих, когда медь прогорит и эти два понятия встретятся. Промышленная печь, если бы дело дошло до нее, должна была бы принять совершенно непривычные формы и сильно усложниться, начиная от необходимости мощнейших выпрямителей для получения постоянного тока, кончая водоохлаждаемыми элементами прямо в зоне реакции. Но это, конечно, не доводы: если дело стоит того, то надо идти и на сложности. Экспериментальный участок и был предназначен для того, чтобы любые сложности сделать приемлемыми для производства.
Мне же не нравилось другое.
Имевшийся в Союзе плазмотрон был мощностью 1 МВт, печной трансформатор экспериментального цеха в 1,2 MB А эту мощность потянул бы, так что опытную плазменную печь можно было построить и испытать, но что дальше? Ведь для промышленной эксплуатации нужна промышленная печь, а ее глупо было задумывать с мощностью меньше 20 МВт. Получается, что мы отработаем печурку с одним плазмотроном в 1 МВт, а как это перенести на промышленную печь в 20 МВт? Если она будет с плазмотроном в 20 МВт, то это будет уже не тот плазмотрон, что мы отработаем в экспериментальном, а если это будет круглая печь с 20 плазмотронами по 1 МВт, введенными в эту печь либо сверху, либо по радиусу сбоку, то это уже будет не та печь. То есть эта работа заведомо не давала выхода в промышленность, так как не моделировала промышленную печь и не отрабатывала промышленную технологию.
Я уподоблялся нашим физикам-ядерщикам, не одно поколение которых жирно кормится на обещании дать управляемую термоядерную реакцию. Ну дадут, положим, они ее, хотя и это сомнительно, а дальше что? Как эту управляемую реакцию превратить в электроэнергию? Этот вопрос физиков не занимает, дескать, они люди такого большого ума, что их такие пустяки занимать не должны. Между тем, если бы это было пустяком, то решение уже было бы найдено, и физики это прекрасно знают, но желание обожрать общество так велико, что они с выделением денег на эту свою управляемую термоядерную реакцию подобны Паниковскому с его: «Пилите, Шура, пилите!»
Отсутствие способа превратить будущие эксперименты с плазмотроном в промышленную печь не делали меня энтузиастом этого проекта. Но это не значит, что я о нем не думал. В плазмотроне было достоинство — через щель, по которой вдувался газ для создания плазменного факела, можно было вдуть в зону реакции различные пылеватые добавки, а это сулило определенные технологические выгоды, теоретически было возможно на таком агрегате получать очень дорогие сплавы существенно дешевле, нежели они получались в то время. Поэтому меня и мучил вопрос: как же сконструировать плазменную печь экспериментального участка мощностью в 1 МВт так, чтобы потом из нее легко получилась промышленная печь мощностью в 20 МВт? И хотя эта работа была и не очень обязательной, тем не менее долгое время, как только я освобождался от решения обязательных вопросов, то в мыслях обращался к этому — что же тут придумать?
И вот однажды иду к проходной, чтобы поехать домой на обед, и немного опаздываю: обед был с часу до двух, а автобус отходил где-то в пять минут второго. Я выхожу из проходной, а он уже отчалил от остановки и сворачивает на дорогу. Я свистнул водителю и погнался за ним, шофер притормозил и открыл мне заднюю дверь, я вскочил на пустую площадку, положил руки на поручень у окна, и… мне с плазмой все стало ясно! Когда я гнался за автобусом, то думал, естественно, как бы не опоздать, но когда впрыгнул и понял, что не опоздал, тут-то в голову и стукнула идея, что промышленная печь должна быть не круглой, а прямоугольной, как на Никольском заводе ферросплавов. А вдоль обеих ее длинных сторон сбоку должно располагаться по 10 плазмотронов в 1 МВт, тогда одну двадцатую этой печи (один ломоть хлеба, если представить печь в виде батона) нужно построить в экспериментальном и испытать, а потом из двадцати уже испытанных печурок в 1 МВт мощности составить печь в 20 МВт. Все просто!
Однако если я правильно помню, вскоре выяснилось, что сведения из Швеции — это рекламный блеф, и ничего реального в нем нет, а наша наука в своей массе способна была только повторять чужое, а не рисковать с пионерскими решениями. Поэтому вопрос с плазмой сошел на нет, поскольку деньги на эти исследования перестали обещать. И я о плазме помню только из-за того, каким образом и где именно хорошая идея стукнула мне в голову. Но вернемся к ЦПЩ-2.
Итак, я увидел, что цепочка оборудования, через которую проходит поток сырья, превращаясь в шихту, напоминает колонну танков. Я тут же вспоминаю занятия на военной кафедре, которые на тот момент происходили лет 15 назад, и о которых я до этого никогда в жизни не вспоминал.
Были занятия по тактике, и в плане учебной задачи мне нужно было рассчитать время, необходимое танковой роте, чтобы в колонне выдвинуться из тылового района в район сосредоточения. Я по карте нашел расстояние между районами, максимальная скорость Т-62 была 50 км/час, я, конечно, гнать не собирался, заложил в расчет скорость танка по дороге 40 км/час и выдал результат. Преподаватель возмутился: с ума, что ли, я сошел, заложить танку скорость в 40 км/час! Только 20 и не больше! Я удивился — почему машина, способная ехать со скоростью 50 км/час, по гладкой дороге должна ехать со скоростью 20 км/час? (Сейчас, при наличии массы автомобилей и пробок, мой вопрос кажется верхом наивности, но в СССР пробок не было и по любым дорогам можно было ездить с любой допустимой скоростью). И преподаватель пояснил: это головной танк в колонне будет идти на третьей передаче со скоростью 20 км/час, а последний будет идти на пятой передаче со скоростью 50 км/час и все время догонять остальные танки. Я не понял, о чем это говорит танкист. И он пояснил: при любой задержке головного танка даже на несколько секунд, останавливаются все следующие за ним, и когда головной вновь начинает движение, то остальные начинают движение по одному, по мере начала движения танка перед ним. В результате, чем дальше танк от головы колонны, тем дольше он стоит — время его движения гораздо меньше, чем головного, и в итоге, он то стоит, то пытается догнать остальных. Поэтому 20 км/час — это предельная скорость, которую можно заложить в расчет движения головному танку и всей колонне.
Но ведь у меня в ЦПШ-2 все механизмы соединены «в колонну» транспортерами, посему даже кратковременная остановка любого механизма останавливает их все — останавливает подачу шихты на печи.
Так, это я понял, а что дальше?
А дальше нужно было оценить, какова вероятность аварийной остановки механизмов в этой цепи. Моя жена утверждает, что теорию вероятности мы изучали в институте, но у меня в голове теория вероятности из института как-то не отложилась (хотя, надо думать, я за нее пятерку получил). Я легко рассчитывал вероятностные процессы, но для единичных явлений, а здесь была схема. Я пошел в техбиблиотеку, нашел нужные книжки и разобрался, что там и к чему, оказалось, что в моем случае вероятности нужно перемножать. Хорошо, но что перемножать — черная металлургия такого понятия, как вероятность непрерывной работы и выхода из строя механизмов, просто не знала: чай мы не авиация! Однако поскольку в ходе своих исследовательских работ я все же работал с этим понятием, то вспомнил одну методическую инструкцию (а, возможно, ГОСТ). В этой методичке для случая определения примесей в металлах по черной металлургии устанавливалась вероятность 0,95. То есть если какой-либо химический элемент в сплаве получался в заданном пределе с вероятностью 0,95, то считалось, что тратить деньги на его определение в каждой плавке накладно, текущий химанализ такого элемента прекращали и проводили его эпизодически. Авторам этого ГОСТа так бы и записать, что вероятность 0,95 годится только для случая химанализа, а они ляпнули: «В черной металлургии принимается вероятность 0,95, а в неответственных случаях — 0,90».
Ага! Вот я и беру эту «химическую» вероятность в 0,95 и применяю ее для механизмов, раз уж «в черной металлургии». Считаю, что вероятность безостановочной работы каждого механизма в технологической схеме работы ЦПШ-2 равна 0,95, а потом эти 0,95 перемножаю столько раз, сколько у меня механизмов, и получаю, что вероятность безостановочной работы всего ЦПШ-2 равна около 0,5. Беру проектную мощность ЦПШ-2, умножаю на 0,5 и получаю (Бог не без милости, казак не без счастья) как раз реальную производительность ЦПШ-2 на то время. Сошлось! Получилось, что мои расчеты подтверждены практикой и, главное, к ним не прикопаешься, поскольку число 0,95 взято из ГОСТа.
Пишу отчет о научно-исследовательской работе, привожу в нем всю научную и нормативную литературу, делаю расчет и выводы о том, что ЦПШ-2 неспособно обеспечить нынешний план производства. И вооружаю этим отчетом Донского для поездки в Москву. Не думаю, что моя работа была определяющей, но капля камень точит, и Донской, в конце концов, выбил заводу план, который завод мог выполнить.
А то, что моя работа осталась не без внимания начальства, я почувствовал по воплям из Харькова о том, что я дурак и ничего в таких расчетах не понимаю. Ну, дурак и дурак, нам, ермаковцам, такое слышать было не в диковинку. Но вы-то умные? Вот и сделайте свой расчет, в котором не руганью, а числами докажите, что я неправ. А вот тут-то харьковчан и заклинило! Думаю потому, что и метод моего расчета был избыточно оригинальным, и не смогли харьковчане найти по черной металлургии вероятность выше, чем 0,95. Однако самое смешное было дальше.
Как я писал, Гипросталь проектировал для нас еще один ЦПШ в помощь ЦПШ-2. Приходит к нам техзадание на этот цех, и меня привлекают к его рассмотрению. Смотрю на расчет производительности цеха, выполненный Гипросталью, и вдруг вижу, что в его конце вся расчетная производительность умножается на коэффициент 0,5. Причем что это за коэффициент, откуда взялся и почему применен — ни полслова. Ага, понял я, это вы мою вероятность ввели в расчет! Молодцы! Я дурак, а коэффициентом моим пользуетесь?
Мой расчет, может, и оригинален, но с научной точки зрения ничтожен, поскольку закладывать в вероятность безаварийной работы механизмов величину 0,95 было нельзя. Для реальных механизмов это очень мало, но я ведь и не ставил себе целью обогатить науку — я ставил себе целью добиться приемлемой зарплаты для завода, чтобы порвать порочный круг, лежащий в основе нашей плохой работы.
Донской добился снижения плана, и завод стал получать премию. Отток кадров прекратился, отдел кадров начал оформлять на завод желающих, у ИТР цехов вместе с премией появился кнут и пряник, дисциплина начала достаточно быстро восстанавливаться, народ на работе перестал сидеть, забегал и начал быстро наращивать производство. И по прошествии ряда лет мы вышли в число передовых и очень уважаемых заводов.
Между прочим, штат ЦПШ-2 тоже свое дело сделал, конечно, не обошлось и без некоторой реконструкции, но в целом повышение дисциплины сыграло определяющую роль: цех вышел на проектную мощность и перекрыл ее. Необходимость в строительстве еще одного ЦПШ для цехов 1 и 6, предлагаемого «Гипросталью», отпала — он так и остался в чертежах.
Методичность и дисциплина
Должен сразу сказать, что я методы работы Донского, методы, которыми он управлял в те годы заводом, не считал правильными, поскольку он управлял все же бюрократическим способом, как, впрочем, и все тогда. Но поскольку сам Донской был исключительно умен и предан заводу, то и результаты его работы были блестящи. Правда, «разложить по полочкам» приемы работы Донского невозможно, поскольку он одним приемом «убивал несколько зайцев», и мне придется возвращаться к уже описанному и несколько перемешивать повествование.
Но сначала пара общих положений.
Первое, что исключительно важно для руководителя да и для любого работника (ив быту, кстати, тоже) — методичность. Спланировав то, как он решит проблему, Донской начинал исполнять свой план, не пропуская никаких деталей, даже если и казалось, что они уже излишни. Я даже и не вспомню, чтобы что-то, установленное им в начале его работы, через 13 лет не продолжало действовать, хотя мы к тому времени из отсталого, разваленного завода с катастрофической нехваткой работников уже давно превратились в известное предприятие, на которое можно было устроиться только по протекции. (Принимались только уж очень хорошие специалисты и обязательно дети работников завода.) Тем не менее, установил Донской когда-то, скажем, плановое совещание или время обхода цехов, значит, это совещание, хотя бы 5 минут, но будет проведено, а он цеха обойдет, даже если они прекрасно работают и не требуют от него ни малейших решений или указаний.
Такая методичность, хотя порою и раздражала, поскольку думалось, что потраченное время можно было бы использовать продуктивнее, но на самом деле эта методичность облегчала работу и ему, и нам, его подчиненным. Ведь самое тяжелое, самое нервное, самое беспокоящее и раздражающее — это неизвестность. Едешь на работу и не знаешь, что сегодня произойдет, задумал Дело и не знаешь — получится ли? Ну, так, по крайней мере, в области регламента работы все известно и неожиданностей не будет. Но это, скорее, шутка, а главное, конечно, не это — методичность не дает упускать мелочи, а они имеют пакостное свойство накапливаться и превращаться в непропорционально большую проблему, на которую потом затратишь гораздо больше сил и нервов, чем на методичность своей работы.
Методичность — это тоже результат планирования — ты планируешь регламент, план своей работы, и, как я уже писал, самым большим грехом у Донского было опоздание к назначенному времени встречи. Поскольку, как считал Донской, спланировать рабочее время — это самое легкое из того, что начальнику нужно планировать, и если уж он не может спланировать время, чтобы вовремя прибыть к месту события, то какой он начальник?
Следующее общее положение — это то, что любят и требуют все начальники без исключения — дисциплина. Так вот, в понимании, а, может, даже в подсознании Донского дисциплина никогда не была самоцелью. Цель — выполнение поставленных перед тобой задач, посему дисциплина нужна настолько, насколько она способствует этой цели. Сверх того — это уже не дисциплина, это дурость.
Донской мог вздрючить за то, что ты зашел к нему в кабинет на совещание через 10 секунд после последнего, но не было никаких проблем на это совещание вообще не придти. Особенно если у тебя было личное дело — Донской без проблем отпустит, правда, если у него были намечены к тебе вопросы, то спросит о них. Причем по личному делу было легче отпроситься, чем по производственному («Не умеешь планировать!» — скажет Донской), поскольку личные дела случаются внезапно.
Но и плановые личные дела тоже, безусловно, уважались. Скажем, было у нас священное действие — общезаводская оперативка по пятницам — попробуй опоздать по причине того, что тебя в цехе какие-то дела задержали, почешешься там, где не чесалось! Но вот конец лета, прихожу на оперативку, а вместо половины начальников цехов сидят их замы. Ага, значит, завтра с утра открытие утиной охоты, и Донской всех охотников отпустил с работы.
Понимаете, ведь подчиненный не скотина, он и сам волнуется за свое Дело, и если он подпланировал его так, чтобы сделать и что-то личное, то зачем над ним издеваться дисциплиной? Даже если он сейчас что-то недоработает, то потом наверстает.
Дисциплиной, в понимании Донского, было четкое выполнение поставленных им задач и данных им распоряжений. Кстати, на метод того, как он добивался последнего, я долго смотрел очень скептически. Дело в том, что он для нас, своих непосредственных подчиненных и тоже начальников, ввел Доску Позора. На улице, перед входом в заводоуправление была общезаводская Доска Почета, на которой были вывешены большие фотографии лучших людей завода. А в самом заводоуправлении, на площадке второго этажа висела черная Доска Позора (правда, она так называлась негласно), на которую в одну графу вписывались фамилии начальников, не выполнивших распоряжение директора, а во вторую — количество невыполненных распоряжений. Вначале меня это крайне возмущало, поскольку, с точки зрения армейской дисциплины, такое недопустимо — в армии даже сержанту нельзя делать выговоры в присутствии рядовых. А тут начальников цехов, считай полковников, позорят перед всем заводом! До сих пор не уверен, нужно ли такое, но должен признаться, что когда на этой доске висит «Мухин», а в графе «Кол-во невыполненных распоряжений», скажем, 2, то это, вообще-то, стимулирует побыстрее исполнить те две задачи, которые поставил перед тобой директор и которые ты еще не успел выполнить. Кроме того, есть и еще аспект. Если эти данные тебе шефом распоряжения не выполнили твои подчиненные, то их это тоже напрягает — и им неприятно, что они тебя подставили, посему и они шевелятся быстрее. Накануне срока исполнения распоряжения можно было позвонить Донскому и попросить его перенести срок (я не помню случая, чтобы он отказал), и тогда тебя не вывесят на Доску Позора. Но тут был чисто психологический аспект.
Дело в том, что те распоряжения, за которые нас «вывешивали» на Доску позора, к производству или не имели отношения вовсе, или относились очень касательно. Производство — это совсем другое, тут и контроль со стороны Донского чуть ли не ежечасный, и обязательность другая, и ответственность за неисполнение приказа рублем и должностью. Тут действует приказ. А распоряжения Донской давал по каким-то улучшающим работу делам. Скажем, когда он пришел на завод, у нас была всего одна сауна, в которую ходило, само собой, в основном начальство. Сам Донской к банькам относился очень равнодушно, но, узнав о таком положении, тут же распорядился построить сауны во всех цехах, Чтобы любой работник завода после смены мог попариться, наш завод можно было занести в книгу рекордов Гиннеса по количеству саун на душу работающего. Начальники цехов сами назначали себе сроки постройки сауны, а Донской эти сроки лишь фиксировал своим распоряжением. И так было почти со всеми его подобными распоряжениями — в подавляющем числе случаев ты сам брал срок, когда их выполнишь. Вот и получалось: ну, раз попросишь его перенести срок, ну, два, а потом сам понимаешь, что превращаешься в болтуна, неспособного ни планировать, ни обеспечить организацию работ.
Вот поэтому я и пишу, что, с одной стороны, эта Доска Позора вроде и неправильная, но, с другой стороны, слов нет, толк был!
Итожа мысль, повторюсь, Донской требовал безусловной дисциплины, но при этом никогда не превращал это свое требование в дурость.
Ум и человечность
Расскажу два собственных примера работы с Донским, оба случая произошли еще в те годы, когда отношения у нас с ним были не очень хорошие. Потом все утряслось, но первые годы отношения у нас были сугубо официальные, я бы сказал, что даже до обычных товарищеских им было далековато.
У меня (вернее, у нас с женой) родилась дочь, и все было вроде нормально, но пару недель спустя жена вдруг заметила, что складок на ножках у дочери неодинаковое число, появилось подозрение, что у дочери врожденный вывих ноги. Понесли врачам, те подтвердили подозрение, но о мерах начали говорить как-то туманно — что их еще рано принимать, что нужно, чтобы дочь подросла и т. д. На следующий день я был не в себе, поскольку мысль о дочери не давала покоя, а тут как раз меня по какому-то делу срочно вызвал к себе Донской. Мы были вдвоем в его кабинете, он вежливо-официально объяснил мне задачу и ее срочность. В конце он посмотрел на меня и спросил:
— Ты чем-то расстроен? У тебя ничего не случилось?
Спросил он сам, поскольку мне и в голову бы не пришло делиться с ним таким, тем более, что я еще и сам не знал, как мне этот случай с дочерью оценивать. И я невольно рассказал ему, в чем, собственно, дело.
По мере того, как он меня слушал, лицо его стало предельно серьезным, и он даже как-то резко прореагировал.
— Так чего ты здесь сидишь? Еще неделя-две и твоей дочери сможет помочь только операция, а это годы в корсете! Ты представляешь, что ты ей готовишь?! Плюнь на врачей и их советы, немедленно ищи костоправа, и пусть он вправит ей ножку. Все!! Уматывай с завода и пока не решишь проблему с дочерью, чтобы тебя на работе не было!
Надо сказать, что в отношении дочери он меня перепугал, поскольку врачи такого не говорили, но он четко поставил мне задачу, и мне стало легче. Я вскочил, но тут вспомнил, что он же дал мне срочное задание, а как с ним быть?
— Иди!! — он махнул мне рукой. — Иди, без тебя сделаем!
Я выскочил из кабинета, пробежался по заводоуправлению, разузнав, кто что знает о костоправах, нашел адрес, и мы с женой, взяв дочь, уже к вечеру были в Седьмом ауле у женщины-знахарки с глубокими черными глазами. Она осмотрела дочь, посетовала, что мы приехали поздновато, поругала акушерок роддома (всех дел: взять новорожденного за ножки, поднять вниз головой и несколько раз встряхнуть, чтобы все косточки встали на место), а потом распорядилась, чтобы мы пару дней распаривали сустав горячими компрессами и снова приехали к ней. Мы так и сделали, после чего она вправила ножку, и все потом было хорошо. И, знаете, по большому счету даже трудно оценить, как мы и наша дочь должны быть благодарны Донскому за то, что он по моей физиономии понял, что у одного из полусотни его непосредственных подчиненных что-то не так. И не только понял, но и не поленился выяснить, в чем дело.
А вот второй случай. Я, получив двухкомнатную квартиру на семью из трех человек, вновь в очередь не встал, так как мы с женой были уверены, что нашей семье хватит этих двух комнат и после рождения второго ребенка. Мы одну комнату сделали детской, а вторую оставили залом, в котором и спали на диван-кровати, справедливо полагая, что пока в доме гости, мы не спим, а когда спим, гостей все равно нет — так на кой черт нам третья комната? Детей же мы укладывали спать отдельно в их комнате, и их сон не мешал нам принимать приятелей в любое время. Причем я с жаром доказывал им, что при такой организации жизни требуется и меньше сил на уборку и ремонт квартиры, и меньше затрат на мебель (стоимость самой квартиры и коммунальных услуг была чепуховой и в расчет, само собой, не принималась). Так что мы с супругой были людьми оригинальных (и где-то даже передовых) взглядов, но, как оказалось, чересчур наивных.
Спустя какое-то время после того, как у нас родился второй ребенок, моя супруга, которая работала у нас в городе преподавателем вечернего филиала Павлодарского индустриального института, потребовала, чтобы я все же получил трехкомнатную квартиру, причем указала, в каком именно строящемся доме. Но я, не встав заблаговременно в очередь на жилье, не мог в тот момент получить квартиру не только в том доме, который указала пальцем любимая жена, но и вообще! Конечно, ситуацию нельзя было назвать справедливой, поскольку все, кто поступил на завод гораздо позже меня, уже имели трехкомнатные квартиры, а я, ветеран и начальник цеха, ее не имел. Но ведь не имел я ее по собственной глупости: мне никто не мешал встать в очередь, а потом, если я не хотел получать трехкомнатную, отказываться от нее в пользу тех, что стоял сзади меня — и так сколько угодно, пока я не решил бы, что трехкомнатную пора получать!
Задача, поставленная женой, была нерешаемой еще и потому, что было время Андропова, когда ЦК КПСС начал «борьбу за укрепление дисциплины» и со «злоупотреблениями начальства», посему масса всяких контролеров ждала случая представить какого-нибудь начальника на показательный процесс и этим отчитаться в борьбе со злоупотреблениями. А я для такой роли подходил замечательно: с одной стороны, тоже начальник, а с другой — начальник маленький и не член КПСС. Дело с трехкомнатной квартирой в желаемом доме было абсолютно нерешаемым, нужно было вставать в очередь и ждать, но долг мужа и отца все же потребовал от меня хотя бы сымитировать решение проблемы. И я пошел к Донскому с этой просьбой только лишь для того, чтобы очистить совесть — дескать, даже к директору ходил, но ничего не получилось! Прихожу к Семену Ароновичу, с которым, напомню, отношения у меня были не бог весть какими, и рассказываю о своей проблеме. Он только руками развел.
— Если бы ты подсуетился хотя бы годом раньше, я бы дал тебе квартиру без очереди, но сейчас! Ведь и меня, и тебя за это взгреют так, что нам небо с овчинку покажется!
Я это прекрасно понимал, поэтому поблагодарил Донского за участие и, не имея ни малейшей обиды, собрался уходить. Но он задержал меня, когда я был уже у самой двери.
— Ты все же не отчаивайся и думай! Может, все же есть какой-нибудь приемлемый вариант решения твоего вопроса.
Я, конечно, пообещал думать, но что тут придумаешь? Дом наш, заводской, очередь наша, заводская, а меня в ней нет вообще, поэтому хоть так думай, хоть эдак, а в этом железном раскладе ничего не изменится. И я, отчитавшись перед женой в невозможности достать этот аленький цветочек, и думать об этом забыл. Однако спустя неделю секретарь Донского звонит и сообщает, что он вызывает меня к себе. Я захожу в уверенности, что речь пойдет о каких-то заводских делах, но он как-то хитро на меня смотрит и спрашивает:
— Ну что, придумал что-нибудь?
— О чем это вы? — спросил я в недоумении.
— Придумал, как получить квартиру в строящемся доме?
— Нет, конечно, что тут придумаешь?!
— А у тебя где жена работает?
— В вечернем филиале Индустриального.
— А ее декан может написать мне письмо с просьбой выделить квартиру их филиалу для твоей жены?
Черт возьми, мне это даже в голову не пришло! Я как-то так свыкся с мыслью, что обязанность обеспечить семью жильем лежит на мне, что о получении квартиры женой просто не думал. А между тем завод с каждого построенного дома отдавал 10 % квартир городу, т. е. врачам, учителям, милиционерам, безусловно, и моя жена имела право получить квартиру по общегородской очереди на жилье, но мы об этом не подумали! Я позвонил Люсе, она декану Марату Пазыловичу Морденову, и оказалось, что в филиале вообще нет очереди, поскольку там все уже с квартирами. Морденов написал на завод письмо, и моя жена получила квартиру в том доме, в котором хотела.
Однако меня поразило другое. Завод в то время был в ужасном положении, у директора работы было на 25 часов в сутки. Между тем Донской нашел время перебрать варианты, как помочь подчиненному, более того, для этого он должен был разузнать подробности — где работает моя жена и каково там положение с квартирами. Ну, как мне было такого директора не ценить? Между тем как заводской специалист по своей значимости я тогда входил в лучшем случае в тридцатку первых специалистов завода, если не в полусотню. Но ведь остальные тоже обращались к нему с самыми различными просьбами. Между тем люди лучше всего запоминают те услуги, которые им не оказали. И, по идее, я должен был бы от кого-нибудь слышать жалобы на Донского, если бы он к кому-нибудь отнесся невнимательно. Тем не менее, от заводских работников, от коллег, я таких жалоб не помню, а это значит, что Донской делал для нас, своих подчиненных, все что мог, и не формально подходил к их просьбам, а как в моем случае — творчески, стараясь добросовестно решить наши проблемы.
Что в данном случае двигало Донским — ум или человечность? Сознание того, что освобожденный от личных проблем подчиненный будет работать более эффективно? Или все же какие-то свойства души, требующие относиться к подчиненным с отеческой заботой? Я его знал лучше, чем кто-либо на заводе, но определенно на эти вопросы ответить не могу. С одной стороны, он никогда не уклонялся от наших просьб о помощи (не работникам завода оказывал ее только при наличии избыточной возможности), но с другой стороны, он же нас и снимал с должности, и наказывал без видимых переживаний. И хотя из наказаний никогда не делал шоу «в назидание другим», и к снятым с должности тоже относился доброжелательно, но ведь снимал без колебаний! Если бы я его не знал, то сказал бы, что им двигал умный, прагматичный расчет, но поскольку я его знал, то побоюсь сделать такой вывод.
Донской в интерьере подчиненных
Я уже писал, что с начала строительства завода и города в Ермаке был построен район двухэтажных коттеджей, очень комфортабельных по тем временам (очень скромных по нынешним), с небольшим приусадебным участком, что тоже было достаточно удобно. Эти коттеджи предназначались якобы для всех, но жило там городское и заводское начальство, в связи с чем этот район и получил название «буржуй-городок». Коттеджи были государственными, поэтому при выезде из них жильцов они оставлялись заводу, ремонтировались, и в них въезжало новое начальство. В любом случае все прежние директора завода и строившего завод треста жили только в этих коттеджах. Когда Донской приехал на завод, то сначала жил в двухкомнатной квартире, которую завод использовал и для подобных целей временного проживания, и как гостиницу. Но вот освободился коттедж, его отремонтировали, но ко всеобщему удивлению работников завода Донской в коттедж не въехал, и коттедж отдали кому-то другому, если мне память не изменяет, то какому-то многодетному рабочему. Это озадачивало. Ведь никто бы не упрекнул Донского, если бы он занял коттедж, в котором, по мнению всех, директор и должен жить, — ведь подобные привилегии ему и по закону полагались (добавочная площадь), и по человеческим понятиям. Люди ведь чувствуют себя комфортнее, когда живут среди людей своего круга, посему как у них вызовет осуждение стремление директора завода жить в кругу остальных заводских и городских начальников? Было непонятно, чего Донской хотел…
Потом поступили сведения, что в очередном сдающемся девятиэтажном доме Донскому объединили в одну две квартиры — трехкомнатную и однокомнатную, и что заводской ремстройучасток ее отделывает. Уже сам факт, что директор поселился среди рядовых работников завода, пусть даже и в нестандартной квартире, заставлял смотреть на Донского как на белую ворону среди начальства. В его искренность не верилось, в связи с уже начавшимся тогда всеобщем стремлении начальства к благам и к изоляции от народа, чтобы нормальные люди эти блага не видели. Посему на заводе (да и мною, чего греха таить) охотно воспринимались слухи, что квартиру Донскому наше РСУ отделывает как-то очень шикарно, а потом прошел слух, что Донскому в квартире построили сауну с бассейном. Я не представлял, как это технически можно было сделать в стандартной квартире, но слух упорно муссировался.
И вот как-то поздно вечером возвращаюсь я с дачи, а Донской перед домом прогуливает своего эрдельтерьера (кличку и сейчас помню — Лана). Я поздоровался, он что-то пошутил насчет дачников, я ответил, завязался разговор на ходу (я получил квартиру в следующем доме, поэтому мы жили по соседству), и тут черт потянул меня за язык, и я спросил, правда ли, что он у себя в квартире построил сауну с бассейном? Донской аж опешил: было видно, что он чрезвычайно огорчился и расстроился.
— А ну пошли со мной! — скомандовал он.
— Куда?
— Мою квартиру смотреть!
— Да что вы, Семен Аронович, да мало ли, что люди болтают, да и некогда мне…
— Давай вперед без разговоров!
Он подозвал собаку и отконвоировал меня к себе на четвертый этаж, попутно здороваясь со встречавшимися соседями. Открыла Нелли Степановна, мне было ужасно стыдно, я разулся, хотя мне и предлагали этого не делать, однако я и так чувствовал себя свиньей. Увидел я следующее.
Поскольку квартира не специально проектировалась, а получилась соединением двух, то в ней оказался очень длинный коридор, увешанный книжными полками, в торцах которого были кухни и санузлы двух квартир, а по бокам были двери в три комнаты: спальню хозяев, спальню дочери и зал. Я полагал, что у шефа должен был быть кабинет, ведь лишняя площадь давалась для этого, но Донской спроектировал разумнее: между двумя комнатами была снята перегородка, вместо нее РСУ отлил несущую потолочную балку и получился зал метров на 30. В нем, в углу и стоял рабочий стол Донского, а в центре был очень большой обеденный стол. Мне это решение очень понравилось, ведь у нас с женой всегда была проблема невозможности пригласить на праздники столько гостей, сколько хочется, поскольку в стандартную комнату не вместишь более полутора десятка. А Донской мог без проблем посадить за стол более двадцати! В то же время он же не будет работать, когда в доме гости, а когда их нет, то под кабинет и зал вполне годится. Из-за низких потолков зал на вид получился очень низким — как подвал, но это ничего — выпьешь и перестанешь этот архитектурный недостаток замечать, главное, что площадь была большая. Теперь о сауне.
Ванны и туалеты в его квартире были сохранены проектные, одна кухня была кухней, а вот во второй плиты не было, а стояла стиральная машинка, и висело белье (его Нелли Степановна бросилась убирать), кроме того, там стоял деревянный ящик где-то 600 х 600 х 1200. В верхнем торце ящика было круглое отверстие миллиметров 200, кроме того, этот торец состоял из двух половин с разъемом, проходящим через центр этого отверстия. Передняя стенка ящика была на петлях и открывалась как дверка. Внутри ящика была деревянная скамеечка, а под ней электроплитка — это и была «сауна». Нужно было раздеться, зайти в ящик, сесть на скамеечке и закрыть дверцу. При этом голова торчала над верхним торцом ящика, после чего обе верхние половины сдвигались так, что отверстие в центре охватывало шею, и получалось, что тело в ящике, а голова снаружи. Включалась электроплитка, и температура внутри ящика поднималась до температуры сауны — тело грелось, а голова была холодная! Не знаю, насколько эта штука эффективна, но замысел был замечателен, поскольку в бане от высокой температуры в первую очередь страдает голова.
Все отделочные материалы в квартире были самыми обычными, единственно, что наш РСУ и так работал тщательнее строителей, а тут еще и своему директору делали, так что выглядело все аккуратненько. И только. Мне было ужасно стыдно, я поспешил сбежать, не зная, как извиниться перед Нелли Степановной за неожиданное вторжение. После чего я, само собой, и при любом удобном случае, и по своей инициативе рассказывал всем, что я видел в квартире у Донского, пытаясь как-то снять с себя вину за участие в глупых сплетнях, да и понимая, что Донской, пригласив меня, на это и рассчитывал.
Потом прошло много лет, я в результате хитрой и наглой финансовой комбинации получил для завода очень много «халявных» денег, о чем я уже написал, и мы развернули все виды жилищного строительства. Помимо серийных девятиэтажек, строили и дома по индивидуальным улучшенным проектам, а после развала СССР стали строить и новый поселок частных коттеджей, причем строил их завод, и он же выдавал беспроцентный кредит с зачетом трудового стажа при погашении. Донской вроде заинтересовался, но получать коттедж в первой построенной серии категорически отказался — сначала эти коттеджи построили десятку или двум лучших рабочих и инженеров завода, а уж потом и ему. Казалось бы, уже весь СССР захлестнула алчность, человекообразные животные гребли под себя кто сколько мог, но Донскому по-прежнему было важно, как на него будут смотреть его подчиненные.
Теперь о его отношении к барахлу. Я бы не сказал, что Донской был к нему совсем уж безразличен, как и я, впрочем, скорее даже он ценил какие-то красивые или особо качественные вещи. Но при этом жестко придерживался принципа «не бросаться в глаза», не выделяться среди остальных работников завода и в этом. Поговорим об одежде.
Я раньше, чем кто-либо на заводе начал общаться с западными фирмачами, в основном из Европы (кроме Великобритании), видел, как и во что они одеваются, и, прямо скажем, мой шеф на фоне их боссов выглядел не очень. Он всегда носил темно-серый костюм, светлую в полосочку рубашку и галстук, чистые черные туфли. Увидеть его одетым по-другому было практически невозможно — эта одежда у него была чем-то вроде военной формы. Разве что в праздники костюм был черным или более темным, рубашка белая, галстук более броским, а туфли более сверкающими. А наши западные торговые партнеры одевались броско — в цветные или клетчатые пиджаки, куртки, яркие рубашки, мой шеф среди них выглядел, как лопата в цветочной клумбе. И не один он.
Редкое фото и случай — С.А. Донской «в штатском»
За границей советского делового человека можно было узнать за квартал именно по этой серенькой униформе. Меня это не радовало — обидно было за державу. И эта обида длилась практически до момента, пока мы вместе с нашими люксембургскими партнерами не попали в ЮАР, а это страна, где белое население состояло из буров и англичан с их традициями. Так вот, еще в аэропорту Йоганесбурга мне окружающие показались какими-то близкими, хотя я и не понял, почему. А потом хозяин принимающей нас фирмы, англичанин, повел нас на обед в английский клуб, членом которого он являлся. Это был большой старинный особняк с большими входными дверями. Я их открыл, пропуская Донского, и зашел вслед за ним, неся подмышкой папку с нашими бумагами. В холле стоял швейцар с бородой до пояса, и вот этот тип вдруг бросается ко мне, выхватывает у меня папку и швыряет ее на какую-то тумбочку в углу. Я опешил, а англичанин рассмеялся от моего вида и пояснил, что по английской традиции клуб — это место отдыха и здесь нельзя заниматься делами, посему швейцар и отобрал у меня, как он подозревает, деловые бумаги, но на выходе он мне их отдаст. На стене лестничной площадки висел огромный портрет, само собой, королевы, на стенах залов картины на охотничьи, рыболовные или спортивные темы, в залах группами тусовались английские джентльмены. И тут я вдруг обратил внимание, что Донской как-то с ними слился, а вот наши люксембургские партнеры вдруг стали выглядеть, как попугаи в еловом лесу. Причем сами англичане были одеты не только так, как Донской, но при этом что-то их с Донским роднило, и только потом я понял, что общим был стиль одежды, «не бросающейся в глаза» — не гоже джентльмену привлекать к себе внимание одеждой, поскольку джентльмен обязан отличаться иными достоинствами.
В загранкомандировках мы с Донским очень часто делали покупки вместе, обычно в недорогих универмагах, но наш способ покупок отличался. Я, к примеру, мог купить три рубашки сразу, руководствуясь не столько их качеством, сколько ценой, а шеф на эту же сумму покупал одну, в более дорогом отделе и тщательно выбирая. Донской никогда не пропускал отдела по продаже галстуков и долго и осмысленно их подбирал. Я тоже, прикинув, какого цвета у меня есть костюмы и рубашки, и, руководствуясь тем, что в одежде у мужчины не может быть более трех цветов, покупал эту деталь туалета (раз уж я попал в этот отдел), и тоже на сумму, на которую я покупал три галстука, шеф покупал один.
Отвлекусь на себя. Как-то, спустя много лет после того, как я уехал из Ермака, я встретился в Москве с одной из женщин, работавших в те годы в заводоуправлении, и в ходе взаимных воспоминаний она мне сообщила, что, по мнению женщин, я был самым элегантным мужчиной заводоуправления.
Мне это, само собой, польстило, но и страшно удивило: я об этой стороне жизни вспоминаю только по случаю и то, если не забываю вспомнить. Что во мне было такого, что наводило вас на мысль о моей элегантности? — спросил я. «Вельветовый пиджак, красивый галстук и дорогой французский одеколон», — ответила землячка.
Вельветовый пиджак я купил в одну из первых поездок за границу, чтобы не сильно отличаться от европейцев, о происхождении запаса галстуков я написал выше, а с одеколоном дело обстояло так. Когда мы с женой стали жить в Ермаке вместе, я перешел с электробритвы на бритье лезвиями и, соответственно, начал освежаться одеколоном, причем приличный «Шипр» за 60 копеек («Тройной одеколон» стоил 36 коп.) меня вполне устраивал. Но моя молодая жена, проезжая Москву, возвращаясь из отпуска, сама выбрала и купила мне в подарок флакон французского одеколона «One man show». Стоил он 18 рублей. Это было ужасно дорого! Но моя жена бывает не менее упрямой, нежели я, поэтому она и в дальнейшем его покупала или требовала, чтобы я его купил. Таким образом, я уже более 30 лет практически постоянно даю заработать фирме «Богарнэ» и до того свыкся с этим одеколоном, что уже очень давно совершенно не чувствую его на себе — мне нужно брызнуть его в руку и специально понюхать, чтобы вспомнить, как он пахнет. А тут выяснилось, что женщины, оказывается, его запах слышали издалека… Надо же!
Так что в плане своей элегантности я на две трети обязан директору и родной жене, а на одну треть себе, и боюсь, что из-за этой последней трети я в родном заводоуправлении выглядел как люксембуржцы в английском клубе. Но вернусь к Донскому.
Думаю, что это был его жизненный принцип — не очень ценя животные радости жизни, Донской если хотел их получить, то стремился получить их по максимуму. Поясню. У него был повышенный сахар в крови, но не очень большой, и, в принципе, он запросто мог бы целый день пить чай или кофе с одним или двумя кусочками сахара. Но он пил эти напитки только с сахарином. Причем пояснял мне, что делает это только для того, чтобы на каком-нибудь обеде или ужине спокойно есть десерт сколько душе угодно и не думать о последствиях.
Или другой пример. Я, честно говоря, удивляюсь людям, которые на укрепление здоровья тратят времени жизни больше, чем оно тратится на болезни. А у нас на заводе был крытый плавательный бассейн, и, чтобы иметь от него максимум отдачи, Донской стал всех загонять плавать хотя бы дважды в неделю для укрепления здоровья. Надо сказать, что только я выдержал всю его ругань и подначки по этому поводу и не ходил, поскольку мне это казалось глупой потерей времени, кроме того, я не терпел, чтобы меня заставляли. А Донской ходил плавать каждый день, и я несколько недоумевал, как он может тратить столько времени на эту чепуху. Но выяснилось, что он, оказывается, тратит на бассейн очень немного времени, поскольку довел это дело до автоматизма: приехал, надел плавки, под душ, в бассейн и ну чесать от стенки к стенке, пока не проплывет свой километр на время, выскочил, душ, оделся и отбыл. И, надо сказать, действительно я не помню, чтобы он когда-нибудь был на больничном, а я-то бывал частенько… Так что и тут работал его принцип — хочешь получить удовольствие по максимуму, в данном случае — удовольствие от отсутствия болезней — подготовь это удовольствие.
Не хочу и вспоминать, но счет ресторанов, в которых нам с ним приходилось обедать или ужинать, нужно вести, скорее всего, на сотни. Мне приходилось участвовать в застолье и с другими начальниками, и кое-когда с отвращением приходилось видеть, как ведут себя дорвавшиеся до «халявы». Но Донской всегда ел с удовольствием (особенно, если ему что-то нравилось), но всегда умеренно. Ну, а уж пил исключительно умеренно, даже я у него научился не отказываться от выпивки, а просто сильно недопивать из рюмки — и за каждый тост рюмку поднимаешь, не имея нареканий за отказ, и не перепьешь, а кто-то, если уж ему очень хочется выпить, — пусть пьет до дна.
Кстати, о Донском как о хозяине. Я на 18 лет младше Донского, кроме этого, у меня в Ермаке уже была устоявшаяся компания своих друзей-приятелей, поэтому в гостях у Донского я был всего несколько раз. В те годы я и мысли не держал, что когда-нибудь буду писать о Донском, посему сейчас и не вспомню его ермаковских приятелей, знаю только, что близкими друзьями Донских были Масловы: Алла была закройщицей и потом директором Дома быта, а Виктор — мастером нашего железнодорожного цеха. Поэтому я присутствовал у Донского в гостях не на обычных праздниках, а на каких-то официозах, на которые Донской приглашал и нас, своих замов, — по-моему, на его 60-летие и на новоселье.
В моем кругу всегда было принято, что как только мы разместимся за столом, я, как хозяин, должен скомандовать: «Наливаем!» — и налить ближайшим соседям. И все наливают себе и соседям. А у Донского не так. Он сам обходил всех по кругу и всем наливал только сам, лично. Возьмешься за бутылку помочь ему, а он искренне обижается: «Чего хватаешься? Что — я тебе не налью?!» А нас, гостей, человек 30, он всех обошел, выпили, он что-то в рот бросил и опять пошел по кругу наливать. Меня это всегда смущало — он же не просто директор, он намного старше нас, а бегает как официант. Но у него был такой менталитет — он хозяин, он должен гостей потчевать, вот он и потчевал.
Теперь о его увлечениях и развлечениях. Человеку, у которого есть Дело, есть завод, никакие другие увлечения и развлечения просто не нужны. И не потому, что на них не хватает времени — было бы желание, а время найдется, а потому, что они все менее интересны, нежели собственно Дело. Сейчас телевидение заполнили глупейшие сериалы и шедевр человеческого идиотизма — передачи типа «За стеклом». Миллионы сидят и часами убивают свою реальную жизнь, пялясь на чью-то выдуманную. Ну почему бы сразу не залезть в петлю? Почему вы своею собственной жизнью не живете? Я не против развлечений, однако они нужны тогда, когда тебе нужно дать отдохнуть мозгам, уставшим от собственного Дела. Но сколько среди зрителей этих шоу людей, у которых мозги действительно устали от реальной жизни и их нужно переключить на анализ телевизионных помоев? Мизер! Поскольку те, кто реально живут, и для отдыха мозгов найдут более интересное развлечение, а остальные фанаты сериалов и шоу-мусора — это самоубийцы, это овощи, ожидающие у телевизора, когда они созреют для крематория.
Поскольку я был всего лишь товарищем Донского, а не его другом или приятелем, то я плохо знаю, как он проводил свободное время. Дачи у него не было, на рыбалку он не ходил — это точно. Читал он много, но тогда чтение было самым распространенным развлечением. Сотни часов мы провели вместе в аэропортах, полетах, а первое время даже в одном гостиничном номере. Разумеется, мы обсуждали очень многое, а когда деловые темы бывали исчерпаны, то говорили и о всякой всячине. В вопросах истории я его, само собой, превосходил, поскольку увлекался ею, но в вопросах общей литературы он мне ничуть не уступал. Более того, поскольку модные и популярные новинки он читал прямо в толстых журналах (достаточно дефицитных в то время, несмотря на их огромные былые тиражи), то порою и мне давалфоры в суждениях на литературные или научно-популярные темы. А поскольку он был всегда трезвый собеседник, то, если он был расположен к разговору, разговаривать с ним было всегда интересно. Помнится, это он мне сказал, что «Доктора Живаго» и «Котлован» умному человеку в руки брать не стоит, но об этих романах вопили как о шедеврах, и я все же попробовал их читать, быстро убедившись, что шеф и тут оказался прав.
Он числился охотником, выезжал, по меньшей мере, на открытие охоты. Правда, как-то он мне высказался в том смысле, что в его положении нужно иметь какое-то хобби, чтобы не выглядеть белой вороной среди других, вот он и купил ружье. Я потом тоже купил ружье и тоже один раз выехал на открытие охоты. Рассказывать об этом после выхода на экраны фильма «Особенности национальной охоты» нет особого смысла — все было примерно так же. Разве что в нашем охотколлективе женщин и близко не должно было быть — это был святой, душевный, мужской союз. Да и командовал налить не трезвенник Донской, а тогдашний председатель охотобщества Вадим Примаков. Был я еще, тоже с Донским, в Баян Ауле на охоте на архара. В целом архары оказались хитрее нас, хотя одну козочку наша толпа все же добыла, но это опять-таки никак не повлияло на душевность застолья у костра на фоне красивейших горок. Донской попросил поставить его на номер, где он спокойно любовался природой, по-моему, даже патроны не вложив в патронники. Я по сравнению с ним оказался более азартным — лазил по горкам и даже дважды стрелял, правда, с тем же, что и у Донского результатом.
Можно сказать, что я был более азартен, так как был более молодым, но не думаю, потому что когда в одну из первых поездок за границу я как-то вечером заказал принимавшей нас стороне просмотр запрещенных в СССР порнофильмов, то Донской в номере не остался — все инстинкты у него были в норме. Повторю, и удовольствие от их удовлетворения он получал больше, чем другие, но он был, безусловно, счастливым человеком именно потому, что главное удовольствие он получал все же от своего Дела. Однако я сильно увлекся описанием его личной жизни — той, о которой люди не знают, — а он все же был человек публичный: на него постоянно смотрели тысячи глаз. Он об этом все время помнил и вел себя соответственно, причем он вел себя естественно, то есть никак не играя роль директора или отца коллектива завода. Он просто им был, и ему не нужен был какой-то особый антураж.
Я как-то по его заданию купил вагон мраморной плитки для отделки многочисленных саун завода, в которых он был только в порядке обхода цехов. В то же время в его кабинете от его предшественников ничего не менялось, разве что совершенствовалась оргтехника соответственно времени. Еще штрих. В те годы все начальство ездило на «Волгах» только черного цвета, а такси и «Волги» частного пользования были иных цветов. Это был стандарт: раз «Волга» черная, значит, едет начальник. Когда Донской приехал на завод, то сразу же потребовал, чтобы АХЦ и отдел оборудования обеспечили ему служебную «Волгу» либо серого, либо белого цвета, как у нормальных людей. Это, между прочим, была проблема, поскольку наши шоферы порою долго ждали на ГАЗе, пока с конвейера перестанут сходить черные «Волги» и пойдут обычные. Кроме того, ГАИ благосклонно относилось к черным «Волгам» и цеплялось к остальным, но Донской эту проблему своих водителей решил тем, что выпросил у обкома номера какой-то специальной серии — для начальников, но в глазах людей то, что он начальник, он никак не хотел подчеркивать.
Где-то в начале 90-х, уже в условиях начавшегося уничтожения экономики СССР, я договорился с японцами и предложил ему купить не «Волгу», а «Тойоту Круизер». Мало того, что с дизелем и повышенной проходимости, так еще и цена ее вместе с доставкой в морском контейнере была дешевле, чем тогда у «Волги», так как японцы прорывались на наш рынок. Донской меня обругал: «Что люди скажут? Что мы валюту, заработанную ими, используем для покупки автомашин под зад начальству?!» Между прочим, в это время мы, его замы, да и те начальники цехов, кому полагалась машина, уже ездили на микроавтобусах «Фольксваген», но он ездил на «Волге» и «УАЗике». И только когда автозаводы СССР начали останавливаться, Сергей Харсеев уговорил его вместо «УАЗика», которого Сергей не мог достать, купить ему «Мицубиси» повышенной проходимости, но я долго эту машину не видел, так как он по-прежнему ездил по городу и заводу на старой «Волге».
И вот как-то еду на завод на своей «Ниве» и меня обгоняет эта «Мицубиси». Я кивком поздоровался с шефом и его водителем, но когда пристроился сзади и увидел номер машины, то чуть не опешил. У заводоуправления подхожу к Донскому.
— Семен Аронович! Это кто же вам присоветовал выбрать на свою машину номер 666?
— А что в нем такого? — искренне удивился шеф.
— Это же «число дьявола»!
— А что это такое?
Будучи человеком сугубо практических дел, Донской презирал и совершенно не интересовался никакой мистикой. Я, правда, тоже не мог ему толком объяснить, что тут не так, посему шеф махнул рукой и пошел к себе в кабинет, видимо, тут же забыв о «числе дьявола».
Поскольку о подробностях и смысле его работы я напишу специально, добавлю к портрету Донского только формальные характеристики того, что он посвящал своему Делу.
Его рабочий день официально начинался в 8-45, а заканчивался в 18–00, суббота и воскресенье были выходными.
В будни он приезжал на работу в 8-00, с 13–00 до 14–00 ездил домой на обед, затем работал до 20–00 и ехал в бассейн, после чего, если ничего не случалось, как говорится, был свободен.
В субботу он приезжал на работу к 9-00, в 12–00 ехал в бассейн, а потом на обед, после обеда возвращался и в 17–00 проводил оперативку, после которой был свободен.
В воскресенье он приезжал к 9-00, но после 12–00 обычно уезжал, оставляя завод на главного инженера.
В отпуске или в командировке в пределах СССР, где бы он ни был, ему ежесуточно дозванивалась заводская телефонистка и соединяла его с главным инженером и, если он видел в этом необходимость, то и с другими руководителями завода.
И так все 13 лет в Ермаке с редкими исключениями.
На заводе никто столько не работал, сколько работал он. И все это видели. А поскольку работа его была эффективна, то его глубоко и, безусловно, уважали все. Добавлю к этому, что поскольку в жизни он был скромным, никогда не выпячивал свою роль, не сторонился людей и не раздражал их какими-то своими избыточными привилегиями, то его не просто любили, а считали «своим».
Давайте теперь оценим, что директору завода Донскому давало такое отношение к нему людей — не как человеку, а как руководителю.
Более семидесяти лет назад американский исследователь Дейл Карнеги провел работу и написал книгу «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», которая и сама по себе небезынтересна, и ценна высказываниями различных деятелей той эпохи, включая успешных командиров тогдашней американской экономики. По нужному нам вопросу Карнеги пишет: «По мнению председателя правления фирмы «Болдуин локомотив уоркс» Сэмюэля Воклейна, «рядовым человеком легко руководить, если вы пользуетесь у него уважением и если покажете ему, что уважаете его за какую-либо способность». Самому Карнеги для обоснования способа, каким можно повлиять на людей, нужна только вторая половина этой фразы, и он не обращает внимания на то, что если начальник сам неуважаем, то как бы он ни демонстрировал свое уважение к подчиненному, толку будет очень мало.
Общие проблемы руководителя
А теперь давайте займемся причинами высокого качества продукции Донского — причинами высокой разумности его распоряжений.
Для начала вновь напомню, что процесс изготовления начальником своей продукции не отличается от рабочего процесса любого работника и состоит из трех этапов: оценки обстановки, принятия решения и действия (отдачи приказа или распоряжения). Соответственно, для получения качественного результата этого процесса необходимо, чтобы начальник в достаточном объеме и надлежащим образом проанализировал информацию по вопросу, по которому отдает приказ, перебрал все возможные варианты решения по нему и выбрал из них наилучший, после чего объявил свое решение исполнителям, способным претворить его в жизнь. Все просто, но при руководстве конкретным руководителем конкретной организацией, исполняющей конкретное Дело, возникают трудности.
Получив под управление в бюрократической системе управления новое Дело, руководителю необходимо:
— научиться оценивать информацию;
— научить оценивать информацию своих подчиненных;
— поставить фильтры мусорной и лживой информации;
— научиться принимать решения;
— научить принимать решения подчиненных;
— узнать деловые качества подчиненных.
Эти проблемы встают перед любым руководителем, но перед Донским они встали в гипертрофированном виде, так как Ермаковский завод ферросплавов на момент вступления Донского в должность представлял собой жалкое зрелище. И Донской начал эти проблемы решать упорно и эффективно, хотя внешне, казалось бы, он не делал ничего такого, чего не делали бы руководители до него.
Донской, в чем я теперь уверен, решил все вышеперечисленные проблемы системой совещаний — банальнейшим приемом. Но прежде, чем обсуждать эту систему, я дам перечень введенных совещаний и начну с тех, которые у меня никогда не вызывали протеста, — совещаний по решению частных проблем, т. е. таких, о которых после решения можно забыть. Эти частные проблемы могли быть как внутренними — реорганизации, реконструкции, так и внешними — решение Донским важных для завода вопросов в союзных и республиканских органах.
Что было характерным для Донского, особенно по сравнению с его предшественниками — исключительная дотошность в изучении вопросов. Если, положим, он ехал в Минчермет для решения вопроса, положим, увеличения штата завода, то сам вопрос, как и положено, излагался на страничке текста, а обоснование давалось в пояснительной записке, которая могла быть толстой и включать уйму обширных таблиц. И всем, в первую очередь в Минчермете, было понятно, что эту записку написали узкие специалисты завода, а директор завода всех подробностей знать не может. Тем не менее, Донской на подготовительных совещаниях замордовывал специалистов завода вопросами по пояснительным запискам: «Что за цифра, откуда вы ее взяли? Чем ее можно подтвердить?» Я никогда не был с ним в Москве в момент решения им там упомянутых вопросов, но уверен, что никакие аппаратные работники Минчермета или Совмина не могли задать ему такой каверзный вопрос, на который бы он немедленно не ответил сам и еще не вынул бы дополнительные бумаги в подтверждение своего ответа.
Дело в том, что в бюрократической системе, когда начальник сам не знает, как решить вопрос подчиненного, он ищет любую зацепку для обвинения подчиненного в некомпетентности и, следовательно, в том, что вопрос у подчиненного глупый или, в крайнем случае, «неподготовленный». Своей кропотливой дотошностью Донской начисто исключал такое развитие событий со стороны своего начальства.
Такую же дотошность он проявлял и при решении на совещаниях внутренних проблем, и получалось так, что он хотя и был поначалу малокомпетентен в ферросплавном производстве, но «повесить ему лапшу на уши» было невозможно. Поскольку он задавал вопросы (да еще и перекрестные, так как расспрашивал всех специалистов) до тех пор, пока образно не представлял себе рассматриваемую ситуацию. Это, между прочим, заставляло всех участников совещания глубоко вникать в вопросы совещания, чтобы не попасть в глупую ситуацию с сообщением директору неточных чисел или фактов. Но эта дотошность как-то не затягивала самого совещания, поскольку Донской был умным человеком, толковым инженером и руководителем с большим предшествовавшим опытом — он быстро схватывал подробности, а если видел, что не все участники совещания готовы, то переносил совещание, давая время нам самим вникнуть в рассматриваемую проблему.
Назначались эти совещания по мере возникновения проблем и длились до их решения, по времени проведения эти совещания обычно назначались «на послеобеда», а список участников Донской составлял сам к каждому совещанию. Эти совещания я и тогда считал разумными, хотя и полагал, что на них часто приглашаются лишние люди. Теперь о системе совещаний как таковой.
Как я уже написал, Донской приезжал на завод к 8-00 — за 45 минут до официального начала своего рабочего дня. В это время заканчивалась пересменка в основных цехах, и начальники цехов уже были в курсе дела работы цеха вечером и ночью. До 9-00 Донской с ними разговаривал по телефону, собирая вопросы, требующие его экстренного вмешательства. О сути его разговоров с начальниками ничего не могу сказать, поскольку, когда был сам начальником цеха, вынужден был находиться у себя на случай его звонка, но в ЦЗЛ он мог позвонить только в случае, если бы мой цех сделал заводу пакость, а я старался такого не допускать, посему и подробностей разговоров с ним не помню.
В 9-00 начиналось совещание, которое называлось «аппаратным». В кабинете Донского собирались его замы и начальники отделов заводоуправления. Рассматривались в основном «пожарные» проблемы, данные о которых директор брал из журнала диспетчера завода, фиксировавшего все параметры работы цехов, и их утреннего разговора с начальниками цехов. Донской, исходя из этих и дополнительно оставленных специалистами заводоуправления вопросов, обсуждал и принимал решения, оформляя их в виде устных распоряжений своему аппарату.
В 12–00 главный инженер вел селекторную оперативку, в это время у телефонов сидели и слушали ее все руководители завода. Слушал ее и Донской, но, что характерно, если его предшественники вмешивались в эту оперативку и давали свои ценные указания, то от Донского я такого не помню — на этой оперативке слово главного инженера было непререкаемо.
В 18–00 в кабинете Донского собиралось вечернее совещание, на котором, кроме аппарата, присутствовали и начальники основных цехов. Обсуждались результаты за день, проблемы и планы на следующий день, директор принимал соответствующие решения.
Каждую пятницу после обеда проводилась общезаводская оперативка. Поскольку на ней присутствовали абсолютно все начальники цехов и отделов, то проводилась она в актовом зале. В президиуме сидел Донской, главный инженер и заводской треугольник: секретарь парткома, председатель завкома и секретарь комитета комсомола. Остальные сидели в зале: замы директора — в первом ряду, начальники цехов и отделов — кто где усядется, но места нельзя было менять, чтобы шеф быстро мог найти тебя глазами. Каждую первую пятницу месяца в это же время была расширенная общезаводская оперативка, в которой, помимо начальников цехов, участвовали и председатели цехкомов с парторгами и комсоргами.
Открывал эти совещания по пятницам директор кратким сообщением о состоянии завода и решении проблем завода вовне — в партийных и государственных органах. Затем с такими же краткими сообщениями выступали начальник производственного отдела и замы директора, которые, как правило, обрисовывали стоящие перед цехами проблемы на текущей неделе и планы на будущую. После их выступлений директор расспрашивал упомянутых замами начальников цехов и отделов о сути проблем, принимал решения, назначал (чаще они принимались самими исполнителями) сроки реализации решений. Затем по очереди опрашивались все присутствующие на наличие у них вопросов, шло обсуждение этих вопросов с обязательным принятием по ним решений.
По итогам каждого месяца проводился разбор себестоимости в цехах — рассмотрение итогов работы цеха за месяц. В основных цехах это совещание проводил директор, в остальных — главный инженер и замы. На этих разборах присутствовали все старшие итээровцы цехов и начальники всех отделов заводоуправления.
Еще при вступлении в должность Донской в течение нескольких месяцев, что называется, «облазил» весь завод от подвалов до крыш и, как мне кажется, вряд ли кто знал устройство завода лучше, чем он. Тем не менее, раз в неделю он обходил по графику очередной цех — все его участки. Кроме этого, проведя утреннюю оперативку, он обычно ехал в цеха, в которых проводились какие-либо важные работы — освоение новой продукции, реконструкции, крупные ремонты, ликвидации крупных аварий и т. д. Так что любой работник завода без проблем мог встретиться с директором прямо у себя в цехе, но Донской ввел еще одно совещание, которое имело очень мало аналогов — встречу с трудящимися.
Она проходила по графику, по которому Донской каждую неделю встречался с коллективом очередного цеха. Встреча назначалась на 17–00, задача начальников цехов — объявить всем, что на этой неделе в цех придет директор, и все. На встречу с директором приходили те работники, кто хотел, никакая обязательность не допускалась. Донской приезжал с референтом, председателем профкома, секретарем парткома и замами по быту и кадрам. Он начинал с краткой оценки состояния данного цеха, а потом слушал вопросы к себе. Вопросы могли быть самые разные, кроме личных — по личным вопросам он принимал в субботу.
И еще одно довольно оригинальное совещание, о котором я мало что могу рассказать — совещание с бригадирами. По-моему, раз в квартал в заводском доме культуры на втором этаже накрывались столы для чаепития, где-то часов в 19–00 приезжал Донской, и прийти попить с ним чаю мог любой бригадир завода (на заводском жаргоне — «бугор»). Как я теперь понимаю, у Донского с буграми была какая-то договоренность держать в тайне то, о чем они говорили на этом совещании. Я так думаю, поскольку не вспомню ни единого случая, чтобы Донской в своих решениях упомянул об этой тайной вечере, кроме этого, я помню, что несколько раз попробовал полюбопытствовать у бригадиров своего цеха, о чем они там шепчутся с директором, но мои бугры от прямого ответа ушли.
Тогда я был уверен, что Донской пиарит себя, правда, в те годы мы этого умного слова «пиар» не знали и выражались по-русски — «дешевая популярность». Но тут надо сказать, что популярность этими двумя последними совещаниями он себе, безусловно, завоевывал, но главным образом тем, что абсолютно игнорировал все рекламные трюки. Предшественник Донского Топильский на общезаводских собраниях или профсоюзных конференциях явственно показывал рабочему классу, какой он, директор, хороший, и какие плохие начальники цехов, а у Донского подобного и близко не было. Ведь работники цеха задавали директору вопросы, которые обязаны были задать начальнику цеха, кроме того, по основной массе вопросов Донской и поручал решение начальнику цеха, тем не менее, в ходе самой встречи от директора в адрес начальника не следовало ни малейшего упрека, даже если его недоработки были очевидны. После встречи, оставшись с начальником цеха один на один, он, конечно, мог высказать все, что думал, но в ходе встречи не компрометировал недоработки начальника цеха ни малейшим жестом.
Затем, Донской не давал обещаний решить все вопросы, которые ему ставили работники цехов, он очень решительно мог и отказать, но, правда, объясняя причину отказа. Далее, в заводской многотиражке никогда и никак не обыгрывались эти совещания, хотя главный редактор считался кем-то вроде начальника отдела заводоуправления и мог присутствовать на всех встречах Донского с работниками завода, а на общезаводских оперативках просто обязан был присутствовать по этой своей должности. На встречах в цехах порою задавались вопросы, на которые Донской не мог дать ответ немедленно, в этом случае референт директора такой вопрос записывала, он решался отдельно, после чего референт обязана была разыскать в цехе того, кто задал этот вопрос, и сообщить ему решение директора. С точки зрения рекламы, такие решения могли бы публиковаться в газете, тем не менее, это не делалось.
При Донском совещания стали приобретать отчасти семейный вид — на них в принципе могли вестись вполне откровенные разговоры, но наружу должно было поступать только то, что завод считал необходимым. Помню такой удививший меня случай. На общезаводской оперативке в пятницу, на которой, напомню, раз в месяц обязаны были присутствовать даже юные комсорги, Донской вдруг стал присматриваться к мужчине, сидящему в зале, затем остановил совещание и спросил его, кто он и из какого цеха. Тот с важным видом отвечает, что он инструктор обкома партии, и Донской вдруг как-то не то что жестко, а даже зло потребовал, чтобы он покинул зал: «Здесь не спектакль, и зрители не нужны!» Вот такие нюансы, совершенно автоматически проскакивающие в работе Донского, с годами создали у нас чувство определенной сущности: мы — это мы, работники завода, а они — это они, все остальные. Причем об этом никогда не говорилось — ни открыто, ни в кулуарах — это то, что должно было быть понятным само собой. Донской добивался нашей сплоченности без всяких корпоративных вечеринок и пьянок, и это было не единство в празднике, а единство, так сказать, в бою.
Мы чувствовали, что он свой, мы знали, что всегда можем на него положиться и попросить о чем угодно, но, между прочим, какая-либо фамильярность по отношению к нему начисто исключалась, он вел себя так, что это было просто невозможно. Я, хохол, который по украинскому обычаю всем должен говорить «вы», в Казахстане быстро разбаловался и теперь чуть ли не всем «тыкаю», но по отношению к Донскому мне это даже в голову не могло придти — только на «вы» и по имени-отчеству. А он один на один или в своем кругу обращался ко мне на «ты», но по имени-отчеству, однако в присутствии официальных или малознакомых лиц — тоже только на «вы».
Разумеется, на совещаниях ставились далеко не все вопросы, к примеру, начисто исключались кадровые — вопросы назначения, перемещения или увольнения конкретных работников, их зарплаты. Не обсуждались перспективные вопросы и сырые идеи, решение по которым еще не было принято. Такие вопросы требовалось решать «в рабочем порядке», что в общем смысле означало разговор работников завода лично или в узком кругу вне совещаний. Что касается самого Донского, то по отношению к нему рабочий порядок означал встречу с ним после предварительного звонка о назначении времени разговора. Если в ходе решения такого вопроса требовалось мнение специалиста, то Донской подключал его к разговору или по телефону, или вызвав в кабинет. В сложных случаях, поняв, о чем речь, он назначал время и собирал специалистов на совещание.
Интересно, что по отношению к старшим руководителям завода (начальникам цехов, отделов, их замам, старшим мастерам, начальникам смен и равным им) у Донского не было такого понятия как личный вопрос. Мне как-то нужно было что-то решить в личном плане, а поскольку я был тогда не в очень хороших отношениях с Донским, то решил прийти к нему, так сказать, официально на прием по личным вопросам. Этот прием начинался в субботу с 10–00 и проводился Донским комиссионно, т. е. с присутствием замов по быту, кадрам, начальника отдела труда, председателя профкома, секретаря парткома и референта. Такое совещание, разумеется, давало возможность личные вопросы работников завода решить очень быстро, но, конечно, действительно личного разговора быть не могло. Вот я и пришел к нему на эту комиссию, так он и сесть не дал, раскричавшись, что этот прием не для начальников цехов, что начальник цеха должен позвонить ему и встретиться лично. Я вынужден был уйти, а в понедельник он сам позвонил и спросил, что я хотел.
Официально Донскому не полагался помощник-референт. Но он создал контрольную группу из двух человек, которую возглавила Нина Атаманицина, ветеран завода и очень уважаемый работник, и эта группа осуществляла функции его помощников. Если секретарь директора (скорее, секретари, поскольку секретари директора и главного инженера работали вместе) помогали организовывать ему работу, то референты контролировали исполнение всех его решений, они, между прочим, звонили и напоминали, что подходят сроки, когда следует доложить Донскому об исполнении задания. Кроме этого, ходили слухи, что референты собирают и докладывают Донскому все сплетни, циркулирующие по заводу и городу. Такое вполне могло быть, поскольку девизом Донского было: «В нашем деле главное — вовремя перепугаться». И Донской действительно принимал все меры, чтобы предотвратить нежелательные явления — погасить пожар в самом начале. А сплетни хотя и сомнительная, но все же информация о начале пожара.
Формально это, пожалуй, все о той системе, которую установил С.А. Донской, приняв под управление Ермаковский завод ферросплавов. И, между прочим, нет никаких оснований чтобы не назвать эту систему его именем, поскольку для бюрократической системы управления система Донского максимально действенна, посему может быть применена в самых тяжелых случаях развала предприятия, однако, как в любом подобном случае (при бюрократизме) она очень тяжела для самого руководителя. Напомню, что только на заводе Донской работал не менее 70 часов в неделю.
То же, да не то
Но прежде, чем вникать в суть системы Донского, хочу высказать свое личное отношение к ней тогда и сегодня.
Тогда она мне не нравилась, и тому было минимум три причины.
Может быть, самым малозначительным является мое субъективное отношение к работе как к таковой. Для меня идеальная работа — индивидуальная, я люблю работать сам, без помощников, без наблюдателей и зевак. Таков мой отец, а вот мой брат наоборот — любит работу в коллективе, любит и сам помогать, и чтобы ему помогали. Если я буду прибивать доску, у которой один конец надо поддержать, я, скорее, его подопру или временно закреплю, нежели позову на помощь. И не потому, что брезгую помощью или стесняюсь — мне именно так удобнее работать. Иногда я шучу, что когда что-то делаешь сам и это не получилось, то тогда точно знаешь, кто дурак, а в коллективе это выяснить трудно. Таких, как я, людей в целом достаточно много — многие любят опираться только на себя, но много и людей другого типа — тех, кто комфортно чувствует себя в компании. Скажем, такие люди, сидя за обеденным столом, без колебаний вежливо попросят соседа подать солонку, стоящую на расстоянии вытянутой руки, а я даже думать об этом не буду — встану и дотянусь сам, даже если нахожусь в кругу семьи. Конечно, это никак не значит, что я не понимаю, что есть такие работы, которые можно исполнить только вместе, и я, не задумываясь, такие работы и организовываю, и участвую в них, но, повторю, люблю работать сам. Думаю, что это тоже может быть причиной того, почему я не люблю совещаний, а система Донского, как вы поняли, базируется на системе совещаний.
Более существенным является то, что П.В.Топильский довел дело с совещаниями до такого маразма, что меня тошнило от самого этого слова. Топильский развалил и парализовал работу завода, но чем хуже завод работал, тем больше совещаний проводил Топильский, и дело дошло до того, что, по меньшей мере, вся первая половина дня проходила в сплошных совещаниях. С 10–00 час слушаешь, как Топильский жует сопли в цехе № 2, затем он сел в машину и покатил в цех № 1, и ты бежишь за ним, поскольку в 11–00 совещание там, а в 12–00 — в цехе № 4. Так мы в то время и бегали целыми днями с совещания на совещание, а дела на заводе становились все хуже и хуже. Боле того, если бы вы присутствовали на совещаниях, проводимых Топильским и Донским, то, скорее всего, не увидели бы и разницы между ними — и тот, и другой директор рассматривали проблемы, возникшие на заводе и в цехах.
Совещания — это всего лишь инструмент, и сами по себе они и не плохи, и не хороши, поскольку главное в том, с какой целью они используются тем, кто их ведет. И различие здесь достаточно тонкое, чтобы поговорить о нем подробнее.
Топильский был не умен, но с исключительными амбициями и, как я полагаю, с комплексом неполноценности — он, на мой взгляд, постоянно боялся, что его глупость будет замечена окружающими и, главное, подчиненными. А я уже обратил внимание, что глупец отличается от умного тем, что боится задавать вопросы в случаях, когда ему что-то не понятно, — он боится, что по этим вопросам его сочтут дураком. Умному интересно разобраться во всем и ему наплевать, кем его сочтут, ему невыносимо быть в любом деле болваном, посему умный всегда будет задавать вопросы до тех пор, пока ему все не станет ясно. Но пока тебе что-то неясно, ты не можешь принять решение — ты боишься его. Подчеркну, когда ты ошибаешься, то решение все же принимаешь, поскольку ошибочно считаешь, что тебе уже достаточно понятен вопрос, чтобы начать действовать. Но когда ты просто не понимаешь, что к чему, то как тут примешь решение? Только на авось, но на авось оно может оказаться чрезвычайно глупым, а этого-то глупец и боится.
И то, что Топильский был малокультурен и глуп, я определяю именно по его страху принимать решения. Вот он мог минут десять поднимать специалистов и выслушивать поступающую к нему информацию, но если вопрос был мало-мальски сложным, то он не уточнял его, не пытался разобраться сам, а давал стандартное распоряжение: «Сиди на печи, пока печь не заработает!» — или: «Сиди в цехе, пока не начнешь выполнять план!» — или: «Бросай все и занимайся только этим!» Но на хрена ты тогда выслушивал все объяснения, ведь такое решение можно было принять немедленно? И как это начальник цеха, у которого полтыщи человек и тысячи дел, может «бросить все»?! Вот Топильский и привил мне стойкую ненависть к совещаниям именно из-за их никчемности в его исполнении. Скажем, в цехе № 2 он обсуждает вопрос, и ему вешают лапшу на уши (об этом позже), что главная проблема в том, что нет болтов для крепления мульд. Следует команда сидящему тут же начальнику отдела снабжения: «Бросай все и доставай болты!» После цеха № 2 мы, вместе с начальником отдела снабжения, бежим в цех № 1 на совещание, а там Топильскому вешают лапшу про нехватку сварочных электродов. Следует команда начальнику отдела снабжения: «Бросай все и доставай электроды!» Потом мы бежим на совещание в цех № 4, а там: «Бросай все и доставай медь!» В результате к концу дня начальник отдела снабжения озадачен директором так же, как и был озадачен и с утра, и месяц, и год назад: «Бросай доставать все и достань все». Начальник отдела снабжения, конечно, сообщит сотрудникам о свежих проблемах, но сам участвовать в их решении (позвонить, съездить, придумать комбинацию с обменом) уже не успевает: не успевает хорошо работать из-за того, что весь день сидел на совещаниях, на которых директор требовал от него хорошо работать.
Далее, не в состоянии разобраться с сутью проблемы, Топильский, как он полагал, разбирался с тем, кто виноват в том, что проблема не решается, то есть внятной, видимой целью его совещания был поиск виноватых. Пока мы еще выполняли план и была премия, то с назначенных в виноватые она снималась, но когда премии не стало, у Топильского остался один рычаг — оскорбления: все были ленивые и тупые идиоты, и только он был борец за счастье народное и интересы завода. Как в том анекдоте про фокусника, у которого весь цирк в дерьме, а он на коне в белом фраке. Это, с одной стороны, заставляло увольняться с завода всех, кто с ним непосредственно соприкасался, в том числе и вновь приглашенных специалистов. И, с другой стороны, это заставляло участников совещания готовиться не к решению вопросов, а к собственному оправданию, причем при таком поведении директора становились допустимыми любые формы оправдания, вплоть до любой брехни и перекладывания ответственности на других. И в этом вонючем болоте Топильский отлавливал виноватых и с упоением констатировал их лень и идиотизм. Почему-то в глазах эпизод, когда на ЦЗЛ кто-то попытался переложить ответственность за очередной срыв, а я аргументированно доказал нашу невиновность, и Топильский разочарованно процедил: «Выкрутился-таки…» Но что это за работа, на которую идешь не творить, а выкручиваться?
Топильский спасал сам себя, свою карьеру — он спасался от снятия с должности. Но он выбрал путь глупца, как мне кажется, очень соблазнительный для любого малокультурного дурака, — на совещаниях он пытался заставить подчиненных решать проблемы.
Именно за это я ненавидел эти совещания, и именно в этом было резкое отличие их от тех совещаний, которые проводил Донской, поскольку Донской проводил совещания, на которых стремился лично решить как можно больше вопросов как можно правильнее.
Он не заставлял нас работать, а работал вместе с нами. Топильский видел себя на заводе надсмотрщиком на галере, а Донской — рулевым и членом команды гребцов. Это требует от меня сразу же подчеркнуть отличия и показать, чего Донской добивался и чего добился.
Так же, как и во времена Топильского, на совещании поднимались проблемы, которые мешали работать как заводу в целом, так и отдельным цехам. Так же, как и при Топильском, Донской начинал оценивать обстановку — расспрашивая участников совещания, собирал информацию о проблеме. Но уже на этом этапе проявлялось отличие: Топильский собирал информацию, пока не найдет виноватого или не сможет его на эту должность назначить, а Донской изучал проблему до тех пор, пока становилось возможным принять точное техническое или организационное решение. Не то, что Донского не интересовала вина отдельных подчиненных, — так ведь нельзя, он же начальник и не имеет права проходить мимо лени или разгильдяйства, — а просто их вина имела для директора третьестепенное значение.
Чтобы отметиться по этому вопросу, скажу, что Донской мог и тут же отругать, и накричать, но, во-первых, ругань его имела характер его возмущения, а не желания оскорбить подчиненного, во-вторых, заработать ее можно было не за сам факт неисполнения чего-то, а лишь за проявленную при этом лень и неорганизованность. Ведь само по себе задание могло быть таким, что его так просто не исполнишь, кроме того, мы уже знали, что пока Донской ругается, то все в порядке — он надеется руганью исправить подчиненного, хуже если он затихал и становился вежливым — это значит, он отчаялся подчиненного исправить, подчиненный стал ему безразличен, и он думает, кем его заменить. Правда, сами по себе такие случаи, включая и случаи головомоек, были очень редки, поскольку на совещаниях Донскому было не до этого: вопросов, особенно в начале его работы на заводе, было очень много, а ему требовалось во всех этих проблемах разобраться.
И он разбирался, причем во всех поступающих к нему вопросах — и в больших (его уровня), и в маленьких. В то время я считал это крайне неправильным, считал, что он загружает себя мелочовкой, недостойной внимания директора. Но он только морщился от чепуховых вопросов и, пожалуй, единственной преградой к их поступлению были мы сами — мы шикали на поднявшего мелкий вопрос, поскольку этим вопросом он отнимал время не только у директора, но и у нас. И только, когда я задумался над тем, почему все же Донской практически в одиночку добился столь выдающегося успеха, то понял и в чем тут дело, но об этом чуть позже, а сейчас продолжу описание деталей совещания.
У Топильского на совещаниях властвовали законы «Язык мой — враг мой» и «Инициатива наказуема», поэтому все старались помалкивать. Скажем, обсуждается причина плохой работы какой-то печи, считается, что у нее в шихте недостаток восстановителя и ее уже завалили коксом, а толку нет. А я, к примеру, полагаю, что у нее «обсосанные» электроды, но если я об этом заявлю, т. е. дам Топильскому добавочную информацию к оценке обстановки, то Топильский тут же может назначить меня виноватым стандартным распоряжением. «Вывести металлургическую лабораторию в круглосуточное дежурство на печь, и сидите на ней, пока она не заработает!» Мало того, что этим распоряжением он сорвет мне исполнение плановых работ в метлаборатории, так еще и на следующем совещании от меня же потребует результат, которого может и не быть к этому времени, следовательно и моя метлаборатория будет бандой бездельников и идиотов, и я — главным бандитом. Оно мне надо? Лучше уж я сам проведу работу на этой печи, сам разберусь и сообщу результат старшему мастеру, а не придурку-директору. В результате, идущая к Топильскому информация по вопросу, рассматриваемому на совещании, могла принимать самые фантастические или дурацкие формы при всеобщем молчании (не наше дело), и Топильский на основании такой оценки обстановки ляпал очередное свое решение, толку от которого не было ни на копейку.
Суть совещаний Донского
Не сразу, но со временем Донской добился, что его начали уважать и считать «своим», все, безусловно, уважали его самоотверженное желание поднять завод и сделать передовым, все понимали, что от этого даже в материальном плане выгодно будет всем, поэтому обстановка на совещаниях резко изменилась. Теперь уже все участвовали в оценке обстановки по возникшим проблемам, никто не боялся дать информацию, все понимали, что Донской не придурок — не ищет виноватых, а стремится лично разобраться в проблеме и решить ее. И даже если по твоей информации он тебе же и даст задание, то ему всегда можно объяснить, как ты распределил собственные силы и как это новое задание повлияет на исполнение старых. Все это, повторю, произошло не сразу, не сразу исчезла с совещаний брехня, к которой раньше все относились с пониманием (если она тебя не касалась), поскольку «все выкручивались». Теперь же уже не хотелось видеть, как разочарованно кривится на твою брехню и разводит руками Донской, как ехидно ухмыляются коллеги: видали умника?
Точно также в совершенно спокойной обстановке шел и поиск решений. Если обстановка изучена в полной мере, то в подавляющем числе случаев решение получается само собой, кроме того, при своем опыте, намного превышающем наш, Донской мог легко и сам найти решение, особенно по простым вопросам. Тем не менее, он это делал уж в очень понятных случаях, а в остальных предлагал исполнителю выбрать вариант решения, после чего мог его принять, а мог покритиковать и дать покритиковать нам. И мы, чувствуя себя свободно, охотно предлагали собственные решения и по вопросам, которые нас напрямую не касались. Получалось так, что и информацию по вопросу Донской имел в полном объеме, и варианты решений в таком количестве, которое мы тогда могли придумать, решение проблемы получалось лучшим из возможных.
Опять же, не сразу, а с годами, мы если и не разучились, то, по крайней мере, уже не приветствовали перекладывание своих проблем на широкие плечи коллег и не отбивались под любым предлогом от добавочных заданий. Порою, Донской принимал так называемое «волевое решение», при котором поручал Дело тому, кому его по должности вроде и не полагалось делать. Может, при этом довольных было и немного, но все понимали, что за Донским «не заржавеет» — он оценит и энтузиазм, и добавочную работу, и оценит потому, что он действительно в курсе всех дел на заводе, и твоих в том числе.
Вот теперь и оцените, чем была эта система совещаний, которую учредил Донской?
Во-первых, само собой, это была мастерская, в которой Донской принимал необходимое количество точных решений по порученному ему Делу. Но разве это все?
Вспомним стоявшие перед ним проблемы, в числе которых он обязан был сам научиться оценивать обстановку по своему Делу перед принятием решений. Где он обязан был учиться? У каких-то профессоров с их общим бла-бла? Бесполезно терять время? А на своих совещаниях он получал и анализировал информацию, во-первых, не о чем попало, а о порученном ему Деле, во-вторых, получал, начиная с самых болезненных проблем, в-третьих, получал от компетентных именно в этом деле специалистов, в-четвертых, в самом полном объеме, поскольку на совещаниях присутствовали специалисты всех профилей.
Далее, он обязан был научиться принимать правильные решения. Где? У какой-нибудь фирмы, специализирующейся на болтовне об управлении? А здесь, на его совещаниях, варианты решений предлагали и обсуждали те, кому эти решения исполнять. А люди не любят лишней работы, следовательно, эти варианты заведомо были экономичны, по меньшей мере, в части собственных трудозатрат.
Таким образом, совещания в системе Донского являются школой, в которой сам руководитель учится давать по своему Делу много точных решений.
Но и это не все. Вернемся к моему раздражению тем, что Донской принимал для решения массу мелких вопросов. В те годы я почему-то не думал ни о себе, ни о своих коллегах, а ведь мы в то время часто занимали свои должности без году неделя и не умели ни оценить обстановку, ни принять решение. А нас где учить? На каких-нибудь курсах, на которых мы до обеда боролись бы с голодом, а после обеда со сном? И Донской, думаю, автоматически, подсознательно решал поступающие к нему даже самые мелкие, самые рутинные вопросы именно потому, что раз ему этот вопрос задали, значит, не знают, как быть. А раз не знают, надо учить! И на рассмотрении таких вопросов учились все присутствующие на совещании, учились автоматически, не посещая никаких курсов.
Вот молодой начальник цеха начал ремонт с реконструкцией, послал кладовщика в отдел оборудования, и вдруг выяснилось, что на складах нет необходимых ему для реконструкции механизмов. Он требует на совещании, чтобы ему их немедленно достали, так как срывается ремонт. Начальник отдела оборудования поясняет, что такое оборудование нельзя получить немедленно, что его нужно заказывать за год, а начальник цеха этого не сделал, и теперь отдел оборудования пытается необходимое найти, но пока не получается. И при этом рассмотрении проблемы на совещании все присутствующие автоматически узнают о такой градации оборудования, о необходимости заблаговременного планирования и заказа. Причем учатся даже те, кого не упомянули. Скажем, начальник конструкторского отдела понимает, что допустил промашку, подписав проект, не дав согласовать его в отделе оборудования, понимают свои промахи все, кто знал о ремонте, но не догадался подсказать молодому начальнику цеха, что тому нужно было делать.
Потом, человек работает внутри цеха и для него «завод» — это группа зданий вокруг его цеха и только. А на совещаниях рассматривались проблемы абсолютно всех подразделений завода, в результате, спустя какое-то время присутствующий на совещании уже знал, в чем задачи каждого цеха и отдела и, главное, как эти цеха и отделы можно и нужно использовать для решения стоящих перед тобой Дел. То есть в системе Донского совещания имели функцию очень действенной и постоянно действующей школы по повышению квалификации высшего начальствующего состава завода. Да, можно было бы и как-то по-другому организовать эту школу, но невозможно ее организовать так, чтобы каждое занятие проводил лично директор и при этом он лично оценивал успехи учащихся.
К этому следует добавить, если вы этого не заметили, что совещания по времени были определены так, чтобы они примыкали к перерыву в работе: или в начале работы, или после нее, или сразу после обеденного перерыва. При таком графике они давали возможность начальникам спокойно работать в течение рабочего дня.
Шло время, точнее, шли годы, квалификация Донского и всех руководителей завода возрастала, вопросы стали решаться без директора, и их объем на совещаниях упал на порядки. Вот пример. Общезаводская оперативка в пятницу сначала была назначена Донским на 14–00 (обед с 13–00 до 14–00) с тем, чтобы окончить ее к 15–30, так как в 16–00 была пересменка в основных цехах, и начальникам в это время надо было быть на местах. Однако полутора часов оказалось мало, и как Донской ни спешил, а к 15–30 оставалось еще много вопросов. Тогда он перенес обед в пятницу с 12–30 до 13–30 и с этого времени мы начинали совещаться, и все равно не всегда успевали и за два часа. А спустя несколько лет мы, начиная в 13–30, очень часто заканчивали в 14–00, поскольку вся оперативка, по сути, состояла из сообщения самого директора и замов — у остальных присутствующих вопросов не было. Все остальные руководители завода научились решать свои Дела без директора. Утренняя оперативка («аппаратная») сначала длилась минут 40, а то и до 10–00. А потом ее длительность сократилась чуть ли не до 5 минут — мы заходили, несколько кратких вопросов Донского, такие же краткие ответы — и все. Как-то выходим, а секретарь директора удивленно шутит: «Вы что, к директору только здороваться ходите?» Больше времени занимало зайти к Донскому в кабинет и выйти, чем само совещание, поскольку и мы, штаб директора, не только научились работать вообще, но и, главное, научились работать друг с другом без его вмешательства.
Таким образом, внешне, казалось бы, все было как при Топильском: Донской тоже лечил завод все теми же совещаниями. Но вот только эффект был разительным, и суть этой разницы была заключена в самих директорах. Выше я сказал, что в те годы эта система Донского мне не нравилась по трем причинам, две я описал (моя любовь к индивидуальной работе и внешняя похожесть этих совещаний на совещания Топильского), теперь немного расскажу о третьей причине.
Я начал заниматься теорией управления людьми в начале 80-х, еще будучи начальником ЦЗЛ, и к моменту, когда Донской предложил мне стать его заместителем, вся теория вчерне была у меня готова, что, собственно, и предопределило мое согласие. То есть я твердо знал, что бюрократическая система управления людьми — это бич нашего общества, что выход человечества из тупика только в переходе на делократическую систему управления. А между ними принципиальная разница в том, что при делократической системе управления подчиненный узнает, как ему нужно сделать порученное начальником Дело у порученного ему Дела, а при бюрократической системе управления — у самого начальника. А что происходило на совещаниях у Донского? Его подчиненные узнавали, как им исполнять их Дела не у Дела, а у Донского. Ведь это он вникал в каждую проблему, он принимал по ней решения. Это вопиющий бюрократизм! Как же мне, теоретику, могло нравиться, что Донской управляет заводом вопреки теории?
Однако Донской явил ошеломляющий конечный результат, внедрив не мою теорию, о которой он прекрасно знал, а собственную систему управления: не делократизировав управление заводом, а как бы поплыв по течению, сглаживая бюрократические недостатки системы управления своим трудом и личными качествами. Прав ли был он? Безусловно! Более того, если бы случай в те годы поставил меня на его место директора, и я с энтузиазмом, присущим дуракам и первооткрывателям, вздумал бы делократизировать управление заводом в том состоянии, которое досталось Донскому, я бы потерпел оглушительное фиаско и усугубил бы положение. Тому было несколько причин, которые я понял, когда Донской разрешил мне кое-что сделать по делократизации управления заводом и когда я на практике оценил те трудности, которые раньше не замечал.
Во-первых, даже в настоящее время, когда можно стать частным предпринимателем, то есть не иметь над собой начальства и быть делократом по положению, масса людей не хочет им быть и не хочет из-за страха ответственности за свои ошибки и неудачи. Они предпочитают иметь начальника, который скажет им точно, что именно делать, они это сделают, а он заплатит деньги. А в те годы таких людей было еще больше, и они есть и были везде и всегда. Еще Генри Форд отмечал, что есть масса людей, счастливых от работы на конвейере. Это трагедия человечества, ее ликвидация требует пропагандистской работы, обучения и воспитания, и уже это можно сделать только тогда, когда во главе всей организации делократ, когда все управление делократизировано. И это приводит ко второй причине.
Нельзя проводить делократизацию внизу, не делократизировав высшие звенья управления, делократизация должна идти сверху вниз. Иначе бюрократический аппарат просто раздавит тех, кто будет подчиняться не ему, а Делу, причем раздавит тупо и бездумно, даже, в принципе, не желая этого. Сегодня в этом смысле положение благоприятно на тех предприятиях, которые управляются единоличными владельцами лично, но в те годы Донской не был таким владельцем, над ним был огромный государственный, партийный и отраслевой бюрократические аппараты, предприятия должны были строго руководствоваться уже спущенными к тому времени 10000 нормативными документами.
В-третьих. Хорошо сказать подчиненному: «Вот тебе Дело и как его делать, узнай у самого Дела!» Ну, а если подчиненный просто не знает, как это Дело делать, если его квалификация такова, что Дело ему ничего не говорит? Как быть в этом случае? Что толку давать делократические приказы, если подчиненные неспособны их исполнить? А ведь штат Ермаковского завода был именно таким — не глупым, не ленивым, но очень быстро поднявшимся по служебной лестнице и потому просто не знавший значительной части того, что знать полагалось. Какая уж тут, к черту, делократизация — людей надо было учить порою элементарному.
Вот из этих трех условий, необходимых для делократизации, у Донского не было ни одного, и был здравый смысл — не пускаться на иллюзорные авантюры в таких условиях. Мало этого, чтобы поднять завод, Донскому нужно было не только найти уйму правильных решений, но добиться, чтобы эти решения претворялись исполнителями в жизнь быстро, а это значит — решительно.
Представим, что вы исполнитель и вам поручено незнакомое Дело, для исполнения которого нужно исполнить массу более мелких дел, иными словами, преодолеть массу трудностей. Возьмем два случая. В первом вы знаете, что это Дело решаемое, поэтому, встретив трудность (тоже незнакомую), вы применяете к ней одно решение — не получается, второе — не получается, третье — получилось! Вы, что называется, прете напролом, зная, что если Дело решаемо, значит, и у вас все должно получиться. Во втором случае вы не знаете, решаемо это Дело или нет. Вы встречаете первую трудность, а она у вас с первого раза не решается, и у вас вопрос — а решаемо ли это Дело вообще? У вас опускаются руки. То есть уже сам факт знания того, что Дело решаемо, заставляет исполнителя действовать быстро и решительно, не отчаиваясь из-за неудач.
А что делал Донской, фактически освящая своими властью и опытом решения по тем Делам, которые несли к нему подчиненные? Он выдавал этим Делам сертификат того, что их можно решить, он добавлял решительности своим подчиненным. Нам было спокойнее оттого, что он согласовал нам наши действия. Потом, когда работники завода приобрели опыт, то есть когда они уже исполнили тысячи Дел и у них эти Дела получились, новые незнакомые Дела перестали казаться чем-то загадочным и опасным, и их стали решать, не обращаясь к Донскому за согласованием — зачем? Мы уже сами с усами!
Сейчас, задним числом оценивая свое критическое отношение к системе управления Донского, должен сказать, что я, конечно, был неправ. Делократизация — точный и нужный проект, но он был неприменим к тогдашним местным условиям. Образно говоря, бюрократическая система управления — это пахота лошадью с сохой, а делократическая — мощным трактором с многокорпусным плугом. А что делать, если трактора еще нет? Ставить перед лошадью ведро с соляркой и пытаться воткнуть ей под хвост ключ зажигания? Донской получил под управление заморенную и потерявшую в себя веру лошадь — и только. Он применил свою систему, и лошадь воспряла. Она не стала от этого трактором, но начала пахать за двоих.
Однако у нас осталась без обсуждения еще одна проблема, которая встает перед любым руководителем — проблема того, кому поручить исполнение Дела, проблема подбора кадров.
Давайте об этом.
Подбор кадров
Сразу возьму быка за рога — подбором кадров должен заниматься тот, кто ими руководит, считать, что это может сделать кто-то иной, просто глупо.
На самом деле руководителю довольно часто приходится подбирать кадры нижестоящих исполнителей из тех, кто уже находится в его подчинении, и не столько потому, что он не имеет возможности дать объявление о наборе новых кадров, сколько потому, что его люди ему уже известны хоть как-то, а те, кто за забором — коты в мешке. Кстати, в случае Донского, в то время на завод со стороны вообще никого нельзя было заманить, так что ему и не приходилось давать объявления — он вынужден был искать кадры руководителей цехов и отделов исключительно среди работников завода. А тут следует сказать, что по-настоящему оценить, удачен выбор или нет, можно только после того, как посмотришь данного человека в порученном ему Деле. До этого, как ты ни рассматривай кандидатуру, какие характеристики и рекомендации на него ни требуй, а вероятность ошибки всегда остается.
Люди есть люди. На прежней работе они могли быть одни, а с повышением в должности вдруг становятся другими — такими, которыми вы их видеть не ожидали и не хотели. На прежней работе они выглядели ищущими, а на новой должности как-то вдруг успокаиваются и начинают думать не о Деле, а о собственных благах, порой запивают или увлекаются каким-нибудь не относящимся к Делу развлечением. Ошибку в подборе кадров следует считать одной из самых дорогостоящих ошибок руководителя, но от подобных ошибок, к сожалению, застраховаться тоже невозможно, какие бы вы анкеты ни придумывали. Тем не менее, глупо или даже преступно руководствоваться в этом деле только случаем и совершенно не оценивать кандидатуры в надежде, что, авось, выбор окажется удачным.
Какими критериями руководствоваться и как организовать эту работу.
Для начала руководителю надо узнать человека, которому он собирается поручить Дело, хоть как-то, для чего, само собой, желательно знать как можно больше тех кандидатов, из кого можно подобрать себе надежных исполнителей и нижестоящих руководителей. Но об этом позже.
Сейчас же о том, что после знакомства нужно оценить, что это за человек? На что он годится? Можно ли ему доверить более крупное Дело? Его умение исполнить предполагаемое Дело значения не имеет, поскольку, само собой, раз он его раньше не исполнял, то пока не умеет. Важны его личные интеллектуальные и волевые качества, важно, может ли он увлечься порученным Делом или он думает только о себе любимом? Как он оценивает в Деле свою роль и роль своих подчиненных? И многое другое, что требуется руководителю и что в кандидате может быть скрыто или умело имитироваться.
Как положительные (удовлетворяющие назначению на новую должность), так и отрицательные качества в человеке порою могут быть вскрыты по одному его слову, по одному жесту, по выражению лица. Но, правда, эти слова или жест могут быть сказаны или проявлены не при первом знакомстве, хотя и ждать, пока съешь пуд соли с этим человеком, как правило, тоже нет необходимости. Критериев деловой оценки кандидатуры очень много, вот, к примеру, очень банальный критерий, жалуется ли этот человек на то, что из-за работы у него не остается времени на «личную жизнь».
Для нашего завода этот критерий совершенно не годился, поскольку на заводе не было таких старших руководителей. Думаю, что такие страдальцы до должности мастера не доходили, а среди своих приятелей я помню только одного не без способностей, засохшего на должности заместителя начальника отдела. Так что по этому критерию Донской вряд ли когда отбирал кадры, все мы были одинаковые.
Скажем, такой факт. Суббота и воскресенье официально были выходными днями, но Донской в субботу работал весь день, и он открыто предложил начальникам цехов последовать его примеру, причем никаких официальных приказов ни по этому случаю, ни по поводу компенсаций за переработку Донской не давал. А в воскресенье весь день на заводе работал главный инженер и заместители начальников цехов, так вот заместителям полагался (опять-таки — неофициальный) отгул в понедельник, а директору, главному инженеру и начальникам цехов — ничего! Тем не менее, честно не помню, чтобы хоть кто-нибудь из начальников когда-нибудь, даже в личном разговоре пожаловался на тягость этого директорского требования. Тогда какими критериями руководствовался Донской?
Как-то после того, как мы оба уже не работали на заводе, я спросил В.А. Матвиенко, бывшего сильнейшего главного инженера завода, чем, по его мнению, руководствовался Донской, когда предложил министру назначить его главным инженером? Но, прежде чем рассмотреть ответ Матвиенко, отвлекусь.
В начале 90-х я ехал в командировку в Японию и спросил у своей дочери, что ей из командировки привезти. А в это время вошли в моду куклы Барби, и она попросила у меня именно ее. И как-то вечером в Токио я возвращаюсь в гостиницу пешком в сопровождении двух молодых работников принимавшей меня фирмы, так-сяк говоривших по-русски. Проходим мимо универмага, я вспомнил о подарке и попросил японцев меня подождать (в этом чертовом Токио европейцу так легко заблудиться, что я не рисковал возвращаться один). Японцы сели в вестибюле универмага, а я поехал на эскалаторах, высмотрел отдел игрушек, купил Барби и спустился. Любопытные японцы вежливо поинтересовались, что я купил, а когда увидели, понимающе спросили: «Это для вашей внучки?» Меня этот вопрос огорчил, неужели я так паршиво выгляжу, что в свои 40 с небольшим кажусь дедом? Я спросил их:
— А сколько, по-вашему, мне лет?
Японцы посовещались и было видно, что они хотят мне польстить.
— Примерно 55, Мухин-сан.
— Да нет, — огорченно сказал я. — Мне всего 42.
— Как?! — изумились японцы. — Как вас в 40 лет могли назначить заместителем Донского-сана?
Тут я понял, в чем дело. У японцев руководителей повышают в должности исключительно со стажем работы, поэтому они примерно правильно оценили возраст Донского (а может, и знали его, поскольку о крупнейшем в мире заводе своего профиля они, безусловно, собирали все возможные данные). Затем, полагая, что и у нас так, японцы, вычли из возраста Донского несколько лет, чтобы определить мой возраст и возраст первого заместителя Донского и получили 55 лет.
И я решил их добить.
— Самым первым заместителем Донского являюсь не я, а главный инженер Матвиенко-сан, а он стал главным инженером в 33 года!
Японцы открыли рты…
Итак, я спросил Валерия Александровича Матвиенко о той причине, по которой его, тридцатитрехлетнего начальника 2-го цеха Донской рекомендовал министру назначить главным инженером нашего завода. Матвиенко сангвиник, поэтому ответил тут же, не думая.
«Матвей» — В.А. Матвиенко
— А кого еще было назначать? Лейбман закопался в шестом цехе, а я пил меньше Скуратовича, — но потом Матвей задумался, и, поняв, что он это как-то слишком просто объяснил, добавил: — правда, с тех пор, как я стал начальником цеха № 2, у меня не было месяца, чтобы цех не выполнил план, но ведь и ребята у меня в цехе были замечательные. Представляешь, в цехе № 4 взорванную на капремонте ванну печи разбирали полгода, а мы разобрали и вывезли за три дня!
— Вот видишь, ты показал Донскому, что можешь организовать людей даже на такую сложную работу, — заметил я.
— А что их было организовывать? Поставил ведро спирта, вот и вся организация, — засмеялся Матвиенко.
Я передал этот разговор практически дословно, а вы поставьте себя на место директора, которому нужен толковый главный инженер, и попробуйте по этому разговору оценить, годится вам Матвиенко для этой цели или нет. А я поясню непонятные вам тонкости.
Но вот взгляните на начало его ответа мне — разве этот ответ похож на ответ карьериста? Даже с десяток лет спустя Матвиенко немедленно, а посему искренне, вспомнил, что кроме него, эту должность могли занять еще двое, причем он это сказал так, что получается, что эти двое были лучше него (хотя тут он ошибается). Немного поясню. Цех № б был новым, с совершенно новыми, еще неосвоенными печами и оборудованием и почти вдвое более мощный, чем цех № 2, которым руководил Матвиенко. Все силы завода бросались в цех № б, поскольку с началом его нормальной работы ожидалась и нормализация работы всего завода. И упоминанием, что Лейбман руководил шестым цехом, Матвиенко поясняет мне, что нельзя было в тот момент снять с этого цеха Лейбмана, сильного начальника, и заменить его малоопытным. То есть Матвиенко как бы оправдывается в своем назначении на должность. Точно так же он оправдывается в том, почему назначили его, а не Скуратовича. Да, был у Саши Скуратовича такой грех, но у Донского, напомню, была поговорка: «Иногда единственным достоинством работника является только то, что он не пьет». Так что то, что Скуратович в то время начал злоупотреблять, для Донского не могло быть решающим фактором.
Спустя года три после занятия должности главного инженера Минчермет СССР предложил Матвиенко занять должность директора Челябинского электрометаллургического комбината — старейшего предприятия отрасли, по численности вдвое крупнее нашего завода, орденоносного, являющегося кузницей кадров Министерства. Если бы Матвиенко занял эту должность и СССР остался, то он точно стал бы министром, раз стал бы директором комбината в 36 лет. Нам было жалко расставаться с ним, но мы были горды: еще пяток лет назад наш завод в Мин-чермете считали бандой засранцев, а теперь Донской сделал из нас кузницу кадров! Но Матвей, к нашей тихой радости, отказался от этой должности, съездив и посмотрев на ЧЭМК.
По его приезде, после аппаратной оперативки я зашел к нему в кабинет.
— Валер! Ты чего? Такая должность!
— Да ну их на…й! Там весь комбинат разбился на коалиции, и каждая проталкивает на должность директора своего кандидата. Да они меня там сожрут! Я бы там не работал, а только объяснительные на их доносы писал.
Я тогда не стал уточнять подробности, мне хватало того, что Матвиенко остался с нами. Но, зная его, скажу, что внутризаводские интриги, пусть и неизвестные у нас на заводе, не более, чем проблема, а проблемы Матвей умел решать. Думаю, что дело в другом. Мы уже достаточно насмотрелись на Москву и уже поняли, что это за дерьмо. И одно дело, когда Матвиенко брался за тяжелую должность под руководством Донского, а другое дело, когда им напрямую руководила бы Москва, которая и предаст, и продаст.
Однако вы, читатели, всего этого знать не можете, но неужели первой фразы Матвиенко недостаточно, чтобы понять, что это человек, у которого карьера не стоит на первом месте? А это значит, что его карьера не будет мешать ему делать Дело, если вы ему это Дело поручите. Это плюс? Можно понять Донского?
Далее. Я писал, что все силы завод бросал на помощь цеху № 6 (и № 1), а цеха № 4 и № 2 были как бы «остаточного финансирования» — их хуже снабжали, меньше давали бригад для ремонта, их заказы исполняли после заказов цехов № 1 и № 6. И если бы цех № 2 под руководством Матвиенко время от времени не выполнял план, как это делал цех № 4, то можно ли было бы так уж сильно осуждать Валерия Александровича — самого молодого из начальников цехов? Но он всегда выполнял план! А по этому цеху план уже был выше, чем его проектная мощность. Как это характеризует Матвиенко?
Причем, обратите внимание, сообщив, что цех выполнял план, Матвиенко тут же отказался от собственных заслуг в этом — у него, видишь ли, «ребята были замечательные». Кто бы в этом сомневался — каков поп, таков и приход! Матвиенко скромничает? Отнюдь! Перед кем ему было скромничать, передо мной? Просто это осознание того, как мало ты, начальник, значишь как работник, и как много значат твои подчиненные, — это чувство, присущее только настоящим руководителям, чувство того, что нет у тебя большей ценности, чем твои подчиненные. С ними ты можешь сделать все, что угодно, без них ты ничто, как бы умен и знающ ни был. Это осознание того, что по большому счету порученное тебе Дело делают они.
Вот вы, читатели, на месте Донского спрогнозируйте, что произойдет со службой главного инженера, если ее возглавит Матвиенко? Правильно, она начнет комплектоваться «замечательными ребятами», вернее, подавляющее число работников этой службы такими ребятами станет. А почему им такими не стать, если шеф никогда не присвоит себе твоих заслуг, не спихнет на тебя свою вину, не забудет тебя наградить? Ведь Матвиенко и десяток лет спустя, уже давно не работая на заводе, в совершенно ни к чему не обязывающей пьяненькой беседе с приятелем не свои подвиги вспоминает, которых навалом, а искренне считает тебя «замечательным парнем». Под таким начальником можно работать?
Еще момент. На капитальный ремонт отводилось три месяца, начинался он со снятия старого кожуха ванны печи, взрыва самой ванны, практически ручной разборки и вывоза из цеха около 1000 тонн обломков. После этого начинала монтироваться новая печь. В целом ничего особо страшного не произошло бы (премия была бы та же), если бы Матвиенко разобрал и вывез обломки за две недели или даже за месяц — механики бы успели уложиться с ремонтом в оставшиеся месяцы. Но Матвиенко организовал дело так, что место под монтаж новой печи очистилось за три дня. Зачем? А ему было интересно — он, что называется, «хватал с неба звезды». А ведь тут одного желания схватить звезду мало, нужны еще ум и воля.
Да, Матвиенко отшутился ведром со спиртом, между тем, технический спирт никогда не был действенным стимулом к работе, поскольку на водку у всех хватало, а давиться спиртом не такой уж большой кайф. Это была традиция при выполнении тяжелых или сложных работ, за которые начальник в то время не мог поощрить деньгами, не давали ему такого права. И тогда он обязан был поощрить спиртом, иначе получалось, что рабочие, как дураки, забесплатно стараются, им будет обидно. А так получается, что они за доблестный труд что-то получили. И, главное, начальнику нужно иметь такой авторитет, чтобы рабочие согласились получить от него спирт, а не деньги, и при этом сделали то, что нужно было сделать. Думаю, что в цехе № 4, в котором в то время ванну разбирали полгода, с бочкой спирта расстались, а без толку. Так что дело не в спирте, а в том, что Матвиенко и его цеховые инженеры продумали и так организовали грузопотоки, средства механизации, так расставили людей и так организовали бесперебойность их работы, что Дело было бы сделано и без спирта. А спирт — традиция, и только.
Матвиенко отвечал мне, не задумываясь, и обратите внимание, упомянув про спирт, он ни в грош не поставил свое требующее большого ума и воли достижение, которое было недоступно другим начальникам цехов. О чем это говорит? О том, что для его ума и воли это рядовой случай, следовательно, вы можете оценить размер его ума и воли.
Я писал, что кандидатуру можно оценить по одному слову, по одному жесту. Вы прочли полсотни слов, сказанных Матвиенко в свободной, ни к чему не обязывающей обстановке. И что — будете критиковать Донского за то, что он этого 33-летнего инженера сделал главным инженером мощнейшего завода?
Нетрадиционные принципы подбора кадров
Вспоминая принципы, по которым Донской подбирал кадры, придется вспомнить о себе.
К 1987 году я был, как я полагаю, достаточно толковый и опытный инженер, и неплохой руководитель своего коллектива — цеха заводских лабораторий (ЦЗЛ). У меня были изобретения, рацпредложения, статьи в научно-технических журналах, к тому времени я уже провел самостоятельно десятки научно-исследовательских работ, имел авторитет среди коллег на других заводах и в научно-исследовательских институтах своего профиля, мне настойчиво рекомендовали написать диссертацию. План моего цеха выполнить было на порядок легче, чем план основного цеха, но за примерно 60 месяцев, которые я был начальником ЦЗЛ, мой цех раз 30 занимал первое место в соцсоревновании по своей группе цехов. И, главное, лично мне больше ничего не надо было, никакой другой карьеры, поскольку то, что у меня уже было, меня вполне устраивало на всю оставшуюся жизнь, ведь как ученый я мог расти не вверх, а вширь. Как говорилось о Верещагине в фильме «Белое солнце пустыни»: «Хороший дом, хорошая жена — что еще надо, чтобы спокойно встретить старость?»
Конец этой моей карьеры был то ли трагический, то ли анекдотический.
Во второй половине декабря 1986 года Донской должен был провести у меня в ЦЗЛ очередную встречу с трудящимися, и я некстати проявил административный энтузиазм. Чем-то ЦЗЛ накануне обидели, и я поручил начальникам участка и лабораторий расспросить людей о вопросах, которые они будут задавать директору, чтобы подготовить к ответу на них самого Донского. Хотел как лучше. Принесли мне списочек вопросов, и я, довольный, звоню Донскому и радую его этой своей подготовительной работой, но он меня и слушать не стал, а вдруг взорвался, наговорил мне много нехороших слов с выводом, что он ни в каких посредниках в общении с работниками завода не нуждается. Ну ладно…
Приезжает он в ЦЗЛ на встречу, и начинают ему мои люди эти самые вопросы ставить и, как я потом понял, довольно резко, хотя я, надо сказать, к такому общению с работниками своими привык. И вот вижу, что по ряду вопросов Донской не готов отвечать — не ожидал их. Но так ведь я же и хотел его предупредить — дать ему возможность подготовиться, а он: я сам, я сам! Ну, теперь и вертись сам.
Кончилась встреча, Донской меня подзывает и зло высказывается в том плане, что это я так специально подготовил работников цеха к встрече с ним и, как можно было понять с его слов, я дурно влияю на вверенных мне людей. Это, конечно, была глупость, но он моих оправданий не стал слушать и уехал. Я как-то и не тревожился по поводу этого нагоняя — было бы из-за чего! Но на следующий день заходит ко мне зам. директора по кадрам Т.С. Ибраев и объявляет, что Донской принял решение снять меня с начальников ЦЗЛ. Посему предлагает мне написать заявление об освобождении от должности по собственному желанию, и мне предлагается на выбор две новые должности: заместителя начальника техотдела и начальника цеха № 7. Даже должность зама начальника техотдела была равноценной моей и с таким же окладом, а должность начальника основного цеха № 7 была существенно выше… если бы этот цех был. Но он только проектировался, и неизвестно было, когда он будет построен, и начальник пока несуществующего цеха назначался именно для работы с проектантами и строителями. Но тогда я об этом не думал, поскольку немедленно разозлился: снять с должности? А за что?!! Я что — с работой не справляюсь?? А то, что мои работяги насовали ему херов в вопросах, так он сам виноват. И я говорю Ибраеву.
— Темирбулат, Донской — хозяин, и если он хочет снять меня с должности, то ему виднее. Но пусть издаст приказ об этом с указанием, за что именно я снят. Сам я никаких заявлений писать не буду!
— Юра, да ты не суетись! Представляешь, если снять тебя с должности, то какое пятно на всю жизнь будет в твоем личном деле? А так тебе предлагаются нормальные должности…
— Ср…ть я хотел на свое личное дело! Давайте мне приказ о моем снятии!
Темирбулат еще немного меня поуговаривал и ушел. Через пару дней вызывает меня тогдашний главный инженер завода Ю.Я. Катаев.
— Юра, ты же не прав. Донской ведь относится к тебе хорошо, а ты хочешь сделать из него врага. Конечно, тут ему шлея под хвост попала, но он же директор!
— Юрий Яковлевич, ты помнишь, в разных фильмах о войне есть сцены расстрела пленных? И в этих сценах несколько немцев пленных подводят к яме, затем отходят, заряжают оружие, целятся. А пленные видят, что их сейчас убьют, и никто ничего не делает. Ни один не прыгнет, не попытается немца хотя бы за ногу укусить. Почему?
— …Черт его знает! — растерянно ответил Кашаев, удивленный такой постановкой вопроса.
— А я прыгну!
Кашаев развел руками, и на этом его уговоры окончились.
Поясню причину уговоров и нежелания Донского писать приказ о снятии меня с должности. В СССР рабочие от произвола начальства были хорошо защищены КЗОТом и судом. Уволить даже откровенного бездельника и даже прогульщика было канительным делом, поскольку высока была вероятность того, что суд отменит приказ об увольнении из-за какой-нибудь чепухи. Но увольнение ИТР судом не рассматривались — для них судом были вышестоящие инстанции. То есть мне приказ директора завода надо было обжаловать не в суде, а сначала в главке, затем у министра, затем в Совете министров, в ЦК КПСС… Дело, конечно, было дохлое, но не совсем.
Донской в свою бытность директором практически никого из ИТР завода не уволил и не снял с должности, а со всеми поступал, как хотел и со мной: не справляющемуся с работой подыскивали место работы и предлагали самому на эту новую работу перейти. Но между этими моими коллегами и мною была разница — их снимали за Дело. То есть Донской без проблем мог написать и приказ об их снятии, и у него было, чем это снятие объяснить. Посему люди с благодарностью принимали его предложение, сами понимая, что Дело оказалось им не по плечу.
Меня же Донской хотел снять с должности ни за что — только потому, что ему шлея под хвост попала. Он же не мог написать в приказе, что снимает меня за то, что мои рабочие задали ему неудобные вопросы, на которые он сам напросился. А я в своей жалобе министру это написать мог, а поскольку я умел писать, то он понимал, что я жалобы на его приказ буду писать очень красиво, и он замучается по моим жалобам объясняться. Короче, напоролся настырный еврей на упрямого хохла. Сложилась патовая ситуация.
Наконец, утром 31 декабря позвонил сам Донской и сухо поставил ультиматум: или я до 24–00 31 декабря даю согласие написать заявление об освобождении меня с должности начальника ЦЗЛ, либо 2 января я буду работать дворником. Я ему сообщил, что я его понял. Испортил праздник, его мать!
Утром 2 января секретарь директора приглашает меня к Донскому к 10–00, и пошел я к нему за должностью дворника. Захожу в кабинет, он здоровается, предлагает садиться и как-то хитро на меня смотрит.
— Знаешь, зачем я тебя вызвал?
— Догадываюсь.
— Не думаю. Слушай, Юрий Игнатьевич, я предлагаю тебе занять должность моего заместителя по коммерческо-финансовым вопросам и транспорту.
Я опешил.
Это требует пояснения.
Он предлагал мне должность, которую в то время занимал Валентин Мельберг, с окладом в 310 рублей вместо моих 230 (у самого Донского оклад был 360 рублей), с персональными автомобилем и водителем, со статусом третьего руководителя завода (мне приходилось исполнять обязанность директора завода при одновременном отсутствии на заводе директора и главного инженера). Все это не могло не греть душу, не ласкать самолюбие, но, как я выше написал, мне это было не надо. Однако будем считать, что это доводы «за».
Доводы «против» были ужасны. Этот заместитель Донского отвечал, помимо финансовых вопросов, за снабжение завода всеми материалами и за работу транспорта. На всех предприятиях это были самые собачьи вопросы, а у нас это вообще была гибель. Дело в том, что фонды (разрешенные количества) материалов, которые выделялись заводу Госпланом и Госснабом, рассчитывались на тонну планового производства, а затем корректировались от их фактического расхода. Пока завод выполнял план на 70–80 %, ему всего хватало, но одновременно фонды (кроме сырья) были снижены до фактического расхода, и когда завод начал выполнять и перевыполнять план, фондов стало катастрофически не хватать. На любой оперативке половина вопросов адресовалась Мельбергу и отделу снабжения, и еще процентов 10–15 — ему же и транспортным цехам. Я сам на каждой оперативке негодовал, что у меня нет то колб, то фарфоровых трубок, то лодочек, то перекиси водорода, то еще черт знает чего. Фактически Донской предлагал мне должность, которая отвечала за три четверти плохо решаемых проблем завода. Это было ужасно!
Приводило в растерянность и другое. Я имел престижную в научных кругах должность начальника ЦЗЛ, я имел авторитет профессионала, и вдруг мне предлагают вновь стать молодым специалистом! Ведь я в вопросах новой должности был ни уха ни рыла. Я был простым покупателем на рынке, а мне вдруг предлагают с завтрашнего дня начать завозить черешню из Чили. А как это делается? Конечно, несколько успокаивала мысль, что Донской ведь не дурак и знает, что делает, предлагая именно мне занять эту должность. Но все же это было слишком!
Но были еще доводы «за». Я занимался проблемами управления людьми, проблемами бюрократизма, но примеры по большей части вынужден был брать из литературы. А тут я входил в первый эшелон руководителей министерства и экономики, я влезал в самую гущу исследуемого материала. Это было соблазнительно.
Но самым главным доводом «за» был такой. То, что это была очень трудная должность, к сожалению, знал не только я, это знал весь завод, все мои товарищи и приятели. Если я откажусь, то, что они обо мне подумают? И в конце концов, возможно, им можно было бы что-нибудь соврать, но что буду думать я о себе всю оставшуюся жизнь, — что я струсил? Нет, тут уж или грудь в крестах, или голова в кустах, тут для собственного уважения вариантов не было.
Не могу сказать, что «все это промелькнуло у меня в голове», я об этом думал потом целые сутки. А в тот момент мне, возможно, все эти вопросы дали по мозгам из подсознания, и я, повторю, опешил. Но надо было что-то отвечать, и я выдал перл:
— Я такие вопросы не решаю без совета со своей женой.
— Естественно, а как же! — засмеялся Донской. — До завтрашнего утра времени достаточно?
— Хватит.
(Надо как-то объясниться по поводу жены. Она у меня тоже хохлушка, а если кто не знает, что это такое, то пусть расспросит у знающих людей. Но в моих вопросах — вопросах мужа и отца — она мне никогда не перечила и всегда стояла горой за любые принятые мною решения, полностью полагалась на меня. Я, конечно, рассказал ей о предложении, но она мне, подумав, сказала что-то вроде: «Решай сам. Я тебя люблю в любой должности».)
Утром я дал Донскому согласие и тут же пошел к Мельбергу принимать дела.
Уже начав писать эту книгу, я вдруг заметил обстоятельство, о котором раньше как-то и не думал.
На должности вплоть до начальника цеха назначение делал сам директор своим приказом, а кандидатуры начальников цехов согласовывал горком КПСС. Меня же на должность заместителя директора завода назначал министр черной металлургии СССР, следовательно, согласовать министру мою кандидатуру должен был минимум обком. А я был беспартийный и с репутацией антисоветчика, я уже и в должности начальника цеха выглядел белой вороной на фоне всех моих коллег, членов КПСС. Зная Донского, я ни на минуту не сомневаюсь, что он мог пойти на авантюру в этом вопросе, то есть не мог предложить мне стать его замом, а потом сказать, извини, Юрий Игнатьевич, тебя в должности министр не утвердил. Это исключено. Следовательно, он согласовал мое назначение, по меньшей мере, по телефону, а ведь это канитель минимум дней на 10, поскольку звонить надо клеркам, а клерки в таком сложном случае, как мой, вряд ли приняли бы решение, не посоветовавшись со своими шефами. То есть когда 31 декабря он угрожал назначить меня дворником, он уже согласовал мое назначение своим замом!!! Ай да Донской, аи да кошкин сын! Это же он меня «на вшивость» проверял — сломаюсь я или нет? А если бы я отказался, а он уже согласовал мою кандидатуру? Ведь Мельберг увольнялся, не выдержав этой работы.
Должен сказать, что сам Донской считал меня человеком, способным найти очень нестандартные решения по Делу, даже рекомендовал меня в этом качестве нашим партнерам, если было нужно предупредить их перепуг от моих предложений. Но у меня остается обидное чувство, что собственно мое поведение как человека он все время просчитывал — мог его предсказать… Да, как говорится, опыт не пропьешь!
Вот и оцените, по какому параметру Донской подобрал меня? Я сам теряюсь. Думаю, что, как человек очень упорный в достижении цели, Донской не мог не уважать мое упорство. В конце концов опереться можно только на того, кто сопротивляется.
Оправдал ли я его доверие? Меня и тогда это не интересовало, и сейчас не интересует, и вам не советую ломать голову над вопросом, оправдываете ли вы доверие начальства. Меня всегда волновало только одно — доволен ли моей работой завод, на своем ли я месте? Может, был кто-то, от кого заводу было больше пользы, чем от меня? Знаете, такие мысли стимулируют работать, а мысли о начальстве стимулируют угождать начальству. И хотя угодить такому начальнику, как Донской, было не зазорно и даже почетно, но это все же не то!
Как же Донской решил проблему, которую в конечном итоге не смог решить Сталин — проблему знакомства с максимально возможным количеством кандидатов на вьщвижение в руководящие должности? Ничего сверхоригинального Донской не нашел: он просто знакомился с максимальным количеством тех работников завода, среди которых могут быть потенциальные кандидаты на повышение.
Напомню, он ведь каждый день бывал в цехах, знакомился с состоянием дел, для чего задавал множество вопросов работникам цехов — старшим мастерам, начальникам смен, мастерам и бригадирам — о тех или иных подробностях работы. А поскольку его считали своим, и он вел себя соответственно, то с ним охотно и откровенно разговаривали, при этом в таком разговоре сам собеседник Донского раскрывался: его эмоции, оценка тех или иных недостатков говорили Донскому о нем больше, чем сотни официальных характеристик.
Далее. Чем были его регулярные встречи с работниками каждого цеха? Сначала, конечно, на эти встречи являлось очень много народу из простого любопытства, но затем событие потеряло новизну, стало банальным, любопытные перестали приходить, записные демагоги — тоже, поскольку на этих встречах Донской не давал возможности развернуться болтунам и они в нем разочаровались. На встречи стали приходить только неравнодушные — те, кому не безразличны были дела в цехе и на заводе. Именно они задавали Донскому вопросы, именно им он объяснял ситуацию и видел, как они реагируют. Уверен, что такое же изменение состава встречающихся с директором произошло и на чаепитиях Донского с бригадирами завода.
Таким образом, спустя два-три года Донской уже постоянно вращался только среди тех работников, которые были активом завода, и не загружал свое время встречами с пассивом. И когда начальники цехов предлагали ему кандидатуры для повышения в должности внутри цехов, то он, может быть, и не мог сразу вспомнить фамилию, но по наводящим вопросам мог понять, кто это, а при встрече узнать человека. Соответственно у него было собственное мнение об этом человеке, и он на основе своего опыта мог компетентно одобрить кандидатуру начальника цеха либо предложить тому еще задуматься и поискать другого.
В чем тонкость системы Донского при работе с кадрами? Тут нужно понять, что любой человек, представая перед светлым оком начальства (что для него редкость) при вызове или выступая на каких-либо официальных собраниях, ведет себя так, чтобы начальству понравиться. Но когда он вместе с этим же начальством делает какое-то Дело (решает вопрос или ведет поиск решения), то он забывает об этой необходимости и ведет себя естественно — раскрывается.
А вот тут-то можно и понять, кто это и на что он годится.
Глава 10 НАШ ДИРЕКТОР БЫЛ ЛУЧШИМ!
Проблемы новой должности
Итак, случилось то, что случилось, и, совершенно неожиданно для себя и абсолютно нежданно-негаданно, в начале 1987 года я стал заместителем Донского по коммерческо-финансовой работе и транспорту. И это при том, что был абсолютным нулем в этих вопросах — хуже, чем молодой специалист. На что рассчитывал Донской? Сложно теперь сказать, да и он, спустя столько лет, вряд ли вспомнил бы. Важно другое, насколько я оправдал его расчеты?
Для этого надо хотя бы схематично обрисовать те проблемы, которые стояли перед заместителем директора по коммерческо-финансовым вопросам на нашем заводе.
Самая простая проблема — финансовая, простая потому, что ее у меня, по сути, и не было. Финансовый отдел подчинялся главной бухгалтерии, а она факультативно (учитывая роль главного бухгалтера в СССР) подчинялась тогдашнему заместителю директора по экономическим вопросам Г.А.Банных. Но я был распорядителем кредитов, то есть банк по документам с моей подписью делал проплаты, и таких подписей я ставил сотни в день, посему я обязан был знать, что подписываю («каждая подпись — шаг к тюрьме»). Отсюда вытекало, что мне нужно было знать основы бухгалтерии, но я уже писал, что глабух завода Х.М. Прушинская сняла с меня эту проблему, и я ставил свою подпись «не глядя», при наличии на документе ее подписи. Но зато все остальные проблемы были невероятно тяжелы. Поскольку часть из них мне пришлось решать в комплексе, то я их перечислю, начиная с самых пакостных. А первой пакостной, пожалуй, была проблема снабжения.
Дело в том, что хозяйственные руководители, встроенные в бюрократическую систему управления СССР, обязаны были скорее имитировать роль хозяина, а не быть им. Поясню.
Вот свободный хозяин, в чем его цель? Получить максимум прибыли, для чего увеличить выпуск продукции и увеличить качество продукции, чтобы увеличить ее цену при одновременном уменьшении себестоимости. Почему это его цель? Потому, что у свободного хозяина большая часть от увеличения прибыли идет ему в личный доход.
А у советского хозяйственника? Предположим, у него дело, дающее 10 млн рублей дохода и 0,5 млн рублей прибыли в год, — это его план, назначенный государством. У него со всеми премиями зарплата 700 рублей в месяц при выполнении этого плана. Положим, он может увеличить продажи и довести доход до 100 млн рублей и прибыль до 20 млн в год. Что его ожидает? Правильно, эти числа заложат ему в новый план, дадут Орден Ленина и зарплату в 720 рублей как особо ценному работнику. Это тоже стимул, да вот только на пути от 10 до 100 млн рублей лежат многие годы рискованных дел, включая внедрение новой техники и реконструкцию, которые имеют пакостное свойство мешать работе и выполнению уже имеющегося плана. А это означает, что и директор, и его работники могут лишиться многих тысяч рублей зарплаты каждый, пока директор не получит орден и месячную прибавку в 20~30 рублей, если получит.
Поэтому, если в СССР хозяйственник и срывал с неба звезды, то исключительно потому, что в этом, а не в деньгах, была жизнь, потому, что в этом творческом порыве он жил. Но таких, честно говоря, было не очень много, а большинство руководствовалось здравым смыслом — выполни план по производству на 100,5 %, а план по прибыли перевыполни на 1 %. Если у тебя есть резервы, то скрой их — план надо будет и дальше выполнять. Почему так? Потому, что на следующий год плановые органы увеличат тебе планку плана — сделают его в 100,5 % от прошлого по производству и 101 % по прибыли.
Если у тебя сдуру появится в этом году возможность увеличить прибыль на 20 %, и ты ее увеличишь, то ты дурак, поскольку в следующем году Москва увеличит тебе план по прибыли на 20 %, а прошлогодней возможности увеличить прибыль уже не будет. И тогда и ты, и подчиненные тебе люди будут весь год без премии. И кому это надо?
Госплан и Госснаб то, что производила промышленность СССР, делили между всеми в строго оговоренных количествах, эти количества назывались фондами. И тут было так: выделили тебе фонды на какой-то материал, а твои инженеры и рабочие нашли способ сэкономить его, и тебе уже столько не надо. Но ты этот материал все равно завозишь, иначе прибыль сильно увеличится, тебе увеличат на нее план, и ты останешься без резерва.
Или вот тебе что-то нужно, но тебе не дали на это фондов. Однако поставщик имеет резерв и может тебе поставить нужное и без фондов, но тогда он увеличит выполнение своего плана, и ему его в следующем году поднимут. Так зачем ты ему? В те годы был анекдот. В виде эксперимента послали нашего директора на американский завод, а американского — на наш. Через месяц встречаются и оба счастливые. Американец ликует: «Я для твоего завода набрал заказов на 10 лет!» А наш его радует: «А я для твоего завода ото всех заказов отбился!»
Это я вам обрисовал в принципе, что значило снабдить завод в те годы. А у нас была и еще одна проблема — проблема роста. Когда мы выполняли план на 70 %, то фонды нам были даны для 100 % и особых проблем со снабжением не было, проблема была в другом — у нас не было денег купить все, что нам было положено, и мы фонды не выбирали. Соответственно умники в Москве нам их срезали, и когда Донской настроил работу завода, и мы стали выполнять план на 110 %, вот тут-то и началось! Фонды-то были для 70 %.
Было и еще горе. Когда мы выполняли план на 70 %, то наши ферросплавы были дефицитом, соответственно, мы могли на них менять то, что нам нужно. Скажем, приезжает кто-нибудь, кому мы не додаем ферросилиция, и просит поставить ему его плановую норму, а наши снабженцы предлагают ему поделиться фондами на лес или еще на что-то, что нам нужно. И он нам что-нибудь да даст, поскольку понимает, что нам все равно, кому недопоставить наш дефицитный товар. Но начали мы план перевыполнять, и малина окончилась, теперь наша продукция перестала быть дефицитом, и никто ничего не хотел на нее менять.
И вот тут-то я и стал отвечать за снабжение завода.
По железнодорожному цеху все проблемы были во взаимоотношениях с железной дорогой, и заключались они в тупых штрафах, которые должны были выплачивать работники нашего ЖДЦ, так что основная масса моей работы по этому цеху, помимо обычной работы в области снабжения, была в защите моих людей от штрафов.
По автохозяйственному цеху проблем было не очень много, и заключались они, в основном, в постоянных нехватках бензина, что, между прочим, во многом объяснялось отсутствием у нас на заводе малотоннажного автотранспорта. Надо какую-нибудь чепуху весом в 100 кг из Павлодара привезти, посылаешь ЗиЛ-130. Из малотоннажного транспорта был один «Москвич-пирожок», а остальные автомобили — ГАЗоны, ЗиЛы и КамАЗы.
И, наконец, совсем горе было с выпуском товаров народного потребления, за которые я тоже отвечал. И план был чепуховый — что-то около 130 тысяч рублей в год, а выполняли «со страшным скрипом». Напомню, что делали мы гаражи из стали, предназначенной для технологического процесса — для изготовления самоспекающихся печных электродов. Мало того, что эта сталь на тот момент сама по себе была страшнейшим дефицитом, так мы еще и затоварили этими гаражами всю округу и к тому моменту за свой счет возили эти гаражи даже в Экибастуз, чтобы только продать и выполнить этот хренов план. От этого плана ТНП у меня голова пухла — ну, сами посудите, ведь товар народного потребления требует же специального производства, он должен быть и хорошего качества, его должно быть приятно и в руки взять, и купить. Что мы на металлургическом заводе могли такого сделать? Разумно было бы, если бы у нас были какие-то отходы, которые можно было бы превратить в какую-нибудь вещь. Но я облазил весь завод, все склады металлолома — ни единой светлой мысли: ну ничего нет, чтобы можно было превратить во что-то нужное людям.
А тут, как назло, на заводе построили «цех товаров народного потребления», и теперь меня обком начал бить за то, что у нас цех есть, а товаров нет. Дело в том, что мой предшественник, Мельберг, хитрован, чтобы обком от него отцепился, запланировал построить «цех товаров народного потребления», а на самом деле Валентин заказал построить здание метров 12 х 36, благо в понимании обкомовских придурков «цех» — это такое здание. Ну, обком и ждал, что из этого здания товары рекой хлынут. Валентин уволился, и как раз при мне это здание и достроили, и обком ко мне с претензиями — где товары? В обкоме, видишь ли, этот «цех» под особым контролем, о нем и в Москву уже доложили, все товары ждут…
Какие товары?! Чтобы выпускать товары, надо сначала понять, какой именно товар будет производиться, затем разработать технологию его производства, затем обставить эту технологию станками и оборудованием и только затем накрыть их зданием. Что же вы с конца начали? Что же вы в Москву отчитались за пустую коробку? Что я теперь должен — искать производство не того товара, который нужен людям, а того, чье производство в эту коробку влезет? Ищи, — отвечают, лишь бы производство увеличил, а то область по этому показателю отстает.
Что я только ни искал: и производство кирпича, и на стекольные заводы ездил, и производство бытовых аккумуляторов, и черт знает что еще. В конце концов нашли, что в это здание может влезть производство баллончиков с углекислотой для бытовых сифонов, но оборудование для этого производства можно было получить только по частям и в течение четырех лет. А обком каждый месяц «на ковер» вызывает, все товары требует…
Голова кругом шла, и единственно, что спасало, так это то, что директор был умный и что подчиненные были замечательные: что начальник отдела снабжения Володя Шлыков, что начальник ЖДЦ Игнат Главацкий, что начальник АХЦ, мой друг, Серега Харсеев, что начальник отдела ТНП Володя Москалев. И мысли не было, что они не сделают все, что можно сделать, и еще все, что можно сделать, из того, что сделать нельзя
Но это они замечательные, а я?
Частичное решение вопроса снабжения
А я был кем-то вроде инвалида.
К примеру. По должности я обязан был ежедневно следить за поставками на завод сырья. Сектор сырья отдела снабжения каждое утро делал расчеты остатков сырья на складах завода, отгрузки сырья поставщиками, заполнял числами журналы и носил их на стол мне и директору. Мне полагалось их смотреть, и если по какому-то виду сырья намечалось снижение остатков до угрожающего уровня, то звонить поставщикам, посылать телеграммы их руководству, принимать меры. Но, бывало, так закрутишься по поиску других позиций снабжения, что забываешь эти журналы просматривать. И как-то раз Донской задает мне вопрос по сырью, а я не в курсе дела, он укоризненно посмотрел на меня, после чего я с неделю журнал просматривал, потом опять замотался. Проходит время, опять у нас провал по какому-то виду сырья, а я опять не в курсе дела. Опять Донской укоризненно посмотрел, опять я с неделю просматривал журнал и звонил поставщикам, если надо было. И опять замотался. И как-то вспоминаю: что-то Донской уже давно меня про сырье не спрашивает, а я уже с пару недель в журнал сырья даже не заглядывал. Ищу журнал на своем столе и не могу найти. Звоню в сектор сырья — почему журнал не принесли?! А мне отвечают: Донской распорядился — Мухину журнал не носить. Дожил — директор часть моей работы взял полностью на себя!
Нет, думаю, так жить нельзя, нужно что-то придумывать. И нужно было начинать с проблем снабжения завода — это и меня, и весь завод уедало больше всего.
Конечно, сейчас трудно восстановить в памяти, на чем я основывал свои мысли, но, думаю, что ход их был примерно таков. В том, что заводу не выдают фонды на материалы, достаточные для успешной работы, виноват бюрократический аппарат управления народным хозяйством СССР — те бюрократы, которые сидели в Москве. Но ведь я уже давно исследовал проблемы управления людьми, а это проблемы бюрократизма, я по идее специалист в этой области, так что же толку от этих моих исследований, если я сам не могу использовать их результаты? И скорее всего я начал думать, чем из имеющихся у меня средств я могу на эту бюрократическую толпу подействовать?
Начал я с проблемы снабжения завода сталью. Стальной прокат, расходуемый на производство, планировался пропорционально плану, но раз мы план раньше не выполняли, то и прокат в этот период весь не расходовали. Соответственно, планирующие органы ежегодно снижали нам плановые фонды (возможность сталь купить). А когда завод начал становиться на ноги и производство начало расти, то московские бюрократы повышали фонды очень медленно. Скажем, в прошлом году нам было разрешено купить 7 тыс. тонн (числа условные), а в этом году нам фонды повышают до 7,2 тысячи и еще и требуют, чтобы мы за это благодарили, хотя нам уже для работы нужно 9 тысяч. Отдел снабжения весь год «на ушах стоит», выменивая и выпрашивая необходимую сталь, и все равно, раз за разом из-за ее отсутствия мы останавливали производство. Когда остановимся, тогда нам подбросят 2–3 вагона, и снова наши снабженцы кувыркаются. А Москва планирует и планирует «от достигнутого». Как раз, повторю, в это время меня и назначили замом директора по коммерции, и, естественно, я поехал в Москву к тамошним бюрократам. Я возил туда расчеты потребности завода в стальном прокате, пытался доказать, что нам уже необходимо его 10 тысяч тонн в год, но без толку, я для бюрократов был никто, более того, я был лицо заинтересованное в «разбазаривании государственного имущества», а они его, видишь ли, берегли. Что было делать с этими московскими уродами?
Надо было давить на их слабое место, а таким местом у бюрократа является его страх показаться некомпетентным в глазах начальства. Вот я и подумал, а не доказать ли, что бюрократыУправления снабжения Минчермета некомпетентны? Мы, заводские работники, могли бы это доказать гораздо лучше кого-либо, но кому это доказывать? Ведь и начальство у бюрократа может еще и глупее самого бюрократа, а мы, заводские работники, «никто» в глазах этого начальства.
Однако бюрократы из-за своей некомпетентности просто благоговеют перед «наукой», благоговеют именно потому, что ни бельмеса не соображают, о чем эти ученые говорят. Представься «наукой» и можешь вешать на уши дураку любую лапшу, он из-за своей глупости вынужден воспринимать твою чушь как истину в последней инстанции.
Но ведь я был начальник цеха заводских лабораторий и возглавлял научно-исследовательские работы по заводу, то есть я был достаточно компетентен в том, что это такое «наука», я сам был тем, кого называли ученым, сам был «наукой». Вот я сажусь и пишу «Отчет о научно-исследовательской работе по определению научно-обоснованных норм на прокат Ермаковского завода ферросплавов». Оформляю его как надо — с графиками, схемами, литературным обзором и т. д. — и рассчитываю себе потребность по году не 9 тысяч тонн, а для ровного счета — 20 тысяч тонн. Заключаю с головным научно-исследовательским институтом договор о том, что это якобы он провел эту работу, завод оплачивает институту эту «работу» небольшими деньгами, и институт украшает мне мой отчет своими подписями и печатями. Везу эту бумагу в Управление снабжения и хлопаю ею об стол!
Бюрократы стали в тяжелое положение, понимая, что теперь при любых срывах производства завод будет обвинять лично их, бюрократов Управления снабжения, мотивируя отсутствием стали для производства. И завод будет ссылаться не на свои справки, а на эту «научно-обоснованную потребность». С другой стороны, бюрократам плевать на то, сколько я израсходую стали, им важно, чтобы лично их не обвинили в бесхозяйственной ее выписке заводам, а «наука» этим моим халтурным отчетом снимала с них ответственность. В результате я получил эти 20 тысяч тонн, после чего я и мои снабженцы навсегда забыли об этой проблеме.
После этого таким же путем, оплачивая небольшими деньгами участие в этом научно-исследовательских институтов, мы решили вопрос металлорежущего инструмента, леса и, по-моему, чего-то еще (я, проторив дорогу в данном вопросе, перестал этим заниматься лично).
Думаю, что именно после того, как я решил проблему с обеспечением завода сталью, мои подчиненные — отдел снабжения — впервые взглянули на меня как на вещь, полезную в хозяйстве.
Взятка голыми бабами
Что касается другой группы моих подчиненных, коллектива железнодорожного цеха, то и тут через несколько лет мне представился случай показать, что и им заместитель директора завода по транспорту не без пользы.
Был у меня такой анекдотический случай. Заводу была установлена норма простоя железнодорожных вагонов (всего подвижного состава) 16 часов. Это означало, что среднее время, за которое мы должны разгрузить прибывший на завод вагон, помыть его и сдать обратно железной дороге пустым или с грузом, не должно было превышать 16 часов. Норма устанавливалась на 5 лет, и мои заводские железнодорожники с нею так-сяк справлялись: полувагоны мы разгружали быстрее, вагоны медленнее, но в среднем у нас все получалось. И вот года через два после принятия мною должности зама по коммерции и транспорту, приходят ко мне мои железнодорожники в отчаянии: им сообщали, что начальник Целинной железной дороги распорядился на новый срок установить нам норму в 6 часов! Для нас это означало следующее: уложиться в эту норму мы не сможем никак, железная дорога будет штрафовать завод, а прокурор будет этот штраф персонально возлагать на работников нашего железнодорожного цеха, т. е. оставит их полностью без зарплаты.
А железнодорожный генерал взял это число вот откуда. Рядом с нами была Ермаковская ГРЭС, практически весь груз которой составлял экибастузский уголь, причем доставляемый на ГРЭС летучками, то есть железнодорожными составами самой ГРЭС. ГРЭС получала состав, с помощью вагоноопрокидывателя в минуты разгружала полувагоны, не мыла их, не грузила никаким грузом, а тут же отправляла их в Экибастуз. Из-за такой скорости погрузочно-разгрузочных работ на ГРЭС была установлена норма простоя вагонов в 4,5 часа. И мы на заводе имели 2 вагоноопрокидывателя, но пропускали через них едва треть полувагонов, однако потом мы мыли эти полувагоны и ставили под погрузку своей продукцией. Остальной же подвижной состав разгружали кранами или погрузчиками, а порою и руками. А этот целиноградский придурок, узнав про наши вагоноопрокидыватели, решил облагодетельствовать Родину и установить нам норму, как на ГРЭС! Вопрос был настолько серьезный (речь шла о сохранности персонала цеха и о работе всего завода), что я обязан был этой нормой заняться лично.
Железнодорожный генерал вызвал нас в Целиноград, чтобы при нас самому утвердить эту норму с видимостью того, что он, дескать, выслушал наше мнение. Накануне мой железнодорожный цех просил меня добиться у генерала хотя бы 10 часов, но меня разозлил этот тупой сволочизм и я уже морально был готов дойти до Кремля, поэтому распорядился приготовить мне расчет новой нормы в 15,2 часа. Мои железнодорожники, зная собачьи порядки и безнаказанность Министерства путей сообщения, убеждали меня не делать этого, не злить генерала, а то будет еще хуже! Но мне «попала шлея под хвост», и я настоял на указанном расчете.
Взял с собою в командировку в Целиноград зама начальника нашего железнодорожного цеха, который раньше работал в МПС и имел приятеля в Управлении Целинной железной дороги, командировочные на 10 дней, 150 рублей на выпивку с работниками этого управления, и черт меня надоумил вот еще на что. Накануне я ездил в командировку в Югославию, а СССР в это время был очень пуританской страной — не то, что порнографии, а и эротики в помине не было (зато рождаемость была неплохая). Прилетели в Югославию, а там все газетные и книжные киоски в голых женских сиськах и задницах. Ну, я и соблазнился, правда, со страхом, перевезти через таможню в СССР кое-что, в том числе и три колоды эротических карт. Вот одну из них я и взял в Целиноград.
Приехали утром, бросили вещи в гостинице и пошли в Управление. Приятель зама железнодорожного цеха оказался заместителем начальника как раз того отдела, через который наш расчет должен был попасть на рассмотрение начальнику Целинной железной дороги, и который должен был нас повести к генералу на «аутодафе». Самого начальника отдела не было, и этот зам, молодой мужчина лет 35, был за старшего. Он тоже ужаснулся предложенной нами норме и никакие намеки на вечернюю выпивку его не успокаивали, он был уверен, что этот вопрос решить нельзя, не установит нам генерал норму в 15,2 часа. И тут мне пришла в голову мысль подарить ему эту колоду карт с голыми бабами. Он сперва не понял, что это я ему презентовал, а когда понял, то быстро бросил их в ящик стола, потом, теряя нить разговора, переложил в карман и, извинившись, сказал, что ему срочно нужно решить одно дело, после чего выскочил из комнаты. Я вышел в коридор перекурить и минут через 15 увидел, как он вышел из туалета.
А поскольку вид у него был довольный, то я в продолжение разговора предложил ему следующее. Он, опираясь на наш расчет, готовит проект решения начальника Целинной железной дороги на установление нам нормы в 15,2 часа. Далее, прикинувшись дурачком, не знающим, что генерал собирался установить норму в 6 часов, кладет этот проект в пачку других бумаг на подпись к генералу и идет к нему подписывать всю эту пачку документов сразу. Подмахнет генерал, хорошо, обратит внимание, что уж тут поделать, не получилось! Он так и сделал: собрал стопку документов и телеграмм на подпись начальнику дороги, пошел с ними к генералу и вернулся сияющий: генерал подмахнул, не читая, что подписывает!
Вечером мы этого приятеля напоили, я отдал ему оставшиеся 60 рублей «на такси» (такси тогда стоило максимум трояк с чаевыми), и мы расстались довольные друг другом. Ночевать в Целинограде не стали, ночью выехали попутным поездом и утром вернулись в Ермак. Я получил чрезвычайно трудное решение чрезвычайно дешево, почти даром!
На завод приехал к 12-ти, шла селекторная оперативка и я позвонил в ЖДЦ Главацкому, коротко сказав, чтобы он после оперативки пришел ко мне, а сам доложил результаты командировки Донскому и вернулся в кабинет. Поскольку я вернулся через сутки, то в ЖДЦ решили, что начальник Целинной железной дороги просто выгнал меня, увидев, что мы просим 15,2 часа. Посему делегация ЖДЦ явилась ко мне в кабинет с видом людей, явившихся для выноса гроба с телом покойного. Я предъявил им бумагу с подписью и печатью, они какое-то время не могли поверить, а потом взглянули на меня где-то даже с уважением
Работа по газетам
Но оставались еще сотни позиций снабжения, от автотракторного топлива до строительных материалов, которые, по сути, без «дефицита» нельзя было решить, то есть их в подавляющем числе случаев нужно было обменивать на какой-то нужный товар, а такого товара из-за хорошей работы завода у нас не было. Гвоздем в заднице оставался выпуск товаров народного потребления.
Однако шла перестройка, в Москве болтали про самостоятельность предприятий, про свободу их выхода на мировой рынок. А у нас с этим дело обстояло так. Мы и раньше процентов десять продукции поставляли на экспорт без проблем — металл-то был у нас прекрасный. Но никакой пользы, кроме головной боли, нам от экспорта не было. По существовавшим уже тогда положениям, 10 % валютной выручки должно было идти на счет завода-экспортера. Правда, это были не доллары и марки, а, так называемые, переводные рубли — стоимость валютной выручки, пересчитанная в рубли по курсу Госбанка. А поскольку нам за весь металл, поставляемый на экспорт, внешнеторговая организация оплачивала по внутренним ценам сполна, то эти «переводные рубли» были не собственно деньги, а только право на эту сумму купить импортные товары, заплатив за них советскими рублями столько, сколько они стоили в «переводных рублях».
Но для заводов все это было декларацией, поскольку производителями экспортных товаров считали себя министерства, вот они и забирали себе эти «переводные рубли» и сами покупали заводам то, что они считали нужным. Причем явственно чувствовалось, что они считают нужным то, за что им фирма-продавец даст взятку. Я помню, как мы категорически всем заводом отказывались от того, чтобы наше министерство покупало нам два японских свода на печи. Во-первых, у нас на заводе 20 печей, укрытых сводами, а в год мы меняем 60 сводов, так что нам толку от 2-х? Во-вторых, такие же своды нам предлагала своя промышленность, но только раз в 15 дешевле. Тем не менее министерство нам эти своды купило, они поработали, пока не вышли из строя, мы их выбросили, заменили отечественными, и на этом все закончилось.
Заказать же Министерству то, что действительно необходимо, было просто невозможно. Такой вот пример. Купили нам немецкую дробилку, неплохую, слов нет, но и не сильно превосходящую советские. Кончился гарантийный срок, и вышли из строя у этой дробилки подшипники, шведские. Наша промышленность вот именно таких размеров подшипники не выпускала, и я обратился в министерство, чтобы оно купило нам запасные на сумму 1500 долларов. Мне прислали бланк заказа на импортное оборудование, а в нем требовалось, как сейчас помню, получить 16 справок, в том числе справку от советского министерства, выпускающего аналогичную продукцию, в данном случае — подшипники, что оно не имеет и не будет иметь научно-техническую возможность эту продукцию выпускать. Как получить такую справку в стране, первой прорвавшейся в космос и изготовляющей все — от компьютеров до атомных ледоколов?
Это все равно, что спросить ныне покойного АЗЛК, может ли он построить три «Мерседеса»? Да нет проблем! В мае 1940 года купили у немцев образец их тяжелого истребителя Ме-110, скопировали, реконструировали в качестве пикирующего бомбардировщика Пе-2 и к концу того же года начали серийно выпускать. Причем и выпустили Пе-2 больше, чем немцы Ме-110, и использовали их эффективнее, чем они свой Ме-110.
Так какие, повторю, проблемы для АЗЛК изготовить три «Мерседеса»? Но сколько они будут стоить и сколько «Москвичей» недовыпустит АЗЛК из-за этих трех «Мерседесов»?
А справку о том, почему же само министерство купило нам дробилку, аналоги которой выпускаются в СССР, и почему оно не закупило к ним запчасти, кто даст? Нам пришлось эту немецкую дробилку порезать и выбросить в металлолом, а на ее место установить советскую.
Так что пользы заводу от того, что он был мощнейшим экспортером, не было ни на цент. Министерство и не думало лишаться взяток при заключении контрактов, и не собиралось давать заводам возможность самим закупать за рубежом то, что необходимо. Но вернемся в Ермак.
Как-то заходят ко мне в кабинет и знакомятся директор Павлодарской мебельной фабрики Марат Чукумов и мой коллега, его зам по коммерции Владимир Седлецкий. Рассказывают свое горе: их фабрика была спроектирована на изготовление мебели в кооперации со странами СЭВ. Югославы поставляли переднюю часть мебельных гарнитуров — фасады, а сами коробки мебели изготовляла фабрика, соединяла коробки с фасадами и получала приличную мебель. Но, как сейчас все понятнее и понятнее, перестройка имела целью разрушение промышленности СССР, и, что касается Павлодарской мебельной, вскоре после начала перестройки была дана команда прекратить закупать в Югославии фасады для этой фабрики. Но у фабрики не было оборудования для их самостоятельного изготовления, что ей делать? Как выпускать мебель? Их министерство отвечало: что хотите, то и делайте, но план выполняйте А как? Вот они и приехали ко мне, услыхав, что ферросплавный делает большие поставки на экспорт, и узнав, что экспортерам полагается 10 % валютной выручки. Приехали просить дать им валюты, закупить в Югославии фасады, чтобы дать своей фабрике хоть как-то работать. А чем я мог им помочь, если мы сами этой валюты в жизни не видели, и она даже в наших бухгалтерских отчетах никак не отражалась? Чукумов и Седлецкий поняли, в чем дело, мы немного посидели, поплевались, и они уехали.
Вскоре после этого я был в командировке в Алма-Ате и в гостинице наткнулся на Чукумова с Седлецким. Марат с Володей пригласили меня сходить вечером на встречу со своими югославскими партнерами, которые приехали помочь фабрике пробить через Правительство Казахской ССР закупку у них мебельных фасадов. Вечер был не занят, и я пошел. Встреча была у кого-то на квартире, где я и познакомился с представителем югославской фирмы «Югодрво» в Москве Средое Вукашиновичем, хорошо говорившим по-русски. Он тоже был в недоумении и растерянности: из-за разрыва отношений «Югодрво» несло убытки, но не могли же они поставлять в Павлодар мебельные фасады бесплатно!
Это одна предыстория дальнейшего развития событий.
А вторая выглядела так. Когда Донской заставил министерство увеличить штатную численность завода и, в том числе, заводоуправления, он выбил должность заместителя директора по экономическим вопросам. Поскольку на заводе должности этого зама никогда не было, то все зависело от человека на этой должности — начнет он делать что-нибудь полезное, значит, станет нужен заводу, не начнет, ну так и без него обходились. На эту должность был принят Г.А. Банных откуда-то из Павлодара. У нас он курировал плановый отдел, бухгалтерию с финансовым отделом, отдел труда и отдел сбыта. Это такие направления работы, по которым нет плана, нет рабочих, нет головной боли, поскольку все отделы работали как часы и в отдельном начальстве не нуждались. Тут либо самому Банных нужно было начать что-нибудь выдумывать, творить, либо ему нужно было сидеть тихо и ждать пенсии. Генка же и творить не собирался, и быть никому не нужным ему тоже было обидно. И начал он начальников цехов донимать разной придурью, чтобы они заметили, какой он большой и важный начальник. А достать он нас мог в основном через отдел труда путем сокращения в наших цехах плановой штатной численности. Как я понимаю, основные цеха он не сильно трогал, побаиваясь Донского, а вот во вспомогательные пришлет план сокращения штатов, и иди к нему кланяйся, чтобы он штат восстановил. И по всем параметрам мужик был вроде неплохой, и вот такая начальственная придурь.
И что-то у меня как-то сразу с ним отношения не сложились, не лежала у меня душа ему кланяться. Кроме того, на фиг он особо нужен, если есть Донской и с ним можно решить вопросы штата своего цеха, если Банных не будет их решать? Со временем начали мы с Банных ругаться, а он в отместку берет и штат у меня в ЦЗЛ сокращает. Как-то он меня достал, и я на его план по сокращению штатов взял и подал в отдел кадров документы на сокращение его жены, которая у меня в химлаборатории работала. Знал, конечно, что ее-то не сократят (кстати, и работник она была хороший). Донской узнал, вызывает:
— Юрий Игнатьевич! Ну разве так можно?!
— А ему можно? У меня в ЦЗЛ штат и так растет медленнее, чем в среднем по заводу, какого хрена требовать от меня каждый квартал сокращения?!
Донской пообещал поговорить с Банных, и тот пыл умерил, хотя любви нам эти конфликты не добавили.
И вот стал я замом, и вначале отношения с Банных складывались нормально, он мне совершенно не был нужен. Его службы — бухгалтерия и финотдел — сами работали со мною как с замом, поскольку Дело так требовало, и они это понимали, а отделом сбыта руководил мой старый приятель Вадим Храпон, и если мне требовалось что-то от отдела сбыта, то Банных мне был без надобности.
Но, как я уже писал, со вступлением меня в должность зама, жизнь моя стала, как говорится, «бить ключом и все время по голове». Не справлялся я с проблемами. Само собой, что вскоре возникла у меня творческая мысль, часть своих проблем кому-нибудь сплавить. И возникла идея сплавить Банных производство товаров народного потребления, поскольку он единственный из замов, не отвечающий ни за какое производство. Пошел я к Генке с этой идеей, а он, естественно, окрысился на меня, как Ленин на буржуазию. Пошел я к Донскому, и он меня не поддержал. Тогда я выступил с этим предложением на каком-то совещании, но Донской подавил мой бунт, запретив поднимать этот вопрос.
И вот как-то просматриваю я «Правду», а там совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о расширении самостоятельности в области внешнеэкономической деятельности.
Тут надо сказать, что хозяйственники к подобным постановлениям, имевшим ранг закона, относились без какого-либо интереса, я бы сказал, даже не читали их. Дело тут вот в чем.
СССР был обюрокрачен, а для бюрократа страшно не какое-то там большое начальство, не какое-то ЦК КПСС, а непосредственное начальство. И все знали, что работать по подобным постановлениям нельзя, поскольку через какое-то время из Совмина в министерства поступит разъяснение, как это постановление исполнять. И это разъяснение может кардинально изменить само партийно-правительственное постановление, поскольку бюрократический аппарат изменяет указания начальства для своего удобства. Я же писал, что «во времена оно» уже было постановление о выделении предприятиям 10 % экспортной выручки, а чем оно закончилось?
В свою очередь в министерствах эти разъяснения еще раз видоизменят для своего удобства, переделают в инструкции и только после этого спустят заводам, но и после этого никто не будет шевелиться, поскольку все будут ждать, когда подробные инструкции поступят в местные контрольно-финансовые органы. Вот когда эти органы объяснят нашим бухгалтерам, как и что они будут контролировать, вот тогда и хозяйственники зашевелятся. Так что от публикации в газете партийного постановления до начала его исполнения или имитации исполнения проходило с полгода — год, поскольку дураков работать по газетам не было, все работали по инструкциям.
Так вот, просмотрел я это совместное постановление в «Правде», и глаз зацепился за два понятия: «валютный кредит» и «бартер». Причем, что такое «бартер», я понятия не имел, а просмотрев все словари, не нашел этого слова. Но из контекста следовало, что имеются в виду какие-то торговые операции с внеплановой продукцией. В любом случае мне незачем было в это вникать, поскольку и берущий кредиты для завода финансовый отдел, и отдел сбыта подчинялись Банных, соответственно, все это постановление входило в круг его обязанностей.
Я иду в финансовый к начальнику этого отдела Беловой: так и так, Татьяна, срочно оформляй валютный кредит, раз партия разрешила. Она замахала руками:
— Нет, нет и нет!!! В рублях возьму любой кредит, а о каком-то там валютном и не заикайся, не только нет никаких инструкций, как его брать, но нет и ни малейших инструкций, как его проводить. Ты хочешь, чтобы нас посадили?!
Иду к Банных: твои люди не знают, как взять валютный кредит, надо тебе, Ген, ехать в Москву и самому все выяснить. А он мне что-то типа: мне этот кредит и на хрен не нужен, а тебе нужен, ты и езжай в Москву.
Я к Донскому:
— Семен Аронович! Ведь мы могли бы хоть немного помочь снабжению, купив что-нибудь за рубежом. Ну, пусть Банных сделает хоть что-то полезное для завода.
Шеф заинтересовался этим вопросом, взялся его решить, а потом вызывает меня и говорит:
— Дело и в самом деле интересное, так что езжай-ка ты, Юрий Игнатьевич, в Москву и попробуй оформить этот кредит…
— А Банных?!
— Езжай, езжай, дело нужное, забудь про Банных.
В то время я на Донского за такие вещи обижался: если есть человек, который по должности обязан это дело сделать, то зачем поручать его мне?! Потом только я понял, что обижаться не имею права, поскольку ведь и сам поступал и поступаю точно так же: если дело очень нужное и ответственное, то поручаю не тому, кто обязан его делать по должности, а тому, кто его способен сделать: кто везет, на том ездят. Есть похожая шутка менеджеров: если дело нужно сделать срочно, то поручи его тому, кто больше всех занят, поскольку остальным некогда.
Набрал я попутных дел для решения в Москве и поехал. Пробился во «Внешэкономбанк», а там таких умных, как я, уже человек 5: ходят с газетой «Правда» и выясняют, уважают ли работники «Внешэкономбанка» партию и правительство? Я к ним присоединился, и мы общей толпой привели банкиров в растерянность. Ведь они не только не получили никаких инструкций из Минфина, но и сам Минфин еще толком не знал, что делать. Выдали нам во «Внешэкономбанке» бланки для получения кредита и потребовали предоставить гарантии от наших предприятий-экспортеров, что эти предприятия взятые кредиты банку вернут из 10 % выручки, которые полагалась предприятиям и которые у заводов изымали министерства.
Тут мне повезло, что я уже раньше был знаком с ребятами из «Промсырьеимпорт» и они меня помнили по работе с претензиями иностранных покупателей. Посему я быстро договорился с ними о встрече. Начальник отдела, торговавшего нашими ферросплавами, В.Г.Бельченко, охотно согласился помочь, но предупредил, что он вернет банку в оплату за мой кредит деньги, которые он обязан перечислять министерству черной металлургии, поэтому мне нужно действовать быстро, пока министерство не очухалось. Сам он немедленно подготовил гарантийные обязательства и сходил подписал их (директором «Промсырьеимпорт» был сын бывшего Генсека Л.И. Брежнева), а я с нужными бумагами рванул во «Внешэкономбанк» и оформил на завод кредит в 100 тысяч инвалютных рублей.
Теперь нужно было срочно их потратить, пока министерство не подняло скандал, а я ведь не особо надеялся кредит получить, поэтому и не сильно готовился к тратам, тем более, в пожарном порядке. Я ведь тогда не знал, ни какие фирмы, чем торгуют, ни цен не знал, ни какие советские внешнеэкономические организации эти товары закупают, да и договоров на закупку по импорту у меня с ними не было. Все это требовало специально этим вопросом заниматься, а когда, если у меня своей работы по горло? Я снова попытался передать эту работу Банных, и опять он отказался ею заниматься.
И тут мне пришла в голову неплохая мысль, тем более, что я не сильно помогал работать своему другу, начальнику АХЦ С.П. Харсееву. Я подумал, а почему бы мне на эту валюту не купить для Сереги с пяток маленьких советских грузовиков УАЗ-452? Сколько они стоят в валюте, я не знал, но полагал, что 100 тысяч мне хватит на 5–6 машин. Согласовал этот вопрос с Сергеем и с Донским и улетел в Москву в «Союзавтоэкспорт».
Там меня с моими 100 тысячами приняли, как родного.
Дело в том, что СССР продавал очень много автомобилей за рубеж, как грузовых, так и легковых. В конце 80-х и начале 90-х мне пришлось очень много ездить по автодорогам Европы, и я как-то от вынужденного безделья начал считать долю советских автомобилей (в основном, «Волг» и «Жигулей») во встречном автопотоке, причем брал выборку в 1000 автомобилей. Так вот, в Югославии эта доля доходила до половины, а в ФРГ была процентов 10. Но конкуренция советским автомобилям была, конечно, очень жесткой, и торговать ими было непросто. А у внешнеторговых организаций план был в валюте, поэтому любое отрицательное колебание конъюнктуры на рынке Запада оставляло их без плана и без премии. И вот тут прихожу я с примерно 170 тысячами долларов, ну как «Автоэкспорту» мне не радоваться?
Был и еще нюанс. В Советском Союзе была заводская цена на автомобили, которая составлялась из плановой себестоимости плюс плановой (обычно 20 %) прибыли. Именно по этой цене «Автоэкспорт» покупал автомобили на заводах СССР. И была цена, по которой автозаводы продавали автомобили советским предприятиям, она была уже существенно выше заводской. И, наконец, была розничная цена на легковые автомобили, по которой они продавались частным лицам.
Я полагал, что мне будут продавать по розничным ценам, поскольку за рубежом эти автомобили продавались частным лицам. Поэтому и рассчитывал на 100 тыс. купить 5–6 УАЗ-452. Но в «Автоэкспорте» я был первым таким покупателем, никаких инструкций не было, и там никто не знал, какую цену с меня брать. Мне предложили купить любые автомобили, производимые в СССР, по тем ценам, по которым сам «Автоэкспорт» покупал их на отечественных заводах.
Я запросил УАЗы, и тут выяснилось, что они стоят чрезвычайно дешево, посему я взял сразу 10 (больше мы использовать не могли): 5 грузовичков и 5 с будкой. Но у меня оказались деньги в остатке, и на эту сдачу я купил 10 «Волг». Две или три под замену служебных на своем заводе, а остальные отделу снабжения, чтобы он наряды на их получение обменял на нужные нам материалы, поскольку дефицитнее товара, нежели «Волга», в СССР, пожалуй, что и не было. Вот так я устроил валютный кредит, сумев помочь одновременно и автохозяйственному цеху, и отделу снабжения.
Надо сказать, что валютный кредит я взял четвертым в СССР и, как потом ходили слухи, последним. Министерства очухались и перечеркнули постановление партии и правительства. Так что волка ноги кормят — помешкай я немного, и ничего бы не купил.
Бартер
Но теперь мне жить не давал таинственный бартер. Я не переставал напоминать Донскому, что Банных должен съездить в Москву и, в конце концов, узнать, что это такое. Может, это штука для нас полезная? Банных съездил в Москву, но не за этим, а за приставкой к своей должности: теперь она стала называться «заместитель директора по экономическим вопросам — первый заместитель директора». А поскольку я был просто заместитель директора, то он, вместо того, чтобы выяснить, что такое бартер, стал демонстрировать мне, кто в конторе главнее. Правда, у него были и объективные причины отказа от выяснения вопроса бартера.
Нам было непонятно не только это чертово слово, но и другое. Из контекста Постановления было ясно, что речь идет о какой-то торговой операции, но эта операция могла проводиться только с неплановой продукцией. А вот это что такое?! Ведь вся продукция, выпускаемая промышленностью СССР, распределялась Госпланом, и если даже ты производил продукцию сверх плана, то поставлял её в счет поставок будущего квартала плановым покупателям. При устойчивом перевыполнении плана можно было в текущем году поставить продукцию и по свободным договорам, пока о ней Госплан не знает, но в отчете о перевыполнении плана производства такую продукцию не укроешь, а посему на выявленную дополнительную продукцию тут же назначались плановые потребители. А у нашего завода был ненасытный потребитель — экспорт, который в то время без отказа впитывал в себя любое количество нашего сверхпланового металла и которому все его излишки планировались. Так что же такое «неплановая продукция» предприятия, работающего по плану?
Может, какие-то отходы производства?
Но, во-первых, как-то в голову не приходило, что партия и правительство будут позориться за рубежом отходами, а, во-вторых, сами отходы были плановой продукцией! За невыполнение плана по сдаче металлолома или боя огнеупорного кирпича «убивали» так же, как и за невыполнение плана производства. Мы не могли врубиться, о какой такой продукции в своем Постановлении толкуют партия и правительство?
Вот Банных и «выкатил арбуз», что ему нет смысла выяснять, что такое бартер, поскольку у нас на заводе неплановой продукции нет. Однако думаю, что у него был и явный в то время страх перед внешнеэкономической деятельностью. Во-первых, торговля с заграницей обуславливала появление заграничных денег — валюты. А Хрущев за незаконные валютные операции ввел смертную казнь, поэтому нормальные люди работы с валютой, тем более, самостоятельной работы, сторонились, чтобы ненароком не попасть под какую-нибудь «кампанию борьбы» и под придурка-прокурора. Во-вторых, члены КПСС боялись и общения с иностранцами, чтобы, как я уже писал, не сболтнуть что-нибудь не то и потом не получать за это выговоры на парткоме.
Но мне-то, беспартийному, на эти тревоги было наплевать, а проблемы снабжения завода надо было решать, посему я и требовал заняться этим самым бартером. И тут помогло то, что я был неплохой инженер и поэтому нашел все же на нашем заводе неплановую продукцию. Мы выпускали, ежегодно наращивая производство, углеродистый феррохром. Как я уже писал, его стандартная марка ФХ800 должна была содержать не более 8 % углерода, а серы до 0,06 %. Но для получения такого сплава нужны были кусковые хромовые руды, а их в СССР было уже мало, посему содержание углерода в советском феррохроме почти сплошь и рядом превышало 8 %. Чтобы ввести и такой металл в продукцию, были разработаны техусловия на ФХ900 с содержанием углерода до 9 %. Однако порою получался металл с углеродом и выше 9 %, что, по мнению Госстандарта, уже ни в какие советские стандартные ворота не лезло. Поэтому для этого металла внутри ферросплавных заводов были созданы техусловия на марку углеродистого феррохрома ФХП — «феррохром передельный». Вот под этой маркой и скрывался тот металл, который являлся браком и по ГОСТу и по техусловиям на ФХ900. А «передельным» он был потому, что использовался внутри самих заводов для производства фер-росиликохрома, то есть для передела в другую продукцию. По этой причине на ФХП не было плана поставок, и уже по этой причине он не был плановой продукцией.
С другой стороны, Советский Союз работал на прекрасных рудах Донского месторождения в Казахской ССР (20 % мировых запасов), а практически весь остальной мир на рудах ЮАР (75 % мировых запасов). Но южноафриканские руды изначально мелкие и, по сравнению с казахскими рудами, беднее по хрому, поэтому углеродистый феррохром (чардж-хром, как его называют) из руд ЮАР заведомо имел гораздо более высокое отношение углерода к хрому, чем даже у нас в ФХП. То есть то, что у нас считалось дерьмом, на Западе было конфеткой.
Я пошел к Банных с этим открытием, но опять наткнулся на «тебе надо, ты и делай», очередной раз поругался и пошел жаловаться на Генку Донскому. Сказал, что Банных может закатить свой арбуз с неплановой продукцией обратно, объяснил, что я такую продукцию нашел, объяснил, что это за продукция, и опять попросил Донского заставить Банных работать. Шеф поморщился, задумчиво постучал карандашом по столу.
— Знаешь, Юрий Игнатьевич, займись-ка этим бартером ты.
Я обиделся и решил, что ничего делать не буду принципиально: ну что я — рыжий, что ли!!!
Но тут мне потребовалось слетать в Москву на пару дней подписать какие-то документы. В Минчермете необходимые начальники были на местах, я был ими принят и быстро закончил свою работу. Ради любопытства решил зайти в Управление внешнеэкономических связей, в котором уже когда-то пытался купить шведские подшипники для немецкой дробилки, и все же (исключительно для себя) выяснить, что же такое бартерные операции.
Захожу, представляюсь и прошу мне, парню из захолустья, объяснить, что это такое. Народ меня не понял, начал выяснять, откуда я узнал это слово и какое оно имеет отношение к ним? Я объяснил, и народ засуетился, сообразив, что это, оказывается, по их специальности, побежал выяснять у начальства, но безрезультатно, подтвердив мое невысокое мнение и о Минчермете, и о московской интеллигенции, которая в газете «Правда» привыкла читать только фельетоны. Но я уже был не простой инженер, а целый замдиректора завода, который был уже на слуху, меня так просто не выпроводишь, поэтому меня связали с тем отделом Совета Министров СССР, который готовил текст этого Постановления.
И дело приняло вид скверного антисоветского анекдота, поскольку и в Совмине никто не знал, что означает слово «бартер» в Постановлении Совмина и ЦК КПСС, текст которого сами клерки Совмина и написали. Но там тоже поняли, что это нехороший анекдот, и тут же дали мне телефон человека из Министерства иностранных дел, который непосредственно написал этот пункт Постановления. Я позвонил, объяснил, что мне нужно, и почувствовал, что человек на другом конце провода явно обрадовался моему звонку. Он тут же заказал мне пропуск и предложил приехать на Смоленскую площадь. Принял радушно, объяснил, что это товарообменная операция, что он ожидал бурной реакции от всей промышленности СССР на введенное им право заводов проводить бартерные операции, но почему-то все молчат, и я вообще первый позвонил. (Я сидел и в душе матерился: ну на фига при наличии в русском языке слова «товарообмен» употреблять слово, которого нет ни в одном словаре?!) Но я, конечно, его поблагодарил, поскольку он действительно толково объяснил мне, что тут к чему. Объяснил, что «сверхплановую продукцию», которую он вписал в текст постановления и которую полагал использовать для бартера, заменили на «неплановую» уже в Совмине. Объяснил, что мы, заводы, сами, конечно, проводить бартерные операции не имеем права, хотя это право и указано в Постановлении, а должны это делать посредством какой-либо советской внешнеторговой организации. Это не удивляло, поскольку к тому времени я уже знал, на какой пшик переводит бюрократический аппарат СССР все эти благие пожелания партии и правительства. Но время у меня было, а меня уже охватил азарт.
Исключая мимолетную работу с «Автоэкспортом», единственная внешнеторговая организация, которую я знал, была «Промсырьеимпорт», вот я туда и поехал. Приняли они меня хорошо, но когда узнали, что я хочу, начали плеваться. Они, конечно, знали, что такое бартер, и недоумевали, какому дураку пришло в голову его использовать в торговых отношениях СССР? Эта операция проводится, когда ни продавец, ни покупатель не имеют денег на осуществление сделки, но у СССР денег, включая валюты, было полно, любой банк Запада немедленно даст СССР любой кредит, если он потребуется, и на самых льготных условиях. Зачем же заводам СССР обмениваться товарами, как в каменном веке?
Но в «Промсырьеимпорте» понимали, что таким образом я выручку от части экспорта смогу пустить на нужды завода, минуя Минчермет. Поэтому охотно взялись мне помочь, но не тут-то было: оказалось, что «Промсырьеимпорту» такие операции не разрешены. Однако В.Г. Бельченко продолжал звонить и разузнавать, пока не выяснил, что уже создана специализированная внешнеторговая организация «Внешпромтехобмен», но еще не известны ни её руководитель, ни номера телефонов, хотя уже есть адрес. А время у меня все еще было.
Эта контора располагалась на первом этаже здания, из которого накануне кого-то выселили. Вывески еще не было, но вахтеры уже были — это, как сегодня бы сказали, был бренд Москвы. А я не имел ни фамилий, ни телефонов, чтобы заказать пропуск. Но тут подъехала машина с новой мебелью, я взялся за угол какого-то ящика и помог грузчикам занести его внутрь, а там, расспрашивая встречающихся, нашел сотрудника, который должен был проводить операции с металлами. Мы у него в кабинете сели на еще нераспакованные ящики с мебелью и обсудили первый бартерный контракт — и мой, и его. Правда, он раньше металлами не торговал и пока еще плохо понимал даже терминологию, но отнесся он ко мне с исключительной добросовестностью — все же я был первый клиент «Внешпромтехобмена».
Мы нашли на стене розетку телефонной связи, а в нераспакованной коробке — телефонный аппарат, присоединили — он работал. Я созвонился с Донским и попросил на пробу хотя бы с тысячу тонн ФХП. Шеф подключил к нашему разговору главбуха, поэтому мы сначала обсудили обычное для Христины Макаровны: «Нас всех посадят!» Но потом мне дали какой-то пустяк, думаю, вагонов 10. Их я и вписал в контракт, но нужна была и цена, а в этом вопросе ни я, ни внешнеторговец были пока некомпетентны. Я позвонил в «Промсырьеимпорт» Бельченко, Виталий Георгиевич навел справки и посоветовал не закладывать цену ниже 1500 долларов за тонну чистого хрома, поскольку феррохром — товар ходовой. Эту цену мы и внесли в контракт, а вот что покупать в обмен, я просто не знал, поскольку совершенно был не готов. Поэтому я попросил отсрочки на недельку и полетел в Ермак.
По дороге я прикидывал. Во-первых, сумма выручки за эти несчастные 10 вагонов была около 800 тысяч долларов, что не могло не радовать. В СССР тонна хрома стоила около 300 рублей, а на Западе при курсе 62 копейки за доллар — 900. Неплохой гешефт!
Но на что их потратить? И тут я вспомнил Павлодарскую мебельную фабрику, её директора Чукумова, моего коллегу Седлецкого, их провал из-за отсутствия закупки в Югославии мебельных фасадов. Вспомнил и свой несчастный план по выпуску товаров народного потребления. И возникла идея: закупить в Югославии эти мебельные фасады, половину продать мебельной фабрике по договору, по которому они будут обязаны в ответ продать нам все остальные комплектующие к мебельным гарнитурам, а в пустующей коробке «цеха ТНП» собирать все вместе и продавать населению. Идея проста, но для того времени она была диковинной до невероятности.
Прилетел, объяснил Донскому, он только засмеялся и махнул рукой: «С тобой не соскучишься!» Я поехал на Павлодарскую мебельную, и там, само собой, за мою идею ухватились руками и ногами. Правда, Чукумов с Седлецким предлагали:
— Зачем тебе эта морока? Мы сами соберем твои гарнитуры, прилепим к ним наклейку «Сделано на ЕЗФ» и готовые тебе привезем.
— А как я отчитаюсь, что это я их сделал? Мне же нужно для производства какие-то затраты сделать, ну там гвоздиков и шурупов купить, человеку заплатить за то, что он отверткой будет крутить. Мне нужно материальное подтверждение в виде собственной себестоимости видимости того, что это я выпускаю эти гарнитуры.
Мы посмеялись, хотя мебельщики впоследствии все же, как и предлагали, поставляли мне все собранное и упакованное с табличкой «Сделано на ЕЗФ». Такую же табличку мы клеили и на фасады.
Кстати, в обкоме, когда узнали подробности, начали скандалить, что мы жульничаем с постановлением партии о выпуске ТНП. Ну, даже если мы где-то в чем-то и не совсем, то какого хрена обкому об этом вопить? Сами не захотели дубленками заниматься — какого хрена лезете поперек дороги?! Тут, правда, с одной стороны Чукумов, а с другой стороны, Донской быстро вразумили идиотов. Но это было после.
А тогда мы с Чукумовым и Седлецким быстренько заключили договор и рванули в Москву к представителю их югославского поставщика Средое Вукашиновичу. Тот возликовал, достал старый контракт, и мы опешили — цена на фасад в пересчете с долларов на рубли была в несколько раз ниже той цены, по которой фабрика получала их ранее от своей внешнеторговой организации. (Потом мы узнали, что существовали коэффициенты пересчета цен импортных товаров в рубли.) Дело получалось чрезвычайно прибыльным и для мебельной фабрики.
А для нас же, с учетом разницы в ценах на феррохром, прибыль вообще была запредельная, и у главбуха появилась головная боль, как её спрятать и не показать в отчетах. Завод же, при плане производства товаров народного потребления в 130 тысяч рублей в год, выдал товара на 2,5 миллиона, да такого ходового, что его с руками отрывали и запрашивали даже наши московские начальники. В министерстве, не зная подробностей, ставили нас всем в пример, как завод, сумевший освоить производство такого высокотехнологичного товара как мебель. Ко мне стали приезжать коллеги с других металлургических заводов перенимать передовой опыт.
Но то, что фасады оказались дешевле, чем мы предполагали, образовало в этой бартерной сделке «сдачу», на которую я тут же у Средое купил красивый линолеум, уже не помню, сколько вагонов, тем самым обеспечив отдел снабжения товаром, который легко менялся на что угодно.
С этой первой внешнеторговой операции завода я довел количество освоенных мною приемов работы до такого числа, при котором появилась уверенность, что я смогу справиться с теми задачами, которые ставила передо мною моя должность, появилось чувство, что я не даром хлеб ем и работаю не хуже прочих, как на заводе, так и вне его. Помимо полученных профессиональных навыков уверенность в том, что я справлюсь с задачами моей должности, базировалась на наличии инструмента для этого — на подчиненных. Я их не подбирал, они мне достались вместе с должностью, но у меня никогда и мысли не было заменить их на лучших, поскольку я полагал, что лучших просто в природе не существует. Имея Шлыкова в отделе снабжения, Главацкого в ЖДЦ, Харсеева в АХЦ и Москалева в ТНП, в будущее можно было смотреть с оптимизмом: дай нам время, и мы найдем, как решить любую проблему
В роли интригана
Как-то возвратился вечером в четверг из командировки на Антоновский рудник. Он поставлял нам в то время основной объем кварцита, основного сырья для выплавки ферросилиция, и постоянно срывал нам эти поставки. Я ездил оценить обстановку и понять, что мы могли бы предпринять для улучшения его работы. Увиденное и услышанное не радовало. Горное дело, как и любое, имеет массу тонкостей, осваивать которые нужно годами. К примеру, кварцит нам нужен был в кусках от 20 до 200 мм, мелочь менее 20 мм мы в плавку не давали, отсеивали и практически выбрасывали. А горняки могли заложить аммонал так, что весь массив при взрыве вздрагивал и растрескивался, образуя при последующей переработке и транспортировке много мелочи, а могли заложить взрывчатку так, что она как бы отбивала от целика отдельные объемы. Но, правда, в этом случае у горняков усложнялась последующая переработка кварцита, хотя и увеличивался выход годной для нас фракции. Причем, для каждой особенности обнажающегося в карьере кварцитового массива надо было продумывать свою схему сверления шпуров и закладки взрывчатки. Все это требовало персонала не только ИТР, но рабочих с большим опытом работы именно на этом карьере. Кроме этого, масса сложнейшей техники, от огромных экскаваторов до 120-тонных БелАЗов, в свою очередь, требовала большого количества высококвалифицированных рабочих, поскольку простой, ручной работы на руднике было очень мало.
Рудник закладывался как обычное предприятие, но МВД СССР, видимо начитавшись у Пушкина про «глубину сибирских руд» и представляя себе советские рудники, как убогие пещеры, в которых рабочие прикованы к тачкам и орудуют только киркой и лопатой, решило соорудить на Антоновском руднике зону, а наш же Минчермет уступил этому давлению. В результате основная масса персонала в Антоновке была зэки, а это и сами по себе людишки не ахти, да плюс с надеждами на скорое освобождение, посему осваивать профессию по-настоящему желающих было мало. А как работать с таким коллективом? Как доверять им дорогую и сложную технику, как требовать изучения своего дела? Управление рудника делало все, что могло, однако перспективы никак не радовали, а у меня не появилось никаких идей о том, что бы такое в этом случае предпринять, посему и вернулся я на завод в не лучшем настроении.
Утром в пятницу рассказал ситуацию отделу снабжения, а на аппаратной оперативке доложил Донскому и остальным. Незадолго до обеда заходит Шлыков.
— Батоно, не хотел тебе портить настроение с утра, но Банных сокращает у меня двух человек.
Ну, твою мать! Слов нет!
Желающих стать снабженцами было очень мало из-за тяжелой работы, обусловленной непрерывными командировками и стрессами. Недаром сам В.А. Шлыков впоследствии умер от инфаркта. Нашему заводу снабженцев убийственно не хватает, а Банных берет и сокращает их! Ну, как тут нужную мысль без мата выразить?!
Да, такие же кретины в Менчермете требуют от завода сокращать штаты, по идее это требуется для повышения производительности труда, а у нас на заводе она и так непрерывно росла в связи с непрерывным ростом товарной продукции. Банных обязан был отбивать эти наглые поползновения Минчермета с их требованием сократить у нас штат.
Положим, требования Минчермета нельзя было отбить, но ведь тогда пойди в цеха и разберись с ситуацией — с тем, кого ты сокращаешь, и можно ли эту работу не выполнять совсем, или заменить работника автоматом, или поручить эту работу еще кому-нибудь? Что же ты, не выходя из кабинета, даже не переговорив с начальниками цехов, разверстал по бумагам, какому цеху сколько сократить, и считаешь, что это тупое действие и есть «работа»?
Звоню в ЖДЦ Главацкому
— Игнат, а тебе Банных никакую подлянку не подсунул?
— Пришла бумага сократить трех человек.
Когда мы начали с Банных ругаться, то он уже присылал в мои цеха и службы требования сократить штат, а я пошел к Донскому, шеф, как только понял, в чем дело, сморщился и махнул рукой.
— Не забивай себе голову этим вопросом, иди работай, никого у тебя не сократят.
А теперь снова?! Я звоню Донскому, но тот уехал до обеда в обком, ничего, думаю, я к нему после общезаводской оперативки зайду. На оперативке, как обычно, доклады начал начальник производственного отдела Скуратович, а производство есть производство, Саня и захотел бы, да не по делу говорить бы не смог. Потом залезает на трибуну Банных: вот он распорядился, чтобы все начальники цехов какой-то отчет сдали, а они не сдают, а поскольку они не сдают, то и Банных не может отчет написать, а если его не написать, то министерство будет ругаться, и т. д. и т. п.
Всем бы сидящим в зале да заботы первого заместителя директора! Всем бы такое единственное горе — сраная бумажка и ругань Минчермета. А тут Банных берет и в качестве самого плохого сдавалыцика отчетов называет из всех цехов только мой ЖДЦ. И Игнат, вместо того, чтобы послать Генку на хрен в вежливой форме, вдруг начал оправдываться и обещает написать эту бумажку в понедельник. Понимаете, мой начальник цеха, трудяга, обеспечивающий круглосуточную бесперебойную работу сложнейшего производства, оправдывается перед каким-то бездельником за какую-то никому не нужную бумажку!!! Вынужден публично унижаться!!! Ну, и меня снесло с катушек…
Я встал и с места, пока Донской не понял, о чем это я, и не посадил меня обратно, успел высказаться (надо думать, не особенно вежливо) в том духе, что на какой хрен заводу нужен заместитель директора по экономическим вопросам? Пользы от него, как от быка молока, но для имитации своей полезной деятельности он загружает ненужной работой остальных. Самое разумное — сократить эту должность, и у всех работы уменьшится! (В общем, я все сказал правильно, за исключением того, что не нужно было это говорить. Но так получилось.)
Далее события развивались так.
Директор неожиданно для меня собрал совещание высших должностных лиц завода, включая начальников основных цехов, и спросил их, что они думают о моем конфликте с Банных? Все опасливо молчали: все же мы с ним были не простые руководители, а замы директора, то есть и их начальники. У меня сердце опустилось: эти люди нещадно критиковали меня каждый день за недостатки снабженя и транспорта, что же Донской их спрашивает?! Директор настоял, чтобы младший по чину начинал. Начал Валера Артюхин с того, что у меня масса недоработок, но я лучший из тех, кого он видел в этой должности. И остальные, человек двадцать, стали высказывать свое мнение в этом же ключе. Непосредственные подчиненные Банных, Прушинская и Лопатина, тоже встали на мою сторону. Зам по капстроительству Потес, вечно недовольный нехваткой стройматериалов, сказал, что я лучше предшественников Ванштейна и Мельберга. У меня начало складываться впечатление, что они опасаются, как бы Донской не снял меня с должности, и меня просто переполнила волна благодарности к ним. Однако главное-то было в том, чего я, занятый собой, и не заметил: никто и словом не обмолвился о Банных, даже его собственные подчиненные. Сложилось впечатление, что Банных на заводе как бы и нет. Директор всех поблагодарил и отпустил, не подведя итога, поскольку итог был подведен вот именно этим молчанием, чего я тоже в тот момент не понял.
(Забегая немного вперед скажу, что не надо думать, что Донской действительно выяснял мнение руководителей. Я никогда с ним об этом не говорил, но, зная его, уверен, что он это их мнение о нас с Банных сначала негласно выяснил и только потом собрал совещание. Демократия — дело хорошее, но Донской процессами на нашем заводе управлял, а не болтался на волнах «общественного мнения».)
Я вышел с этого совещания окрыленным, я был по-настоящему счастлив, поскольку получил награду, обладать которой и не надеялся. Это надо пояснить.
У меня нет правительственных наград, но тот, кто знает, что в СССР происходило с награждением орденами и медалями, тот вам скажет, что в определенных случаях нужно гордиться не их наличием, а тем, что у тебя правительственных наград нет.
Я уже писал, что у меня отдел кадров добавил вкладыш в трудовую книжку, чтобы вписать все полученные мною премии и благодарности. Но это все же не то, это, как говорится, каждый может, это у многих есть. А вот таких наград, о которых мне самому приятно вспомнить, у меня было, пожалуй, четыре.
Первая награда, которой я в душе гордился (поскольку говорить о ней было бы нескромным), — это моя характеристика, данная главным инженером завода М.И. Друинским сгоряча, когда он пошел на конфликт с Топильским из-за меня и, матеря замдиректора Г.Л. Иванова, назвал меня «лучшим инженером ЦЗЛ». То, что он сказал это автоматически, означало, что он в самом деле так думал, а это мнение не кого попало — это было мнение аса в своем деле. Такое мнение дорогого стоит.
А что же касается этого случая, то тут следует учесть вот что. В России в феврале 1917 года царя свергли такие же революционные подонки и придурки, как и те, кто в 1991 году свергал советскую власть и разрушал СССР. Но в 1917 году народ был другой, поэтому эти придурки у власти долго не просидели, хотя и успели по своей глупости сделать России много разных гадостей. Но даже у откровенных сумасшедших порой проскакивают очень здравые мысли, и Временное правительство в то время ввело в армии очень своеобразную награду — очень редкую, и о которой мало кто знает. Это был Георгиевский крест, по-моему, с гвоздикой. Своеобразие его было в том, что им награждало не начальство, а им солдаты награждали своего командира, если тот проявил храбрость в бою. Это не помогло разваливающейся русской армии, но мысль интересная.
Так вот, в конфликте с Банных моя награда была еще почетнее, поскольку её выдали даже не мои подчиненные, которые все же как-то от командира зависят, а коллеги, которые и лучше подчиненных понимали суть моей работы и были независимы от меня. Кроме этого, они давали мне оценку, за которую могли иметь неудовольствие от первого заместителя директора. Они наградили меня мнением, что я полезен заводу, что я делаю свое дело хорошо. Я был на седьмом небе!
Смешно, но потом я с многими из участников совещания разговаривал о нём, и все смотрели на меня, «как в афишу «Коза»», не понимая, о какой награде я толкую? Они просто высказали Донскому свое мнение на поставленный им вопрос, и всё. Ни о каком поощрении меня они и не думали. Естественно! Но ведь от этого награда еще ценнее! Третья награда последовала почти сразу же за второй, а четвертая — после моего увольнения с завода. Но сначала о последствиях этого совещания.
На другой день чуть ли не с утра мне сообщили, что Банных увольняется с завода. Мне это было неприятно, этого я не ожидал, хотя обязан был. Неудобно было и перед ним, и перед его женой, с которой я работал раньше в ЦЗЛ. Но что случилось, то случилось, и, подумав, я понял, что при таком единодушном отрицании Генки заводом, работать он, конечно, не мог. Сразу возник вопрос, а кто вместо него? Сейчас Донской сам кандидатур не имеет, поскольку уж очень быстро все случилось (я его всегда недооценивал), а потом найдет какого-нибудь такого же дурака, и снова все начнется сначала. А я вполне серьезно предлагал ему эту должность сократить. Вот после обеда и пошел к шефу.
— Семен Аронович, прошел слух, что Банных увольняется? — Да.
— Семен Аронович, давайте его должность сократим. Темирбулат (зам директора по кадрам) возьмет себе отдел труда и зарплаты, а я заберу все остальные отделы. Я и так с ними вплотную работаю, и поверьте, хуже не будет.
— Понимаешь, у нас мала численность заводоуправления даже по сравнению с другими заводами, и я, когда решал этот вопрос, с большим трудом выбил эту должность в министерстве, а теперь сам её сокращу?! Нет, сокращать эту должность нельзя… — шеф задумался и начал смотреть на меня как-то хитро. — Слушай, давай назначим на нее тебя.
Я прямо-таки опешил от обиды и возмущения.
— Семен Аронович! Мне едва 40! И я в эти годы займу должность заслуженного пенсионера?! Должность, которую я же предложил сократить за ненадобностью?! И потом, — все больше ужасался я, — это же получается, что я Банных с этой должности спихнул. И после всего этого сам её займу?! А что люди скажут? Что я — интриган?! Нет, если я не гожусь в старой должности, то верните меня в ЦЗЛ, а я это предложение принять не могу!
Я встал и пошел к выходу. Вдогонку шеф, спокойно усмехаясь, бросил: «Ну, как знаешь…»
Первый зам
Пришел в кабинет, матеря Донского от возмущения — за что он меня так?! Но потом закурил, успокоился и вдруг подумал, а что такого мне предложил Донской, что я так раскипятился? Да, я все время попрекал Банных, что он не работает, но кто мешает на его должности работать мне? Он не хотел заниматься внешнеэкономическими вопросами, а я буду ими заниматься! Он не хотел отвечать за выпуск ТНП, а я буду организовывать их выпуск! Потом, первый зам имеет моральное право, по меньшей мере, участвовать в делах всех остальных замов, то есть все заделы, которые я уже сделал, никуда от меня не уйдут. Более того, был плюс, о котором я сгоряча забыл.
У меня была теория управления людьми, но теория — это слова, которые сами по себе ничего не стоят, посему надо было кончать говорить и пробовать её внедрять. А для людей делократизация — это прежде всего изменение способа оплаты труда, а за это на заводе отвечал отдел труда и зарплаты, который тоже подчинялся заму по экономическим вопросам. Таким образом, я получал подчиненных для опробования собственной теории, и это было очень существенно. Не прошло и часа, как я снова пошел к Донскому.
— Семен Аронович, я тут подумал над вашим предложением и решил согласиться, но с условиями.
— Какими?
— Подчините мне производство товаров народного потребления и внешнеэкономические вопросы.
— Ты, первый зам, можешь подчинять себе всё, что сочтешь нужным, кроме, конечно, вопросов главного инженера.
Мне ужасно не хотелось расставаться со своими подчиненными, и, естественно, я спросил, кого Донской назначит на мое место.
— Меньшикова.
— И Матвей согласился отдать в замы главного механика?! — удивился я.
— Считает, что Лунев справится.
— Да, Меньшиков мужик основательный, тут вопросов нет. Тогда я согласен.
— Вызови Ибраева и подготовьте приказ о твоем исполнении должности первого зама и перераспределении обязанностей между заместителями, а я решу с министерством вопрос о твоем утверждении.
Вернулся к себе и понял, что мало попросил. Федора Медведева я, конечно, и сам мог оставить своим водителем, но переходить в кабинет Банных и уходить к другому секретарю не хотелось — мы с Натальей уж очень хорошо сработались, а она секретарь трех замов. Я позвонил Донскому.
— Еще условие, Семен Аронович. Оставьте за мною мой кабинет, бывший главный механик себе лучший оборудует.
— Не вопрос.
Если переход на должность зама по коммерческо-финансовым вопросам и транспорту для меня был шоком, то переход на должность первого зама был все же переходом на легкий труд. Подчиненные мне отделы — плановый (Лопатина), главная бухгалтерия (Прушинская), финансовый (Белова), сбыта (Храпон) и отдел труда (Томас) — никаких хлопот не обещали, настолько сильными были у них руководители. Мне оставалось только в нужных случаях брать на себя ответственность за те решения, которые эти руководители предлагали мне принять. Иногда я мог предложить что-то лучшее, но это редко. Ну, и, естественно, мне нужно было свои отделы защищать, чтобы их не обижали. Те же дела, которые я взял с собой с прежней должности, были, конечно, новыми, но я уже вошел во вкус, и мне нравилось их решать, тем более, что я все больше и больше набирался квалификации и узнавал как это делать. На мой взгляд, я самые тяжелые дела оставил Меньшикову, посему его просьбы для меня всегда имели ранг закона, т. е. его проблемы подлежали обязательному решению и в первую очередь.
А легкость рутинных обязанностей предопределила очень большую возможность, большую свободу работы над проблемами, которые еще не возникли, то есть свободы работы на перспективу. То, что я был еще и первым замом, мною не воспринималось ввиду четкого понимания, что первый зам — это главный инженер, а в работе с остальными замами — Ф.Г. Потесом, И.И. Боровских, Т.С. Ибраевым и, конечно, В.Д. Меньшиковым, — мне это никах не помогало, ввиду и так товарищеских отношений с ними, и тем, что они хотели того же, что и я — улучшить работу завода. Я ими никак не руководил, мы просто вместе решали возникающие у них проблемы. Я помогал Донскому вести внешнее хозяйство завода (внутреннее — Матвиенко) так, чтобы результаты этого хозяйствования благотворно сказывались на всех работниках завода, на общих результатах работы завода. Не буду скрывать — очень интересная работа, было чем заняться.
Но это было со временем, а тогда, когда на заводе стало известно о кадровых перестановках, заходит ко мне В.А. Шлыков, посидел, помялся и говорит:
— Батоно, забери меня к себе.
— Это как? — не понял я.
— Ну, переведи меня в какой-нибудь свой отдел.
— Подожди, подожди, — я забеспокоился. — Ты что-то узнал о Меньшикове?
— Да нет, Дмитрич отличный мужик, и мы с ним до сих пор отлично ладили.
— Тогда на кой хрен я тебе нужен?
— Да, понимаешь, нравится мне с тобой работать.
— Подожди, — я удивился, — я ведь по твоему отделу почти ничего не делал, я даже в Целинглавснаб ни разу не съездил.
— А зачем тебе было туда ездить? Что — мы сами не съездим, что ли? Но ты что-то делаешь, делаешь, куда-то ездишь, а потом раз — и пошли на завод вагоны со сталью или со стройматериалами. Ты же как-то это по-крупному делал.
— Слушай, Володя, ну-ка сядь на мое место. Ты лучший начальник отдела снабжения в Казахстане, если не в СССР. А я заместитель директора. Ну, как я лучшего начальника отдела снабжения вдруг сниму с должности и дам ему какую-то случайную работу? Какой же я буду заместитель директора? Да, Саша Рыгалов тоже справится, но ты же лучше! И потом, я же ведь никуда не делся и неужели ты думаешь, что, если я со своей колокольни увижу, как помочь снабжению, то я упущу эту возможность?
Слушай, давай так. Давай подождем месяца два-три, ты посмотришь, как мы с Меньшиковым работаем, и если у тебя все же останется это желание, то приходи, я что-нибудь придумаю.
Шлыков продолжал работать начальником отдела снабжения до самого моего увольнения, и я был прав, что не согласился с ним, но все же сегодня гложут сомнения: а, может, если бы я его перевел на другую работу, его бы не хватил инфаркт так рано?
А подходящая работа для него у меня вскоре образовалась, хотя и эта работа тоже медом не была, я начал заваливаться контрактами с иностранными партнерами, начала возникать неразбериха в отделе сбыта и бухгалтерии по отправляемым за границу вагонам, стало понятно, что мне нужны исполнители. Был организован отдел внешнеэкономических связей, возглавить который я пригласил СП. Харсеева, поскольку его уму и деловитости абсолютно доверял. А центральным исполнителем стал Дмитрий Катаев, сын одного из бывших главных инженеров завода Ю.Я. Катаева (сам Юрий Яковлевич к тому времени трагически погиб в бытовом несчастном случае). Этот отдел снял с меня рутину и во внешнеэкономических делах, а Раиса Петрушина — финансовые вопросы валютных операций.
Так вот, своей просьбой Шлыков наградил меня третьей наградой. Он ведь был не простым подчиненным, он имел уважаемое и почетное положение на заводе и, тем не менее, может, и по минутной слабости, но захотел его сменить, чтобы работать со мной как с начальником. Мне было чем в душе гордиться.
Делократизация
О дальнейшей работе не вижу смысла рассказывать, поскольку пишу ведь о Донском, скажу только, что скучать не приходилось: до сих пор хранятся три записные книжки с именами и телефонами и два кляйстера визитных карточек людей со всего мира, которых я сегодня и не вспомню. А загранкомандировки осточертели до такой степени, что я стал всеми силами их избегать и при любом возможном случае старался вызвать заграничных партнеров на завод, а не ездить к ним. Как-то нужно было ехать в Италию, а я, старый дурак, накануне выпивши взялся танцевать ламбаду и так дрыгнул ногой, что подорвал мениск, правда, тут же его сам и вправил, хотя так и не понял, что случилось. Но на следующий день, в выходной, клеил в ванной комнате плитку, неудачно поставил ноги на подъем ванны и резко выпрямился, порвав мениск окончательно. Надо же, физкультурник я никакой, а травма спортивная! Свалился в больницу, даю Сереге Харсееву задание вызвать на завод представителей фирмы с текстом контракта и теми образцами, которые мы хотели ехать смотреть, а он посмеивается: «Ты что, мениск специально порвал, чтобы в Италию не ездить?»
(Над этой моей травмой вскоре все заводоуправление потешалось после того, как делавший мне операцию хирург, совсем без чувства юмора или наоборот, с его избытком, в больничном листе так и записал: «Разрыв мениска при танцевании ламбады», а я, не глянув сам, подписал и сдал этот больничный в бухгалтерию.)
Но все же о внедрении делократизации в управление Ермаковским заводом ферросплавов нужно немного рассказать.
Сначала были планы начать с какого-либо участка, тщательно защищая его работников от бюрократических неожиданностей. Наиболее подходящим смотрелись коллективы работников складов готовой продукции плавильных цехов, поскольку людей в них работало немного, а входящая и выходящая продукция четко фиксировалась. Но произошло уничтожение СССР, начала уничтожаться его экономика, включая и потребителей нашей продукции, соответственно мы резко уменьшили производство. И у меня появились факторы, которые влияли на зарплату работников без их вины, в связи с чем делократизация рабочих стала невозможной, поскольку проблематично воспитать хозяина, не давая ему зарабатывать и не давая делать ничего другого. В таких условиях можно было начисто дискредитировать идею, не получив ничего, кроме убытков.
Но одновременно исчезли все союзные министерства, автоматически появилась кое-какая свобода, в том числе и в области формирования зарплаты, и у меня появилась возможность ввести элемент делократизации в оплату труда ИТР завода, сделать, так сказать, небольшой шаг в нужную сторону, а делать его было необходимо.
С развалом СССР началась неразбериха в области оплаты труда, на многих предприятиях руководство начало назначать себе зарплаты «насколько наглости хватало», одновременно началась обвальная инфляция, посему и наш завод не мог не реагировать на обстановку. Но еще с СССР в этой области были проблемы, которые для нашего завода выглядели так.
Во-первых, существовало дурацкое положение, при котором оклад мастера с премией был ниже тарифной ставки бригадира с премиями. Должность мастера очень ответственная, и в идеале занимать её должен опытный бригадир, а как его на это соблазнишь, если он при этом теряет в зарплате? И молодые специалисты, соответственно, эту должность старались побыстрее проскочить, причем если они были не способны к руководящей работе, то порою уходили назад, в бригадиры.
Во-вторых, всегда были нескончаемые дрязги с выплатой специальных премий, то есть премий за экономию электроэнергии, сырья, за освоение новой техники и т. д. Эти деньги распределялись внутри цехов начальниками, и тут работал чисто житейский фактор: начальник из общей суммы сначала выделял премию работникам цеховой конторы, потом остаток отдавал распределить старшим мастерам, те — мастерам. А мы потом слушали ругань, что бригадир печи, благодаря труду которого эта премия и образовалась, получил меньшую сумму, чем секретарша начальника цеха. Часть этих премий делилась среди работников заводоуправления, и здесь тоже случалось что-то подобное.
И, наконец, у ИТР не было никакого чувства, что зарплата — это готовая продукция завода, это то, что сделали рабочие, зато повсеместно было убеждение, что зарплата — это то, что ты у начальника выпросишь, то есть сугубо бюрократический взгляд на получаемые деньги. А это убеждение ни работу рабочих не облегчало, ни жизнь начальства лучше не делало.
Не буду рассказывать, какие факторы я закладывал в то время в расчеты и чем руководствовался. В итоге получилось так.
У рабочих остались прежние тарифные ставки и прежние принципы премирования, поскольку все это было отработано и особых сомнений не вызывало. Поскольку из-за обесценивания рубля тарифные ставки непрерывно повышались пропорционально, то, по сути, мы оставили незыблемыми соотношение зарплат между разрядами и разными рабочими профессиями на заводе. А вот у ИТР было ликвидировано всё: должностные оклады, надбавки и все виды премирования. Теперь их зарплата, начиная с цеха, формировалась так.
Обычно у мастера в подчинении несколько бригад рабочих, руководимых бригадирами. Рассчитывалась средняя зарплата всех бригадиров этого мастера за месяц и умножалась на коэффициент 1,2 — это была зарплата мастера. Следующий уровень — старшие мастера и помощники начальника цеха (начальники служб). У каждого из них в подчинении было по нескольку мастеров, и их средняя зарплата, умноженная на 1,2, становилась зарплатой данного старшего мастера или начальника службы. Средняя зарплата всех старших мастеров цеха и начальников служб, умноженная на коэффициент 1,2, была зарплатой начальника цеха. После него зарплата в цехе шла вниз: заместитель начальника цеха получал 0,9 от того, что заработал начальник, экономист — 0,6, секретарь — 0,4 (точные числа я уже забыл, но где-то примерно так).
Если бы можно было провести делократизацию глубже, то в цехах все бы чувствовали свою зависимость от произведенной продукции, а так все ИТР чувствовали зависимость своей зарплаты от зарплаты рабочих — чем больше заработают рабочие, тем больше и все ИТР цеха. Но это тоже было неплохо.
Далее, средняя зарплата всех начальников цехов завода, умноженная на 1,2, была зарплатой директора. После него зарплата опять шла вниз: главный инженер получал 0,98 от зарплаты директора, я — 0,95, начальники отделов — от 0,8 до 0,6, их подчиненные получали в долях от зарплаты своего начальника. Идеала, конечно, не было, но по заложенной идее все работники заводоуправления должны были стремиться, чтобы директор заработал как можно больше, а это возможно только тогда, когда рабочие завода заработают как можно больше, а это возможно только тогда, когда мы продадим как можно больше продукции и образуем как можно большую прибыль. Повторю, подавляющую массу работников эти тонкости не интересовали, но этот элемент делократизации определенным образом сплотил завод.
Были же паскуднейшие периоды, когда мы, как обычно, переводили зарплату на счета работников в сберкассы, а они там, из-за отсутствия наличных денег, ни копейки не могли получить месяцами. Как-то мне сообщают, что в цехе № б что-то вроде бунта рабочих, и меня требуют на расправу. Я приехал, была пересменка, и на колошниковой площадке собралось человек 30. О чем будет разговор, я, конечно, понимал, поэтому рассказал мужикам, что мы предпринимаем и как скоро надеемся получить результат. Только я закончил, как из-за спин выдвинулся мужичонка:
— Вы, начальство, себе окладов поназначали, а нам даже наши копейки не выдаете…
Я с удивлением на него взглянул — откуда взялся, но рядом стоявший бригадир уже задвинул его обратно в толпу и пояснил мне:
— Новенький, первую неделю работает.
То есть работяги смотрели на меня как на нерадивого работника, но настоящего антагонизма между ИТР и рабочими не было: рабочие не считали нас чем-то отдельным от себя.
При внедрении элементов делократизации, как и при внедрении всего нового, были, конечно, и различные накладки. Мастера стали бояться наказывать бригадиров деньгами, так как это снижало их собственную зарплату. Мы этот вопрос решили. Конечно, нашлись и разного рода хитрованы, к примеру, нашлись умники, которые стали всеми путями увеличивать зарплату бригадирам, а это можно было сделать только за счет несправедливого распределения премий в бригадах. Но на хитрого русского мужичка в отделе труда сидел Виктор Томас, который с немецкой педантичностью просматривал все отчеты и пресекал эти наглые поползновения.
Однако был и дефект, заложенный Донским. Дело в том, что в одном и том же цехе зарплаты рабочих всех специальностей (и технологов, и ремонтников) не сильно отличались друг от друга, тем более, мало отличались зарплаты бригадиров, соответственно, средневзвешенная зарплата старших мастеров и начальников служб всего лишь на 4–5 % отличалась от зарплаты наиболее отличившегося старшего мастера. А поскольку начальнику цеха зарплата определялась на 20 % выше этой средневзвешенной, то он во всех случаях являлся самым высокооплачиваемым работником цеха.
Но зато зарплата между плавильными и вспомогательными цехами отличалась очень резко, раза в полтора, соответственно, средневзвешенная зарплата всех начальников цехов завода была ниже зарплаты начальников плавильных цехов процентов на 15.
Как-то заходит ко мне Прушинская с ведомостью.
— Ты посмотри, что творится с твоей новой системой оплаты труда! У Григорьева (начальник цеха № 1) зарплата выше, чем у Донского!
— Макаровна! А что я могу сделать, если Тятька работает лучше Донского? — засмеялся я.
На самом деле, еще до внедрения этой системы, я, при разработке коэффициентов, чтобы перекрыть это несоответствие, поставил директору завода коэффициент 1,4. Но Донской тут же его округлил.
— А это почему всем 1,2, а мне 1,4?
— Потому, что средневзвешенная зарплата начальников цехов очень низкая.
— А что люди скажут? Скажут, что у всех коэффициент 1,2, а себе Донской сделал коэффициент 1,4? Кто там поймет твои объяснения про средневзвешенное? Нет, ставь мне тоже 1,2.
— Но Семен Аронович! Это же не только ваша зарплата, от нее же зависит зарплата всех работников заводоуправления.
— А ты им всем коэффициенты повысь.
Так и решили. В результате, замы получали практически столько же, сколько и директор.
В начале 1995 года я выставил свою кандидатуру на выборах в Верховный Совет Казахстана, куда шёл, чтобы принять закон об ответственности власти. На предвыборных собраниях почти всегда находился кто-то, кто говорил мне примерно следующее:
— Вы все, когда призываете за вас голосовать, обещаете что угодно, а потом устроитесь в Алма-Ате и о нас сразу же забудете.
В ответ на это я вынимал из кармана корешок с расчетом своей зарплаты за январь и передавал задавшему вопрос, со своей стороны спрашивая:
— Сколько там мне начислили?
— Одиннадцать тысяч, — изумленно читал спрашивающий. Изумлено потому, что тогда во всех районах сплошь и рядом была зарплата в 150–200 теньге, да и ту не выдавали.
— А зарплата депутата — 6 тысяч. На кой черт нужна мне она и Алма-Ата в придачу? Я хочу в своей жизни сделать то, ради чего стоит жить, поэтому и пошел на выборы, и если я это не сделаю, то изменю в первую очередь себе, а только потом вам.
(Надо сказать, что такой способ агитации эффект имел, в городах Ермаке и Калкамане я победил с большим преимуществом, но все решили сельские районы, а в Алма-Ате уже знали, что нужно в этих районах делать, чтобы на выборах победил тот, кто нужен.)
Но вернусь к теме и к своей четвертой награде. Напомню, что внедрение новой системы оплаты труда — этого элемента делократизации управления заводом, для меня лично было очень важным и значительным событием. Но прошло все это как-то незаметно, поскольку в это время был всеобщий бардак с деньгами, а когда их не получаешь, то это становится главным, а не то, как их начислили.
И вот новые хозяева выгнали меня с завода. Я оказал сопротивление, и после упорной драки был достигнут компромисс, по которому меня восстановили на работе, после чего я все же уволился по собственному желанию и уехал из города, как и предусматривалось компромиссом. Перед отъездом я устроил в кафе Дома быта прощальную вечеринку, на которую пригласил всех, с кем работал, до полной вместимости зала. В каком-то смысле это мероприятие сродни поминкам, поскольку друзья, прощаясь с тобой, говорят тебе, само собой, только хорошее. Говорили, как мне хочется думать, искренне, но ведь я же понимал, что ничего другого и не услышу по такому поводу. Но вот встал для тоста Евгений Анатольевич Польских, мой старинный друг, а тогда начальник цеха № 6:
— Слушай, Юр, ты, конечно, много что успел сделать, но даже если бы ты ничего этого не сделал, то мы бы тебя помнили только за то, что ты внедрил новую систему оплаты труда.
Молодец Женька! Я так долго ждал, чтобы мне кто-нибудь сказал именно это. Вот данный тост я и считаю своей четвертой наградой.
Однако пора заканчивать книгу и сворачивать повествование.
Наш был лучше
Итожа написанное, вернусь к вопросу, который уже оговорил в начале: насколько я откровенен? Отвечу прямо — не дождетесь! Слово — это оружие, и я не собирался это оружие применять по кому попало, только лишь с целью выболтаться и порадовать кого-то сплетнями. Я раскрывал тему, а о том, что раскрытию темы никак не помогало, не писал.
Ну, зачем вам знать о том, чем я занимался вне работы, подробности моей семейной жизни или развлечений? У вас что — нет семьи или развлечений? Есть, и полагаю, что многие считают, что все это у них даже лучше, чем у меня. Вопрос спорный, но спорить я не буду. А вот такой работы, как у Друинского и Донского, как у меня, у вас не было и нет, и это единственное, о чем имело смысл рассказывать.
Но в своих рассказах я старался быть предельно искренним и точным. Правда, всего вспомнить невозможно, но мне помогало то, что я, хотя и люблю одиночество, но, в целом, парень общительный, и многое из того, о чем написано в этой книге, я десятки раз рассказывал в разных компаниях, причем и при действующих лицах этих историй. И я не помню, чтобы они делали мне замечания за искажение мною событий. Естественно, что в рассказах других лиц, описанное мною может выглядеть по-иному, но не думаю, чтобы эти изменения были принципиальными.
Как и любой автор, я «тяну одеяло на себя», то есть описываю себя лучше, чем я есть. Думаю, что у многих сложилось впечатление, что я был такой крутой деятель, что без меня на заводе и вода не освятилась бы. Освятилась бы! Не собираюсь корчить рожу скромника — я действительно понапридумывал много разного и полезного, но люди в Ермаке и на заводе были настолько деловиты и энергичны, что обошлись бы и без меня. Моя работа не была ни сверхтяжелой, ни сверхответственной.
Во-первых, как я уже писал, самой тяжелой и ответственной работой (исключая работу директора) считаю работу главного инженера. Я даже рад, что не занимал эту должность, а то бы слишком загордился собой.
Во-вторых, я был всего лишь замом Донского, а это, если кто не понимает, означает, что заслуга всего, что я делал, принадлежит и ему, причем ему чуть ли не в первую очередь. Понимаете, если бы я ошибся, то меня, конечно, наказали бы, но это ничего не изменило бы — все убытки легли бы на завод, а вся ответственность за них — на Донского. Он бы никак не оправдался, что это, дескать, сделал
Директор ЕЗФ и его первый заместитель
его зам. Ни Дело, ни умные люди на такие оправдания внимания не обращают и правильно делают. Посему и я мог сказать, что организовал производство видеоплейеров «Ермак», и Донской мог сказать, что это он организовал это производство, а на вопрос, как именно организовал, мог спокойно ответить: «У меня есть толковый зам, вы пришлите к нему своих исполнителей, он им расскажет», Но штука в том, что Донской так бы не ответил, поскольку из-за своей дотошности прекрасно знал все детали того, что делалось на заводе, и при желании сам мог описать схемы, дать адреса фирм и телефоны партнеров. Он совершенно не считал свою работу оконченной с момента назначения в должность толковых замов. Повторю, ему интересно было решать вопросы, и он охотно работал лично. Дам такой пример из сферы своей ответственности.
Было паскудное времечко между рублем и теньгой, когда из-за инфляции резко исчезла наличность. У нас были деньги на зарплату, мы переводили их безналично в сберкассы, а получить их там было невозможно. Меня трясло от бессилия, и я вдруг вспомнил где-то читанное, что в Гражданскую войну какой-то оказавшийся в изоляции от Москвы среднеазиатский областной Совет тоже попал в тяжелое положение из-за отсутствия денег, соответственно в этой области глохла торговля и товарооборот. А накануне этот Совет перехватил караван с опием, вот он под обеспечение этим опием и выпустил собственные деньги, которые начали хождение, оживили экономику и при желании могли быть обменены на соответствующее количество опия. Черт возьми, — подумал я, — надо вводить собственные заводские деньги! Обеспечить я их мог необходимым количеством товаров народного потребления, получаемых от выручки за металл, проданный на Западе. Донской мне эту работу согласовал.
Нужно было напечатать необходимое количество купюр наших денег, и я, само собой, обратился в Москву на фабрику Гознака, но там на меня посмотрели как на идиота. И тогда я через старых партнеров вышел на фабрику Гознака Югославии, оттуда ответили, что они за деньги напечатают нам любое количество нужных мне купюр. Я сел и нарисовал эскизы двух купюр, а чтобы не раздражать начальственных идиотов, назвал их «Многоразовыми талонами на сумму». Тогда казалось достаточным иметь купюры достоинством в 10 и 100 рублей, такие я и решил отпечатать. Отдал эскиз конструктору, чтобы он его исполнил красивее, и полетел с ним в Белград.
На фабрике, разумеется, попросил показать производство, довольно, кстати, любопытное. Во-первых, сначала удивила крайне малочисленная охрана — на въезде на территорию обычная проходная с двумя вахтерами, и дверь в цех, печатавший югославские динары, нам открыл еще один вахтер. Вооружены они были только обычными пистолетами, и никого больше из охраны я не видел. Помещения старые, довольно тесные, во всех углах сохли пачки промежуточной продукции (динара печаталась и высокой, и офсетной печатью). Умилила сцена: на пачках с готовыми деньгами сидят двое работяг, а перед ними на штабеле денег булочки, колбаска, молоко — обедают. Под ногами шуршат кусочки денег — у бракованных купюр срезаются уголки. На финише склад готовой продукции — глухая без окон большая комната, часть которой отгорожена решеткой, как в фильмах об американских тюрьмах, за решеткой штабеля денег. В решетке тоже решетчатая калитка с тремя амбарными висячими замками. Мне пояснили, что ключ от первого замка находится у начальника цеха, от второго — у министра финансов, и от третьего — у председателя Госбанка. При догрузке и выгрузке склада присутствуют все трое (от последних — представители), каждый открывает свой замок, и они вместе производят работау на складе. На первый взгляд, сложилось впечатление, что тут работягам каждый день в виде шабашки можно выносить по пачечке денег, но оказалось, что это исключено, ввиду простой, но очень строгой системы контроля за движением продукции в технологическом потоке.
Мне нужно было отпечатать около полутора тонн наших купюр, и во время подписания контракта мы обсудили с технологами их качество и степень защищенности, в итоге довольно дешево мне сделали изделие, которое в домашних условиях не воспроизведешь. Между прочим, технологи очень высоко отозвались о тогдашних советских деньгах, пояснили, что сделать такие деньги — такого художественного исполнения и степени защищенности — очень сложно, а вот о тогдашнем американском долларе отозвались очень пренебрежительно — примитивная работа! Я, конечно, не упустил случая подшутить: тогда зачем мне полторы тонны местных самоделок, вы уж в рамках контракта отпечатайте мне полторы тонны долларов! Посмеялись, но заказ они выполнили очень быстро: контейнер с деньгами прибыл на завод, как мне помнится, через месяц.
Мы пустили их в оборот, и эти деньги, как я уже упоминал, сразу же получили название по первым слогам фамилий моей и Донского — мудон. Мне, повторю, название нравилось, поскольку только при государственных деятелях-мудаках заводы вынуждены переходить на собственные деньги.
Никакого насилия над людьми, конечно, не было: работники завода заказывали мудоны в зарплату, кто хотел и сколько хотел. Но мудоны принимал наш О PC, а это было больше половины всех торговых точек города (мы ОРСу переводили в оплату принятых и сданных нам мудонов рубли безналичным расчетом). Кроме этого, мы закупали различные товары и торговали ими со своего склада, а цены держали пониже, чем такие же товары можно было купить за рубли на рынке. И это тоже было стимулом получать зарплату в мудонах, кроме того, у работников завода мудоны активно скупали спекулянты. В результате мудон в качестве денег работал очень активно, во всяком случае, ко мне приезжали из Карагандинского металлургического комбината за информацией, как и им ввести собственные деньги. Как-то иду по рынку в Ермаке, сидит меняла, а перед ним объявление: «Меняю: доллары, дойчмарки, рубли, мудоны». Ну кто сказал, что мудон — это не валюта?
Мудон — это моё, но Донского только это решение вопроса не устроило.
Он задумал ввести пластиковые расчетные карточки, а меня эта идея не вдохновила. Конечно, пластиковая карточка имела преимущества перед мудоном и перспективу, которой мудон не имел (хотя я довольно удачно деноминировал его в связи с инфляцией). Однако пластиковых карточек в СНГ еще не было, они требовали довольно сложной техники и системы связи, поэтому я считал, что мы могли в этом вопросе отдать пальму первенства кому-нибудь другому, посмотреть, что у него получится, а потом уж заняться этим делом и самим. И Донской не стал со мной спорить, а просто взял и сам занялся этим делом — сам нашел исполнителей, сам договорился с банками и торговлей. Причем я бы безусловно решил и этот вопрос, если бы он распорядился, но он решал его лично, и я не нахожу другого объяснения, кроме того, что ему это было интересно. В результате у нас на заводе первыми в СНГ появились пластиковые расчетные карточки исключительно благодаря свойствам нашего директора.
Надо сказать, что я, порою шапочно, а порою и очень тесно, был знаком с сотнями директоров различных предприятий. Не скрою, были среди них и такие мелкие людишки, что просто оторопь брала — как они на свои должности попали? Но в массе своей это были люди, безусловно, неординарные. Скажем, на Актюбинском ферросплавном тогда работал Н.В. Новиков, который восхищал меня своей энергией и предприимчивостью. Если бы пришлось, я бы под его началом работал без колебаний. Но пусть меня простит Никита Варфоломеевич, у нас директор был все же лучше.
Немного лирики не помешает
Приняв Ермаковский завод ферросплавов разрушенным в моральном и организационном отношениях, С.А. Донской в несколько лет полностью восстановил его так, что с тем же составом оборудования мы к началу 90-х годов увеличили производство чуть ли не вдвое и давали 1040 тыс. тонн ферросплавов в пересчете на 45 %-й ферросилиций, став по мощности крупнейшим в мире предприятием. Кроме того, мы имели очень высокое, отмечаемое международными наградами качество продукции, что снимало все проблемы по реализации ее на международном рынке. Но это далеко не все. Завод построил, строил и содержал половину города Ермака со всей его инфраструктурой. Имел огромный, как тогда говорили, соцкультбыт, т. е. профилакторий, крытый бассейн, дворец культуры, дом отдыха (он же пионерлагерь), стадион, спортплощадки и… не упомню всего. Имел большое подсобное хозяйство с коровниками, свинарниками, бойней, большой площадью теплиц. Сам или на паях производил уйму различных товаров от минеральной воды (кстати, очень достойной) до сыров, от мебели до видеомагнитофонов и трикотажа. Когда я знакомил с заводом новых партнеров с Запада, то, шутки ради, я перечислял сначала все это (я тогда лучше помнил), а потом добавлял: «Ну, в оставшееся время мы еще и плавим миллион тонн ферросплавов». Пока был СССР, мы, конечно, работали по его законам — по тарифно-квалификационному справочнику, посему вмешаться в свою зарплату могли незначительно и только путем повышения производства и экономии себестоимости, но с общим объемом прибыли — с деньгами как таковыми, у нас проблем не было — хватало на все.
С развалом СССР начался известный бардак, но мы выкручивались до тех пор, пока Правительство Казахстана не начало нас явно останавливать, чтобы, как стало потом понятно, передать госпредприятие на разграбление частным лицам. Руководство завода было препятствием к этому: ну, как ты, Назарбаев, объяснишь, почему снял с должности лучшего директора в СССР и заменил его подставным лицом — каким-то разорившимся владельцем маленького ресторана из Токио?
Сначала Донского, судя по всему, решено было убрать с помощью прокуратуры и суда, и нас, как я писал, замучили ревизии финансовой деятельности, но ревизоры ничего не нашли. В 1991 году Донскому исполнилось 60 лет, пенсионный срок, однако руководители его уровня, да еще такие крепкие физически, на пенсию в эти годы не уходят, посему мы никакой пакости с этой стороны совершенно не ждали.
И когда Донского по какому-то пустяковому вопросу вызвали к 12–00 к главе области, не только мы, но и он сам ничего не подозревал. Он не вернулся ни к обеду, ни после обеда, но нас это не волновало. И вдруг после обеда, несколько времени спустя, секретарь директора объявляет, что Семен Аронович снят с должности и нас собирают в актовом зале для представления нового директора. Мы опешили…
Собрали нас, представили в качестве директора Д.Т. Дуйсенова, у нас не было комментариев. Сообщили, что Донской освобожден от занимаемой должности в связи с пенсионным возрастом, думаю, что все присутствовавшие работники завода в душе или в полголоса заматерились — а у сраных «саксаулов» Правительства Казахстана какой возраст? Но мы чиновники госпредприятия, мы государственные служащие Казахстана — что тут поделаешь? Мы вынуждены подчиниться…
Вернулся я в кабинет, позвонил Матвиенко и Меньщикову, предложил переговорить, они тут же пришли. Говорить, собственно, было не о чем, поскольку никто из нас не мог обрисовать ситуацию без сплошного мата.
— Представляете, — вспомнил я, — как шефу сейчас хреново, давайте к нему съездим да хоть выпьем с ним.
Валера с Дмитричем сразу же согласились. Я набрал домашний номер Донского и, хорошо помню, что он снял трубку, едва закончился первый гудок, хотя мне казалось, что его телефон должен был быть занят.
Москва, 2006 год. Бывшие «МММ» — Мухин Ю.И., Меньшиков В.Д. и В.А. Матвиенко. Крайний справа — С.Н. Бондарев
— Семен Аронович, я вот тут сижу с Матвиенко и Меньшиковым, и мы подумали, а почему бы нам не купить бутылочку водки, колбаски, сядем где-нибудь у вас в гараже на ящичках, примем на грудь, поговорим за жизнь…
— Не выдумывай и перестань болтать. Приезжайте, я жду! Приехали без заезда в гастроном. Конечно, никакого гаража, все, как обычно — зал, белая скатерть, хрустальные рюмки, разносолы Нелли Степановны, и шеф, бегающий вокруг нас с вопросом: «Водки или виски?» Помнится, что выпил он, как обычно, мы — может, и поболее. Из всего разговора запомнилось такое его сообщение:
— Захожу, ничего не подозревая, к губернатору, он тут же вручает мне приказ о моем уходе на пенсию, говорить не о чем, я сразу же уехал. Понимаете, до этого мой телефон в машине звонил чуть ли не каждые пять минут — тому то надо, тому другое, а тут вышел я от губернатора — и звонки как обрезало! Ты, Юрий Игнатьевич, первый за весь день позвонил. Как они сразу все узнали, что меня сняли??
На следующий день, часов в 10 утра заходит ко мне председатель завкома С.Н. Бондарев.
— Слушай, Юр, у меня сидят председатели цехкомов всего завода, они возмущены, что Семена выбросили как собаку, требуют устроить ему общезаводские проводы. Нам, завкому профсоюза, нужно с неделю, чтобы подготовиться, ты же ближе к шефу, не мог бы ты позвонить и согласовать с ним дату и время? Я боюсь, а вдруг он обиделся и мне откажет? Я до этого даже не представлял, что такого человека можно так оскорбить…
Я набрал номер.
— Семен Аронович, доброе утро, у меня Бондарев, — я обрисовал шефу ситуацию, — он просит, чтобы вы согласовали дату и время ваших проводов.
Шеф поздоровался и немного помолчал.
— Что я должен делать?
— Стае, шеф спрашивает, что он должен делать, — я повернул микрофон трубки так, чтобы Донской слышал ответ Бондарева.
— Семен Аронович, здравствуйте, ничего не нужно делать, мы все сделаем сами, вы только будьте готовы, мы приедем и отвезем вас в ДК, — быстро и громко проговорил в направлении микрофона Бондарев.
Я повесил трубку.
— Стае, а Дуйсенов знает, что вы начали подготовку к проводам Донского?
— Да пошли они все к… матери! — дипломатично ответил Бондарев. — Семен наш директор и я ни у кого разрешения спрашивать не собираюсь. Захочет Дуйсенов или областное начальство его проводить — пусть приходят, нет — ну и хер с ними!
Следующие дни были в запарке: во-первых, мы готовили акт приема-передачи завода от одного директора другому, а это очень объемный документ в нескольких томах. Во-вторых, мы пытались убедить нового директора действовать как директор, поскольку мы (я, по крайней мере) тогда еще не знали, что и сам Дуйсенов — это всего лишь пешка, перед передачей завода в руки грабителей. Мы полагали — раз казах, то, значит, надолго. А в то время Правительство Казахстана нагло останавливает наш завод тем, что не выдавало нам лицензии на продажу продукции. У нас было море покупателей, мы могли работать с большой прибылью, но нам не разрешали продавать нашу продукцию. Вот мы (Матвиенко, Меньшиков и я) и пытались убедить Дуйсенова, что ему нужно воспользоваться тем, что он вновь назначенный директор, добиться встречи с Назарбаевым и решить, наконец, вопрос с лицензиями. Но по Дуйсенову
С.А. Донской. 2006 г.
было видно, что он и не понимает нас, и боится, причем всех — и нас, не веря, что мы его после Донского приняли как директора, и начальства, боясь укусить руку, поставившую его на эту должность. (То, что он поставлен временно, он явно не догадывался.)
А в это время на заводе во всю шла подготовка к проводам Донского: народ собирал деньги и готовил подарки, причем каждое подразделение завода отдельно. Ко мне являлись ходоки из цехов с вопросом, чего у Донского в доме нет? Работники цехов не хотели делать Донскому какой попало подарок, все хотели с толком. Я, честно говоря, никогда не интересовался, что у Донского в доме, и отвечал, что у шефа, скорее всего, все есть, тогда народ решал, что надо купить что-нибудь такое, что оно хотя и есть, но со временем изнашивается и «потом пригодится или детям будет». Работники заводоуправления назначили меня говорить на проводах речь от заводоуправления и выбили у остальных цехов право купить Донскому сервиз (уже не помню, чайный или обеденный). Посему несколько раз реквизировали у меня служебную машину и ездили по магазинам области, пока не выбрали понравившийся. Но, повторю, детально этим мне некогда было заниматься.
В день проводов женщины заводоуправления вручили мне букет роз для Донского, сообщив, что подарок сами отвезут, и я с этим букетом поехал в ДК. Было минут 5 до времени начала мероприятия, и к ДК «Металлург» шло довольно много народу, что меня не обеспокоило: зал в ДК на 800 мест, и я полагал, что сяду в зале в первом ряду, который стесняются занимать обычные люди, и спокойненько дождусь, пока Стас даст мне слово. Но не тут-то было! Не только весь зал был уже забит людьми, были забиты уже в фойе все подходы к дверям зала! Я поднял букет над головой и где авторитетом, где руганью начал пробиваться в зал, и в итоге весь мокрый отвоевал себе и букету место под стенкой недалеко от сцены — другого места не было, поскольку в зале яблоку негде было упасть. Молодцы женщины, что не дали мне еще и сервиз!
Начались проводы, и тут выяснилось, что провожать Донского пришел не только наш завод, в зале были почти все директора мало-мальски крупных предприятий области, директора окрестных совхозов и председатели колхозов. Поэтому действие проводов длилось очень долго, сцена была завалена цветами, и я полагаю, что по этому случаю был вырезан не только наш заводской розарий. Из подарков запомнился вычурный символический ключ от завода размером с полметра, отлитый из нержавейки Х18Н10Т, обработанный и отполированный. Его вручали, по-моему, от коллектива БРМЦ, и я, каюсь, подумал, что если бы я для какого-нибудь дела заказал в БРМЦ такой ключ, то они мне полгода бы объясняли, что его сделать невозможно, а потом бы еще год делали. А тут за неделю управились! Я шутил, что для подарков и цветов, видимо, пора к ДК подгонять КамАЗ, благо, что хоть крестьяне подаренный Донскому скот оставляли кормить у себя, объявляя, что они пригонят его шефу в любой момент, когда он скажет.
Дошла очередь и до меня: я сказал, наверное, что-то умное (что именно, сейчас не упомню), шеф стоял рядом, конечно, он не плакал, но глаза его подозрительно блестели. Он, надо думать, и сам был поражен, что к нему, находящемуся в опале у власти, с кем эта сраная «суверенная» власть так вызывающе мерзко обошлась, такое отношение со стороны всех, с кем он работал.
Приходилось бывать на подобных мероприятиях, но такого я не упомню. Может быть, я гиперболизирую, но так, на мой взгляд, провожают не директора, — так провожают признанного всеми и уважаемого вождя, который стал вождем не волей начальства, а исключительно благодаря самому себе, своей толковой и самоотверженной работе.
Послесловие НАДО ЖЕ!
Думаю, что читатели, видя, что книга заканчивается и непрочитанных страниц осталось всего ничего, уже задаются вопросом: а где же третий еврей?
Сейчас будет.
А пока я хочу вернуться к тому, ради чего эта книга писалась — к тому, что жизнь дается один раз и свою земную жизнь и интереснее всего, и разумнее всего прожить по-человечески. Понимаю, что для подавляющей массы людей, для толпы я говорю абсолютную ересь, но все же скажу ее для тех, кто пусть меня сразу и не поймет, но хотя бы смутится. Так вот, вы живете по-человечески как человек, только тогда, когда работаете, поскольку вне работы так, как вы живете, и животное может жить. Вне работы даже в «интеллектуальных» развлечениях ума человеку требуется не больше, чем скотине, даже если интеллектуальные развлечения и серьезнее, нежели разгадывание кроссвордов. По-настоящему ум вам требуется только в работе, и только в работе вы его по-настоящему тренируете, то есть действительно становитесь умным, а не магнитофончиком, способным воспроизвести много разных слов.
Конечно, если у вас вне работы есть увлечение (тоже Дело, но необязательное для вас), то на нем тоже можно отточить ум, но из-за своей необязательности увлечение все же следует считать второстепенным фактором, а главное для совершенствования ума — это работа.
Очень важно для совершенствования своего ума и, следовательно, для кардинального повышения интересности своей жизни, чтобы вы к своей работе относились как к своему Делу. Тут принципиален подход, и я даже перегну палку: не надо ходить на работу ради того, чтобы заработать деньги, на работу надо ходить, чтобы достичь в ней выдающегося результата. Вот когда вы поставите перед собой такую цель и когда освоите работу настолько, что способны будете эту цель достигать, вот тогда ваша жизнь и станет интересной. А деньги у вас будут, по крайней мере, вам их будет хватать. А если не будет хватать, если ваш работодатель решит слишком уж паразитировать на вас, то «шея есть, хомут найдется». Их, сраных работодателей, до хрена, а хороших работников мало. Так что, хороший работник нужен работодателю, а не хорошему работнику — какой попало паразит.
Но все вышесказанное относится только к случаю, когда вы хороший работник, если же вам от работы нужны только деньги, то таких, как вы, полно — тогда вас заменить несложно, и грош вам цена. Повторю, становясь хорошим работником, вы убиваете сразу двух зайцев: ваша жизнь становится интересной, поскольку у умного человека жизнь всегда интереснее, нежели у глупого, а проблема денег для вас становится не актуальной.
Не бойтесь никакого Дела. Тут главное, поставить себе целью не просто прижиться при нем и кое-как кормиться, а сделать его так хорошо, как еще никто не смог. Ну ладно, — как не многие могут. Вот эта цель и заставит вас быстро и досконально разобраться в тонкостях любого Дела.
Что не дает вам воспринять мои советы? Страх, животный страх перед неизвестностью. И вызван этот страх тем, что вы не верите ни в свой ум, ни в свою волю. И именно этот страх шепчет вам: сиди тихо и не дергайся! Имеешь сколько-то в месяц и будь доволен. Сейчас, если что непонятно, у начальника спросишь, а начнешь жить своим умом — и тех денег, что имеешь, лишишься, и все тебя дураком будут считать. Все это правильно, но ведь жизнь-то уходит! И это ваша жизнь, а не дядина. Вы для чего родились? Чтобы жить или чтобы смерти ожидать?
Преодолевается страх перед недостаточностью своего ума и воли единственным способом — тренировкой.
Конечно, можно начало собственных действий и собственной самостоятельной жизни отложить и на потом, на более лучшее время. Но я бы не советовал, начинайте сегодня. Если вы не начнете сегодня, то лучшее время никогда не наступит. Именно сегодня самое благоприятное расположение звезд.
Теперь о третьем еврее. Как-то мои старинные приятели из Ермака Гриша и Татьяна Чертковеры куда-то летали с пересадкой в Москве и заехали ко мне повидаться и подождать у меня свой рейс, вылетавший поздно вечером. Они летели ночью, и мы, уже не помню, то ли позавтракали, то ли пообедали, после чего Татьяна прилегла отдохнуть, а мы с Григорием за рюмкой чая продолжали беседовать, как в старые добрые времена. И вот Григорий мне выдает, что в Ермаке организовалась еврейская община. Я удивился.
— Гриш, неужели ты с Гаврильманом ее организовал?! Я что-то не вспомню в Ермаке других евреев.
— Да, нет, — досадливо отмахнулся Григорий, — Ефим Маслер там заправляет.
— Ах да, — вспомнил я, — конечно же, есть еще и Фимка. А кто же еще там с ним?
— Ну, Костюкова…
— Какая — Катька???
— Ну, да.
— Да не может быть! Она же подруга моей жены, мы столько времени вместе провели, столько всего переболтали, ее муж, помню, учил меня овчины выделывать. Это же я сколько при ней анекдотов про евреев рассказал, не подозревая, кому рассказываю?! Ни хрена себе!.. А кто еще?
— Топильский…
— Какой?
— Петр Васильевич.
— Да быть не может! — опешил я. — Я же его личное дело просматривал, когда мы документы на премию готовили. Он русский!
— Был русский…
Мы переключились на другие темы.
А когда у меня возникла идея этой книги, то вспомнились и эти сведения о Топильском. Интересно, когда я по телефону переговаривал с Друинским, то спросил его, знал ли он, что Топильский еврей, и Михаил Иосифович искренне этому удивился — он тоже считал, что Топильский русский. Стало понятно, чей Топильский был «блатной» — какая мафия сделала его директором нашего завода, какая мафия толкала его в министерские кресла и какая отказалась от него, когда он опозорился в Ермаке.
Все встало на свои места…
Но тогда получается, что мой родной Ермаковский завод ферросплавов — это сплошная еврейская песня, если смотреть на это дело с этой стороны: еврей его построил, еврей разорил и еврей восстановил и прославил.
Надо же!
___________________________
Издательство «Крымский мост д
Книги для тех, кто хочет понимать больше других
Издательство «Крымский мост — 9Д» предлагает:
1. Ю. Мухин «Законы власти и управления людьми»
Книга из тех, что надолго остаются в памяти, составляя часть нашего интеллектуального багажа. Нет, это не учебник по манипулятивным технологиям. Здесь нет советов как обмануть, сыграть или сделать вид. Это книга о том, как на самом деле относиться к Делу, начальству и подчиненным и на каких принципах строить (а на каких не строить) управление.
2. С. Родин «Отрекаясь от русского имени» (серия «Великое противостояние»)
Каждый день власти самостийников на Украине множит наших врагов, превращая русских в «украинцев». «Украинцам» — детям русских родителей — внушают в школе, что их главный враг — «коварный москаль», т. е. русский. Еще каких-то 120 лет назад даже в самой что ни на есть «украинской» Галичине ни о каких «украинцах» и слыхом не слыхивали, а сегодня их там большинство. А вот в Крыму русские составляют 85 % населения. А почему? Да потому, что до 1954 г. Крым входил в РСФСР и его жителей просто никто насильно в «украинцы» не записывал!
3. Ю.Болдырев «О бочках меда и ложках дегтя» (серия «Великое противостояние»)
В книгах бывшего зампреда Счетной палаты не только преданы огласке сенсационные материалы проведенных палатой расследований. Автор аргументировано доказывает, что под вывеской либерализма и демократии происходит уничтожение России, показывает, какие глубоко порочные механизмы заложены в важнейшие государственные сферы, как мошенническим путем продавливались законы, узаконивающие вопиющий произвол и выводящие власть из-под всякого контроля и ответственности, какую постыдную роль играли при этом различные политики (Явлинский, Чубайс, Задорнов и др.), с какой наглостью, не останавливаясь ни перед чем, жулье стремится урвать от страны кусок пожирнее.
4. Ю. Болдырев «Похищение Евразии» (серия «Великое противостояние»)
Ситуация в России уже не один год очень напоминает такую картину. Представьте себе, что некто пришел в магазин и увидел там что-то очень ему нужное. Да, дороговато, но дешевле это нигде не купишь, и потому он склоняется к тому, чтобы открыть кошелек. И вот он уже почти совсем решился, но откуда-то из-за угла выглядывает работник этого же магазина и тихонько шепчет, что может все устроить гораздо дешевле…
Вторая книга бывшего зампреда Счетной палаты посвящена, в основном, разграблению природных ресурсов России.
5. А. Сергеев, Е. Глушик «Беседы о Сталине» (серия «Сталин»)
Артем Федорович Сергеев (1921–2008) сын легендарного большевика «Артема». После трагической гибели отца его воспитывал в своей семье Иосиф Виссарионович Сталин.
Воспоминания А. Ф. Сергеева поистине бесценны: обладая уникальной памятью, он мог восстановить практически с документальной точностью события любой давности, свидетелем которых был.
___________________________
Издательство «Крымский мост — 9Д» Книги для тех, кто хочет понимать больше других
Книги издательства «Крымский мост — 9Д» вы можете приобрести в интернет-магазине .
Интернет-магазин «ДЕЛОКРАТ.РУ» предлагает КНИГИ и ФИЛЬМЫ
для тех КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА РОДИНЫ
Мухин Ю.И., Кара-Мурза С.Г., Паршев А.П., Калашников М., Исаев А.В. и другие авторы
Доставка по Москве (926) 150-30-66, Ленинграду (812)924-53-31,
Курску (4712) 52-81-21
и другим филиалам
Доставка почтой по России и другим странам Адрес в интернете: . RU
Издательство «КРЫМСКИЙ МОСТ—9 Д» выпускает книжные серии:
«Великое противостояние» — посвященную взаимоотношениям между православной и западной цивилизациями,
«Реконструкция эпохи» — посвященную отечественной истории советского периода,
«Сталин» — посвященную жизни и деятельности И.В.Сталина (воспоминания и исследования).
Приглашаем к сотрудничеству авторов.
Очень ждем откликов от читателей.
Адрес для писем и контактов: 119261, Москва, а/я № 88, для Дмитрия-59
или E-mail: most9d@mail. ru
___________________________
Юрий Мухин ТРИ ЕВРЕЯ
или как хорошо быть инженером
Художник И. Горюнов
Корректор С. Ростунова
ISBN 978-5-89747-036-5
Крымский мост-9Д ООО «НТЦ "ФОРУМ"»
Сдано в набор 17.07.09 г. Подписано в печать 27.07.09 г.
Формат 60x90/16. Печ. л. 41. Печать офсетная.
Бумага для офсетной печати. Гарнитура Петербург.
Тираж 1200 экз. Заказ № В-1109.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК "Идел-Пресс". 420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: idelpress@mail.ru, -press.ru
Примечания
1
Тебеневка — пастьба скота зимой сухой травой, остающейся под снегом.
(обратно)2
ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий, медицинское учреждение в СССР, в котором лечили от алкоголизма.
(обратно)

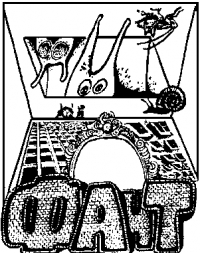



Комментарии к книге «Три еврея, или Как хорошо быть инженером», Юрий Игнатьевич Мухин
Всего 0 комментариев