Владимир БОНДАРЕНКО РУССКИЙ ПОДВИЖНИК
Умер мой друг Юрий Петухов. Умер при выходе из церкви на Ваганьковском кладбище, где часто бывал у могилы своей матушки. Отстоял службу, поставил свечи. вышел и... упал.
Вечная ему память...
Юра был замечательным и очень оригинальным человеком. Историк, фантаст, публицист, вечно лез в экстремальные ситуации. Два года был под уголовным преследованием за вредные мысли. Запрещены две его книги. При этом, как и я, очень любил путешествовать, объездил почти весь мир. Иногда мы вспоминали наши поездки по самым сакральным и священным местам мира. Европа, Азия, Америка, Африка… Вот уж кого никак не назовёшь лапотным патриотом. Юрий имел тонкий вкус, и составил интересную коллекцию артефактов из разных стран мира. Куда денутся теперь эти его книги и коллекции? Он был очень образованным человеком. К нему относились по-разному и либералы, и патриоты. У Юры были свои странности, в чём-то он мне напоминал Григория Климова, которого я тоже хорошо знал. Соединение тонких мыслей, неожиданных гипотез и предельного русского максимализма.
Одни высоко ценят его исторические книги по истории русов, другие видят в нём оригинального фантаста: "Бойня", "Звёздная месть". Думаю, не числись он в либеральных кругах русским экстремистом, ему была бы уготована слава того же Лукьяненко. Всю издательскую прибыль, все свои гонорары тратил на издание газет и журналов, "Голос Вселенной", "Поиск" и другие издания.
Ему было всего 57 лет. Планов – громадьё. Мы – писатели, журналисты – нужны были ему, он – был нужен нам. Уже почти не оставалось издательств, рискующих издавать оппозиционные, протестные книги. Год назад умер Илья Кормильцев, и ушла “Ультра.Культура”. Сейчас умер Юрий Петухов, и с ним уходит целый пласт его изданий, включая “Метагалактику”. Мы собирались вместе совершить новое путешествие по святым местам, захватив с собой и Владимира Личутина. Даже оформили загранпаспорт нашему другу. Ничего не удалось. Вместо этого отпевание в ритуальном зале больницы Склифосовского…
Вернулся после похорон. Пишу поминальные заметки. Вспоминаю... Яркий, талантливый человек. Мы подружились с ним, когда он сам пришёл в редакцию "Завтра". Его преследовали за патриотические книги, две из которых "Четвёртая Мировая" и "Геноцид" были официально запрещены. Было возбуждено против учёного и писателя уголовное дело. Я самым внимательным образом перечитал книги. Да – откровенно патриотические, с чем-то даже можно поспорить, но не нашёл я в них никакого экстремизма. Читал гораздо более радикальные, и не вызывавшие никакого шума. Честно говоря, и наша газета "Завтра" часто печатала куда более откровенные статьи о новом мировом порядке, об унижении достоинства русского народа. Думаю, определённые силы в господствующих либеральных кругах выбрали как жертву писателя и историка Юрия Дмитриевича Петухова, зная об определённом его одиночестве, о том, что он как-то чурался писательского сообщества, выживал сам по себе, имел независимый характер.
Его знали как писателя-фантаста, его книги об истории русов выходили огромнейшими тиражами. Общий тираж произведений Юрия Петухова, выходивших в его собственном издательстве "Метагалактика", оценивается примерно в 16,5 млн. экземпляров. Читательским вниманием он не был обделён, его книги влияли на настроение общества. Но он не был ни под надёжной крышей Академии наук, по-моему, явно недооценившей талантливейшего историка, ни под защитой Союза писателей России, хотя и написал десятки популярнейших романов, от "Бойни", породившей целую серию антиутопий, что признавала даже либеральная критика, до "Звёздной мести", своего рода смелой альтернативы американским "Звёздным войнам".
Государству нашему поддержать бы такого яркого государственника, запустить телевизионный сериал по его романам, серию научно-популярных передач по его историческим книгам. Государство, отдавшее свою культуру на откуп либералам, ополчилось на своего же защитника. Отдало его под суд, так же, как отдаёт под суд офицеров собственного ГРУ и спецназа. Защищать государственные, а особенно русские национальные интересы в нынешней России крайне опасно, это вам не Израиль, где за каждого убиенного солдата готовы взорвать всю Газу.
И вот по наводке радикально-либеральных сил началось преследование в России русского же патриота. Но преследователи явно недооценили ни самого Юрия Петухова, ни его друзей. Внешне биография у Юры была самая обыкновенная. Родился в 1951 году в Москве. Отец – военный журналист, мать – библиотекарь. С детства рос в книгах. В разговорах о литературе. Проходил военную службу в советских войсках в Венгрии, закончил технический вуз, работал в оборонных НИИ, а в 1983 году выпустил свою первую книгу – "Через две весны". Читательского успеха Юрий Петухов добился в 90-х годах – его пенталогия "Звёздная месть", про космодесантника Ивана, вышла в 1990-1995 годах. К числу других его популярнейших романов относятся "Бойня", "Сатанинское Зелье", "Громовержец"…
Но энергетика у молодого фантаста была явно космической. На заре перестройки Юрий Петухов издавал газету "Голос Вселенной", которая выходила огромнейшими тиражами, основал своё издательство "Метагалактика", журнал "Поиск". Сам наладил сеть распространения своих изданий. Вместо поддержки за патриотическую направленность своих изданий в 2007 году Перовский суд Москвы признал книги Юрия Петухова экстремистскими и подлежащими уничтожению за разработанные писателем собственные концепции "Третьей и Четвёртой мировых войн", "теории Сверхэволюционного развития" и "общества потребления, ставшего обществом истребления народонаселения России".
Юрию оставалось ждать суда и заранее придуманного судебного приговора. Наши власти не смущало, что это был бы очередной прецедент в истории России содержания известного писателя в тюрьме… И вот в этот тяжелейший период своей жизни Юрий Петухов пришёл к нам, в газету, в Союз писателей России. Он ждал поддержки от своих литературных единомышленников, и он её получил. Его приняли в Союз писателей (куда его с десятками художественных произведений должны были принять уже давным-давно), крупнейшие писатели России, от Василия Белова и Валентина Распутина до Александра Проханова и Владимира Личутина, подписали письмо-обращение в Верховный суд России.
Пожалуй, все литературные газеты России: "Литературная газета", "Экслибрис НГ", "Литературная Россия", "Российский писатель", "День литературы" выступили со статьями в поддержку Юрия Петухова. Оказалось, в России всё-таки ещё есть литературная общественность.
Нашлись и независимые юристы, оказавшие необходимую поддержку. Первая атака на писателя была отбита. Но чересчур тяжёлой ценой. У Юрия в результате этого преследования начались проблемы с сердцем, попал в кардиологический корпус к чудо-терапевту, помощнику всех русских патриотов, со времён ещё советских, преследуемых режимом, Леонида Бородина, Владимира Осипова и других, – Александру Викторовичу Недоступу.
После обследования профессор посоветовал Юрию Петухову срочно ложиться на операцию, половина сосудов сердца не работала, была изношена из-за постоянных стрессов. Но даже в больницу, в кардиологический корпус приезжал следователь с допросом. Эх, так бы у нас бандитов ловили и с коррупцией боролись, как с независимым русским словом.
До операции Юрий Дмитриевич Петухов не дожил. Всё время откладывал сроки, надо дописать роман, надо выпустить журнал. Мы затеяли с ним новую серию лучшей отечественной прозы. Тридцать томов "Библиотеки сверхреализма". Вышли пять первых: Проханов, Личутин, Зульфикаров, Афанасьев, Пронин… Готовился уже к выходу том Юрия Кузнецова. Впереди ждали выхода книги Веры Галактионовой, Юрия Мамлеева, Анатолия Кима, Юрия Козлова, Эдуарда Лимонова, Михаила Попова…
Не дождались. В возрасте 57 лет скончался известный российский писатель-фантаст, историк и неутомимый издатель, страстный и неукротимый путешественник, русский подвижник Юрий Петухов. Это был яркий, умный и очень талантливый человек. Мы часто недопонимаем, с кем жили рядом. Юра приходил каждую среду ко мне в кабинет, собиралась после выхода очередного номера газеты наша писательская компания: Володя Личутин, Тимур Зульфикаров, Виктор Пронин, сверху из Союза писателей спускались Геннадий Иванов, Николай Дорошенко, приезжали из провинции Александр Тутов, Евгений Чебалин, Захар Прилепин… Мы спорили о литературе, о путях России, обо всём на свете. Иногда заглядывали Эдуард Лимонов, Николай Коняев… Захаживал после встреч с политиками Александр Проханов. Проходит время, и оказывается, что эти люди и сотворили новую русскую литературу…
Конечно, Юрий Петухов страдал от недопонимания нашей писательской общественности, от отсутствия серьёзных критических разборов его романов, от игнорирования его оригинальных работ официозными историками. Себя Юрий считал верным учеником академика Бориса Рыбакова и даже задумал три ежегодных премии имени Бориса Рыбакова. Первую – за исторические труды по древней Руси, вторую – за яркую историческую прозу, третью – за национальную публицистику. Я шутя сказал, что все три премии и надо вручить прежде всего ему самому. Юра заявил, что ни в коем случае он не видит себя в этой премии никем, кроме как спонсором и организатором. А я мечтал со временем выдвинуть его на "Национальный бестселлер", сделать постоянным участником Кожиновских чтений в Армавире и писательских встреч в Ясной Поляне.
Ему недоставало серьёзного писательского общения. С каким интересом Юра поехал с нами в Вологду на вручение первой премии имени Василия Белова его другу Владимиру Личутину, гордился, что успел попариться в баньке в Тимонихе вместе с самим Василием Беловым. Но и в Вологде не о себе Юрий думал, а успел договориться с Сергеем Мироновым, председателем Совета Федерации России, учредителем премии Белова, о выпуске первого собрания сочинений Владимира Личутина к его семидесятилетию. Будем надеяться, что Сергей Миронов не забудет о своём обещании…
Когда я сообщил о смерти Юрия Дмитриевича Петухова в интернете, пошла огромная волна сочувственных откликов со всей России:
"Я его фантастику не читал (так сложилось), а историю принял. Юрий вернул (знамя) Русским, понятие их первородства. Его учение позначимее Марксова будет. Последняя его книга "Русский мировой порядок" – станет национальной идеей..."
"А у меня наоборот. Для меня Ю.Д. прежде всего замечательный писатель-фантаст. Его фантастика "знак" нашего времени, как фантастика Ефремова определяет космическую эпоху 50-х-60-х…"
"Да-а-а... может, ушла и не эпоха, но часть её, причём яркая".
"Первое знакомство началось с трёх книг из романа "Звёздная месть", которые мне подарил Папа. Читала взахлёб! Давно это было... К своему стыду не знала о его жизни, но как автора книг люблю! Жаль, очень жаль, что такие люди, кто несёт нам светлое и доброе, так рано уходят от нас! Светлая память!.."
"Великий человек, отличный историк, сильный фантаст. После "Звёздной мести" перестал читать фантастическое чтиво абсолютно. Очень жаль его. Пусть земля будет пухом..."
"Вечная память. Такой человек был хороший и умный, мало таких. Очень ценил его исторические книги, а его цепляющая и сильная фантастика скрашивала дни, когда приходилось скрываться после Кондопоги. Уходят как всегда лучшие люди..."
"Плачу... Мой любимый писатель и истинный партиот России. Очень жаль..."
Сразу же мне сообщили: "Вы попали в top30 на яндексе самых обсуждаемых тем в блогосфере. Это ваш первый топовый пост…", затем: "Ваш пост написан настолько интересно, что вы попали в Топ-30 Зиуса самых обсуждаемых тем в Живом Журнале. Это очень положительное явление. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Зиус…" Я прекрасно понимаю, что дело не в моей подаче текста, дело в огромном интересе читателей интернета к творчеству и к самой жизни Юрия Петухова. Надеюсь, выдержит этот трагический удар и его издательство "Метагалактика", его книги по истории славянства, его утопии и антиутопии, его смелая публицистика будет читаться с удвоенным интересом. Не знаю, продолжится ли наша серия "Библиотека сверхреализма", но буду просить работников издательства и его наследников, чтобы хотя бы издали в этой серии роман самого Юрия Петухова "Бойня".
Удивительно, при всём своём максимализме и смелости гражданской и национальной позиции, в жизни Юрий был очень деликатным и скромным человеком, не имел ни машины, ни роскоши бытовой при всех своих доходах, очень ценил и понимал писательский талант, и поэтому нередко издавал в ущерб себе талантливые, серьёзные, но в наше потребительско-истребительское время явно убыточные книги. И в серии нашей задуманной себя издавать не желал, когда я решительно настоял, согласился, что может быть и издаст свой роман последним, тридцатым… Последний русский герой. На своих позициях он стоял до конца. А уголовное дело в суде против писателя и историка Юрия Петухова официально до сих пор так и не закрыто. Но писатель ушёл от своих гнусных преследователей уже в мир горний.
(обратно)Юрий ПЕТУХОВ ПРЕД ИКОНОЙ
Что ж ты, Господи,
смотришь так пристально-пристально,
Будто пристав карающий,
будто я пред Тобою злодей.
Ты меня не кори, ни приюта мне нету,
ни пристани.
Ты меня не гони,
Ты меня в этот раз пожалей.
Среди праздных меня Ты не видел,
ведь Ты же всевидящий,
Среди алчущих злата и власти
меня не встречал.
А взалкал коли я, Ты меня извини,
я взалкал, ненавидяще
Лжи-неправды обманные грёзы,
лишь правду земную взалкал!
Нет её. Что ж, тужить-горевать –
так устроено,
Лишь на Небе есть Царство,
а под небом же слякоть и смрад.
Всё давно уж прописано в книгах,
всё смерено-скроено,
Всё пристроено – строем –
стремительно – шествуем – в ад!
Я один у Тебя и наивный,
и в праведность верящий.
Где второго такого найдешь,
не ищи, и не мучай Себя...
Ты – заря над землёю погасшей,
и Свет Твой доверчивый
Лишь в одном отражается сердце.
Но вижу, всё зря...
Всё напрасно, всё мимо,
всё попусту-побоку.
Не меня ж одного
Ты явился-спустился спасать.
Ты на облаке белом...
И я здесь иду, как по облаку –
Твой забытый посланник,
былая Твоя благодать.
Не смотри же так строго,
так яро, так пристально-пристально,
Я не вор, не убийца,
не проклятый миром злодей,
Я не изгнанный ангел
в ковчеге у пристани избранных,
Я Твой Свет на земле...
Ты свой Свет в темноте не жалей!
(обратно)Валентина ЕРОФЕЕВА МУЗЫКА СФЕР
Смерти нет. Есть переход в иное состояние. Это знают люди верующие, потому что они верующие. И уже визуально, опытным путём, не только путём верования, те, кто побывал в обмороке или под наркозом. Уходишь, уходишь куда-то… так вбок слегка… вверх… Заполняешь собой пространство надпотолочное. И вопросительно-удивлённо наблюдаешь, что же это там внизу происходит? Вроде бы это ты там лежишь, но какой-то иной – не надпотолочный…
И капли пота на лбу хирурга, возвращающего тебя, удивлённо-любопытного, из надпотолочного состояния опять вниз – к телу, в тело…
Честно признаться, тебе и не очень хочется этого возвращения. Ведь там хорошо было. Под потолком.
Там музыка везде была разлита. На земле такой нет. Ни одному земному композитору не дано создать или воссоздать её, даже если он там её услышал. Кажется, это ей земной человеческий разум придумал имя – музыка сфер.
Музыка сфер… Пульсация, дыхание иной жизни…
Наверное, Юра тоже слышит её теперь там, над своим потолком, которого у него не было, реального, когда он уходил от нас холодным февральским днём. Его потолком было всё небо…
Мы не знаем, когда это точно случилось – его уход. Так уж произошло, что был он в это время – один.
Человеку творческому важно одиночество. Думаю, он любил его, и оберегал эту защитную зону вкруг себя. Не допуская прорыва в неё земного бытия ничьего, даже очень близких ему людей. Ведь он там у себя, в своём одиночестве, слушал тоже – музыку сфер…
И пусть она несколько иная была, не та чистая, космическая, а уловленная земным человеческим слухом, но это тоже была музыка сфер. Все, кто читал его книги, подтвердят это…
Может быть, далеко не всегда и во всём согласные с этим видением и слышанием его, миллионы читателей (а были золотые времена таких тиражей у русских писателей, и у Юрия Петухова тоже) открывали и свои миры, созвучные с его миром. И осваивали их – под его водительством. А он щедро, размашисто делился всем, чем владел, всем, что познал и прочувствовал.
И когда он входил к нам в редакцию – она освещалась. Освещалась тем щедрым Солнцем знаний, предчувствий и прозрений, которые он носил в себе.
Освещалась и его улыбкой, трогательной и почти детской. Юра и был большим ребёнком по мироощущению своему. Ребёнком, которому было остро-больно от всех неурядиц и безобразий взрослого безумного мира.
При почти энциклопедических знаниях своих он, также по-детски, любил задавать вопросы и внимательно слушать и слышать ответы на них. Вопросы были разные – начиная от мелко-бытовых и заканчивая какими-то почти глобальными.
Теперь этого большого мудрого ребёнка с нами нет. Никто уже не задаст нам его вопросов. Ведь он перешёл в иное состояние, из которого нам трудно услышать их, даже если они у него есть…
А может быть, этот переход в иное состояние свершился и у нас, оставшихся жить, но с этой болезненно-ноющей раной потери. Переход в состояние более бережного и любовного отношения к живым – дорогим и близким нам людям, близким не только по родству и по крови, но и по жизненным целям и духу… Да и просто к человеку вообще. Пока он здесь, на земле.
Неужели только оттуда мы будем взирать на него удивлённо-любовно…
(обратно)Владимир ЛИЧУТИН ПРЕЗРЕВШИЙ СМЕРТЬ
Помню, как однажды, совсем случайно, прочитал книгу Юрия Петухова "История Русов" и был поражён глубиною познаний ученого; его умением странствовать по временам давно минувшим, вынося оттуда полную торбу знаний; его неразрывностью с родиной; его редкой для наших времён глубинной русскостью, жертвенностью, восторгом перед родными палестинами и вместе с тем братской отзывчивостью к праотеческим землям, откуда изошли наши предки; его неоскудным воображением, парадоксальностью идей, доступностью изложения и насыщенностью фактами.
Петухов входил в тысячелетия, как в избу предков, знакомо отыскивал красный угол, где неотлучно жили русские Боги, внимательно оценивал житьишко и под вековыми слоями пыли легко угадывал следы нашего неиссякаемого родства. С такою же лёгкостью, затворяя за собою двери, он возвращался в наше сегодня, в загнивающий новый Вавилон и находил те же самые страшные приметы настигающей нас гибели, узнавал мореев, марту – "людей смерти", которые такими же приёмами в своё время погубили цивилизации Ближнего Востока – Шумеры, Сирию, святую землю Палестины, Месопотамию, Финикию, Белый Стан, Персию и древний Египет, где за тридцать веков до новой эры возникли первые города-княжества русов-ариев-индоевропейцев и откуда позднее начался исход наших дальних предков во все концы света.
Я лишь интуитивно догадывался, что русское голубоглазое, русоволосое племя – самое древнее на земле, когда толковал, что нашему этносу больше тридцати тысяч лет. Крупины, сегени, воронцовы лишь ухмылялись и хихикали, когда (по их глубокому пресловутому убеждению) я вслух произносил еретические кощуны. Литераторы в силу мелкости своего ума и вялости национального чувства, отдавая нашему возрасту лишь тысячу лет, обкарнывая его породу, напяливая исторический сюртук не по плечам, уверяя, что до Владимира Красно Солнышко наши предки пили кровь и ели человечину по своей звериной дикости и первобытности, – невольно запрягаются в связку с космополитами, которые вообще лишают нас всяких примет самобытности, уникальной православной истории и культуры, корневых земель, где задолго до иудеев зарождалась, а после и двинулась по Европам и Азиям Святая Русь.
Вслед за Ломоносовым Юрий Петухов в оригинальных трудах "История русов", "Дорогами богов", "Русы Севера", "Сверхэволюция. Суперэтнос Русов" подтвердил мои смутные догадки и сделал переворот в моём сознании, исполнил моё сердце гордостью за наш народ. И это не компиляция чужих трудов, не скрадывание чужих крох в беспризорных чуланах, но работа оригинальная, потребовавшая изнурительного труда в дальних землях, годы раздумий, одиночества, борьбы с неверами, лишений, какие настигают обычно учёного-практика. Это открытие, ниспровергающее все мифологии и художественные басни европейских германистов, иудаистов и библеистов, кропающих мировую историю по своей измышленной матрице, где русским досталось самое крохотное гнездо "недолюдей".
Петухов холодно презирал амореев – "людей смерти", сеятелей повсюдного разрушения, а они в ответ преследовали писателя, гнали по следу, как прикормленные псы-британы, таскали его по судам, разносили клеветы, по капле выпивали здоровье. Амореи, амарту – это ростовщики, менялы, доносители, чиновники-вымогатели, неправедные судьи и прокуроры, рвачи и выжиги, поклонники ваала-диавола-мамоны-золотого тельца, сатанисты, развратители и разбойники с большой дороги, – все те, кто чванясь своими разрушительными делами, живут плотскими утехами, ради чрева своего, позабывши о Спасителе. К сожалению, амореи – "люди смерти", вездесущи, они в спайке, они живут по законам своего клана, племени, увы, они не имеют совести, попирая в праздную утеху себе все спасительные общежительные законы, они бесконечно подлы, чужая беда им в радость. Амореи суетятся в газетах и на телевидении, ради красного словца не пожалеют мать-отца, они лишены жалости к ближнему, спесиво полагая, что Бог выделил их из толпы, одарил богатствами за хитрый ум, и при всём том у них гибкий позвоночник, они имеют манеры лакея, трактирного полового, перед сильными живут по принципу "чего изволите-с", по желанию высокого чиновника из Кремля сегодня создают новую буржуазную партию, а завтра достают из скрытни спрятанный партбилет с силуэтом вождя. Они высокомерны и, как истинные русофобы, называют простеца-человека, что кормит их и поит, – быдлом, чернью, навозом истории. Но стоит на них рыкнуть с Кремлевских холмов, как эти мотыльки и жадные клещи тут же затрепещут, как осиновые листы, и поспешат с извинением. Но, вот, грозного рыка-то и не доносится из-за кремлевской стены от потаковщиков. Но зато частенько кличут туда на чаи-кофеи, за очередной премией и наградою, и подобное отношение к амореям изумляет, ошарашивает совестного человека, уже задыхающегося от лжи, удушливым облаком зависшей над столицей.
Петухов засыпал президентов письмами, открывая глаза на истины и на творящиеся в стране неправды, но из Кремля не отвечали ему. Он порою полагал, что там царюют спасители, благодетели народа. Но, увы, за кремлёвской стеною уже давно обжились и оплодились свои наушатели и толкователи из амореев, похоронщиков России.
Петухов не боялся смерти, но и не ждал её так скоро, словно бы от Бога ему сулилась долгая жизнь. Тягловая лямка вечного соработника, "раба на умственных галерах", неистового воина за русскую правду, сострадательного к чужим горям, перенесённые лишения, суды-пересуды, следователи, всеобщее умолчание, конечно, поистерзали здоровье, хотя внешне Юра выглядел замечательно – видный, красивый, рослый мужик с бородою, высокий лоб мыслителя, тёплый благожелательный взгляд, ровный, внимательный к чужим речам, слушает терпеливо, посверкивая очёчками, лишь иногда, несколько наивно, переспрашивая: "А почему?.." – "А по кочану", – хотелось мне насмешливо ответить… Но видимо хворь уже гнездилась внутри, но Юрий не замечал её, перенеся инфаркт на ногах. Но и после того, как ему сказала врачи, что половина сердца у него заблокирована, что надо озаботиться здоровьем и лечь на операцию, он по-прежнему отнёсся к себе легкомысленно – убежал из больницы. Видите ли, его ждала неотложная работа, которую никто не сделает. Я ему внушал: "Юра, хотя бы принимай лекарства, они помогут тебе". Он отвечал: "А зачем, природа сама должна победить безо всяких лекарств. Скоро я поеду в Испанию, там море, много солнца, никто не досаждает". Но, братцы мои, когда прижало крепко, когда сердце коренным образом надорвалось, настой ромашки иль мяты уже не умягчит нутро, и солнце Испании уже не спасёт.
Юра жил, как скалолаз, который пополз на кручу, не взяв с собою страховочного шнура. При внешней мягкости внутри у него был негнучий стальной стержень. Петухов жил по своим заповедям и убеждениям, и никто и ничто не могли их обороть. Человек с загадочной судьбою, Юрий, как внезапно появился в нашем писательском кругу, так же неожиданно и ушёл навсегда, – неузнанный, недопонятый, тревожный, одинокий.
В воскресенье Юрий Петухов отправился на кладбище. Каждую неделю он навещал могилу матери. И уже не вернулся. Амореи загнали руса-ария в западню.
Выдающемуся русскому человеку, учёному, писателю, стоику было пятьдесят семь лет.
(обратно)ХРОНИКА ПИСАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
"АКСИОС!" 1 февраля 2009 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сегодня мы, радуясь приходу достойнейшего на пост патриарха Московского и Всея Руси Кирилла – большого и настоящего друга Союза писателей России, веруем и надеемся на благословение и поддержку православной церковью нашего непростого дела – духовного возрождения России.
В Храме Христа Спасителя собрался сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви, монашествующие, тысячи мирян, а также делегации всех Поместных Православных Церквей.
В соборном храме присутствовали Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин, руководители и представители органов власти других государств и территорий канонической ответственности Русской Православной Церкви, представители инославных общин.
Новоизбранного Патриарха Кирилла возвели на Горнее место в алтаре. При этом трижды провозгласили: "Аксиос!", что в переводе с греческого означает "Достоин!"
Пусть Бог даст здоровья Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, пусть продлятся годы жизни его на благо православных христиан и Родины нашей – России!
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 29 января 2009 года гости к писателям России приехал Марк Друэн – один из руководителей "ЕрКАзии" ("Европа-Кавказ-Азия"). Эта русско-французская ассоциации стала в 1992 году правопреемницей общественной организации "Франция-СССР". Марк Друэн вместе со своими коллегами уже много лет работает на развитие и укрепление дружественных связей между Россией и Францией.
На встрече присутствовали: В.Н. Ганичев – председатель Союза писателей России, М. Друэн – президент ассоциации "ЕрКАзия", И.Т. Янин – сопредседатель Союза писателей России, президент Фонда "Славянское единство" и Фонда культурных инициатив "Взаимодействие", В.Г. Распутин – писатель, Н.И. Дорошенко – секретарь Союза писателей России, главный редактор газеты "Российский писатель", Б.Н. Тарасов – ректор Литературного института им. А.М. Горького, З.М. Чавчавадзе – философ, общественный деятель, член СП, О.М. Бавыкин – председатель иностранной комиссии СП, и другие.
На этой встрече Валерий Николаевич Ганичев рассказал французскому гостю о жизнедеятельности Союза писателей России, о проблемах и задачах, которые стоят перед отечественными прозаиками и поэтами. В.Н. Ганичев сформулировал несколько основных направлений в работе творческого Союза:
– способствовать духовному единению россиян через развитие национальных культур и литературы;
– постоянно отслеживать успехи и достижения в области национальной литературы и поддерживать талантливых молодых писателей через работу с региональными отделениями;
– объединять современных литераторов на основе веры, нравственности и высокой духовности;
– следовать традициям лучших образцов русской классической литературы, бороться против растворения русского языка в других языках, жаргонных и сленговых модификациях.
Россия всегда была читающей страной, но сейчас, в силу ряда причин, это утверждение поколеблено. Книги стали дорогими и, зачастую, язык, которым они написаны, далёк от настоящей русской речи. Сама потребность в истинно духовном общении исчезает из общества. Значительно сократился за последние годы процент читающих. В то же время читателей стала больше интересовать историческая и документальная литература.
И всё-таки, несмотря на кризисные явления, прозаикам и поэтам Союза писателей России удаётся сохранять традиции русской литературы, показывать в своих произведениях истинно русские характеры. Ярким примером этого можно назвать творчество Валентина Распутина. Вот почему мы с оптимизмом смотрим на развитие отечественной литературы.
В ответном слове Марк Друэн сказал о том, что с 1997 года делегации Иркутска и Иркутской области приглашаются во Францию для участия в культурных мероприятиях "Дни Байкала на озере Леман", а также для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества. По сути, два великих озера – Леман и Байкал – в своё время стали формальным поводом для первых контактов между нашими странами. А на дни Байкала в Иркутск приезжают делегации членов правления "ЕрКАзии" из департамента Верхняя Савойя.
В дальнейшем стали реализовываться и другие проекты: опубликован ряд сборников, как в Иркутске, так и в Верхней Савойе, представляющих поэзию и прозу Франции и Сибири ("Кедровый посох", "Здесь, рядом с землей" – 1999, 2001гг. издательство "Алидад", г.Тонон-ле-Бэн; "Звёздный дождь" – 2000г., издательство "Письмена", г.Иркутск; "Истории с берегов Лемана" – 2006г., издательство "Иркутский писатель", г.Иркутск). В октябре 1999 года в связи с презентацией сборника поэтов Сибири "Кедровый посох" делегация иркутских писателей с участием В.Распутина посетила Францию и Швейцарию. Французским издательством "Алидад" были организованы встречи с читателями, а также конференция по русской литературе в университете Гренобля.
М.Друэн особо отметил, что на 2010 год намечена программа совместных мероприятий, включающая художественные выставки, театральные постановки, концертные выступления и выставку-продажу предметов народных промыслов Сибири в Верхней Савойе. А в рамках сотрудничества в области среднего образования уже начал реализовываться совместный школьный проект "Водные ресурсы".
М.Друэн напомнил, что очередной 4-й российско-французский коллоквиум будет проведен в мае 2010 года. Он затронет проблематику глобальных климатических изменений. Задача участников – не только констатировать, но и продумать пути решения проблемы глобального потепления.
М.Друэн заявил, что как президент ассоциации "ЕрКАзия" в г. Анси хотел бы воспользоваться тем, что 2010 год объявлен "Годом Франции в России" и "Годом России во Франции", чтобы пригласить Валентина Распутина и других писателей России во Францию для подготовки и проведения совместных мероприятий. Хотелось бы показать на выставках во Франции не только классиков русской литературы, но и познакомить французских читателей с новыми российскими писателями. Необходимо провести встречи с представителями Союза писателей России, которые пожелали бы представить свои новые произведения во Франции.
"ЕрКАзия" уделяет большое внимание пропаганде русского языка во Франции, как и французского языка в России. Совсем не случайно сегодня во Франции введена премия современной русскоязычной литературы. Планируется проведение фестиваля советских и российских фильмов. Причём программу фестиваля предполагается обогатить за счет представления лучших образцов российской литературы.
В.Г. Распутин сказал, что он и другие члены Союза писателей России с удовольствие примут участие во всех намеченных мероприятиях, в том числе и в обсуждении проблемы глобальных климатических изменений. Российским писателям свойственно переживать не только за людей, за их души и судьбы, но и за природу Родины и планеты Земля в целом.
Б.Н. Тарасов признал, что всем сегодня очень важно действовать сообща, и он готов конкретно обсудить вопросы участия в мероприятиях 2010 года, в том числе исходя из деятельности возглавляемого им института.
З.М. Чавчавадзе отметил, что сейчас контакты с Францией начинают расширяться, но, тем не менее, в советские времена, несмотря на идеологический прессинг, таких контактов было гораздо больше, чем в современный период. И поэтому особенно радует, что эти связи возобновляются.
В завершении встречи В.Н. Ганичев подчеркнул, что Марк Друэн и "ЕрКАзия" проводят серьёзную работу по укреплению дружбы двух великих стран. Это всё совпадает с устремлениями Союза писателей России, который заинтересован, чтобы русская литература во Франции была представлена наиболее яркими образцами произведений отечественных прозаиков и поэтов. Союз писателей России с удовольствием примет участие в Фестивале и других мероприятиях "Года Франции в России" и "Года России во Франции".
В результате встречи был принят проект соглашения о сотрудничестве Союза писателей России и "ЕрКАзии".
ПРЕМИЯ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 20 января 2009 года в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, где покоятся мощи святого благоверного князя Александра Невского, состоялся торжественный вечер, посвящённый награждению лауреатов Всероссийской православной литературной премии имени св. князя Александра Невского. Эта единственная в стране учреждённая монастырём литературная премия вручается уже в пятый раз.
За 2008 год лауреатами Всероссийской православной литературной премии имени св. князя Александра Невского стали поэты Николай Рачков из Тосно, Татьяна Егорова из Санкт-Петербурга и Евгений Алтухов из Мценска. Первая премия присуждена Аркадию Белому из Санкт-Петербурга за исторический роман "Рождение империи", рассказывающий о воссоединении Украины с Россией.
В области документально-публицистической прозы Первой премией за вклад в русскую литературу и национально-патриотическую публицистику награждён Валерий Хатюшин из Москвы.
Особая премия за вклад в развитие православной философии присуждена Борису Дверницкому из Санкт-Петербурга. В области критики и литературоведения Первая премия за книгу "Эх, славяне!.." присуждена Лидии Сычевой из Москвы. Лауреатом стал также и редактор-составитель сборника детской поэзии "Крылатые качели" Владимир Архипов из Краснодара.
Среди литературных журналов за вклад в русскую литературу отмечен "Наш современник" и его главный редактор Станислав Куняев.
Особой премией "Русское национальное самосознание" награждён журнал "Имперское возрождение" и его издатель Михаил Смолин (Москва).
Особой премией за верность православно-патриотическим идеалам отмечена газета "Слово" и её главный редактор Виктор Линник.
ДОМ ГОГОЛЯ Союз писателей России от всей души рад за своих коллег в Питере.
15 лет Союз писателей Петербурга и северо-западное отделение Союза писателей России не имели постоянного пристанища – последнее сгорело в 1993 году. С тех пор писатели ютились во временных помещениях. Но теперь город не только выделил помещение (800 квадратных метров жилплощади), но взял на себя заботы о коммунальных проблемах и аренде, присвоив учреждению статус государственного. Еще один подарок от правительства – белый рояль для музыкальной гостиной.
Как назвать новый дом, уже придумали, – именем Николая Васильевича Гоголя, чье 200-летие будут отмечать в следующем году.
1 апреля 2009 года исполнится 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя. Этот юбилей был включён в список "Памятные даты ЮНЕСКО на 2008 – 2009 гг.". Учитывая значение творчества Н.В. Гоголя для отечественной и мировой культуры, 16 апреля 2007 года вышел указ президента России В.В. Путина "О праздновании 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя".
Президент Украины В.Ющенко также своим Указом поручил правительству и местным органам власти подготовить мероприятия к празднованию 200-летия Николая Гоголя.
Хотелось бы верить, что многообразные кризисные явления в мировой экономике, политике и сложные взаимоотношения наших объединённых общей историей и культурой стран не помешают достойно встретить этот юбилей. И наш русско-украинский писатель не станет ещё одним предметом раздора…
ИМПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА. ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЭДУАРДА ВОЛОДИНА 11 декабря 2008 года Комиссия по присуждению премии "Имперская культура" имени профессора Эдуарда Володина Союза писателей России, журнала "Новая книга России", Фонда святителя Иоанна Златоуста и ИИПК "Ихтиос" рассмотрела предложения 117 издательств и издающих организаций, представивших 837 книг 2007-2008 гг., творческих и общественных организаций и по результатам работы объявила имена лауреатов 2008 года.
В работе комиссии приняли участие председатель Союза писателей России В.Н. Ганичев (председатель Комиссии), депутат Государственной Думы РФ С.А. Гаврилов, председатель Общественного движения "Гренадеры, вперед!" В.И. Гаврилов, председатель Совета директоров ИИПК "Ихтиос" С.В. Исаков, главный научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького В.М. Гуминский, критик и литературовед А.В. Фоменко, председатель Художественного фонда "Бородино" В.А. Панкин, председатель Фонда святителя Иоанна Златоуста В.В. Володин, кандидат филологических наук Г.С. Баранкова, доктор филологических наук, профессор С.А. Небольсин, доктор философских наук, профессор Ю.Л. Буданцев, гл. редактор журнала "О Русская земля" М.В. Ганичева, гл. редактор журнала "Новая книга России" С.И. Котькало, гл. редактор газеты "Российский писатель" Н.И. Дорошенко, доктор исторических наук И.Т. Янин, доктор технических наук, профессор С.И. Кузнецов, доктор экономических наук И.И. Яншин, доктор юридических наук А.Н. Яковенко.
"ПОЭЗИЯ":
Николай Рачков (Санкт-Петербург) за утверждение державного, имперского духа в обществе и отечественной литературе.
Александр Нестругин (Воронеж) за чувство великой Родины в поэзии. Ирина Семёнова (Орёл) за поэму "Командор".
Елизавета Иванникова (Волгоград) за поэму "Сталинградская сирень".
"ПРОЗА":
Валерий Исаев (Москва) за книгу "Березницкие брёхни".
Владимир Ерёменко (Черкасы) за роман "Gimagimis".
Валерий Шелегов (Красноярский край) за книгу "Луна в Водолее".
Дмитрий Епишин (Москва) за книгу "Альфа и Омега".
"ДРАМАТУРГИЯ":
Архимандрит Тихон (Шевкунов) (Москва) за фильм "Гибель империи. Византийский урок".
Юрий Назаров (Москва) за утверждение русского слова на радио и в кино.
Татьяна Доронина (Москва) за утверждение русского слова в театре и кино.
Фаид Симфоров (Москва) за создание проекта "Тайны забытых побед".
"ПУБЛИЦИСТИКА":
Зураб Чавчавадзе (Москва) за статьи и очерки о русских людях и русской культуре.
Владимир Ворошнин (Николаев) за очерки о русских людях и русской истории.
Михаил Кодин (Москва) за книгу "Поверженная держава".
"ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ":
Нина Ильинская (Херсон) за книгу "Между миром и Богом: духовные и художественные искания Ю.Кузнецова". Михаил Шелехов (Минск) за исследование творчества Пушкина и Тютчева.
"КРИТИКА":
Олег Дорогань (Смоленск) за пропаганду русского художественного слова в книгах и статьях.
Марк Любомудров (Санкт-Петербург) за пропаганду русского художественного театра в книгах и статьях.
"ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ":
Протоиерей Михаил Малеев (Москва) за книгу "Подвижники XX века".
"ДЕТСКАЯ КНИГА":
Иван Чуркин (Саров) за рассказы для детей.
"СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА":
Николай Скатов (Санкт-Петербург) за подготовку и издание биобиблиографического словаря "Русская литература XX века ".
Леонид Степченков (Смоленск) за подготовку и издание библиографического указателя "Смоленская епархия".
"СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО":
Радован Караджич (Белград) за мужество, верность и стойкость в служении единству православных славянских народов.
Ратко Младич (Белград) за мужество, верность и стойкость в служении единству православных славянских народов.
"НАУКА":
Олег Иншаков (Волгоград) за создание серии "Война и мир в судьбах учёных-экономистов".
Людмила Кольцова (Воронеж) за неустанную заботу и защиту русской национальной школы, русского языка и литературы.
Галина Егорова (Волгоград) за неустанную заботу и защиту русского языка и создание музея русского языка имени Академика О.Н. Трубачёва.
"СОБЫТИЯ. ПОДВИГИ. ЛЮДИ":
Анастасия Заволокина (Новосибирск) за проявление мужества и стойкости в достижение цели.
Вера Гринько (Нижний Новгород) за служение русской культуре.
"ИСТОРИЯ":
Иван Дронов (Московская обл.) за книгу "Россия без капитализма".
Алексей Налепин (Москва) за издание альманаха "Российский архив".
"МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО":
Фёдор Тарасов (Москва) за создание песенного образа России.
Константин Кинчев (Москва) за создание песенного образа борца за Россию.
"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО":
Сергей и Алексей Ткачёвы (Москва) за утверждение державной традиции в русском изобразительном искусстве.
Дмитрий Нечитайло (Москва) за альбом "Украсно украшена земля Русская".
Анатолий Рогов (Москва) за книгу "Кустодиевские масленицы".
Пётр Казачук (Москва) за создание серии "Дети России".
СПЕЦИАЛЬНЫМ ДИПЛОМОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ отмечены:
Орловская детская школа изобразительных искусств и народных ремёсел (Орёл) за любовь к детям и верность традиции.
Детская школа искусств имени Аркадия Пластова (п. Карсун, Ульяновской обл.) за любовь к детям и верность традиции.
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь за просветительскую деятельность и издание книги "Святитель Димитрий, митрополит Ростовский".
Издательство "Вешние воды" за просветительскую деятельность и издание книги "Мир, в котором я живу".
Валентин Орлов за служение детям, русской истории и литературе.
Дмитрий Малышев за служение детям, русской истории и литературе.
Михаил Носов за просветительскую деятельность и книгу "Записки книгочея".
"ОТКРЫТИЕ ВЕКА" Проза современных писателей России
В 2008 году в издательстве "Наш современник" была опубликована книга, в которую вошли произведения современных писателей России. Новое столетие, новое тысячелетие.… Мы и наше творчество тесно связаны с жизнью страны, корни которой глубоки и переплетены между собой. Судьбы людей – это история народа, России, всего мира и природы, окружающей нас. Многогранность стилей и жанров этой книги дают объёмную и живописную картину мира в целом.
Начинается она с повести Вячеслава Дёгтева "Белая невеста". Название имеет двойной смысл: женщина, которая ждала своего любимого многие годы и небольшой приморский городок. Случайная встреча – и "старикан с породистым, чисто выбритым лицом, манерами аристократа" рассказывает автору удивительную и экзотическую историю своей судьбы. Испытав много на своём пути, он вернулся на родину и только там обрёл простое человеческое счастье – любимую, хоть и постаревшую женщину.
Весьма интересный мир открывается в рассказах Сергей Михеенко. "Тайна Ольги Сергеевны" – история жизни героини в оккупированном немцами городе. Грустный рассказ о борделе, куда попала, и немце-женихе.
"Волк". Люди, которые боятся и ненавидят сильного зверя, и судьба его, поневоле столкнувшегося с людьми. Часто мы и не замечаем, как оттесняем диких животных с мест их исконного обитания. Да, они нам мешают и убийство волка в данном случае – благо. Но на душе горький осадок.
В рассказе Сергея Козлова мы узнаём о сложных взаимоотношениях, любви и разочарованиях, о трудностях творчества, когда герой в отчаянии приходит к выводу, что "теперь я вряд ли стану великим пианистом. ... То, что со мной случилось, в музыке можно назвать "бекар". Это, знаешь, когда нельзя ни выше, ни ниже... То есть – ищи третий путь". И живёт в мучительных поисках себя, преодолевая в себе "бекара".
Повесть Александра Сегеня "Есенин" близка и понятна любому, кто связал или пытался связать себя с литературным творчеством. Трудно быть индивидуальным и не пытаться сравнивать свои произведения с классиками прежних лет. Кто ты в литературе? Пушкин? Есенин? Что нового можешь сказать людям? А может лучше искать другое, более благодарное занятие?
Как пробиться на современном литературном рынке и надо ли? Автор размышляет над этим сложным для каждого пишущего вопросом.
В книгу "Открытие века" вошла очень яркая повесть Александра Трапезникова "Высший свет". Картинки столичной жизни и портреты столичных жителей мы видим глазами приехавшего в Москву провинциала – "В Москву приехал на заработки, да контракт сорвался, вот и слоняюсь пока без дела". Город и его обитатели удивляют, пугают, разочаровывают. Чистота восприятия мира, неиспорченная шумным многолюдным городом, диссонирует с образом жизни москвичей. Главный герой случайно попадает на съёмки телешоу.
Автор показывает, как главный герой влюбляется в девушку, которая, как и он, оказывается не коренной москвичкой, но человеком, принявшим "правила игры" большого и не всегда ласкового с приезжими города. Провинциал увидел подноготную телешоу и жизни "высшего света", которым так восторгаются и который так манит далёких от столицы юношей и девушек.
"В кафетерии Телецентра сидели за столиком Продюсер, Режиссёр и Шоумен. К ним то и дело кто-то подходил, здоровался, бросал несколько фраз и растворялся, как рафинад в стакане.
– Меня уже тошнит от всех этих сладких морд, – неожиданно сказал Продюсер, придавливая ложечкой пакетик зелёного чая в чашке".
Иллюзия благополучия, успеха и даже любви – даёт ли она счастье? В повести нашлось место многим судьбам и событиям, даже убийству. Герой нашёл свою судьбу в лице девушки Кати, но не смог "устроиться" в Москве и принять законы жизни, с которыми столкнулся. Вывод в последних строках произведения: "В этой безбожно-безвре- менной суете Алесь обнял Катю и проговорил: "Пошли отсюда, делать здесь больше нечего".
Повесть-мозаика "Китайская шкатулка" Игоря Блудилина-Аверьяна состоит из двух глав: "Паяц на занавеске" и "Скрипка из оркестра". Так случилось, что главной героине попался в руки дневник своего умершего мужа. "Ветерок шевелил ситцевую занавеску. В светлых июльских сумерках покачивался узор с клоунским лицом, и бубенчики колпаке, казалось, тихо позванивали, а лицо дурашливо гримасничало и смеялось". Жизнь продолжается: ложь, измена и поиск героями своего маленького счастья в этом огромном мире.
В книгу вошла и повесть Михаила Попова "Кассандр". Читатели переносятся на несколько столетий назад в Западную Европу: эпидемия, страхи и надежды на спасение. И загадочный до сей поры Нострадамус с его предсказаниями и тайнами. Много интересного и загадочного пытается показать читателям автор. Но вывод напрашивается один: нет пророков в своём отечестве…
Необычно и звучно название рассказа Юрия Козлова "Крик индюка". Рассказ понравится любителям остросюжетных произведений. Автор делает забавные попытки неких обобщений:
"Абсурд – возникающие из ничего власть одних и страдания других".
"Три источника, три составные части абсурда: 1 – учреждение силами государства собрания произвольно вырванных из обыденной жизни людей; 2 – допущение собрания произвольно вырванных из обыденной жизни людей до судеб государства и народа; 3 – передача государственной власти самочинным лидерам собрания произвольно вырванных из обыденной жизни людей".
Картинки провинциальной жизни предлагаются читателям в произведении Евгения Шишкина "Сёстры".
"Мой достопочтенный читатель, в этой короткой повести речь пойдёт о русских женщинах. Немало уже написано об этих загадочно-обаятельных, стойких и нежных созданиях, и, право, дай Бог, чтобы и впредь о них слагалось литературных сочинений более и более, ибо страшно и помыслить, что на Земле Русской могут переродиться эти милые дюжие люди прекрасного пола... Ко всему прибавим, что русская женщина проявляет себя рано – в детстве, в отрочестве, – проявляет не по наличию в биографии двух-трёх поразительных поступков, но по самой сути миропонимания и восприятию жизни, которое уже и в раннем возрасте вполне характерно проступает".
Пожалуй, трудно сказать лучше, чем сам автор в предисловии к своему произведению.
Да, мир и мы не меняемся в одночасье ни с понедельника, ни под бой курантов. Жизнь меняют сами люди. Многое зависит не только от каждого из нас. А что получится… судить нашим детям.
"НЕМЕРКНУЩЕЕ" 20 января на Комсомольском проспекте, 13 прошла презентация сборника стихов Юрия Хромова "Немеркнущее", где автору вручили удостоверение члена Союза писателей России.
Презентацию открыл Николай Дорошенко. Он высоко оценил творчество Ю.Хромова, отметив, что самое трудное в поэзии – передать свои мысли и чувства с такой степенью глубины и достоверности, чтобы читатель узнал в них собственное поэтическое переживание. Автор сборника, вроде бы и не ставящий перед собою никаких особых художественных задач, писал стихи с мудрой улыбкой и не без грусти, создавая нечто похожее на исповедь своей жизни. И невольно поражаешься тому, как сквозь вот эту вроде бы столь незатейливую вязь слов вдруг проступает столь пронзительное и столь живое чувство. И вся книга пронизана то ли неспешным течением Волги, то ли самим временем, наполнена людскими и птичьими голосами, залита солнечным светом, омыта дождями. Всё в ней – как в жизни. И надо отдать должное Ю.Хромову как строгому мастеру, как поэту, владеющему высоким искусством слова.
Геннадий Иванов сказал, что эта презентация сама по себе необычна, так как совпала с другим важным событием: вручением Ю.Хромову удостоверения члена Союза писателей России. Далее Г.Иванов отметил, что в России одни стремятся, написав одно стихотворение, сразу вступить в Союз писателей, а Ю.Хромов, издав 6 книг, скромно ждал своего часа. И вот случилось то, что давно должно было произойти – Ю.Хромов принят в члены Союза писателей России.
"Юрий Хромов – настоящий поэт и прозаик, творчество которого, как чистый родник, облагораживает и очищает", – сказал Сергей Сафонов.
Леонид Кутырёв-Трапезников обратил внимание участников презентации на то, что Ю.Хромов имеет свою неповторимую поэтическую индивидуальность, а это дорогого стоит. Поэт работает над словом бережно и внима- тельно. У него нет сложных сюжетов и композиций, но есть картины жизни, написанные тонким, проницательным художником, пишущим свою Россию. Ведь талант автора истинно русский: душевный, тонкий, тёплый, который не разменивает себя в угоду холодной и пустой западной оригинальности. Юрий Хромов в своём творчестве вышел на глубокое понимание русской жизни, русских людей и русской природы.
ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, РЕДАКЦИЯ
(обратно)Юрий КРАСАВИН ДЕТСКИЕ ИГРЫ В КЛАССИКИ
Нива нашей нынешней литературы изрядно одичала, она поросла бурьяном да лебедой, лопухов много. Сорняки заглушают редкие культурные растения.
"Литературная газета", полагаю, и рада бы восторженно восклицать по поводу урожаев на ниве той, но не лебеду же молотить! Потому читаем в ней о политике и экономике, о театре и телевидении… Однако иногда на газетной странице взрастают цветы элоквенции – я радостно вздрагиваю: появляется истинно литературный материал, например, интервью с известным писателем.
Вот в очередном номере – праздник души: интервью с Владимиром Крупиным, а у меня к нему глубокое душевное чувство, род недуга. Мы с ним знакомы лет этак около сорока – сразу оговорюсь: не настолько знакомы, чтоб я мог бы похлопать его по плечу: "Ну что, брат Крупин?", а он бы мне в ответ: "Да так, брат, как-то всё…" Но он был редактором одной из моих книг в издательстве "Современник". С тех пор при встречах, увы, редких, здороваемся, конечно, однако душевно поговорить возможности нет: я-то живу в захолустье, а он столичный человек, хоть и рядится иногда в армячишко да смазные сапоги, являя себя этаким мужичком вятским, простоватым, но хватским. Меня же с первого знакомства очаровала его дружеская манера общения, его живой говорок. Даже не очаровала, а прямо-таки обольстила, и я навек зачислил его в свои друзья, хотя он о том и не подозревает.
Теперь вижу на газетной полосе: босой русский писатель молитвенно приблизился ко Гробу Господню, держа под мышкой ботинки… Худенький стал Владимир Николаевич, если судить по этому снимку, сердце сжалось: жалко его. Говорит, что пора ему подводить итоги – возраст почтенный! – что главным свершением жизни своей считает то, что приближён ко Христу… то есть почти лично знаком. Не то, чтобы на дружеской ноге, но уже явно облечён божественным доверием, почти помазан.
А в друзьях-де у него и Василий Белов, и Валентин Распутин, и до некоторых пор Виктор Астафьев, и много иных, обладающих немалым общественным весом. Что тут скажешь! Умный человек, знает, с кем дружить и как.
Молитвенное состояние свойственно Владимиру Николаевичу. Вот в его не столь давно опубликованных журналом "Наш современник" дневниках читаю о том, как он проснулся среди ночи и жарко молился о здравии друга своего – цитирую не дословно, а по памяти:
– Господи, спаси и сохрани Валентина Григорьевича Распутина. Что будет с нами и с Россией, если его не станет! И мы пропадём, и Россия.
А в интервью "Литературной газете": "Кумиротворение убийственно для души. Но авторитет и пример для подражания – это очень хорошо".
Согласен, но надо ли столь молитвенно, столь экзальтированно становиться на колени – это ведь и есть акт кумиротворения. Не удивлюсь, если над письменным столом писателя рядом с иконой Спасителя помещены портреты его друзей…
Чего уж так-то, Владимир Николаевич! Ты ставишь в неловкое положение совестливого и скромного товарища своего, в лучах славы которого, по твоему собственному признанию, пребываешь. Да и Россию не надо обижать: не на одном человеке она держится.
В интервью сказано, что-де "может и не в лучах славы, а в тени" Распутина да Белова пребывает, заслоняют они его, что само по себе досадно и несправедливо: он, мол, равновелик с ними.
Кстати, слово "Россия" Крупин употребляет очень часто и с такой по-детски наивной верой, словно уже приватизировал её и вот стоит на страже своей собственности: "Прощай, Россия, встретимся в раю", "Мои враги – это враги России и Христа". Читай: кто против меня, тот против России и Христа. То есть они в одном ряду, опять-таки равновелики.
Как тут не воскликнуть: затейливое, однако, это явление в нашей нынешней литературе – Владимир Крупин! Ему в высшей степени свойственны простодушие – отличительная черта истинно русского человека. Откровенность и чистосердечие таковы, что просто душа нараспашку – всё это явственно проступает в его интервью, а артистически явленная детская наивность умиляет меня прямо-таки до слёз. Более же всего мне понравилось в его интервью, что он без экивоков называет имена своих друзей и врагов, а также кандидатов в те и другие: вот они, по-фамильно, так и встали в шеренги. Ну, газетная рубрика обязывает – "Невзирая на лица".
Да, искренность и лукавство, правдивость и артистическая игра – всего намешано в писателе Крупине. Он и сам простодушно признаётся: не могу, мол, разобраться в своей противоречивой натуре, постоянно совершаю одну за другой ошибки да грехи. Помогите, мол, люди добрые, совсем я запутался.
Хочется помочь, а как тут поможешь! Натура-то сложновата для осмысления. Хотя, правду сказать, со стороны ясно видно: лукавит, играет Владимир Николаевич, привлекая к себе побольше внимания: десять лет не писал ни строчки и пятнадцать лет не брал руки журналов – ни "Москву", ни "Новый мир", ни "Знамя" – как бы совсем не забыли о нём!
Вот под снимком на газетной полосе в качестве подписи краткий диалог. Увидев возле Гроба Господня босого писателя, некая паломница якобы воскликнула, лаская слух внемлющего:
"– Владимир Николаевич! Это вы? Какая радость встретить вас здесь, на Святой Земле! Вы же живой классик!"
Список классиков – он, кстати сказать, уже определён и утверждён критиком Владимиром Бондаренко – состоит из полусотни имён. Именно Бондаренко осуществляет фейс-контроль на вершине литературного Олимпа: кого пущать, а кого не пущать. Ну, это он поторопился, погорячился, составляя список: и половины достойных не наберётся, не то, что полсотни. А там, где карабкаются к вершине авторы другой ориентации, на фейс-контроле тоже список – в нём, небось, не менее сотни имён. Потому как хочется зачислить своих близких друзей и нужных людей в эти самые живые классики.
Очень не хочется мне обижать кого-то из достойных литераторов, а Владимира Бондаренко в особенности: я отношусь к нему с глубокой симпатией – вон его книга "Позиция" стоит на полке в моей домашней библиотеке, я люблю её иногда почитывать – но не могу удержаться вот от какого суждения.
Один из моих знакомых в том городе, где я живу, ныне уже, увы, покойный, очень ловко и своеобразно манипулировал званием почётный гражда- нин города, хотя не имел на то никаких полномочий. Он обращался к директору крупного предприятия, к главе района или местного парламента, к управляющему или заведующему: мол, кто-кто, а вы-то, уважаемый имярек, достойны такого звания. Тот бывал польщён, застенчиво и этак слабо отнекивался. А мой знакомый настаивал: мол, выступит с такой инициативой, подтолкнёт оформление необходимых для того документов… И выступал, и подталкивал, и власть имущее лицо бывало возведено в почётные граждане. Не беда, что никто не знал, какие же благие деяния он совершил для города, чем осчастливил граждан. Зато таким образом мой знакомый обретал в дальнейшем расположение влиятельного человека. Не то ли происходит и с причислением того или иного ныне живущего писателя к лику выдающихся деятелей русской литературы?
Это такая игра в классики, которой увлекаются взрослые дяди, не только находя в этом душевную сладость, но и пользу извлекая.
Ну, поиграли мы, и хватит, а теперь о серьёзном: в своём интервью Владимир Крупин поведал, что в журнале "Наш современник" недавно была опубликована его "большая вещь, которая называется "Повесть для своих"", и что он волнуется, как она будет принята. Автор поясняет, что повесть его "жгуче современна, в ней отразилось моё неприятие идеологии либерализма и глобализации и всего того, что они несут для России".
Я тотчас пошёл в библиотеку, взял названный журнал и приступил к чтению.
Столичный писатель, утомлённый жизнью в мегаполисе, то есть в столице, а также путешествиями – "ведь я прошёл все центры мира"! – озабочен самым главным: "К концу жизни осталось выполнить завет древних: познать самого себя, и завет преподобного Серафима: спасись сам и около тебя спасутся". Он отправляется в российскую глубинку, потому как очень религиозно настроен, хочет пожить отшельником, подобно Серафиму Саровскому или Сергию Радонежскому, совершить духовный подвиг.
И вот он добирается на вездеходе до глухой деревни, где прежде всего идёт в сельский магазинчик – ну, не в церковь же в самом деле ему идти! и не в лесное же уединение! Там он покупает… нет, не ломоть ржаного хлеба и щепоть соли, а – водки. Далее уже привычно организует попойку с деревенскими мужиками, которые рады упиться до потери облика человеческого, тем более на халяву: наш герой закупает бутылки снова и снова, причём уже не с водкой, а с водярой или с техническим спиртом – всё это в изобилии производится нашими осетинскими братьями. Или это тормозная жидкость? Только ею можно свалить наповал, поскольку мужики те – пьянь на пьяни, рвань на рвани… А какие ещё могут быть мужики в русской деревне, по мысли автора? Только такие.
И вот наш герой спаивает эту компанию. Пьют они сутки, вторые – да и не просто, а "За Святую Русь!" – ладно хоть не "За Иисуса Христа!" и не "За Богородицу!" – спят вповалку на полу…
Столичный писатель уже забыл о цели своего путешествия в глубинку – исполнить завет преподобного: спасись сам и около тебя спасутся. Или он именно так понимает спасение себя и тех, кто около? Неужели неоднократное посещение святых мест и центров мира не вразумило его и не просветило духовно? В чём тогда смысл подобного паломничества? Только в том, чтобы высветиться для публики?
В процессе описания этой оргии автор учиняет над своими персонажами глумливое действо: звучат тексты из святого писания, они вплетаются в пьяный бред, влагаются в слюнявые уста перепившихся людей.
"Описание отвратное и похабное" – так характеризует сам Крупин не это своё повествование, а сочинение своего друга, увы, бывшего, – писателя М., которого "хвалят на Западе". Есть повод похвалить теперь оттуда и Крупина. Может быть, на это и рассчитано?
Хохмочки, прибаутки, анекдотцы представлены тут во множестве. Всё это годилось бы для сеансов хорового ржания, которые устраивает наше центральное телевидение по выходным дням и которое яростно осуждает Крупин, но вот и сам удержаться не может. Как не вздохнуть: слаб человек перед соблазнами… Ради достижения смехового эффекта, то есть смеха ради, глумливым образом пародируется истинно классическое: "Онегин, я с кровати встану…", "Отвали поскорее в калитку" и проч. Чтоб не засорять читатель- ские умы, позвольте я не стану цитировать и далее эти перлы пошлости, ими напичкана повесть для своих. А свои – это кто? Кому адресовано сочинение? Поди-ка догадайся…
В прежние времена такое почитали бы за бесчестье, за стыд и срам. Но, должно быть, слава Венечки Ерофеева, о котором в интервью нелицеприятно отзывается Крупин, не даёт ему покоя, потому он решил вступить на ту же стезю. Позавидовал живой классик другому классику, увы, неживому?
Иной раз подумаешь: какую длинную галерею из русских мужиков сельского образа жизни уже создано писателями: чудики, алкаши, дураки, идиоты, дебилы, недоумки… хамьё, одним словом, которое и следует травить водярой да тормозной жидкостью, как тараканов, – к такому выводу подталкивает нас, читателей, богобоязненный автор-христианин. Неужто и далее будет множиться эта портретная галерея, исполняемая талантливыми перьями под аплодисменты из-за бугра? За это там даже дают премии, именуемые грантами. Или всё-таки следует вспомнить, что речь идёт о наших братьях, о наших предках, о нашем сыновнем долге перед ними? За что же их так клеймить да шельмовать?
Я понимаю, представить в своём сочинении круглого дурака гораздо проще, нежели умного человека. Дурака-то любой графоман опишет. Как бы умного героя изобразить! Но это уж, как говорится, высший пилотаж, не каждому писателю по плечу.
Каюсь, не дочитал повесть для своих до конца: отвратилась душа моя. Я уж не стал "долго отплёвываться", как это делает сам Владимир Николаевич, ознакомившись с сочинениями писателя С. – это не в моих правилах.
Я вырос в захолустной русской деревне, причём в голодные послевоенные годы. Кстати сказать, оказался там, проведя три года на оккупированной немцами территории. Полагаю, Владимир Николаевич в это время вкушал сдобные пышки в своей Кильмези, а я-то питался картофельными очистками. И вот после моего военного лихолетья – тверская захолустная деревня. Скажу кратко: она исцелила и душу мою, и тело моё. Хоть и бедность проглядывала тут и там, хоть и голодно было, но ныне в сознании моём деревня и её люди осиянны светом. Потому мне поперёк сердца, когда деревенских людей живописуют бойким пером столь карикатурно. Для меня это личное оскорбление, потому и выражаюсь резковато, невзирая на лик живого классика.
Не писательское это дело – плевать в колодец или в родник.
Наши дворяне-крепостники из 19-го века были гораздо милосерднее, нежели выходец из села Кильмезь потомственный простолюдин Владимир Крупин. Вот портреты крестьян, написанные Иваном Тургеневым: Касьян с Красивой Мечи, Герасим, Хорь и Калиныч, мальчики у костра на Бежином лугу… Даже зайдя случайно в Притынный кабачок, дворянин Иван Сергеевич увидел там не грязных перепившихся деревенских мужиков, а "певцов", людей одухотворённых. Вот и у графа Льва Николаевича – поэзия крестьянского труда и носители её…
Я позволю себе напомнить Владимиру Крупину, желающему разобраться в себе, любимом, что Господь сотворил человека по образу и подобию Своему, то есть замыслил его, как творца, и в этом плане настоящий, истинный писатель наиболее близок к промыслу Божьему, ибо цель его – не книгу написать, не повесть для своих сочинить, а сотворить целый мир с лесами и полями, с птицами и зверями… самое же главное: он должен заселить его живыми людьми, тогда доблесть его может сравниться с доблестью женщины-матери. Мир Чехова… мир Гоголя… мир Тургенева… Вот они – классики, а наши претензии попасть в заветный список призрачны, тут не поможет ни приятельская поддержка известного критика, ни дружеские связи с влиятельными друзьями.
Каков же мир, сотворённый писателем Владимиром Крупиным? Внятно можно различить в нём лишь его самого, как главного героя. Так "хвалиться или каяться?" – вынесено в заголовок интервью с ним в "Литературной газете". Хвалиться особо нечем, а каяться… какой толк в покаянии, коли грешишь снова и снова? Продолжать грешить, как говорится, "до кучи", чтоб потом покаяться оптом?
Я не шибко религиозный человек, в церковь не хожу, на исповеди у священника не бываю, святого причастия не принимаю, но хочу обратиться к Всевышнему – может быть, услышит: "Господи, вразуми раба Твоего Владимира, ибо не ведает он, что творит".
(обратно)Денис КОВАЛЕНКО КУЛЬТ СМЕРДЯКОВА
Елизаров Михаил. Кубики: Рассказы. – М.: ООО "Ад Маргинем Пресс", 2008.
Не грусти, Любушка, глянь, сколько хороших людей.
Надо бы только жить.
Надо бы только умно жить.
В.М. Шукшин, "Калина красная"
Мне приходилось читать милицейские протоколы, и, признаюсь, даже подписывать: "С моих слов записано верно, мною прочитано". Но, чтобы их опубликовать целой книгой и обозначить как… рассказы, это… это просто замечательно.
Стилистика милицейских протоколов проста, подробна и без изысков: "Двенадцатого июля я договорился с Шеловановым Виталиком, я позвонил с работы из гаража и сказал, что приду к нему после семи, но так получилось, освободился раньше и зашёл в пять часов, на всякий случай, вдруг он будет дома, но его не было, и я, чтоб убить время, в гастрономе угловом купил две "Столичных" по ноль пять, плавленых сырков четыре штуки, полкило любительской и батон, и снова вернулся к Виталику, и это уже было без пятнадцати шесть вечера, но его всё ещё не было, и я сидел во дворе и покушал чуть батона с сыром и немного выпил из бутылки…" ("Нерж").
"Поздняков вполсилы бьёт Бавыкину локтем в живот, та охает и замолкает… Квартира на четвёртом этаже. Родителей нет, уехали к бабке в деревню. Поздняков удерживает Бавыкину, достаёт ключ и отпирает дверь" ("Малиновое").
Тоже и в остальных протоколах: "Овод", "Предложение", "Заклятие", "Дзон", "Старушки", "Порно", "Импотенция". Пересказывать их нет смысла, все они просты и банальны: "Нерж" – убийство, "Малиновое" – изнасилование, и проч., и проч. Таких историй, изложенных таким стилем, можно найти множество, в любом отделении милиции. Нет, конечно, само по себе в милицейском протоколе ничего плохого нет – суровая констатация действительности, правда, как она есть – качество, очень полюбившееся современной литературе. Современная литера- тура желает правды, хочет её, хочет физиологически, со всеми её перверсиями. Правда не просто желанна, она стала знаменем современной литературы, её кумиром. На её капище легло всё: слово, стиль, форма… здравый смысл. Современной литературе незачем что-либо изображать, ей бы успеть выразить.
Случилось побывать мне на одном литературном вечере, в ресторане. Вечер, конечно, удался: замечательное вино, закуска, песни под гитару о дрожащих на постели телах, где недавно дрожала гитара… Конечно, разговоры: конечно, об искусстве, конечно, о народе – конечно, о русском. Ужасно живёт наш русский народ, страшно живёт, в невежестве живёт, истины не знает. Да и откуда он её узнает, когда и книг он не читает; не читает русский народ современную русскую литературу. Жалок наш народ, несчастен. Разве может быть счастлив человек, работающий грузчиком или слесарем, или дворником (мысль занятная и способная "мучить" разве что русского интеллигента), грузчик уже несчастен – по определению, именно потому, что он грузчик, и вдвойне несчастен, оттого, что он на свою зарплату не может позволить купить себе даже книгу (то, что без книги грузчик вдвойне несчастен – ещё одна "боль" русского интеллигента). Но, пожалуй, самое замечательное – что книга, и именно совре- менного русского писателя, грузчику необходима, чтобы понять – как это несчастливо – быть грузчиком.
Не понимает он сам себя. Вот прочитал бы Елизарова, или Иличевского; вот тогда б он всё про себя вычитал – всю правду! – что загнивает он, пальцы в детские анусы засовывает и облизывает эти пальцы, что червей ест и тараканов, и гордится этим, жёнам глаза вырывает, собачек в тазиках топит, в штаны мочится, с карлицами и ведьмами сожительствует… Много чего узнал бы о себе русский народ, читая Елизарова или Иличевского… Но у Иличевского хотя бы язык художественный, и выход обозначен – уехать в Израиль и стать "евреем", глубоко подальше от всей этой засовывающей пальцы в анус России. У Елизарова выхода нет, вернее есть, но жёстче – извлечь эти пальцы и – облизать.
Патология этих двух странных "русских" писателей, ведущих свой литературный род от Смердякова, пугает. То, что ни один, ни другой не знают страны, в которой живут – это очевидно. Впрочем, Иличевский романтично наблюдал её из салона своего автомобиля, Елизаров же скрупулезно штудировал по милицейским протоколам. Но ни тот, ни другой страны этой не любят. Нелюбовь эта, по-видимому, генетическая – смердяковская, и с этим ничего не поделаешь.
Настораживает другое.
То, что ещё Достоевский писал, что "в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу", это не самое страшное; наша литература имеет представление о народе не более, чем о самой себе (если бы только знали русские интеллигенты, какими несчастными "адиотами" выглядят они в глазах того же грузчика: вместо того, чтобы делом заняться, читают "дебильные" книги об извращенцах).
Страшно другое – представления современной русской литературы о современной России ещё более дикие, чем представления эллинов о Гиперборее. Но и это полбеды. Современная литература не видит выхода, кроме как – или совсем по-смердяковски – уехать в Европу и стать "европейцем", или, точно Свидригайлов, – крикнуть ранним утром пожарному на каланче: "Я уезжаю в Америку!" – и застрелиться. Ни о каком Раскольникове или Сонечке Мармеладовой, увидевших выход в покаянии, и речи сегодня нет – и тем более у тех, кто называет себя русскими и православными.
Сегодняшний РусскоПравоПисатель в покаянии видит не иначе как слабость, и своей обязанностью признаёт – только карать всех этих жидоврагов, мешающих Православной России подняться с колен (причём православие РусскоПравоПисателей, почему-то оккультно, астрально и подозрительно язычно… ну, да и Бог с ними). Сегодняшняя литература стала до того идейна и по-милицейски протокольна, что порой теряешься – держишь ли ты в руках книгу с художественным произведением или полит- агитку со всеми шергуновскими взвейся-развейся, или же вовсе, судебное дело со всей своей кондовой правдой жизни. Волей-неволей отойдёшь к разделу с ироническими детективами, где хотя бы не так "смердит".
"Кубики" Елизарова протокольны и… до патологичного религиозны. Конечно, и в протоколе можно найти свою эстетику – эстетику голого короля.
Было же: на одной из своих выставок Энди Уорхолл, испугавшись, что зрители, которых собралось у входа в галерею слишком много, могут "что-нибудь сделать с картинами", попросил снять все свои работы; и когда зрители, наконец, вошли в галерею и увидели лишь пустые стены, они испытали дикий восторг – до того эти стены были концептуальны и креативны. Если так, то следующей книгой Елизаров смело может опубликовать телефонный справочник и обозначить его, как "поэму цифр", – говорю без иронии, Елизаров – суровый писатель, какая уж тут ирония.
В его рассказах "Кубики", "Украденные глаза", "Белая", хоть и написанных в той же протокольной эстетике, Смердяков уже не просто как констатация, он возводится в культ. Откинув всю художественную "шелуху", автор оставляет место лишь религиозной патологии, где герой не верит ни в Бога, ни в Деда Мороза, а верит в Снегурочку, отлавливает в подворотнях детей, засовывает им в задницы пальцы, чтобы после облизать эти пальцы, а если вдруг попадётся под руку родителям обиженных детей, визжит, мажет себя собачьим калом и режет стеклом запястья. Преследует светловолосых девушек и, в конце концов, нарывается на Снегурочку, которая его и убивает ("Белая"). О чём этот рассказ… Впрочем, и не важно, главное, обличена наша действительность.
Или же герой ест червей, тараканов, тухлое мясо, доказывая всем и жене, как это питательно и хорошо. Вдруг обвиняет жену в супружеской измене, вырывает ей глаза, садится в тюрьму и пишет ей от туда письма, "просит прощения за увечья, настаивая однако, что не он, а "слепая ревность" оставила её без глаз ("Естествоиспытатель").
В конце концов, герой, женившись на ведьме (буквально, без аллегорий), весь рассказ мучается, выслушивает откровения инвалида о том, как он потерял зрение, наевшись ведьминого холодца, который она готовит не традиционным способом, а буквально испражняется им. Герой, в конец уверовавший и расстроенный, разводится с ведьмой, женится на хорошей девушке, живёт с ней душа в душу, но в болезнях и бездетно. Наконец прозревает, вспарывает подушки, подаренные тёщей, тоже ведьмой (и тоже без всяких там аллегорий), высыпает из подушки кости, волосы и прочие продукты оккультизма, всё это сжигает, читая "Отче наш" и "Богородицу", и избавляет себя и жену от наведённой порчи. Живёт долго и счастливо, а ведьма со всей своей семьёй сгорают в огне пожара. И этот рассказ не ироничный, не по-гоголевски сказочный – вовсе нет, рассказ, серьёзно доказывающий силу православной молитвы перед чародейством ведьм, колдунов и гадалок ("Украденные глаза").
И конечно сам рассказ "Кубики", где пятилетний мальчик без имени, но, по-протокольному, с фамилией Фёдоров, недослышав молитвы набожной своей бабуши, до того проникся ужасом этих страшных слов, что… вывел такую не по-детски сложную философско-религиозную доктрину, что… у взрослого бы крышу снесло, причём – напрочь. Складывает из кубиков страшные слова, боится Бога, который может "разозлиться на Фёдорова", боится отца Бога – "обезумевшего от собственной жестокости проклятого Деда, который умер ещё до рождения Сына", боится Твари, боится Тли, и весь рассказ совершает самые наивернейшие ритуалы-обереги (плевки через плечо, пересчитыванием пуговиц и карманов, и проч., и проч.), чтобы охранить свой мир от Первосмерти. Мальчик, таки, своего добился: "На окраинах коровы разродились червями, по дворам бродил белый, точно слепленный из тумана жеребёнок с ногой, приросшей к брюху, и в церквях вдруг разом закоптили все свечи.
Так намечалось успение Фёдорова. Но Тварям не дано знать главного. В кончине Фёдорова скрывается великое поражение Первосмерти". – Вот такая незатейливая история о новом, готовящемся к успению "богородце".
Иличевский, со своими "мечтами" об Иудее, – невинный младенец, у которого хватает совести не глумиться над нашей верой, впрочем, ему этого и не нужно. Это давно и успешно практикуют наши родные РусскоПравоПисатели – путь к "славе" наипростейший: ересь, во все времена востребована.
Впрочем, и Кафка был болезненно патологичен, но… по-другому: создав и показав нашему миру свой мир – странный, боязливый, страшный, но… живой. И, что немаловажно, – мир, никого не обвиняющий, и уж тем более не карающий… если только самого автора. Патология великих направлена на них же самих.
У Елизарова нет "своего мира". Он смотрит "глубже" – обличает "наш мир". Только вопрос – в чём?
(обратно)Александр ТОКАРЕВ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!
Если построить пирамиду из кубиков, в основание которой заложить метафизику Сергея Сибирцева и Юрия Мамлеева и приправить циничным стёбом Владимира Сорокина, то получим новый сборник рассказов Михаила Елизарова. На этот раз автор не отягощает свои тексты философским смысловым содержанием и социально-политической тематикой. Он просто приоткрывает створки Ада и приглашает читателя взглянуть и ужаснуться, буквально оцепенеть от ужаса. Картина становится ещё ужасней оттого, что события большинства рассказов из сборника "Кубики" – вполне реальные, будто бы взятые из милицейских сводок совершённых преступлений, а люди, являющиеся героями (скорее антигероями) коротких повествований, живут рядом с нами, созданы из плоти и крови, у них есть матери и отцы, братья и сёстры. Тем не менее, после чтения "кубических" рассказов Елизарова, создаётся впечатление, что все они выходцы из Ада. Ада спальных районов безымянного городка. Повествуя как о событиях уже далёких 80-х, так и более приближенных к нашему времени 90-х нулевых, Елизаров подчёркивает, что ужас этот существует вне времени. Но зато на вполне узнаваемом российском пространстве. И что самое главное, ужас находится внутри самих людей, их пустых исковерканных душ.
Душа человека, как отметил классик, – поле битвы добра и зла. И Елизаров показывает нам мир тех, в чьих душах эта борьба завершилась не в пользу светлого и ясного. Тех, кто собственно, никогда и не затруднял себя рассуждениями на данную тему. Герои "Кубиков", как правило, называются не по именам, а по фамилиям. Они обезличены, как безлико само зло, в котором они растворились.
Ад внутри этих людей направляет их на путь насилия и жестокости. Сумасшедший непризнанный "естествоиспытатель" Шев- рыгин, приревновав жену, вырывает ей глаза. Вроде бы добропорядочный семьянин Шелованов погибает от рук своего собутыльника, после необдуманной попытки склонить его к сексуальному контакту.
Студентка Ольга Лисковец хладнокровно убивает ножом своего возлюбленного, женившегося на другой. А тихий, "субтильный и длинноволосый" юноша Леонид, заподозрив отца в злом умысле, направленном против него, старается опередить его и пронзает кухонным ножом.
И в качестве фона этих кровавых событий подробнейшее милицейское описание места преступления, венцом которого является описание трупа молодой женщины в луже крови и нож с надписью "НЕРЖ".
Кровавые убийства, совершённые на бытовой почве, индивидуальные и групповые изнасилования, ограбление квартиры и вновь убийство, пьяные драки, заканчивающиеся поножовщиной, потоки человеческой крови – все эти милые прелести видим мы сквозь раскрытые Елизаровым створки Ада.
Хроникальное "милицейское" повествование переходит в мистически потустороннее. Такое, как в рассказе "Дзон", где под звуки некоего магического "дзона" происходит изнасилование душевнобольной девушки. Но замысел мистических сил нарушается отказом сестры потерпевшей взять деньги в качестве отступного, и повинный в этом субъект оказывается распят и растерзан ветвями деревьев, принявших в темноте обличье адских существ в колпаках, протягивающих к жертве свои когтистые руки.
Две весьма непростые бабушки из рассказа "Старушки" с помощью колдовства "отмазывают" своего внука от ответственности за совершённое изнасилование. А группа парней с рабочих окраин оказывается наказана за попытку изнасилования нежданно-негаданно поразившим их половым бессилием ("Импотенция"). И никакие молитвы, обращённые к непонятным силам, в тексте которых перемешиваются слова "бог" и "х…", ребяткам, видимо, не помогут. Ну а попадающий в очень дурную семейку и пытающийся вырваться из неё, сжигающий сатанинский дом, палящий из ружья в наступающую нежить Малышев ("Украденные глаза"), – это и вовсе как будто персонаж знаменитого елизаровского "Pasternaka". Так же, как и представленная в рассказе атрибутика вроде высохшей кошачьей лапки, мелких костей, змеиной шкурки и т.д.
Хотелось бы, конечно, чтобы за всеми этими инфернальными изысками угадывался какой-то тайный смысл, а в мистических текстах Елизарова присутствовала и социально-политическая, и духовно-нравственная тема, как это было в "Pasternake" или "Библиотекаре".
Лишь открывающий сборник рассказ "Кубики", герой которого постигнул тайну смерти и глянул в лицо бездне, претендует на роль мировоззренческого текста. Но, так или иначе, возвращение в Россию нашего национального волхва, "жреца советской магии" Михаила Елизарова ознаменовалось не только вполне заслуженным присуждением ему престижной премии "Русский букер-2008", но и появлением высококачественного литературного продукта под названием "Кубики".
Будем ждать новых потрясений.
(обратно)Вячеслав ЛЮТЫЙ НАСЛЕДНИК ПЕСНИ
Поэма Юрия Кузнецова "Путь Христа" и её место в современной литературе
Три поэмы Юрия Кузнецова под общим названием "Путь Христа" при их первой публикации вызвали шквал нареканий со стороны тех, кто счёл себя призванным к борьбе за чистоту евангельского слова в нашей литературе. Было много и восхищённых отзывов, и дельных разборов "Детства", "Юности", "Зрелости", однако глухая вражда по отношению к этим творениям мастера не утихла до сих пор, спустя десяток лет после их появления в печати. Эти критические упрёки по большей части носят идеологический характер. Собственно литературные претензии к поэмам были, скорее, вздорными и почти всегда свидетельствовали лишь об уровне поэтического таланта непререкаемых судей. Само художественное слово Кузнецова при цитировании защищало себя, тогда как суетные попытки уличить поэта в написании "плохих", "искусственных" стихов попросту рассыпались при соприкосновении с высокой фактурой кузнецовского текста. Ущербность этих вторых обвинений во многом самоочевидна, тогда как первая линия критики трёх евангельских поэм до сих пор весьма сильна. И потому стоит взглянуть на неё более пристально.
Очень часто позднее творчество Кузнецова представляется как возмутительное соединение его прежнего, изначально языческого миропонимания и неглубокого, катехизаторского христианства, которым поэт "заинтересовался" на склоне лет. Утверждением этой критической позиции дружно занимаются новоначальные христиане с литературным образованием и клирики-трибуны, совершенно лишённые художествен- ного чутья и вкуса. Хорошо бы таким литераторам-фарисеям обратить свой взыскательный взор на собственные деяния, никак не сочетающиеся с евангельской правдой в жизни, а церковным книжникам – вслушаться в звуки народной духовной поэзии и быть ближе к душе русского человека.
Стоит напомнить, что в храм приходит грешник, на лице и в повадках которого видны черты его родовой принадлежности, будь то татарин, осетин, еврей или русский. Свойства его национального характера не отменяются принятием православной веры; также и культура народа, к которому он принадлежит, не изымается из его сознания и сердца, но во многом очищается и приводится в соответствие со светом христианской истины. Эта родовая печать не отменяется ни в Грузии, ни в России, ни в Японии, где великий православный миссионер святитель Николай (Касаткин) с огромным уважением относился к традициям местной культуры. Более того, с началом русско-японской войны он известил свою паству, что теперь они будут молиться порознь, каждый о победе своего оружия, поскольку христианин должен быть ещё и сыном собственной родины. Православный эфиоп не должен отрекаться от культуры Африки, несомненно, отринув все её колдовские культы. При этом сказки, которые он станет рассказывать детям и внукам, будут с отчётливым местным колоритом.
Вместе с тем, вся дохристианская Русь негласно полагается некоей страной-полуфабрикатом, так же как и древние славяне, её населяющие, ибо только потом, с Крещения, как будто началась подлинная русская история. Эта резекция русского народного сознания, исторической и нравственной правды делает русского православного христианина совершенно беззащитным перед многими церковными нестроениями. Ужасны признания бежавшего из церкви прихожанина, который столкнулся с чёрствостью настоятеля, со своекорыстием приходского старосты, с бюрократической ротацией клира. Этот человек поистине одинок, у него нет ничего, что составляло бы его родовую историю, некую базу, от которой стоит сделать мировоззренческий и духовный шаг ко Христу. Даже разбойник, раскаявшийся и ушедший в монашество, со слезами вспомнит волшебную сказку и народную песню, которую в полузабытом детстве он слышал от матери своей. Родовой русский человек с православной душой, столкнувшись с церковными испытаниями в одном месте, уйдёт от искушения злобой и безумием критиканства, исповедуется и примет причастие из рук другого пастыря – доброго, искреннего, не затронутого стяжательством.
Разумеется, линия соединения православного и древнего, народного взгляда на мир не может быть прочерчена раз и навсегда, обозначив границы сочетания первого со вторым отчетливо и непререкаемо. Когда речь идёт о христианском каноне, ни в коем случае нельзя поступаться его строгостью. Но если мы говорим о живом Христе, образ которого до сих пор живёт в русских духовных стихах, во внимание должна приниматься вся совокупность слов и мнений, пронизанных любовью к Спасителю и чувством собственного, сокровенного сораспятия с Ним. Наша Церковь, будучи водительницей русского человека ко Христу, должна любить своё чадо. Но иной раз она берёт на себя роль чёрствого и безжалостного учителя, бьющего ученика линейкой по рукам и категорически не желающего познакомиться с его семьёй.
Юрий Кузнецов стремился соединить народное представление о Христе с Преданием. Ещё раз отметим, что его триптих – это литературное произведение, а не рассуждение на каноническую тему. Как и в народной поэзии, в кузнецовской "словесной иконе" мы найдём мимику Христа, Его боль, гнев, печаль и юмор. В четырёх Евангелиях подобные приметы жизни Сына Человеческого едва обозначены. И потому поэтический текст так насыщен психологическим осмыслением текста евангельского.
Как правило, мистические произведения в поэзии склоняются к картинам отчётливо прорисованным. Такая определённость в описании мира исподволь выдаёт склонность автора к дидактике. У Кузнецова читатель регулярно сталкивается с бытийной мистикой происходящего, когда наглядный сюжетный поворот вызывает смутный, тревожный, а подчас и грозный отголосок в природе и времени.
Подобно евангельским повествованиям, "Путь Христа" Кузнецова пронизан совпадениями действий, предметов и слов. Так, "пощечина Христу" трижды возникает на страницах поэмы, причём не только как свидетельство злобы мира, но и как абрис его житейской ограниченности. Все земное обижает и бьёт Спасителя, и в том – едва заметные знаки Его грядущей смертной муки. Но иной читатель раздражённо скажет: Магдалина не по праву заносит руку на Христа, тут – кощунство и недопустимый творческий произвол автора. Хотя – имеющий глаза да увидит... Иосиф с семьей бежит, захватив с собой "лесину", из которой намеревался сделать гроб умершему старейшине Назарета, но вскоре рубит из нее "колыбель для дитяти". Вот маленький образ уходящего ветхого мира, нарождающегося мира новозаветного и их соединительного звена.
Кузнецов населяет поэму дополнительными персонажами, вводит новые события – и это не только приближает фигуру Христа к простым людям, но и человечески отепляет многие Его суровые смыслы. Причем, эти авторские лица и происшествия исключительно органичны как фигуры в реалистическом развитии новозаветного сюжета. Таков бедуин у костра, дымом которого играет маленький Иисус; упавший с крыши и разбившийся мальчик, которого Он воскресил, будучи ребёнком, задолго до первого публичного чуда на свадьбе в Кане Галилейской.
По словарю и интонации поэма сближается с народными духовными стихами. В её тексте много ласкательных слов, анафорических приёмов и иных примет народной лирической поэзии. Пожалуй, это видимое соприкосновение с фольклором в эпической поэме очень часто действует на антагонистов Кузнецова как красная ткань на быка. Русификация интонации кажется им возмутительной, она будто бы умаляет надмирный пафос священного сюжета.
Так католики в Японии, обратив местных жителей в свою веру, дали им иконы, на которых лица святых были изображены с раскосыми глазами – дабы аборигены воспринимали угодников Божиих более прочувствованно. Но у Кузнецова – не "умозрение в красках", а "словесная икона". Причем – авторская, "моя". Не изменён антураж, идентичны лица, адекватны смыслы – лишь голос рассказчика резко индивидуален.
И такая икона, словно вытолкнутая на поверхность жизни из трёхвековой толщи русской литературы через слова, голос, ум и сердце Юрия Кузнецова, достойна понимания, уважения и любви со сторо- ны соотечественников.
В предсмертном кузнецовском стихотворении "Поэт и монах" можно увидеть знаки поло- жительного отношения поэта к живописи Рафаэля и Микеланджело. Но если для художников Возрождения было важно выявить чисто человеческую личность и показать, что все глубины библейских сюжетов вполне доступны всякому человеку (об этом замечательно написал А.Ф. Лосев), то Кузнецов поставил перед собой совсем иную задачу.
Мистика его поэмы не нуждается в доказательствах и не сводится к набору простых тезисов и приёмов, подстать руководству для начинающего фокусника. Сохраняя священную Тайну, он старался приблизить её к русскому человеку.
Бережно относясь к его духовному и культурному прошлому, он хотел показать дорогу, уходящую за горизонт и никогда не кончающуюся.
И всё это – вымолвить на родном языке как наследник древней русской песни и подлинный литературный гений сумрачного рубежа двух христианских тысячелетий.
(обратно)Кирилл АНКУДИНОВ ГОТИКА ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА
Маленькая поэма "Змеи на маяке", написанная Юрием Кузнецовым в 1977 году, занимает особое место в творчестве поэта. По жанровым характеристикам она близка к притче (к слову, притча – один из самых типичных для поэзии Юрия Кузнецова жанров), но есть одна особенность, которая отличает эту поэму от притчи: притча должна иметь внятное толкование, про поэму "Змеи на маяке" нельзя сказать, что она имеет внятное толкование. Это – поэма-загадка, поэма, требующая расшифровки. Далеко не случайно она фактически оказалась вне поля зрения исследователей, занимающихся творчеством Юрия Кузнецова. По ряду параметров поэма "Змеи на маяке" приближается к жанру "готической новеллы", однако этот жанр по своей природе относится к числу прозаических; "готические новеллы", написанные в стихотворной форме, встречаются крайне редко и, как правило, являются стилизациями. Текст Юрия Кузнецова – не стилизация, он лишён иронии, направленной на жанр. Этот текст как бы находится в промежутке между двумя жанрами – между притчей и "готической новеллой".
Обращение Ю.Кузнецова к традиции готической литературы связано с тем, что космогония этого поэта строится на противопоставлении двух реальностей – реальности "земной", обыденной, косно-рациональной и реальности магически-иррациональной. Юрий Кузнецов – типичный мифо-романтик, он – романтик, векторно ориентированный на прошлое, романтик "золотого века" (воспользовавшись советской литературоведческой терминологией, его можно назвать представителем "консервативного" или "пассивного" романтизма). Две реальности в космосе Ю.Кузнецова пребывают в состоянии непрерывной борьбы: обыденная реальность (не-мифо-реальность), не имея представления о реальности иной, иррациональной, уничтожает и коверкает основы этой иной реальности (самый исчерпывающий пример подобной ситуации – поведение героя "Атомной сказки" Иванушки, который встретил Царевну-Лягушку, "вскрыл ей белое царское тело и пустил электрический ток"). Но и мифо-реальность, в свою очередь, не остаётся в долгу и постоянно подтачивает или изменяет косную не-мифо-реальность.
Поэма "Змеи на маяке" по своему сюжету сходна со "стихотворениями-превращениями" Ю.Кузнецова ("Снег", "Змеиные травы", "Урод", "Сотни птиц", "Кактус", "Бревно", "Мел", "Родство", "Из земли в час вечерний, тревожный"). Сюжетная структура некоторых "стихотворений-превращений" ("Змеиные травы", "Кактус", "Родство") такова: современный человек своими неосторожными действиями или мыслями вызывает к жизни грозные силы мифо-реальности, которые либо утаскивают его в иные пространства, либо принципиально меняют результат деятельности героя.
Для правильного понимания текста Юрия Кузнецова необходимо рассмотреть ещё один вопрос: какую роль несёт в себе ключевой для данного текста образ змеи в мифологической традиции вообще и в творческом мире мифо-романтика Ю.Кузнецова? Что такое – змея – для архаического мифа и для мироздания, созданного по воле Ю.Кузнецова? Чем различаются два этих понимания образа змеи и чем они схожи?
В качестве ответа на первую часть этого вопроса приведём высказывание крупнейшего семиотика современности В.В. Иванова.
"Змей, змея – представленный почти во всех мифологиях символ, связываемый с плодородием, землей, женской производящей силой, водой, дождём, с одной стороны и домашним очагом, огнём (особенно небесным), а также мужским оплодотворяющим началом – с другой... В архаических мифологиях роль Змея, соединяющего небо и землю, чаще всего двойственна (он одновременно и благодетелен, и опасен). В развитых вертикальных трехчлённых моделях мира... Космический Змей приурочен к низу в противопоставлении верха и низа.... Древний образ Змея у дерева... получает негативное значение (иногда в связи с фаллической символикой Змея). Змей, связанный с нижним (водным) миром и враждебной человеку стихией (лесом), часто ассоциируется с другими существами, которые считались враждебными".
Дополним характеристику образа змея в мифологической традиции ещё двумя частными функциями, кстати, наиболее актуальными для "готической новеллы". Змей наказывает нарушителей сакральных правил и запретов (табу) – зачастую эти табу носят сексуальный характер. В качестве примера приведём знаменитую новеллу Артура Конан-Доила "Пёстрая лента", в которой змея угрожает жизни девушек (и убивает одну из девушек) за несколько дней до их брака – сюжеты архаического мифа повторяются в "неоготической новелле".
Вторая функция образа змеи в мифологической традиции связана с посредничеством между двумя мирами – между миром людей и миром сверхъестественных сущностей. Змея – проводник, при помощи которого можно проникнуть в сакрально-магическое пространство и приобщиться к силам этого пространства.
Образ змеи в поэзии Юрия Кузнецова наделен значениями, схожими с теми, какие имеет этот образ в мифологии. Во-первых, для Кузнецова змея – хтоническое существо, появляющееся из глубин или внезапно оживающее и угрожающее гибелью всему мирозданию – "И со свистом из мёртвой трубы выползает змея роковая... Опоясала небо змея – волчья шерсть поднимается дыбом" ("Пепелище, 1942"), "Древний посох стоит над землей, окольцованный мёртвой змеей. Раз в сто лет его буря ломает. И змея эту землю сжимает" ("Посох"). В этом контексте образ змеи тождествен архетипу "змея у корней мирового древа".
Во-вторых, в поэзии Ю.Кузнецова змея иногда символизирует женское начало, в облике этого начала она являет собой нечто заведомо ненужное, отвлекающее: "Бокал обвит змеиным женским телом, стряхни змею! Займёмся русским делом" ("Здравица"). Наконец змея может представать в качестве исполнительницы приговора тем, кто нарушает табу, и одновременно в качестве проводницы в иные измерения, в сакральные миры – "Людям снилась их жизнь неуклонно, снился город, бумаги в пыли. Но колёса всего эшелона на змеиные спины сошли. Всё сильней пассажиров шатало, только змеи со свистом ползли. Незнакомая местность предстала, и змеиные травы пошли" ("Змеиные травы"). В этом случае наказание и переход в иную реальность совпадают – самодовольные представители не-мифо-реальности наказаны перемещением в "незнакомую местность", в "иные пространства". Следует заметить, что пассажиры исчезнувшего поезда – не сознательные нарушители того или иного табу; они наказаны только за то, что являются "людьми современности" и как "люди современности" могут мыслить только в категориях "не-мифо-реальности". Юрий Кузнецов переосмысливает архаический миф в духе романтизма. Если в парадигме мифа правильное и неправильное осуществление Ритуала – два возможных варианта поведения человека, то в парадигме романтизма неправильные действия по отношению к Сакральному являются абсолютной нормой поведения "людей современности". "Люди современности" лишены возможности выбирать тактику действий по отношению к Сакральному. Современность, цивилизация обрекают их на нарушение Ритуала, следовательно, судьба тех, кто живёт в условиях современности, решена изначально. Повод для их наказания – не неверный выбор, не поступок, а сам факт причастности к цивилизации.
В свете этих обстоятельств можно определить ответ на основной вопрос, встающий перед каждым читателем поэмы "Змеи на маяке": чем заслужил свою страшную участь главный герой поэмы – врач Пётр, который "час и место выбирать умел, со вкусом одевался, мало ел, с полслова понимал..." и попросту не успел совершить ни одного неподобающего поступка? Только тем, что он причастен к нынешней цивилизации – и к человеческому роду вообще. В кульминационный момент появления змей на маяке Пётр восклицает, обращаясь к себе: "Твоё тепло, о боже, притянуло это зло!" Это – ключевые слова поэмы. Но что они означают? Пётр "тёпел", как лаодикийцы из Апокалипсиса, то есть – "ни холоден, ни горяч", равнодушен к миру, непричастен его делам и именно поэтому навлекает на себя кару? Можно принять данное толкование. Но, на наш взгляд, гораздо продуктивнее было бы обратиться к иным коннотациям слова "тёплый": "тёплый" означает – "теплокровный, принадлежащий к человеческому роду, живой". Именно это качество героя кузнецовской поэмы "притянуло" к нему змей.
Рассмотрим немногочисленные авторские характеристики Петра. Он приехал из других мест – стало быть, он непричастен к местности, в которой происходит действие поэмы. Напомним о том, что в "готической новелле" приезд героя в место разворачивания сюжета (чаще всего – приезд горожанина в сельскую ландшафтность) даёт начало проявлению сакральных сил, а "неместность" сама по себе – распространённая особенность образа демиурга-неудачника. В "готической новелле" как правило "неместные" проигрывают. Героя поэмы зовут Петром. В сочетании с такой важной портретной деталью, как "решимость округлого лица" данное имя актуализирует ассоциацию с Петром Первым, фактическим создателем европейской цивилизации в России. Было бы неправомерно полностью отождествлять персонажа "Змей на маяке" с Петром Первым, но ассоциативный ряд: "Пётр – человек цивилизации" в тексте Кузнецова несомненно входит в совокупность смыслов поэмы. Чётко указана профессиональная принадлежность героя поэмы: он – врач. "Приехал он сюда за муравой лечить народ от язвы моровой". Устойчива коннотация: врач в сельской местности – носитель цивилизационных начал (равно как и учитель, священник, следователь). Ю.Кузнецов использует эту коннотацию. Но слово "врач" в тексте поэмы несёт в себе и иные значения; на данные значения указывает монолог безумного смотрителя маяка. "Латать дырявый мир – удел таков сапожников, врачей и пауков". Врач – тот, кто латает "дырявый мир", не-мифо-реальность, разъеденную мифо-реальностью, приводит обыденную не-мифо-реальность в порядок, восстанавливает её изначальный статус.
"Тёмный", усложнённый, кажущийся бессвязным монолог сошедшего с ума смотрителя маяка даёт ключ к пониманию поэмы. Смотритель маяка – типичный для "готической новеллы" образ "вернувшегося". "Вернувшийся" – человек, который выжил в сакральном пространстве ценой утраты собственного рассудка. Он непригоден для обычной жизни, но его бессвязные высказывания, принимаемые всеми за бред, всегда полны глубокого смысла. Этот характерный для "готической новеллы" образ, несущий важные сюжетные функции, восходит к архаико-мифологическим корням, в частности – к парадигме "певца", "поэта", приобщившегося к Сакральному и наделённого "священным безумием". В "готической новелле" эта парадигма трагически переосмыслена: "вернувшийся" наделен безумием не по своей воле, он постоянно существует в ситуации непонимания со стороны окружающих, следовательно, знания, к которым приобщился "вернувшийся", лишены смысла (для не-мифо-реальности). В системе образов "готической новеллы" "вернувшийся" занимает второстепенное место. Это – Орфей-неудачник, находящийся в тени главного героя – демиурга-неудачника; функция "вернувшегося" – передача главному герою необходимой информации, которую, однако, следует правильно дешифровать и проинтерпретировать.
Какую информацию несет в себе монолог смотрителя маяка? "Мир вечерел, когда маяк мигнул, Старик зашевелился и вздохнул: И здесь темно!"
Бинарная оппозиция "тьма-свет" по своему значению в тексте поэмы соответствует её традиционному истолкованию: "тьма-зло, свет-добро", однако осложнена дополнительными характеристиками: "По мысли и чертам Ещё не здесь он был, а где-то там, Чего не знает мера и печать".
Юрий Кузнецов напоминает читателю о "диогеновеком предании"; более подробно эта тема будет рассмотрена поэтом в стихотворении "Фонарь", сейчас мы не будем отдельно останавливаться на ней.
"Взглянув в окно, старик захохотал. Взял глубоко, а неба не достал. Крылатых губишь и слепых ведёшь, Вопросы за ответы выдаёшь. Я ж при тебе... могильщик птиц. Никто".
Смотритель несомненно обращается к своему маяку. Маяк – ложная путеводная звезда, погубитель птиц, привлечённых фальшивым светом (в начале поэмы говорится: смотритель "наверняка скорбит о том, что вертится кубарь и птицы бьются об его фонарь"). Перина в постели смотрителя "набита пухом перелётных птиц"; в припадке безумия смотритель станет развеивать этот пух по всему острову. Дети примут летящий по воздуху пух за снег и с радостью начнут ловить его – вся эта сцена похожа на пародию концовки написанного двумя годами раньше стихотворения Иосифа Бродского "Осенний крик ястреба". Отметим, что переосмысленные и жестоко спародированные цитаты из творчества И.Бродского возникают в поэзии Юрия Кузнецова уже в раннем периоде его литературной деятельности.
...Мнимый ориентир для птиц – маяк смотрителя непрерывно мигает, это – символ таким же образом "мигающей" реальности.
"То день, то ночь – мигает решето. То тень, то след, то ветер, то волна, Рябит покров, слоится глубина. Слова темны, а между строк бело. Пестрит наука, мглится ремесло. Где истина без тёмного следа? Где цель, что не мигает никогда?"
Это – самое сложное, самое труднообъяснимое место в монологе смотрителя. Оно нагружено метафизической образностью глобального характера. Всё в этом мире (с точки зрения смотрителя) "мигает" потому, что природа всего в этом мире двойственна, дуалистична. Сквозь тёмную не-мифо-реальность то и дело проглядывает сияющий свет мифо-реальности, подобно тому, как чёрные буквы покрывают светлые пробелы ("слова темны, а между строк бело"). Таким образом, рациональное, вербальное начало есть начало тёмное, злое. Истина иррациональна, невербальна, несказанна, непредставима в рамках логики. Но всякая истина обречена на "тёмный след", поскольку всякую истину стремится скрыть, заволочь тьма (пленка) не-мифо-реальности, интеллекта, вербальности ("Где истина без темного следа?").
"Латать дырявый мир – удел таков Сапожников, врачей и пауков".
Врачи – те, кто латают плёнку тёмной не-мифо-реальности для того, чтобы из-под неё не пробился свет мифо-реальности. Это (по мнению смотрителя) – профессиональные прислужники Тьмы.
"Скажи ты вестник? Врач? Не смей скрывать!" Из слов смотрителя маяка следует, что он ждет Вестника, посланника Света. Но Пётр – мнимый Вестник, он – не Вестник, а врач, не посланник светлой мифо-реальности, а посланник тёмной не-мифо-реальности (и сам не подозревает об этом).
Пётр – искупительная жертва, взятая за грехи человеческого рода и человеческой цивилизации. Именно цивилизация изгнала змей из места их привычного обитания. Хозяин дома, в котором поселился Пётр, говорит: "Змеиное болото невдогад мы летось осушали под ячмень". Конечно не Пётр "невдогад" осушал змеиное болото. Но Пётр – атом цивилизации, которая действует "невдогад" – так же, как и в случае со змеиным болотом. Трагический знак вмешательства человека в природу – сотни змей, выброшенных из естественной среды обитания.
"Они ползут, им места нет нигде В дырявом человеческом гнезде. Наружу! Вон!.. Гонимые судьбой Пригрелись между небом и землёй".
Типичный для поэзии Юрия Кузнецова конфликт между не-мифо-реальностью и мифо-реальностью приобретает экологические смыслы, также характерные для творчества этого поэта. Человек совершает насилие над природой, а природа отвечает ему беспощадной местью. Поэму "Змеи на маяке" можно сопоставить с другим текстом Юрия Кузнецова – со стихотворением "Из земли в час вечерний, тревожный". В этом стихотворении "рыбий горбатый плавник" ищет море, но моря уже нет. В слепом поиске моря плавник подрезает корни деревьев. Подобно этому плавнику, змеи, лишённые болота, бродят "между небом и землей" и угрожают гибелью каждому, кто попадётся на их пути. Эти змеи символизируют донравственную и вненравственную природу ("Когда песками засыпает деревья и обломки плит – прости: природа забывает, она не знает, что творит").
Вмешательства в дела природы чреваты катастрофами глобального характера. Гибель людей – закономерный итог подобных вмешательств. Так гибнет Пётр, оказавшийся в той же самой точке хронотопа, в которой должен был появиться некий светлый Вестник.
Испытание змеями входит в обряд инициации у некоторых народов: для того, чтобы новичок приобщился к Ритуалу, сначала необходимо провести его через змей – если сакральный мир не признает новичка, тот погибнет. "Человек современности" Пётр – не был готов к Ритуалу и поэтому погиб. Он не стал "своим" для мира мифо-реальности и оказался жертвой мифо-реальности.
Но гибель Петра – не только наказание Петра и знак его метафизического поражения. Как и в стихотворении "Змеиные травы", в поэме "Змеи на маяке" расплата героя за причастность к миру цивилизации совпадает с процессом перехода героя в иную реальность. По мнению Кузнецова, смерть – не финал человеческой жизни, смерть – это приобщение человека к Сакральному. В предсмертном состоянии Пётр переживает ситуацию изменённого сознания – равную ситуации постижения того, что ранее было неопознано и непознаваемо. "Светло или тёмно, Но я сияю! Негасимый свет Меня наполнил!"
Напомним о ключевой бинарной оппозиции, на которой построена поэма "Змеи на маяке"; эта оппозиция – "свет-тьма". С парадигмой "тьмы", "мрака" Ю.Кузнецов связывает такие понятия, как "слово", "вербальность", "мысль", "цивилизация", "человек", "врач", "тёмный след", "поверхность", "затягивающий покров". Напротив, парадигма "света" включает в себя противопоставленные "тёмным" понятиям "светлые" понятия: "пространство между строк", "невербальность", "наитие" ("откровение"), "антицивилизационность" ("природа"), "нечеловечность", "Вестник", "истина", "глубина", "незамутненность" ("цельность"). Врач Пётр в системе образов поэмы Кузнецова – носитель "тьмы". Но в преддверии смерти сознание этого героя внезапно просветляется, и он получает возможность созерцать чистую и светлую истину без примеси какой-либо "тьмы". Пётр ощущает, как его наполняет "негасимый свет", также он ощущает, что сам становится носителем этого света. Убившие его змеи даровали ему эту светоносность. Пётр нашёл ответ на вопрос смотрителя маяка: "Где истина без тёмного следа?" Эта истина – смерть.
Вывод: в поэме "Змеи на маяке" Юрий Кузнецов прибегает к архетипической сюжетной структуре – "два демиурга: удачливый демиург и неудачливый демиург". Эта сюжетная структура переосмысливается им в духе романтизма: демиург-неудачник – "человек современности", воплощающий в своём лице начало, оторванное от природных корней.
Умирая, Пётр приобщается к Истине и видит себя источником "негасимого света". Змеи становятся для этого героя не только исполнительницами кары, но и посредницами между реальностью (не-мифо-реальностью) и мистической мифо-реальностью. Воспользовавшись их посредничеством, герой попадает в мир мифо-реальности и одновременно перестаёт существовать в пространстве не-мифо-реальности (умирает). Змеи в поэме Ю.Кузнецова выполняют те же функции, что и в архаическом мифе, но данные функции переосмыслены в духе романтизма: правильное поведение по отношению к Сакральному и цивилизация – безоговорочно разведены. Природа и миф для Ю.Кузнецова идентичны. Природа (миф) и "человек современности" – непримиримые враги. Познать природу (миф) "человек современности" может только ценой утраты собственной жизни.
(обратно)Андрей БЫЧКОВ ИМЯ
"Хорошо быть кошкою,
хорошо собакою..."
Детский стишок
Он вытер руки о вафельное полотенце. Внизу оно было влажновато, слегка захватано, и инстинктивно он вытер о верх, белый, вафельный. Играла музыка. Он посмотрел в зеркало, отмечая, как всегда, глядя в зеркало, что это, конечно же, не его лицо, и не удивляясь уже по привычке, что это лицо не его. Он зашёл сюда с лыжами, с новыми лыжами, они стояли сейчас за его спиной, прислонённые к чёрному блестящему жизнерадостному кафелю стены. "Лыжи, – подумал он с нежностью. – Я купил себе новые лыжи". Трещина в зеркале разделяла его (не его) лицо и лыжи, как правое и левое. Его лицо было – правое, а лыжи – левое. Растянув толстые губы, он осмотрел неровный ряд верхних зубов, и такой же нижних, кляцкнул, вновь накладывая поверх толстые, навазелиненные от мороза губы. "У меня должны бы быть тонкие узкие губы", – подумал.
Женщина возникла внезапно, словно из трещины, подобно оптической иллюзии. "Откуда здесь женщина?!" Но, передвинув лицо, он увидел правее его лыж дверь, из которой она вышла. Теперь трещина в зеркале поглотила одного из мужчин, стоящего лицом к стене, распахнувшего шубу и уже начинающего. Голова женщины была укутана в серый шерстяной платок, а на кистях рук висели молочные резиновые перчатки с жёлтыми творожными пальцами. Но по движению, с каким она поставила, изогнувшись, ведро, а потом рядом с его лыжами и швабру, он понял, что она очень молода. "Как девушка", – подумал он и почему-то вспомнил глянцевую улыбку мальчика в жёлтом окошечке на входе. "Сорок?" – переспросил он тогда, не веря табло. "Да-да, сорок, – подтвердил, нагло щурясь, мальчик. – У нас очень-очень хорошо, очень-очень".
Музыка была классическая, добросовестная, чистая, слегка грустная, но чистая, классическая. Он попытался вспомнить имя композитора и не смог, это было и мучительно, и сладостно одновременно, словно с усилием, которому он подвергал свою память, музыка проникала ещё и ещё, на глубину, к тому затруднённому наслаждению, которое, может быть, в силу своей затруднённости только и является истинным. Но не смог.
Пол был чист, только чьи-то одинокие следы, исчезал беспомощный белый снег, стаивал в прозрачные овалы, девушка смахивала их широкими ритмичными замедленными движениями, слегка приподнимая левую ногу на носок и выгибая подъём, когда швабра выскальзывала вперёд. Музыка.
– Где вы купили лыжи? – спросил его человек в шубе, подходя и непринуждённо, даже как-то роскошно вздёргиваясь.
– Там, на углу, в спортивном, – покорно ответил он.
– Здесь действительно очень опрятно, светло, можно расслабиться, – сказал тогда человек в шубе. – Разрешите, я вымою тоже.
– Пожалуйста, – ответил он и подвинулся так, что трещина в зеркале поглотила теперь отражение лыж.
– Я здесь недалеко работаю, – сказал человек в шубе, открывая сияющий никелированный кран и разглядывая с нескрываемым удовлетворением своё лицо.
Глядя на лицо человека в шубе в зеркале на стене, он сразу понял, что вот, вот каким должно было бы быть и его лицо. Эти тонкие самоуверенные губы, белый ровный зубной ряд и наглые с прищуром глаза.
Ловя в зеркале плавные движения девушки, человек в шубе сказал:
– Я буду сюда заходить, – и усмехнулся. – А вы?
– Я... – сконфузился он.
– Да, вы, вы с лыжами будете сюда заходить? – рассмеялся тонкогубый, вытирая руки о полотенце ещё выше, гораздо выше, где было совсем белое, жёсткое, накрахмаленное, не тронутое ещё никем.
Размахав растаявшие следы, девушка натирала теперь другой тряпкой (белой) кафель, который от натирания торжественно блестел. Тонкогубый, вытерев тщательно руки, сел на кожаный выпуклый целомудренный диван, который стоял в углу помещения, и взял с низкого столика газету. Губы его стали остры, он сделал вид, что читает, но человек с лыжами понял, что тот ждёт, когда он уйдёт. Ввалились двое красномордых мужчин в блёстках, топая, отряхая роскошный снег и разговаривая.
– Сволочь этот Бордов, хоть и большая шишка, – сказал один.
– Потому и шишка, что сволочь, – ответил другой.
Первый издал звук ртом. Они подошли к стене и стали к ней лицом. Перестали разговаривать, тем самым как бы подчёркивая уважение друг к другу. Немного покачивались. Девушка медленно намыливала кафель. Заметив её, они переглянулись, но ничего не сказали и вышли, так же шумно топая, как и вошли. Они не воспользовались ни полотенцем, ни краном, ни щёткой, ни диваном, ни газетой, ни бритвенным прибором, ни утюгом, ни чайником, только специальными керамическими приспособлениями на стене. Они ушли, оставив снег следов. Девушка обернулась. Как будто она ждала, когда растает этот снег, который был слишком бел. Тогда мужчины, оставшиеся в помещении, оба, посмотрели на её лицо. Она оказалась ещё моложе, чем можно было подумать, глядя на неё со спины. Из-под серого шерстяного платка вдруг открылось её алое лицо. Плотно прижатые лепестки щёк к маленькому, ещё детскому рту, невинный, вздёрнутый чуть-чуть любопытно носик, пугливые, как вечерняя вода, глаза.
Тонкогубый отбросил газету и положил руки с пальцами в перстнях на колени, поверх шубы, которая прикрывала его колени в брюках. А человек, принёсший лыжи, подошёл к своим лыжам, чтобы взять их, потому что и ему надо было что-то сделать, освободиться от видения, так неожиданно красиво оказалось лицо девушки. Заметив, что они заметили её, она заалела ещё больше и, чтобы скрыть свой стыд, стала торопливо и неумело затирать шваброй не успевший ещё растаять снег следов.
– Сколько тебе лет? – властно спросил тонкогубый.
– Четырнадцать, – ответила она робко, но сразу, словно ждала вопроса.
– И сколько тебе платят за это? – осведомился он, произнося слова на этот раз неторопливо, вальяжно, по-отечески.
– Тысячу рублей.
– В месяц?
Она ответила тихо:
– В месяц.
– Неплохо, неплохо, – с расстановкой сказал тонкогубый, разглаживая шерсть шубы на колене. – И как же вас зовут?
– Рося.
– Фрося?
– Нет, Рося.
– Странное имя, – сказал тонкогубый, продолжая поглаживать. – Я никогда не слышал такого.
И замолчал, продолжая поглаживать. Девочка мерно посылала и возвращала палку швабры.
"Он ждёт, когда я уйду", – подумал человек с лыжами.
– А вы, – обратился к нему тонкогубый, словно прочтя его мысли. – Снег на улице скоро растает и лыжи станут вам не нужны.
И рассмеялся тонко, нахально.
"Что он такое говорит?! Как он смеет такое мне говорить?!" – всколыхнулось в человеке с лыжами, но он промолчал.
Проходя мимо девочки, он не выдержал и снова посмотрел в её лицо. Озарённые детским чистым стыдом щёки; прячущиеся под веки глаза; прячущиеся и снова выглядывающие к нему доверчиво, словно бы с просьбой не осуждать, простить.
Вдруг подумал:
"А может быть, осторожно взять её за руку, выйти на свежий, морозный, солнечный воздух?"
Что-то было в этих глазах не для просто случайного посетителя, так показалось ему. Но он, хоть и почувствовал это на глубине, где погребено многое из того, что не умирает, где просыпается иногда, словно имя композитора, то, что не знаешь, как и назвать, чтобы именем не обмануть и именем не скомпрометировать, то, что остаётся… но он все же подумал, что это все ему показалось, и, застеснявшись вдруг до мучения своих толстых навазелиненных губ, словно бы выхватил свой взгляд обратно и побежал, стукая лыжами, к мраморным ступенькам, покрытым фиолетово-красным помпезным ковром. Наверх, наверх, на мороз!
– Ну как? – усмехнулся из-за зашторенного на сей раз окошечка невидимый мальчик, высмотревший его, однако, в щёлку по лыжам.
"Вход сорок копеек" – было написано красиво, со вкусом, небрежно, как бы от руки, но аккуратно, на входном стеклянном табло.
Но он пришёл туда вновь на следующий день без лыж, уже не случайно, вспомнив имя композитора ночью, когда та же музыка не давала спать. Он плакал той ночью без слёз в полутьме бессонницы, думая о девочке. Лыжи стояли в углу у окна, бесстрастно отражая луну. Две длинные луны с загнутыми концами. Он не хотел давать волю чувству, что поднималось из глубины, овладевая им, как падение в шахту. Беззвучно рыдал он, надеясь тайно, обратной стороной не-надежды, на жестокость бессонницы, на внезапную боль головы, на смерть, на беспамятство. "Не должно же. Не так", – качалось в его голове. Но утром он встал со странной решимостью, без мыслей, пустой, не знающий, как он поступит, но уверенный в том, что пойдёт. Он стоял не перед зеркалом, а перед окном своей комнаты и смотрел сквозь стекло. Стекло тоже было с дефектом, с волной – самолет на небе вдруг растягивался, а потом вжимался сам в себя червяком; троллейбус, удлинившись, неожиданно сплющивался в гармошку, как от удара о стену, разбухал идущий прохожий и внезапно исчезал. "Оптические иллюзии", – сказал он сам себе, усмехаясь, растягивая рот, отчего его губы стали тонкими, как жгуты. Он взял пачку денег из верхнего ящика письменного стола и вышел на морозное солнечное утро.
Ему было сорок лет, до сих пор он был покорный бобыль с тайной надеждой. Как и многие, он был вывернут временем наизнанку, и время потрудилось над уничтожением его души. И сверху его душа стала, как прибитая кожа. Тогда-то он и подумал, что теперь, наверное, остаются только лыжи.
"Или подарить ей коньки? Нет, лучше сразу за руку, грубо: "На четыреста".
Но в помещении было пусто. Он был одним из первых посетителей. Чёрный кафель блестел. Сияли начищенные писсуары. Пол был чист. И новое полотенце – вафельное, белое, висело углом, не преодолев ещё тяжестью влаги с рук свою нечеловечески накрахмаленную складку. Он сел на диван и стал ждать, когда откроется дверь, которую не заметил вчера поначалу в треснувшем зеркале. Входили и выходили мужчины, расстегивая и застегивая пальто, шубы, пиджаки, рубашки, ширинки, пользуясь щётками, водой из никелированного крана, писсуарами, кабинками, душистым мылом, вафельным полотенцем, расслабляясь, очищаясь, приходя в себя, приводя себя в свежий вид. Прошло сорок минут. Он всё сидел и ждал, ему стало жарко, он распахнул пальто, потные ладони прилипали к новенькой коже дивана, и он часто их перекладывал, наблюдая иногда бессмысленно, как быстро высыхают, уменьшаясь, блестящие пятна его пота. "А может, она там с тонкогубым?!" – внезапно пронзила его мысль. Резко встал.
И дверь открылась... и выехал на маленькой тележке инвалид без ног в коричневой замызганной курточке и в рубашке с галстуком, и с лицом, похожим на мешок. Отталкиваясь неожиданно белыми руками от пола, инвалид подъехал сразу к нему, протянул сморщенную розовую (видно, только что вымытую) лодку ладони. Тогда в смятении, сконфуженно он вынул из кармана и наклонился и вложил инвалиду рубль в ладонь и сел.
– Благодарю вас, – сказал инвалид, развернулся и поехал к другому мужчине, который прыскал себе в лицо водой из-под крана и громко фыркал и мычал, потрясая мохнатой жукастой шубой на плечах. И, поскольку мужчина в шубе был занят умыванием, инвалид проехал от него к другому, который с удовлетворением на лице отходил от керамического приспособления на стене. И отходящий, не спеша застегнув пуговицы ширинки, порылся в кошельке и дал инвалиду несколько серебряных монет.
– Благодарю вас, – сказал инвалид.
В помещение больше никто не входил, и он снова покатился к мужчине в мохнатой жукастой шубе, который вытирался, кряхтя, о вафельное полотенце. Остановив тележку за ним, инвалид стал вытирать руки о свою курточку, ожидая, когда жукастый обратит на него своё внимание. А тот, глянув в зеркало и поправляя волос, вдруг круто отступил назад и споткнулся неожиданно об инвалида и перевернул нечаянно того вместе с тележкой, и чуть не упал сам.
– Скотина! Дрянь! Мерзость! – закричал жукастый, пнув ботинком в тележку, лежащую поверх искривлённой спины инвалида, и пошёл вон из помещения, продолжая зло и в сердцах ругаться: – Ну просто какие-то пиздюки!
Человек на диване закрыл руками лицо: "Фарс, фарс..."
Но откуда он мог знать, может, это и был Бог, этот перевёрнутый инвалид в курточке, в грязной сорочке с дешевеньким галстуком и был Бог для него? Но откуда же знать, что Бог может и так?
– Рося, – шептал хрипло из-под тележки инвалид. – Рося, помоги, слышь... Опять они меня...
Он корчился, втягивая в себя обезображенный, подоткнутый курточкой торс, пытаясь сбросить тележку и освободиться от вывернувшегося ремня.
– Рося, – давился инвалид; галстук, зацепившись, жал ему горло, выворачивая белки из мешковины лица. - Рося, мать твою... Да помоги же кто-нибудь!
И тогда толстогубый не выдержал. Он вскочил. Но он не бросился к инвалиду. Он закричал:
– Господи! Помоги мне! Не могу я больше так жить! Не могу!
И рухнул коленями о плитку пола, и зарыдал, как мальчик, натягивая себе на голову пальто, ёжась, словно от холода, и вдавливая лоб в доску дивана.
И мальчик в будке, провожая взглядом матерящиеся ботинки, слыша крики из помещения снизу, нажал быстро на кнопку. И включил музыку.
Дерево, покрытое лаком, было холоднее его лба, новая кожа дивана, скользя, касалась его волос. Вдруг открылась и захлопнулась дверь; он перестал плакать, замер, прислушиваясь: чьи-то лёгкие шаги, возня, царапание железки по полу, пыхтение инвалида, его "спасибо, спасибо, вот спасибо, вот спасибо". Он понял, что это она. Он слышал, что она молчит, не отвечает. Он представил её себе, её лицо, застыл, не оборачиваясь, оставляя дерево дивана у лба. Ему почему-то казалось, что прядь её волос должна выбиться из-под платка и мешает ей смотреть, она же наклонилась, помогая старику, и теперь она все время поправляет спадающую прядь рукой. Воспоминание, давно забытое, коснулось его. "А в школе я боялся входить в туалет, если рядом с дверью стояли девочки, – стыд".
Музыка настигала его. Дотрагивалась на глубине. Он не чувствовал слёз, текущих по его лицу. "Нет меня, нет, и тела моего нет", – так слышал он музыку.
– Помоги ему, – раздался громкий бесстрастный голос инвалида. – Другой упал, не он, на меня, не он.
– Вам помочь? – услышал он ласковое, осторожное, невинное.
Он нащупал в кармане пачку в четыреста рублей.
– Эй, вам плохо? – переспросила она смелее, трогая его за плечо.
– Не надо, – сказал он, отлепляя лоб от лакированной доски дивана.
Поднялся. На неё не смотрел. Обогнул инвалида. Поднялся по ступеням.
Было по-прежнему морозное солнечное утро. Он вздохнул глубоко. Усмехнулся. Следы слёз холодили лицо. Он выпустил губы. Расстегнул неторопливо ширинку и поссал на блестящий, желтоватый, песочный, утоптанный прохожими, снег.
(обратно)Иван БУРКИН ТИХООКЕАНСКИЕ СОНЕТЫ
К 80-летию Ивана Буркина
Давно знаю и люблю стихи Ивана Афанасьевича Буркина, самого лиричнейшего из экспериментаторов стиха, самого авангардного из традиционных русских лириков. Может быть, так и суждено было ему: всю жизнь между…
Между Россией и Америкой. Между авангардом и традиционализмом. Между патриотами и демократами. Его можно было встретить в редакции "Нашего современника" у Станислава Куняева, и в редакции журнала "Арион". На страницах "Нашего современника" ему не хватало литературной вольности, игры со словом, на страницах "Нового русского слова" ему не хватало русскости и лиричности.
Я жил у Ивана Афанасьевича в Сан-Франциско, когда собирал материалы о второй волне эмиграции, о литературе ди-пи. Мы вместе ездили в знаменитый форт Росс, бывшую русскую крепость, в центр русских эмигрантов Монтеррей, где ему довелось работать в центре по изучению России, мы гуляли по русским кварталам Сан-Франциско и Иван Афанасьевич вспоминал свою молодость, годы войны, всю тягость жизни перемещенных лиц.
Сегодня, пожалуй, Иван Афанасьевич – последний из могикан русской поэзии старой эмиграции. А сколько их было, ярких, составляющих гордость русской литературы ХХ века: Иван Елагин, Дмитрий Кленовский, Борис Филиппов, Леонид Ржевский, Ольга Анстей, Борис Башилов, Николай Нароков, Николай Моршен, Владимир Юрасов, Владимир Бондаренко, Григорий Климов, Олег Красовский, Игорь Смолянинов, Татьяна Фесенко… Со многими из них мне довелось повстречаться, побеседовать в Нью-Йорке, Мюнхене, Сан-Франциско, Нью-Джерси, Кёльне, Париже, Брюсселе, Мельбурне…
Русские старики, верные русской литературе. Их жизнями распорядилась война.
Судьба Ивана Афанасьевича Буркина, если не брать во внимание его яркий неповторимый поэтический стиль, которого даже трудно с кем-нибудь сравнивать, была типичной судьбой диписта, выходца из послевоенных лагерей для перемещенных лиц (дисплейсед пёсенс – Ди-Пи). Родился в Пензе в 1919 году, уже с 1938 года начал публиковаться в Саранске в Мордовии. В 1940 году закончил филфак педагогического института. Затем война, фронт, ранение, плен. Попал в немецкие концлагеря в Баварии, после войны остался на западе. В 1950 году переехал в США. Уже в лагерях ди-пи начал печататься в появившихся в Германии литературных журналах и альманахах второй эмиграции "Мосты", "Грани". В Америке стал сотрудничать с журналами и альманахами "Опыты", "Современник", "Встречи", в газетах "Новое русское слово" и "Русская жизнь". Там же опубликованы и все его основные книги стихов "Путешествие из чёрного в белое" (1972), "Рукой небрежной" (1972), "Заведую словами" (1978), "13-ый подвиг" (1978), "Голубое с голубым" (1980). Даже по названиям сборников видно, что перед нами не поэт-традиционалист, что Иван Буркин пробует сам "заведовать словами", играть со словом, чувствуется его импрессионизм в восприятии мира .
В Нью-Йорке Иван Буркин защитил в Колумбийском университете докторскую диссертацию, затем всю жизнь преподавал русский язык и литературу в разных американских университетах и центрах.
В годы перестройки, как и многие другие русские писатели первой и второй эмиграции, жадно потянулся к России, спеша окунуться в океан русской литературы. Он прекрасно понимал, что при любом режиме главная русская литература создаётся в самой России, дыхание русской словесности идёт от родины, а не наоборот. В первые годы перестройки, когда я увлёкся темой литературы ди-пи, мы с Иваном Афанасьевичем и встретились. Думаю, в чем-то даже я испортил ему, как и иным своим эмигрантским героям, даже не ведая того, лёгкое вхождение в современную русскую литературную жизнь. Вернувшись из очередной поездки в Америку, я опубликовал целую полосу великолепных стихов Ивана Афанасьевича в газете "День". Также впервые в России напечатал Зинаиду Шаховскую из Парижа, художника Влади из Мексики и его отца Виктора Сержа, Николая Моршена, Владимира Юрасова… Но после публикаций в яростно оппозиционном "Дне" на этих авторов автоматически косо смотрели все либеральные издания. Ладно уж таким патриотам, как Борис Башилов или Григорий Климов, путь в либеральную литературу изначально был закрыт. Но почему не стали печатать того же Ивана Буркина ни в "Знамени", ни в "Литературной газете" девяностых годов, ни в "Звезде"? Неужели из-за его обширной публикации на страницах "Дня"? Но на беду свою и в "Наш современник" его стихи вмещались с трудом, мешал его авангардизм, мешала его стилистическая смелость. Может быть, открой его для русского читателя Наталья Иванова, главенствующее положение среди поэтов эмиграции Буркину было бы обеспечено? Ярчайший метафорист, получше Возне- сенского, тончайший лирик, играет словами круче, чем Семён Кирсанов, чем не автор для "Знамени" и "Огонька". А Иван Афанасьевич бедный попал в лапы "Дня". Кстати, думаю, и у романов Виктора Сержа была бы другая судьба, опубликуй их впервые не Бондаренко, а Чупринин, предположим…
Либералы куда более непримиримы и тоталитарны, чем патриоты. Ещё Алла Латынина заметила, мол, знаю, что принесу статью Бондаренко, он опубликует, но мы его никогда печатать не будем. Вот и нёс в годы перестройки на себе уже наш патриотический груз русской резервации поэт Иван Буркин.
С другой стороны, ведь не такие уж они случайные люди в литературе, и статус газеты "День" мои авторы прекрасно понимали. Тем более мужественен был их выбор. В том числе выбор Ивана Афанасьевича Буркина. Он, не скрывая, считает себя русским национальным поэтом. Честь и хвала ему от читателей.
В годы перестройки Иван Буркин часто прилетал в Москву, купил себе квартиру недалеко от меня, так что мы часто встречались уже как московские соседи.
В феврале 2009 года Ивану Афанасьевичу Буркину исполняется 90 лет. Он прислал мне из Сан-Франциско новые стихи. Они писались в разное время и составляют цикл сонетов с различной тематикой. И всё то же лёгкое лирическое дыхание, все то же свободное вдохновение, как и 50 лет назад. Его соратники по лагерям ди-пи ещё в давние времена писали о поэзии Буркина. Борис Филиппов в "Гранях": "У живописца-стихотворца Буркина тонкие наблюдения природы, и тонкие наблюдения над своим внутренним миром"… Еще один дипист, романист А.Даров в "Новом Русском слове": "Во всём сквозит новизна… Внутренняя напряжённость стиха – в каждой строке, какой бы ни была строка – игривая или с юмором"…
Конечно, его стихи можно отличить сразу же от всех других стихов поэтов второй эмиграции: он как бегун отрывался на голову вперёд. И он совсем не похож в целом на поэтов-эмигрантов, ни тоски, ни воспоминаний детства, весь устремлён вперёд, в отчизну русского стиха. Он дерзко фантазирует, легко посмеиваясь над самим собой, творит свою реальность русского стиха, и значит, всегда пребывает как бы у себя на родине. Он и сам не отрицает, что продолжает скорее не традиции серебряного века поэтов символистов и акмеистов, а традиции русских обериутов.
Иван Буркин на сегодня, пожалуй, крупнейший поэт русского зарубежья. Поэт необычный, яркий, умело сочетающий традиции русского стиха и авангардный поиск новых форм… Придёт ли его время в России? Сможет ли 90-летний поэт при жизни дождаться всеобщего признания на родине и стать поэтическим лидером России начала третьего тысячелетия?
Владимир Бондаренко
1.
Открой мне дверь, осенний тихий вечер,
Я дальний путник, я почти без сил.
Я тишину с собой принёс – не ветер.
Луну на всякий случай пригласил.
Я двигаюсь короткими шагами,
Но длинным глазом я повсюду зрел
Зимою вьюги песни мне слагали
И вихри войн достались мне в удел.
Горят в камине тёмные поленья
И задыхаются и в дыме, и в огне.
Двойная смерть их греет мне колени
И пошевеливает жизнь во мне.
Когда золою станет всё, как прахом,
Я на подушку лягу, как на плаху.
2.
И кто умножает познания – умножает скорбь.
Книга Экклезиаста
Чем больше знаешь, тем сильнее скорбь.
Недаром головой качаешь часто.
Я в Библию смотрю, как в микроскоп,
И плаваю в словах Экклезиаста.
В великой мудрости живёт печаль.
Чем больше знаешь, тем она сильнее.
Она растёт, она наш капитал,
И нам нельзя уже расстаться с нею.
Что было и что будет – суета.
Кривая и останется кривою.
Но есть у слов большая высота.
Вот здесь уже киваешь головою.
И может статься, что наш белый свет
Задуман был как суета сует.
3.
Кончай, пластинка. Покружилась вдоволь.
Похоже, ты – ну, вылитая я.
Ты так послушна, так всегда готова
Кружиться в тёмных дебрях бытия.
Тебя, склонившись, бедная иголка
Царапает, вытаскивая боль.
Тебе давно невыносимо горько,
Печальная тебе досталась роль.
Меня царапает игла другая,
И из меня опять на белый свет,
От жажды острой жить изнемогая,
С оглядкой вышел медленно сонет.
И он кружиться будет, как пластинка,
С надеждою, задумчиво и тихо.
4.
Без объявления стучится строчка
Осенним вечером часам к восьми.
Со словом просится, конечно, точка,
И запятая просится: "Возьми".
Иная строчка, словно ожерелье.
Слова сияют, точно жемчуга.
Другую вдруг постигло ожиренье,
У толстых слов всегда растут рога...
И есть слова, что умирать готовы
Или идти легко на компромисс.
И есть такие – им нужны подковы.
Будь начеку, поэт, посторонись.
Пускай бегут себе подальше, мимо.
Поэзии нужны слова без грима.
5.
Я очень временный хозяин стен,
Благодарю и временную крышу.
Ведь я уже давно доволен тем.
Что всех рыданий ветра я не слышу.
И дождь, как будто не жалеет труд,
И стены чисты и всегда умыты.
Картины в окнах разные растут.
Какая радость: окна плодовиты.
Я процветаю в бедности святой,
Любуюсь подвигом цветущей орхидеи
И, кроме верной точки с запятой,
Я двоеточием ещё пока владею.
Другим владениям твоим, поэт,
Цены базарной не было и нет.
6.
В пространстве громко дышит моя грудь.
Сирень на столике, словно сиделка.
Во времени кратчайший путь
Охотно, честно совершает стрелка.
Надежда варится точь-в-точь, как суп,
И через час она уже готова.
Немного позже и с бесцветных губ
Слетит ругательство с цветами снова.
О времена! О губы! Да и ты,
Пространство, вскормленное мною, –
Все исказило образ красоты,
И зло творится за моей спиною.
Пока она ещё мне не видна,
Но где-то кроется моя вина.
7.
Победа сумерек. Увядший свет
Пытаются поймать слепые окна,
И первая звезда (о, сколько лет!)
На землю тихо смотрит из бинокля.
Куда-то облако опять спешит,
Намазав губы толстые закатом,
Но улица моя (вернее, уже стрит)
Цветами тёмными весьма богата.
Вдали от родины чего ещё я жду?
Душа теплом неведомым согрета.
Встречаю с радостью я первую звезду,
Чуть слабый блеск её привета.
Быть может, где-то за её спиной
Стоит душа иная, мир иной.
8.
Снимаю тень свою, как бы с креста.
За что и кем была она распята?
Иду по улице, чуть-чуть грустя.
Как хорошо грустить всегда по блату.
Одно и то же, кажется, везде.
Как далеко находится нирвана?
Одни застряли глубоко в беде,
Другие в роскоши бесцельно вянут.
Так было, скажут мне, вчера,
Так будет, пояснят мне, завтра.
Живи в рассрочку, слёзы вытирай.
Какой посев – такой и будет жатва.
Никто не думает, как тень сберечь,
Когда над головой повиснет меч.
9.
Мучительны бывают вечера,
Когда из памяти, уже довольно зыбкой,
Всплывает заблуждений мишура,
Когда блестят отчаянно ошибки.
Мерцанье молний тех далёких встреч
И неизбежный зов и звон бокалов,
Сияние случайных голых плеч
В разгаре пьяных и весёлых балов.
Но от себя бежать уже нельзя.
Ты заперт в прошлом, как в звериной клетке.
Идешь вперёд, а вот живёшь назад,
Глотая настоящего таблетки.
И в прошлом, и теперь кружись,
Тебе дана как бы двойная жизнь.
10.
Октябрь в окне. Мой клён совсем разделся.
Он – вот пример! – всегда навеселе.
Из пальцев образуя быстро дельту,
Рука течёт свободно на столе.
В наш разговор влетает ветер темы,
Интересующей не только нас.
Вот ловят всякий вздор теперь антенны,
Оставив в сердце горький резонанс.
Жестокий мир в упор глядит с экрана,
Заплаканные лица смотрят из газет,
И это всё, как говорят, по плану.
Какому плану? Кто нам даст ответ?
Тот вещий и испытанный оракул?
Да он бы не ответ дал, а заплакал.
11.
Памяти В.Маяковского
О как он был в поэзию влюблён
Красавец этот в жёлтой яркой кофте!
Из гущи всех тускнеющих имён
Одно давно сверкает: Маяковский.
Не встретишь у него слов холостых.
По голове, как кошек, слов не гладил.
Он их ковал, он добывал свой стих,
Как добывают драгоценный радий.
Он шлифовал язык, как ювелир,
Он не писал – он в сущности чеканил.
Его стихи объездили весь мир,
Блестя везде, как драгоценный камень.
И вдруг случилось... Не хватило сил?
Своей рукой он песню задушил.
12.
О, фонари, и вам не надоело
Насиловать себя в полночный час?
И лишь поэт, ушедший в своё дело,
Готов завидовать, жалея вас.
Поэт и ночь. Вот тоже тема. Дабы
Она с другими принесла плоды,
Уйди в слова, поэт, в их ночь, в их табор,
Умри легко у Музы на груди.
Умри в словах.. И в этом есть отрада,
Уйди в слова, не чувствуя вины,
Иди в слова безжалостно батрачить.
Из глубины пиши, из глубины.
Ведь наскоро приклеенная слава
Есть самая тяжёлая отрава.
(обратно)Геннадий ИВАНОВ "...И ПОТОМУ СВЕТЛА"
О МИРЕ
Я устал от тоски. Я не сплю.
Я стою у окна. Замерзаю.
Боже мой! Как я мир не люблю,
Как устройство его презираю!
Михаил Анищенко
Этого мира осталось, быть может, на годы,
Не на столетья осталось лесов и полей,
Птиц распевающих, в сердце поэта свободы…
Не проклинай этот мир, а его пожалей.
Что, Михаил, мы о мире воистину знаем?
Мы в этом мире пичужки, песок и трава…
Мы о нём знаем немного, хоть много страдаем.
Выстрадай душу, а всё остальное – слова.
ВОЗРАЖЕНИЕ
В моей стране так мало света,
Царят в ней деньги и чины.
В моей стране мечта Поэта –
Наесться вдоволь ветчины.
Николай Зиновьев
Как много света – выйди в поле!
Какая дивная страна!
Не унижай поэтов, Коля.
Зачем поэту ветчина?
Ему Катулл, ему Конфуций,
Ему божественные сны.
Поэту мало конституций!..
Ну что ему до ветчины.
Поэты ходят по фуршетам
И по банкетам, но всегда
На них не по себе поэтам –
Еда она и есть еда.
ВОСХИЩЕНИЕ
Я прощаю вас, люди!..
Простите меня.
Если путь у вас труден,
Отдам вам коня.
Магомед Ахмедов
Прослышал я, что друг мой Магомед
Людей спасает от забот и бед.
И если у кого-то путь тяжёл,
Отдаст коня, чтобы пешком не шёл.
Какой ты добрый, щедрый, Магомед!
Я б так не смог. Коня к тому же нет.
А у тебя ведь тоже нет коня…
Но ты щедрее всё-таки меня.
ВЕЧЕРНЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ О КАВКАЗЕ
На столе моём яблоки из аула Цада.
Над столом зажигается (над аулом) звезда…
Вспоминаю селение, и людей, и музей.
Вспоминаю как доброе – как родных и друзей.
Всё врагам нашим хочется разорвать, поломать.
Но Россия родимая не кукушка, а мать.
Мать полям зеленеющим, и горам, и лесам…
Это понял, почувствовал и увидел я сам.
И в ауле гамзатовском, и в якутской дали
О России единственной нам кричат журавли.
О России единственной мы и сами поём,
Хоть у каждого – родина и отеческий дом.
Да, Россия родимая не кукушка, а мать,
И она обязательно будет всех защищать.
…На столе моём яблоки из аула Цада.
Будем вместе и братьями – навсегда, навсегда!
АМО САГИЯН
"Первая строка приходит от Бога.
А дальше твоя задача –
Написать другие на этом уровне", –
Так говорил мне Амо Сагиян,
Прекрасный, мудрый армянский поэт,
Когда я был у него в гостях
Много-много лет назад
В солнечном весеннем Ереване.
Мы угощались чем-то деревенским
И говорили о поэзии и поэтах,
О жизни и вечности…
Странное дело:
Я до этого всего-то прочитал
5-6 стихотворений Амо Сагияна,
Но в разговоре с ним у меня было ощущение,
Что я говорю с подлинным классиком,
Которого мы все изучали в школе,
И мне представилась возможность
Увидеть этого классика,
Поговорить с ним.
Потом я искал
Каждое новое стихотворение Сагияна;
Долго, многие годы
Мне было радостно думать,
Что на белом свете живёт и творит
Такой поэт! Что его стихи
Так естественно утверждают в мире
Поэзию, красоту, мудрость и саму жизнь…
Я думаю, что своим талантом
Он многим помог…
А недавно я получил подтверждение этому.
Во время тяжёлой болезни
Кайсын Кулиев писал:
"Пока Амо Сагиян смотрит,
Как ложатся семена во влажную землю,
Пока он видит,
Как пронзительна синева неба над Арменией…
Пока он пытается понять язык камня,
Дерева, тропы, дождя, снега,
Пока он сидит под абрикосом,
Разгадывая чудо цветения, и слагает стихи –
Мне легче жить в этом трудном мире
Наперекор обступающим меня тяготам и болезням.
И то, что Амо Сагиян живёт на свете –
Одно это даёт мне силы жить".
Истинные поэты помогают людям.
НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВУ
Эти стихи зацепились за русскую почву.
Эти стихи прорастут, будут жить и цвести…
Дмитриев Коля, скажу тебе нынче заочно
То, что при жизни тебе не сказал я, прости.
Строчки твои зацепились за русскую почву.
Книги твои говорят мне о жизни родной…
В книгах твоих открываются добрые почки,
Птицы поют, деревенскою веет весной.
Мы из деревни с тобой и поэтому, Коля,
Зримей, понятней нам русской разрухи тоска.
Как хорошо ты рифмуешься – Коля и поля!
Каждая строчка твоя мне понятна, близка.
Вот у тебя уже вышла посмертная книга.
Я прочитал её – в ней всё острей и больней…
В общем, стихи твои, скажем так, высшая лига,
Хоть и не любят пускать в неё русских парней.
Ты поработал, талант свой ты выразил полно.
Как ты свободно и плакал и пел на земле!
Катятся, катятся, катятся вечности волны;
Как маяки, остаются поэты во мгле.
ИЗ ЧАРЕНЦА
Я целовал армянку молодую,
Смотрел в её открытые глаза.
В них жизнь моя неслась напропалую,
Кончалась в них глухая полоса!
Я был в таком отчаянье глубоком.
Казалось, вся тоска мне одному…
И потому податливый твой локон
Я целовал, как будто жизнь саму!
Ты поняла, армянка молодая,
Мою тоску, мою любовь в душе,
Которая, никак не излитая,
Томилась, мучалась, и плакала уже…
Люблю тебя! Я всю тебя целую
И не хочу стихи теперь читать.
Нет, целовать, всю ночь, напропалую!
И завтра – на прощанье – целовать!
БОРИСУ ИВАНОВУ НА ОТКРЫТИЕ ЕГО ВЫСТАВКИ
На родине тихо склоняются ивы,
В кувшинках струится вода.
Не хлебом, не хлебом единым мы живы,
А светом в душе навсегда.
Ты это почувствовал и потянулся,
Как тянется к свету росток.
Ты это почувствовал и улыбнулся,
Хоть мир и суров, и жесток.
В земных удовольствиях неприхотливы…
Нам светит родная звезда.
Не хлебом, не хлебом единым мы живы,
А светом в душе навсегда.
***
Мне говорит Фарух Шуша,
Поэт египетский большой,
Что главное для нас душа,
То, что в душе и за душой.
А за душой у нас одно –
Любовь к прекрасному родному.
На древний Нил его окно,
Моё – на поле и солому…
Теорий будет миллион
И всяких споров, конференций…
А победит – тот, кто влюблён
В дух красоты, не в скуку лекций.
Мне говорит Фарух Шуша,
И я во всём согласен с ним.
И у него поёт душа,
И у меня поёт душа –
И мы с ним хорошо сидим.
ЧИТАЯ "МОЛИТВЫ И ПЕСНИ"
Стихи Магомеда Ахмедова
Читал я сегодня весь день.
Мне стало казаться, что горы
Меня обступают кругом.
Что я не в Москве, а в Гунибе –
Хожу среди мудрых аварцев.
А Семичев мне переводит
Гортанную горскую речь.
Я так, Магомед, погрузился
В твои размышленья, в молитвы,
В твои письмена погрузился
И в песни земные твои,
Что начал завидовать даже
Любви твоей искренней, чистой
К родному аварскому краю
И к матери, и к небесам…
"Где просто, там ангелов до ста", –
Святые отцы говорили.
Но как-то мы всё усложнили –
И нет у нас чистой любви.
А вот у тебя и у горцев
Она сохранилась, я вижу.
Поэтому свежестью дышат
И горы твои, и стихи.
В стихах твоих капли истока.
И хлеб первородства, и сила,
Которая Богом даётся
Несуетным людям земли.
ВОСПОМИНАНИЕ
Я тебя целовал случайную…
А потом оказалось вдруг,
Что готов завыть от отчаянья,
Чтоб твоих лишь коснуться рук.
Чтобы только тебя увидеть,
Чтоб разлука быстрей прошла.
Всякий может тебя обидеть,
В этом мире так много зла.
Мир пронизан тоской и визгами.
Ты сейчас в огромной дали.
Я молюсь, берегу тебя издали,
Богу кланяюсь до земли.
**
Любовь, любовь…Улыбкою сверкнула
И в честь свою зажгла она звезду…
Зато потом корёжила и гнула
И заставляла жить порой в аду.
Теперь бы предложили мне, не скрою,
На выбор: вот любовь, а вот покой –
Я, безусловно, выбрал бы второе…
И мучился бы только над строкой.
ВНУЧКЕ
Спой песню мне, скажи мне слово,
Анастасия Иванова!
Но слишком занята она.
Куда-то вдаль устремлена.
Ей некогда сказать словечко.
И я смиряюсь, как овечка.
***
А осень ничего не обещает,
Она честна – и потому светла.
И в ней весна с мечтами утопает,
И в ней зимы слышны колокола.
Деревья по-осеннему качает
И устилает все пути листвой…
А осень ничего не обещает,
И на душе поэтому покой.
(обратно)Сергей ОТСТАВНОВ "КРАСЕН ДЕНЬ СИЯНЬЕМ СОЛНЦА..."
ИЮНЬ
Солнца жар не умолкает,
Благодать на руслах рек.
Но на землю выпадает
Нежно-белый летний снег.
Рой очнулся комариный,
Издавая вредный звук.
Лёг на улице периной
Тополиный лёгкий пух.
ХРАМ
Ты свыше крещён благодатью,
Клочок Богом данной земли,
Где мы под небесною статью
Уют и покой обрели.
Звонницы, колонны, проёмы,
В честь Бога торжественный туш.
Ты вырос, но прежде в объёме
Людских, потянувшихся душ.
"БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ..."
С любовью вспомним о добре!
Чтоб с нами в жизни не случилось,
Заменим гнев на Божью милость,
И поперхнётся "бес в ребре"!
Давайте думать о добре!
Когда в душе спасенья крик,
А сердце в скуку окунётся,
Добро добром назад вернётся
И, подарив блаженный миг,
Любовью к жизни обернётся!
ТРОИЦА
Храмы златоглавые,
Кудри от берёз,
Пол украсил травами
Первый сенокос.
Ладан беспокоится
Дымом без огня.
Духом Святым, Троица,
Одари меня!
ДЕРЕВЕНЬКА
Ой, как хочется забыться –
Лишний сор из головы.
Добрым утром заблудиться
Верст за триста от Москвы.
Пробуждаясь помаленьку
Под мелодию сверчка,
Поклониться деревеньке
В стороне от большака.
Тот же смех и те же слёзы,
То же небо и ручьи,
Те же русские берёзы,
И всё те же соловьи.
Ты любима, ты воспета,
Ты нежна, ты хороша,
Здесь Великого Поэта
Продолжается Душа!
Деревенские прикрасы,
Запах яблочный в саду,
Жаль, что нету больше Спаса
На крапиву-лебеду.
Покосилась загородка,
Паутина-простыня,
Пьяный воздух вместо водки,
Чёрный ворон за коня.
Крыша ветхая провисла,
Зарешечено окно,
Этой бабы с коромыслом
Нет в помине, нет давно.
Уж на курочку не вскочит
Разлохмаченный петух,
Гуси хором не гогочут.
Жизни свет совсем потух.
Небо тучкой задрожало,
День, прохлада, гладь да тишь,
По ботинку пробежала
Веселящаяся мышь.
Потихоньку, помаленьку
Зашумели дерева –
Слава Богу, деревенька,
Ты по-прежнему жива!
СТИХИЯ
Небесная влага
Сквозь молнии скрежет
Листву, как бумагу,
Потоками режет.
Разбившись о землю,
Плодится ручьями.
Всевышнему внемля,
Играется с нами.
Без нот, но без фальши
Вселенские струи
Проносятся дальше,
Не слыша, не чуя…
В стихах, что в природе,
Законы такие:
То штиль по погоде,
То грянет стихия!
Вершат с головою,
Что с телом заноза,
Но ринутся гноем
На свет без прогноза!
Обильным потоком
Сквозь мысленный скрежет
Нас новые строки
По-старому режут!
МОСКВА
Дома от первой свежести,
Обитель красоты.
Под ярким солнцем нежатся
Рекламные щиты.
Веселье и обилие,
Благопристойный вид.
Из рога изобилия
Несказанно пьянит.
Жулебино и Бутово
Прорвались за кольцо.
Под внешностью раздутою
Утрачено лицо.
Посверкивают краскою
Шикарные авто.
Я очарован сказкою,
Но что-то брат не то.
Жизнь щедрая, столичная,
Потоки суеты –
Притворное величие
Духовной нищеты!
ВИНО
В мечтах и снах, давным-давно,
среди большого звездопада
я пил прекрасное вино
из молодого винограда.
Хвалебных слов не сосчитать,
вино струилось до рассвета,
я наслаждался словно тать
от вкуса, запаха и цвета.
Бокалов нежил чудный звон.
Сливаясь с похотью, всецело
я был навеки покорён
прелестным словом – Изабелла.
Судьба была в тот миг полна,
чего ещё для счастья надо?
Как для хорошего вина, –
любви, тепла и винограда.
Тот светлый миг давно прошёл,
ища с надеждою возврата.
Беседка, небо, круглый стол
в лучах приморского заката.
Всё та же добрая луна,
со взглядом чистым и бодрящим,
бутылка здешнего вина
и жажда встречи с настоящим.
Поднял, пригубил, недопил,
без восхищений, без дебатов,
в моём бокале стойким был
привычный привкус суррогата.
Уж солнце снова в вышине,
лучей летают те же стрелы,
как жаль, что в нынешнем вине
нет ни Любви, не Изабеллы...
РЕКИ
Под нескончаемые речи
спешат, бурлят, плывут навстречу,
стекая вниз с окрестных гор,
сбежав из плена на простор
две вечно юные девицы,
чтоб навсегда соединиться,
сливая шума мощный слог
в один бушующий поток.
Всё слишком правильно и праздно,
но жизнь всегда многообразна.
Лишь дождь раскрасит их в цвета,
проснётся истина не та.
Бежит, течение пришпоря,
чтоб влиться в ласковое море.
Не день, не два, не год, не век,
но не река – слиянье рек.
Дождём покрашенных, приметных,
душой и телом разноцветных.
Стекают вплавь, к одной судьбе.
Но только сами по себе.
ИМЯ РОССИЯ
Зачем, извлекая из времени,
Эпох ворошить достояние,
У прошлого признанных гениев
Искать для себя оправдание?
Укрывшись общественным мнением
Событий вершить эксгумацию,
Разбрасывать тени сомнения
В сознание нынешней нации?
Что станет с державной теорией,
Когда, разрывая потугами,
Распашут России историю
Двенадцатью разными плугами?
История – дева ранимая,
В ней память живёт сокровенная.
Негоже равнять несравнимое,
Не нужно равнять несравненное!
ВЬЮГА
Серебристые сугробы
Налились, расправив плечи.
Рассыпает снежной сдобой
Вьюга бархатные речи.
Стелет, белит, кружит, вьётся
Замороженная нега.
Красен день сияньем солнца,
А зима обильем снега!
(обратно)Виктор ПЕТРОВ "И БЬЁТ МЕНЯ ВЕТЕР..."
ДАЛЬ
Свои пятилетние планы
уже осмеяла страна –
пьяны тем столицы и пьяны,
одна только даль не пьяна.
Кочует любовь молодая,
коль старые стены тесны,
и стелет простынку Валдая
с подветренной злой стороны.
Приятель к жеманному югу
ударную выправит даль,
сманив наудачу подругу
рассказом про сладкий миндаль.
Разлука срывает стоп-краны,
бросается на полотно,
и нет ослепительней раны,
чем рваного солнца пятно.
Трефовые ставят кресты нам,
рязанская морось горчит,
но что за путеец настырный
стучит по железу, стучит?
Владимир, звонарь заполошный,
сзывает на праведный бой,
и жёлтая кофта, как плошка,
маячит, влечёт за собой.
Сегодня махнём до Усть-Кута.
а завтра – туда – в никуда…
Ты певчее горло укутай,
сибирские жгут холода!
Клубы паровозного пара
плывут из отъявленной тьмы.
С тобою, как рельсы, на пару
в снегах затеряемся мы,
где жёлтая кофта, как роба,
дорогу торит наугад,
и сталью становится Коба,
и враг не возьмёт Сталинград!
АНГАРСКАЯ ДЕРЕВНЯ
В.Распутину
Баню растопили по-белому,
жизнь крутнулась наоборот…
Баба сердобольная беглому
ставила еду у ворот.
Ох, и веник, розги берёзовые –
разве нужен мне рай иной?
Споры с мужиками серьёзные
после копанки ледяной.
Пить не пьём, а чинно чаёвничаем,
может, рядышком дух святой.
Скажут: "Мы живём ничего ещё,
любим париться, золотой.
Что ж теперь народ искалечился,
злющий, точно осиный рой?"
…Подорожниковой жалельщицей
стань, деревня за Ангарой!
Если что-нибудь и осталось
у людей ещё от людей,
это деревенская жалость –
устыдись её, лиходей.
ТОЛПА
Себя ищу в толпе неистовой,
любить и жить почти не хочется:
глотаю ночью слёзы истины –
толпа взыскует одиночества.
Казалось мне, что мы по горло
укрыты суетною заметью,
а нас опустошило горе,
и с пулей воля пала замертво.
Трясина чёрная втянула –
ужель не выбраться наружу?
Страшился площадного гула,
но граждан вновь зовут к оружью!
Мы красное вино лакаем,
не становясь в толпе толпою,
а ночь стучится кулаками –
окно у воронка слепое…
Спасёмся как? Иду в молчание.
Я слова не желаю ложного,
и слёзы светятся ночами,
томится мысль моя острожная.
ХАДЖ
Я хаджж совершал
в дагестанских горах,
где Пушкина лик
обращён к небесам.
Прости богохульство такое, Аллах!
Да разве поэтом ты не был и сам?
Медина и Мекка – святые места.
А здесь журавлиная музыка сфер
во мне ль
не опять воскрешает Христа?..
Была бы лишь вера – любая из вер!
И я мусульманином стану, клянусь,
пленённый очами горянки одной,
пускай только слово начальное –
"Русь" –
курлыканье птиц
разнесёт надо мной.
Упала, разбилась звезда на плато,
коснулся бумаги
таинственный свет…
Прости же поэта, Всевышний, за то,
что прочей бумаги не знает поэт.
Я грезил вершиной
гунибской скалы,
но твой муэдзин разбудил на заре,
и еду на север от Махачкалы –
стихами обёрнут лаваш в сумаре.
Я хлеб разделю…
А стихи? Что стихи!
Слагает их Каспий
талантливей всех:
омоет волна, и простятся грехи,
но всё же один не отмолится грех.
Кому рассказать –
не поверит никто,
а верят строке, где и правды-то нет.
Темнеет в окне моя ночь,
как плато –
так рви же бумагу на клочья, поэт!
Железная сцепка летит напролом,
бросаюсь к проёму и ветру кричу:
нет лучше стихов,
чем намаз и псалом!
И бьёт меня ветер,
как друг, по плечу.
ТАНА
Сверкнули кареокие две тайны.
Какой там Север?
Ты из южной Таны.
Мост подвесной
качается над Летой,
и я перехожу в гортанный город,
где благоденствует врастяжку лето
и помыкает мной любовный голод.
Своё толкует в ступке
пестик медный,
возносится над туркой
дух победный
заморского привоза
горьких зёрен;
я в чашке
след кофейный не оставлю –
зачем гадать? Я без того упорен
и доблестно взовью
казачью саблю,
когда на откровенный торг нагую
выводит, цокая, базар… Смогу я
отбить у нехристей ту полонянку
и ускакать за стены крепостные…
…Плевать на сигареты и гулянку:
есть явь – азовские увижу сны я!
Там обожаешь ты на шкурах волчьих
мерцать, сиамствовать со мной воочию;
твоё дыхание, как милость Божью,
почувствую на берегу разлуки.
Пусть правда ради правды станет ложью,
пускай сплетутся, не касаясь, руки.
Исплачется река у низких окон.
Замечу напоследок жгучий локон
и тем утешусь, вроде запятую
поставила не ты ли между нами –
свяжи, чтоб разделить…
Любить впустую, но быть потом, как Тана, именами!
***
Острые звёзды Кремля
ранили русского зверя,
и задрожала земля,
веря Христу и не веря.
Лучше страдать на кресте,
а не поддаться расколу:
тянется крест к высоте,
прочее клонится долу!
Я загадаю орла –
выпадет решка, решётка…
Вохра заломит крыла,
сплюнет: "Желаешь ещё так?"
Родиной звать не могу
лобное место для неба:
кровь запеклась на снегу
после Бориса и Глеба.
Это чужому закат
вроде бы красные розы –
мат вопиет, перемат
с ласками лагерной розги.
Эх, без креста – да в Сибирь!
Там ли острожную муку
вылечит чёрный чифирь
тягой к сердец перестуку?
КИТЕЖ
Я ветром по свету гоним,
и слышен поруганный гимн,
как звон колокольный на дне –
град Китеж, мой Китеж во мне!
Сказал победитель: "Восславь…"
Я славил не сон, славил явь,
и звёздному верил огню,
и мир весь держал за родню.
Отец-победитель, звезда,
казалось, отец – навсегда…
А в небе не стало его,
и нет на земле ничего.
Я слёзы стираю с лица,
зову себя сыном конца.
Мне жить остаётся в бреду,
победу сменив на беду.
Не страшно, что нежить… Страшна
та музыка скорби со дна.
Я встану при гимне – мечту
минутой молчанья почту.
Где Китеж?.. Таит белый свет
во мне ли суровый ответ?
ПОЕЗД
Поезд шёл в ночную пору
расписанию вдогон,
и вольготно было вору
спящий обирать вагон.
Вор в законе издалёка,
не улыбка, а оскал,
чёрный глаз, гортанный клёкот –
души русские искал.
И, куражась, для почина
сунул нож проводнику,
пусть заткнётся дурачина,
служка жёлтому флажку.
Заградил дорогу тельник –
только что он мог спьяна? –
и скользил по лицам тенью
тот залётный сатана.
Облапошил молодуху,
не перечил инвалид…
К моему приникнул уху:
– Что, мужик, душа болит?
А душа и впрямь болела,
так болела – невтерпёж,
впору вырваться из тела
да и броситься под нож.
Душу клятую и битую
как таскать не надоест? –
и ворюга хвать в открытую
мой нательный медный крест.
Непробудный сон России
ехал с нами, нами был,
а вокруг леса, трясины,
мрак и морок, глум, распыл…
Поезд темень рвал, стеная,
и являлась неспроста
родина как неродная,
хоть и русские места.
Ирод сгинул. Слава богу,
не заметил пацана,
что не вчуже знал дорогу
и очнулся ото сна.
Будь ты проклят, чёртов потрох,
ведь сошли бы под откос,
но спасителем стал отрок
с нимбом золотых волос.
Он глядел и ясным взглядом
успокаивал вагон,
что проехал рядом с адом,
оборвав невнятный сон.
Поезд шёл, летел по свету,
как всему и всем ответ:
ничего святого нету –
ничего святее нет…
(обратно)Александр БОБРОВ ЗАМЕТКИ И ПРИЗНАНИЯ
Нашему давнему автору, прекрасному поэту и публицисту, русскому патриоту Александру Боброву, азартному и яростному человеку, всегда с гитарой в руках, исполнилось 65 лет. Поэт и публицист Александр Бобров может повторить о себе слова Аполлона Григорьева: "Вскормило, взлелеяло меня Замоскворечье". Здесь прошло его детство и юность, здесь он учился в школе и техникуме, отсюда ушёл самым молодым студентом Литинститута в армию.
После службы в армии стал работать на Центральной детской экскурсионно-туристской станции, проводил много походов по Подмосковью, Валдаю, Русскому Северу. После окончания Литинститута вышел в 1974 году на работу в газету "Литературная Россия" и продолжал писать о родных краях, вёл рубрику "На просторах России", заведовал отделом поэзии...
Выпустив несколько книг стихов, песен, литературных пародий, отправился в путь по Валдайским волокам и Карелии, написал первую книгу путевой прозы "Белая дорога". После многолетней работы в писательской газете был принят на кафедру культуры Академии общественных наук. В 1989 году защитил диссертацию о современной лирике и стал работать в издательство "Советский писатель. В 1995 году перешёл на телевидение – ТРК "Московия". Вёл прямой эфир, делал авторские программы "Русские струны" и "Подмосковные встречи", снимал сюжеты для "Русского Дома", потом работал в телекомпании "Мир" и на радио "Резонанс". Продолжал писать и выпускать книги.
В настоящее время – автор и ведущий программы "Листая летопись времён" на ТРК "Подмосковье", обозреватель газеты "Советская Россия". Член редколлегии журнала "Русский Дом". Кандидат филологических наук, член правления Союза писателей России, лауреат премии имени Дмитрия Кедрина "Зодчий" и премии имени Алексея Фатьянова "Соловьи, соловьи…"
Поздравляем Александра Боброва с юбилеем!
Желаем дальнейших творческих успехов, новых стихов и песен.
И – здоровья.
Редакция газеты "День литературы"
"Поэзия в конце концов прекрасная вещь – надо с этим согласиться..."
Фёдор Тютчев
В СООТНЕСЕНИИ С ЛЮБИМЫМ
Хочу высказать часть сокровенных мыслей и воспоминаний о необманных жизненных вехах, о памятных дорогах и дорогих людях, наконец, сказать несколько выстраданных слов о своём понимании чести и сути русской поэзии. Зачем? – ведь ещё Пушкин предупреждал: не настаивай на излюбленной идее. Но он же с гениальной проницательностью заметил в дружественном письме: "...Или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему". Русская лирика XX века от Бунина до Рубцова подтвердила правоту этих слов, хотя очарование воспоминаний часто клеймилось, изгонялось из нашей жизни, искажалось в поэзии. Но, слава богу, не вся она изменила главной черте славянской натуры, стихии российского мировоззрения. "Русское море, – писал Василий Розанов, – гладко, как стекло. Всё – "отражения" и "эха". Это "воспоминания"…"
Вспоминаю, как на подмосковной станции мы купили с одной молодой писательницей том критических статей, писем и стихов замоскворецкого моего земляка Аполлона Григорьева. Долго читали его у станции Радищево, в лесу, с эхом и чистой рекой, и вдруг спутница горячо сказала: "Какие литературные баталии они вели, как спорили о мировых проблемах, о больных российских вопросах, а стихи-то все, ну, все – о любви..." А ведь правда! Наверное, вся лирика, если говорить по существу, – о любви. Литературовед М.Бахтин вообще считал её главной эстетической составляющей: "Безлюбость, равнодушие никогда не разовьют достаточно силы, чтобы напряжённо замедлить над предметом... Только любовь может быть эстетически продуктивной, только в соотнесении с любимым возможна полнота своеобразия".
На рубеже тысячелетий страшная безлюбость и невиданное на моём веку равнодушие пронизали нашу жизнь, а значит, поэзию, лишили творящую и воспринимающую личность полноты своеобразия. С чем любимым возможно соотнести всё воспринимаемое? Что сохранило в стране свою первозданную и неодолимую притягательность? "Малые родины" разорены и обезлюдели, большие города утратили свой исторический и национальный облик, природа осквернена, возлюбленные заменены сексуальными партнёрами. Любовь к Отечеству, любование славными страницами прошлого и вовсе шельмуются как ретроградство и шовинизм... На что душе опереться? Где искать выход? Пусть каждый попытается найти ответ на этот главный вопрос самостоятельно, в соотнесении с любимым. Лично я попытался сделать это в стихах и в лирических заметках.
"Слово звучит лишь в отзывчивой среде", – говорил Пётр Чаадаев. Остаётся надеяться на отзывчивую читательскую душу.
ТВОРЧЕСКОЕ КРЕДО
С юношеских лет, со времён Литературного института, где был я самым молодым студентом, мне всегда больше всего нравилось, как читают стихи поэты. Конечно, настоящие поэты. О, скольких я слышал! Не только артистичного Евтушенко, который просто ставил декламацию с режиссёром и собирал полные концертные, академические залы. Но мне довелось слышать и ровное, по-крестьянски основательное чтение усталого Твардовского, и ярмарочный речитатив Бокова, и запрокидывающийся вместе с головой заговор Ахмадулиной, и примитивный, но такой выразительный напев Рубцова под гитару. Причем это чтение посчастливилось слушать не только с эстрады, но и в ЦДЛ, в застолье, в поездках, на дружеских посиделках. Актер без публики читает по-другому, поэт – всегда одинаково блестяще – так, как диктуют собственные стихи. Или обстоятельства. Известно, что Тряпкин и Межиров – заикались (кстати, Александр Петрович и сегодня, дай Бог здоровья, по-моему, заикается в США), но они блистательно читали свои стихи – интонация, сосредоточенность и какой-то внутренний напев спасали от заикания.
Вот, упомянул волшебное слово "интонация" – и всё встало на места, и прояснилась суть этой рубрики. Каждый русский поэт (я хорошо владею лишь одним языком и потому знаю лишь одну поэзию) обладает неповторимой интонацией – это его дыхание, роль и глубинная суть. Мне рассказывал литовский актёр Лаймонис Нарейка, что волшебной интонацией обладала Соломея Нерис, и во время встреч на Весне поэзии читал самозабвенно её стихи про одуванчик. Да, это завораживало: "Пенья, пенья…" Но меня поражало всегда обилие холодноватых, пусть и метафоричных верлибров в литовской поэзии, вышедшей, казалось бы, из дайны, из духовных стихов, из поэзии от землицы, к которой, как мне рассказывали, в литовском языке есть десятки выразительных синонимов. Но это – особая тема.
Итак, неповторимый голос поэта, его авторская лирическая интонация – для меня первый признак поэзии в унифицированном, пластмассовом мире, где царят интертермины, рекламные слоганы, гламурные обороты. Ну, и конечно, есть ещё два важнейших признака, которые надо объяснить.
В июне, сразу за праздником рождения Пушкина, следует день рождения выдающегося русского мыслителя Петра Чаадаева. Он, родившийся на пять лет и один день раньше Пушкина, всегда как-то уходит в тень своего великого младшего друга. Так вот, философ многое предсказал и чеканно высказал, рассуждая о сути, а значит, о литературе России. "Есть три непобедимые вещи: гений, доблесть, рождение", – от этой загадочной фразы Петра Чаадаева веет убеждённостью и внутренней духовной силой. Гении во все времена были редки, но ведь нынешним поэтам явно не хватает "доблести и рождения". Ну, доблесть в такое прагматическое и продажное время – понятно, а вот под рождением надо понимать не только происхождение (хотя дворянская гордость и Пушкина, и Чаадаева, которого поэт боготворил как храброго офицера войны 1812 года, помогала им гордо держать голову, не пресмыкаться в творчестве пред сильными мира сего), но и осознание своих духовных корней, отеческих заветов, преданий старины глубокой. И, конечно, ощущение языка как родной колыбели, святой стихии, данной от рождения, что, например, напрочь отсутствует у постмодернистов и пофигистов, заполонивших телеэкраны, сцены поэтических фестивалей и составы писательских делегаций на книжных ярмарках и форумах. Они – безродны, а потому – победимы, если вспомнить приговор Чаадаева, пусть пока и держатся на плаву.
Ну а как же эстетика, утончённая ткань стиха, метафора, которой ушиблена западная поэтика? Русский философ Иван Ильин утверждал: "Суждение потому и называется эстетическим, что его определяющим основанием служит не понятие, а внутреннее ощущение гармонии в игре душевных сил, поскольку она может только ощущаться (подчеркнуто мной. – А.Б)".
Что происходит, когда уходит, утекает это ощущение гармонии, вырождается в кривляние игра душевных сил? Тогда и общество, и отдельный поэт не ощущают прекрасного, теряют почву под ногами, живут эрзац-заменителями, телевизионно-попсовой виртуальностью. Каждый может надеть на себя любую гламурную маску. Например, Андрей Вознесенский написал к недавнему 75-летию поэму "Серп и топор", как ему казалось, наверное, – дерзкую поэму, в которой выделил красным шрифтом такие строки:
Берусь
поутру
Звать
Русь
к топору!
Я искренне расхохотался. Более нелепого и напыщенного заявления – давно не читал. Зачем нужны такие позы?
Итак, обобщу, что более всего ценю я в современной поэзии, в театре одного поэта? – свободное лирическое дыхание и неповторимую авторскую интонацию; доблесть и рождение, говоря словами Чаадаева; и внутреннее ощущение игры душевных сил – гармонии.
ВЕРИТ ЛИ МОСКВА СТИХАМ?
Всё в Москве пропитано стихами,
Рифмами проколото насквозь.
Пусть безмолвие царит над нами,
Пусть мы с рифмой поселимся врозь…
Анна Ахматова, 1963г.
Стою у родного храма Богоматери Всех Скорбящих радости на Ордынке, в который так любила ходить Анна Андреевна Ахматова, и думаю: а что же изменилось в столице, стряслось такого, что она перестала быть столицей, пропитанной поэзией? Ну, конечно, писать мы стали хуже, бледнее и обтекаемее по сравнению с москвичами Пушкиным, Лермонтовым, Блоком, издавшим в Москве первую книгу, Ахматовой, так любившей Замоскворечье. Ну, ясно, издателей таких нет, как Иван Дмитриевич Сытин – зайдите в музей-квартиру на Тверской: как скромно жил, а ворочал миллионами и книг издавал больше, чем Англия, Германия и Франция вместе взятые. Шумные вечера и целые поэтические митинги советской поры – отошли в прошлое. Кажется, что никому-то поэзия не нужна. А уж поэты – тем более. Но в глубинной России и земляков чтят, и книги издают! Даже за МКАД – уже по-другому!
Например, недавно в Балашихе, во многом благодаря усилиям "Литературной России" и общим усилиям поэтического цеха была открыта мемориальная доска недавно ушедшему поэту нашего поколения Николая Дмитриеву. И уж в столице точно не удалось бы то, что произошло в славном Ростове Великом Ярославской области. В гимназии № 1 города на озере Неро, состоялось открытие мемориальной доски в память учившегося здесь поэта Александра Гаврилова. Рано ушедшему из жизни поэту, моему однокашнику по Литературному институту, исполнилось бы в этом году 60 лет. Мы учились в одном семинаре у Льва Ошанина, и поэт – известный песенник, выделял именно нас двоих: Сашу по ярославскому землячеству, а меня по любви к песне, наверное. Недаром я и вёл вечера Ошанина в Доме Союзов, и ездил с ним по стране, и был его заместителем по Фатьяновскому комитету.
Искренне порадовался за Гаврилова, который давно, конечно, и без особого успеха из ростовчанина переделался в москвича, ушёл из перестроечной жизни прямо на столичной улице, на остановке автобуса, но земляки вот хранят память о незаурядном парне, родившемся в деревне под Ростовом и выпустившем несколько хороших стихотворных сборников. На вечере была представлена первая посмертная книга поэта "У любви не бывает разлуки", вышедшая при содействии администрации и депутатов горсовета Ростова. Принято решение проводить в Ростове Великом ежегодные Гавриловские чтения.
Читаю и думаю: Господи, что же должно стрястись, чтобы подобное случилось в Москве? Чтобы, скажем, где-нибудь в управе "Замоскворечье" или "Якиманка", на территории которых прошло моё детство, обучение и литературное становление, вдруг кто-то из чиновников вспомнил о… (как выразиться? – не земляке же), каком-то Боброве – авторе 28 книг, среди которых есть прямо сборник стихов "За Москвою-рекой" или подарочная книга "Москва-река" с главами о Кадашевской набережной и Ордынке? Не собираюсь равняться с кем-то достижениями или печься о посмертной славе, но как-то ясней прикидывается сложившаяся ситуация на свою судьбу. Тоже вот юбилей приближается, но разве мне могучая администрация Центрального округа Москвы, как администрация небогатого Ростова, издаст книгу избранного? А ведь, помню, приехал в дальний город Поронайск на Сахалине, и мне на сцене вручили грамоту от местных властей: "Благодарим Вас, поэта – певца Замоскворечья…" Так приятно было, что за тысячи вёрст от Москва-реки вчитались в мои стихи. А на её берегах?
Накануне Дня Победы пришло письмо моей замоскворецкой землячки З.В. Сиренко: "Я прошу Вас написать об одном советском поэте, который мне очень нравился в молодости, нравится и теперь, но ничего о нём не слышу и не читаю. Даже песни его перестали транслировать. Этот поэт – Виктор Гусев".
Первую книгу стихов "Поход вещей" выпускник МГУ издал в двадцать лет. Потом книги выходили одна за другой. Написал в 1935 году знаменитую пьесу в стихах "Слава", перед войной – лирическую пьесу "Весна в Москве", по которой Григорий Александров поставил фильм, а в 1941 году создал сценарий одной из самых любимых народом комедий "Свинарка и пастух". Знаменитая песня о Москве из этого фильма – "И в какой стороне я ни буду…" – стала позывными столицы. В 1944 году написал сценарий фильма – символа веры, надежды и любви – "В шесть часов вечера после войны" (режиссер двух последних фильмов – Иван Пырьев). Его стихами с доверительной интонацией разговаривала страна, песни его, начиная с мужественной "Полюшко-поле" и кончая солнечной "Звенят ручьи", пели все от мала до велика, и вот – полное замалчивание. Ушёл из жизни очень рано, в 1944 году – году моего рождения. В моей жизни Виктор Гусев оставил особый след. В восьмом классе я сыграл в школьном драмкружке одну из главных ролей из его пьесы "Слава":
А слава приходит к нам между делом,
Если дело достойно её.
В том же году я влюбился в десятиклассницу нашей замоскворецкой школы №586 Лену Гусеву – дочку поэта. Это была неравная любовь во всех смыслах. Начать с того, что Алёна – Елена Викторовна, жила в писательском доме в Лаврушенском переулке, а я в полуподвальной коммунальной квартире кооперативного домика "Советский труженик". Ну и, конечно, разница в два года в таком-то возрасте оставляла мало шансов на внимание русой девушки, но я начал писать для неё стихи.
А насчёт формального забвения-неупоминания снова скажу убеждённо как москвич: Виктору Гусеву не повезло родиться в Москве. Память о более младших современниках его – Алексее Фатьянове или Льве Ошанине, например, хранят Вязники на Клязьме и Рыбинск на Волге, они проводят праздники, учреждают премии в честь замечательных земляков, а Москве даже на поэтов-державников – наплевать. Вот Веничке Ерофееву памятник возле Курского вокзала или Булату Окуджаве на Арбате поставить – это у нас сразу, да ещё и по распоряжению президента Ельцина. Я не хочу масштабы или характеры дарований сравнивать, но вдумайтесь: Гусев написал вальс – признание любви к Москве, но памяти столицы, выходит, – не заслужил?
Ещё раз хочу оговориться: подобные раздумья и вопросы рождаются не из чувства тщеславия, а от осознания того, что утратило свою весомость общественное мнение и профессиональное суждение писательское. Да и само наше сообщество утратило единство и чистоту критериев. Мне обидно за Поэзию Московии, за те стихи, которые, по определению Ахматовой, пропитали в 60-х прошлого века всю Москву.
Москва слезам не верит, а стихам?
ПРОХУДИВШИЙСЯ ПАМЯТЬЮ
На очередном литературном вечере, посвящённом шестидесятилетию поэта Георгия Зайцева, ко мне подошёл заросший пародист Виктор Завадский, с длинной бородой, бегающим взглядом и горячими словами: "Я сейчас новую юмористическую книгу тебе подарю!" Долго сидел в углу, не подходя к банкетному столу, что-то обдумывал, старательно писал. Потом поймал в застолье, торжественно вручил новую книжку "В каждом Я блажь своя" – вот так: без знаков препинания.
На обратном пути в метро я сразу открыл книгу приятеля и коллеги, которого начал широко печатать ещё в "Литературной России", брал на многие выступления, поддерживал затем на весомом издательском посту. Всё это было отражено в огромной неразборчивой надписи, которая прямо начиналась историей взаимоотношений: "Саше Боброву, которому я признателен за своевременное сочувствие и содействие – особенно за публикацию тех 7 пародий, которые он ещё в 1973 году опубликовал в "Л.Р.", пробив брешь в лице В.Владина, чего он мне не простил". И ещё – полстраницы корявого признания. Прочитал посвящение, стал листать книгу, и почему-то сразу обратился к "Послесловию", где снова прочёл, что автор родился в Краснослободске (Мордовия), а потом начал столичную карьеру, в том числе – литературную. И тут меня на контрасте поразило расхождение между рукописным признанием в надписи и печатной версией послесловия.
Вот как Завадский описывает вхождение в литературу: "До 3-4 пародий публиковалось, кроме "Дня поэзии", в журнале "Москва" и в альманахе "Поэзия", но самое большое количество было дано в "Литературной России", где в сентябре 1973 г. была опубликована подборка из семи моих пародий на известных поэтов, причём редакция их негласно высоко оценила уже и тем, что она была подкреплена ещё и семью же дружескими шаржами Наума Лисогорского. Понятно, польстило моему самолюбию и то, что эта страница была вывешена на стенде "Лучшие материалы номера" – наряду со страницей стихов широко известной поэтессы Маргариты Агашиной. Было потом опубликовано ещё две страницы, но представленных уже поскромней".
То есть, хочется спросить, как это – "была опубликована" и что это за безликая "редакция оценила"? Сама, что ли, подборка начинающего пародиста выскочила в свет или по инициативе редактора полосы "Ревизор" В.Владина, который "так и не простил? Да нет, конечно. В мае 1973 года после окончания Литинститута я вышел волей Константина Поздняева на должность заведующего отделом поэзии, горячо включился в работу, зарекомендовал себя и с приходом Юрия Грибова настоял, чтобы и в "Ревизоре" появлялись поэтические публикации, одобренные мной. Так всплыла подборка на целую полосу русско-мордовского пародиста Завадского. И Виктор прекрасно знал, кто её подготовил, поддержал, кто опубликовал с шаржами, а потом приглашал автора на все редакционные выступления, на Дни "Литературной России" в Москве и в Чувашии. Ну, и надпись на книге о том же знании и признательности говорит. А почему же не печатный текст в послесловии, что за двойственность у наших пародистов такая?
Дальше – больше. Завадский, называя вовсе забытые фамилии недругов (а то и не один раз!), продолжает живописать свой литературный путь. "…Со второй моей книгой пародий ("Смех, да не только", изд-во "Советский писатель") произошло для меня убийственное! Отозвавшись на рекомендацию редактора отдела поэзии изд-ва "Советский писатель" Виктора Фогельсона, который "не посоветовал" мне предлагать вторую книгу вскоре после выхода первой (в 1978 г.), я принёс её лишь в 1981 г., после чего последовало "юбилейное" издание! Вышла книга ровно через 10 лет! То есть, разрыв между 1-й и 2-й книгами составил 13 лет (чёртова дюжина!) Случайно? Мои попытки что-то прояснить и всё же подтолкнуть выход книги "хотя бы" к юбилею (1985 г.) ни к чему не привели. И я (ещё раз – о моём характере!) по сути "примирился" с этим, хотя и сделал несколько попыток решить вопрос с помощью официальных писем директору издательства. "Замороженная" книга, к стыду моему, подморозила и меня – лишила сил и даже желания побороться за только справедливое решение вопроса!"
Что же изменилось за столь долгий срок? В сентябре 1989 года, после окончания аспирантуры Академии общественных наук я был утвержден секретариатом Союза писателей СССР на должность заведующего огромной редакцией поэзии издательства "Советский писатель" (потом я узнал, сколько людей было против: например, и А.Вознесенский, и Е.Сидоров прочили на эту ключевую для поэтического процесса должность – другого человека). Я вышел на работу, начал вникать, разбираться в завалах и давних долгах, увидел "замороженную" рукопись В.Завадского и элементарно поставил её в план 1991 года. Автор это прекрасно знает, горячо благодарил меня устно, но затемняет всё страдательными глаголами – "была издана". Без упоминания "виновника" и публичного слова благодарности. Да же что у нас, книги – сами издаются, вопреки мнению Фогельсона и других редакторов – вдруг вылетают в свет?
Послушайте, какой бред он пишет в "Послесловии": "Итак, "злосчастная" книга была, наконец, издана-в 1991 г. И не поздравления, а соболезнования был я готов принимать в связи с этим "юбилейным изданием". Им меня, так сказать, "поставили на место", с чем я и "примирился". Не стал никому доказывать свою, казалось бы, более чем подтверждённую (см. выше) профпригодность в качестве юмориста-сатирика. Как же я "спасался" в это и предыдущее время? Года два я зарабатывал на жизнь, организуя официальные выступления по договорам с профсоюзными организациями учебных заведений, предприятий, учреждений. Когда же профсоюзы были "обесточены", я лишился и этого заработка".
Что же с нашими литераторами происходит? Откуда эти роковые кавычки? Какие соболезнования можно принимать по поводу выпущенной мной книги тиражом в 20 000 экземпляров и с оплатой по 2 тогдашних руб. 40 коп. за строку? Ведь прошло с тех пор много безумных лет, Завадский должен через тьму годов благодарить судьбу и нас – пришедших новых руководителей издательства – за то, что мы успели перед августовскими событиями 1991 года, последующим отпуском цен и развалом всего хозяйства, включая издательское, выпустить в свет его гонорарную книжку, разошедшуюся по всем магазинам через "Союзкнигу". Дальше нагрянул разгром и мрак. Какие там профсоюзы и очереди на издание! Ничего не помнит, не ценит, не осознаёт. Так что же тогда народ в несознательности укорять, если у нас юмористы таковы?
Интересно, что новая книжка Завадского открывается пародией на покойного Евгения Храмова – "Беспамятное", которая начинается, как обычно, не очень артистично:
Боже мой, как же памятью я прохудился!
Целиком отношу эти слова к позиции моего коллеги, бывшего товарища, которого я реально поддерживал в решающие моменты литературной судьбы. Оказывается, напрасно. И реплика эта рождена не простительной личной обидой, а гражданским гневом и полным недоумением: почему наши литераторы "прохудились памятью" и не могут печатно писать правду, называя имена, события, обстоятельства? Даже в безобидной ситуации – от руки одно, а типографски, пусть малым тиражом – другое. Так какую же литературу и нравственную атмосферу мы создаём? Какой доверчивости и благодарности ждём от читателей? Не нахожу ответа над подаренной и, увы, не смешной книгой.
Снова вспоминаю Фёдора Достоевского: "Хорошо смеётся человек – хороший человек"… Уж про хорошее поведение смехачей и говорить не приходится.
ЧЕСТНЫЙ ПУТЬ
Радостную весть прислала мне из Вологды Анастасия Александровна Романова: собирают книгу воспоминаний о моём незабвенном старшем друге, собрате по лирике, полном тёзке Александре Александровиче Романове. Давно пора! Чем дольше живу я на белом свете, чем больше общаюсь с людьми, встречаюсь с творцами, тем глубже осознаю: человека такой внутренней чистоты и цельности – мне, пожалуй, больше не встречалось.
Самое поразительное, что Александр Александрович помог мне и после смерти. Телекомпанию "Московию" продали олигарху Пугачёву – другу Путина. Я возмутился, выступил в широкой печати с гневными статьями…
Ну, подумал – всё. Пора заняться литературной работой, писать не примитивно и оперативно, а от души и по-писательски, издавать книги. Но режиссёр, с кем прошли мы все перипетии борьбы в "Московии", уговорила меня выйти на МГТРК "Мир", чтобы делать с её помощью авторскую программу о культуре стран СНГ. Тогда ещё витала надежда на создание единого экономического и информационного пространства, на выход в широкий эфир и поддержание наших культурных связей. Снова горячо взялся за дело. Может быть, слишком горячо… Меня начали ставить на место. Прежде всего – обвинять в литературности, в излишней любви к поэзии, пусть и национальной. Хотя так в титрах и написано было: поэт и публицист.
На других каналах литературу стали вообще презирать и, похоже, знать – не хотели. Вот Василий Арканов делает для программы "Намедни" репортаж из США о девушках из группы поддержки команд, которые теперь в паузах матча скачут с махалками и у нас, и завершает его словами, прежде немыслимыми для сына или однофамильца писателя: "В общем, кричали женщины "ура" и в воздух чепчики бросали", как сказал… Пушкин". Сильно! Прежде и журналисты, и редакторы со школьной скамьи помнили, что это сказал Грибоедов, но теперь, ни "стильный" тогдашний ведущий Парфёнов, ни вся группа "аналитической" программы не замечали этот ляп, выказывая не просто свою необразованность, а демонстрируя общий дух, царящий на телевидении.
Я тоже хлебнул его сполна и не смог вынести двух самых главных творческо-политических претензий: мол, очень много литературы вообще и излишне много… России, будто она и не член СНГ, на котором, по правде-то говоря, всё Содружество держится и политически, и морально, и материально. Терпеть такое – невозможно, я окончательно убедился, что не приемлю современное телевидение, где царят предательство и пошлость. После прямого предательства режиссера окончательно порвал с телевидением. Но тяжело оставлять поприще, которому отдал столько сил и лет.
Приехал домой, увидел повторное извещение о бандероли, которую некогда было получить, сходил на почту и, вскрыв грубую упаковку, получил нежный привет из прошлого – из Вологды и годов, наполненных поэзией. На форзаце извлечённой книги – на первом же развороте – была воспроизведена дневниковая надпись, сделанная рукой его старшего друга, замечательного вологодского лирика Александра Романова: "Поэтическое слово – искра вечности". Александр Александрович Романов подготовил сборник к 70-летию, но чуть не дожил до юбилея – утром 5 мая, в День печати, поэт и журналист переписал начисто последнюю статью "Здравствуй, племя младое!" – о встрече с ребятами 15-ой школы Вологды, вышел по делам на улицу и… упал во дворе дома. Остановилось ранимое и отзывчивое сердце лирика.
ЮБИЛЯР ЕВТУШЕНКО
Младший друг Владимира Соколова, напечатавший о нём статью в "Комсомолке", Евгений Евтушенко два года отмечал своё 75-летие. Когда-то он придумал формулу, ставшую крылатой: "Поэт в России – больше чем поэт". Многие считают, что в первую очередь это касается самого Евгения Евтушенко: его судьбы, неослабевающего интереса к современности, к жизни, к миру, который он объездил практически вдоль и поперёк. Он и на самом деле больше, чем поэт: художник и самокат собственной жизни. Например, он собирал на стадионах десятки тысяч поклонников поэзии, причём, однажды читал свою поэму "Братская ГЭС" в Братске, в котловане строящейся электростанции. После чтения с людьми творилось что-то невообразимое. С ним в поездке был Александр Межиров. Он, вернувшись в Москву, пришёл ко мне в кабинет "Литературной России" и стал делиться: "Вы представляете, Саша, ему детей стали матери протягивать для поцелуя или благословения. Он отбился от ревущей толпы, подошёл разгорячённый ко мне и победительно спросил: "Ну, как?" – "Теперь, Женя, я окончательно убедился, что вы – не поэт".
Александр Петрович сказал это, чуть заикаясь, как-то особенно убедительно. Но, думаю, что он вложил в заключение не только уничижительный смысл, но и отзвук евтушенковской формулы: "…больше, чем поэт".
Евтушенко – фотограф, чьи выставки посмотрели тысячи посетителей, неутомимый путешественник и общественный деятель. Недавно мы с ним были на Кубе, где проводился огромный Фестиваль поэзии, в основном, латиноамериканских поэтов. Евгений Александрович прилетел из США, где он преподаёт в заштатном американском колледже никому не нужную там поэзию. Но он бодрится, представляет своё преподавание для заработка и комфортной жизни как некую миссию.
Мы встретились с ним в душный день у бассейна лучшей гостиницы "Гавана". Он сразу вызвался угостить меня махито и возбуждённо стал рассказывать: "Представляете, я попал в тот же номер, что и 40 лет назад! Это ведь бывший "Хилтон", мебель ещё американцы завозили. Так я даже нашёл надпись, что сам на столе выцарапал". Вот пойми, что правда, а что выдумка… Читал на торжественном вечере в костёле стихи на испанском, покорил зал, в общем, блистал. Но потом в парке имени Ленина, где мы с ним сфотографировались у памятника Пушкину, я взял гитару и сорвал больше оваций.
Евтушенко – режиссёр нескольких художественных фильмов и даже... Циолковский, роль которого поэт сыграл в одноимённом фильме. Проще говоря, Евгений Евтушенко – легендарный тип русской и советской литературы ХХ века. Был он и членом редколлегии знаменитого журнала "Юность", и секретарём писательского союза, и народным депутатом СССР. При победе буржуазной демократии в нём вдруг проснулась жажда власти и он захватил печать и должность в покинутом партийными функционерами Союзе писателей СССР. Много вреда причинил, способствуя вместе с Юрием Черниченко и Михаилом Шатровым расколу творческого союза.
Но быстро охладел к этому, потому что работать для других
(обратно)Александр МАЛИНОВСКИЙ ДВА РАССКАЗА
ГРУШЕНЬКА
Так хотелось, чтобы в моём саду росли груши. И вот наконецто я посадил две красавицы. Трехлетки. Крепенькие и стройные такие. Одна из них – Куйбышевская золотистая. Сорт другой я до сих пор не знаю. Её подарил приятель, которого сорт мало интересовал. Хотелось сделать подарок, он и сделал. Мы стали звать второе деревце Грушенькой.
Было это лет десять тому назад. Теперь та, которую приобрёл я, стала большим раскидистым деревом со свисающими ветвями. Она плодовита. Её удлинённых, бутылочной формы, жёлтых с небольшим румянцем плодов так много, что кажется, их больше, чем листвы. Ветви её свисают над головой, образуя зелёный навес. Под этим навесом мы поставили круглый столик и шесть стульев. Моим домашним нравится собираться здесь. На свежем воздухе да в надёжном тенёчке – что может быть лучше?
А у Грушеньки судьба сложилась по-иному. Уже через два года она была выше меня. И немудрено. Близость Волги, обилие света, благодатная почва и своевременный полив вершили своё. Обрезая ветки, я старался, чтобы она, в отличие от своей соседки, была стройной, не развесистой. Так мне захотелось. И деревце тянулось, отзываясь на такое моё желание.
Всё ждал, когда деревца зацветут. Я в то время напряжённо работал на заводе и вечерами, вырываясь на свою дачку, оттаивал в кругу своих зелёных подружек, в числе которых, кроме груши, были и яблоньки, и сливы.
Сильно начало тянуть к земле!
А вскоре случилась беда.
Однажды я обнаружил у Грушеньки, на совсем небольшом расстоянии от земли, врезавшуюся в ствол синтетическую тонкую бечёвку. Когда-то, сажая маленькое деревце, я привязал его к колышку. Колышек я потом убрал, а колечко из бечёвки осталось. Груша продолжала расти, бечёвка, окольцевав ствол, оказалась в её теле. Чуть припухшая в этом месте кора скрыла её от глаз. Петля, как острая пила, по окружности подрезала молодое тело.
Грушенька с самого начала её жизни в моём саду была обречена. И виновным в этой беде оказался я. Выдернуть бечёвку я не смог, она глубоко сидела в древесном теле. Будь петля не из синтетического материала, она бы просто сгнила. Эта же оказалась смертоносной для дерева. Чем ствол становился толще и ветвистей выше петли, тем острее была опасность того, что деревце будет перерезано и та часть его, которая выше петли, рухнет.
Я будто оказался около поражённого неизлечимой смертельной болезнью больного, готовый перенять у него боль и страдания. И не способный сделать это. Я не заметил, как стал, сидя рядом на скамейке, разговаривать с Грушенькой. Кого я утешал больше в такие минуты: себя или её? Сразу и не скажешь.
Страшное различие в диаметрах ствола деревца ниже удавки и выше неё за лето сильно усилилось. Сужение в месте перехвата становилось препятствием для роста Грушеньки. Ей не хватало соков земли. Я взял стамеску и в двух местах, углубившись в кору, перерезал бечеву, но результата это не дало.
В августе она начала желтеть и вскоре надломилась ровно по кольцевой канавке, очерченной бечевой. Всё случилось так, как я в тихом отчаянии и предполагал.
Не трогая веток, не обрубая их, я целиком отнёс её на кучу валежника в недальнем леске. Там Грушенька пролежала на виду до самого снега. Проходя мимо, я не мог спокойно смотреть на неё. Её стройное тело было видно издали. На тёмной куче валежника она странно мерцала матово-жёлтым неживым светом. Потом её занесло снегом.
Зимой я часто вспоминал Грушеньку, винил себя за досадную промашку.
А весной случилось чудо.
Из единственной почки на оставшемся невзрачном пеньке развился побег.
Я возрадовался! Появление побега было как бы моим неким оправданием и надеждой, что деревце всё же вырастет, что я не загубил хрупкую жизнь.
Не пресеклась веточка жизни…
За счёт крепких родительских корней побег развивался бурно. Я усердно следил за кроной, едва успевая делать обрезку. Даже летом обрезал ветки, настолько Грушенька торопилась в росте.
Сильно меня беспокоило место сочленения старого ствола и нового. Была некая, по моему разумению, опасность в этом разветвлении. Ветром могло расщепить его.
Всё образовалось само собой. Новый ствол так быстро рос, что на четвёртый год пенёчек пропал в крепком теле молодой груши. Оно его вобрало в себя. И в этом мне увиделся особый смысл.
В мае Грушенька зацвела.
Впереди было лето, и я задумал поменять трубу у баньки. Один из помогавших мне приятелей оступился на крыше и не удержал скользнувшую вниз металлическую лестницу. Она со всего маху обрушилась на Грушеньку.
Приятель тоже упал. Ему повезло: получил лёгкий ушиб колена и лёгкий испуг. Грушеньку тяжёлая лестница расщепила пополам. Половинки дерева повалились в разные стороны.
Когда я пришёл в себя, ничего не оставалось делать, как спилить её, чуть ниже того места, где она раздвоилась. Место спила, большой такой белый пятак, замазал, как положено, садовым варом.
Я все надеялся, что будут побеги. Лето ещё впереди! Подходил к пеньку, на метр торчавшему из земли, и всё высматривал: не появились ли? Мне так хотелось, чтобы именно Грушенька возродилась на этом месте. Другое дерево посадить? Я об этом не думал.
Но побегов так и не было.
Потом приехал мой внук. Осенью мы сделали из сосновых жёлтеньких досочек в виде домика весёлую кормушку для птиц. Поставили её на оставшийся от груши пень и прибили гвоздём. Получилось замечательно.
Прилетали в наш трактирчик подкрепиться и воробьи, и синицы, и даже прикочевавшие издалека, гонимые холодом красивые свиристели.
Радоваться бы! Внук и радовался! И не догадывался спросить: что это за пень, на котором так ладненько расположился птичий трактирчик?..
Не знал, что это груша. Он её никогда не видел. А я и на следующую весну всё надеялся, что появятся побеги. Но этого не случилось.
Теперь, став с годами суеверным, я думаю: может зря мы приспособили кормушку на Грушеньке? Не поверили ей. В её возрождение усомнились. Лишив своей поддержки и веры – лишили её жизни. Всё как у людей?!..
Или это у меня старческое?
ДАЛЬНОБОЙЩИК
Ну что, блин, рассусоливать? Любовь... любовь!.. Если она есть, то есть! А нету – ищи ветра в поле.
Я – дальнобойщик. Вернулся домой, а она мне подарочек приготовила:
– Всё, Коля, не нужны мне никакие твои денежки. Не жена я тебе больше. Ушла от тебя, с другим живу. Мне муж нужен, а не эти твои: приехалуехал. Как морячка. На фига мне твои подарки, квартира?
Сгоряча разговоры разговаривать начал, а потом думаю: "А мне на фига это, если она уже полгода с другим живёт?" Половину вещичек своих к нему перетащила, а я и не заметил.
Ушёл сам, без скандала. Квартиру оставил – с ней же наш сын Ванька. У меня вторая однокомнатная есть. Небольшая, правда, но… перетрусь.
Запил, было, сначала. Один же! Что делать?
Скоро в рейс снова, как быть? Задача! Думал, думал – ничего путного в голову не идёт. Мне что? В сорок лет по дискотекам подругу искать? Или в клуб "Кому за 30", в нафталине копаться? Не для меня. Один мой приятель по интернету себе нашёл подружку – приехала такая горилла, еле через месяц выпроводил.
Ничего не придумал я. А тут из магазина с продуктами выхожу, смотрю: очередь на троллейбус. Ага, приличная такая очередь на остановке. Жмутся все, холодно. Одни женщины – как будто кто нарочно так сделал для меня.
Мысль у меня высеклась. Подошёл к середине очереди и бабахнул прямой наводкой, открытым текстом:
– Женщины, дорогуши! Посмотрите на меня: ну я ж нормальный! Руки, ноги – всё при мне, не дефектный какой! Зарабатываю неплохо. Выпиваю так себе: от случая к случаю. Есть недостаток: рейсы длинные, надолго уезжаю. Но это же профессия! Мужику работать надо!
– Чё тебе надо-то, сердешный? – спрашивают из толпы.
– Жена нужна, – отвечаю, – искать некогда мне, через два дня в рейс. Кто смелая – соглашайтесь!
– А прежняя где? – спрашивают.
– Нету, не выдержала моей профессии! Ушла. А квартира есть, – отвечаю. – Бить женщин не умею. Не гуляю.
Какая-то пухленькая дамочка объявила то ли в насмешку, то ли всерьёз:
– Бабоньки, так это ж почти идеальный жених!
В толпе засмеялись, так по-доброму. И тут вышла одна, невысокого роста, черноглазая:
– Я согласна.
И мы пошли ко мне. Как пришла – так два года уже живём. Маша разведённая была. Расписались, обвенчались. Судьба.
Сыну Егору полтора уже. За вторым пошла, УЗИ подтвердило. Всё по науке. Решили Ванькой назвать. Так Маша хочет. Не могу возражать. У меня два сына Ваньки будут. А!
Такая она любовь-морковь.
Поздравляем Александра Станиславовича Малиновского – талантливого самарского прозаика, давнего автора нашей газеты и просто хорошего русского человека – с 65-летием! Доброго здоровья и творческого долголетия!
Редакция
(обратно)Мастер ВЭН ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУННОГО ЗАЙЦА
Часть 9. КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ И ЛУННЫЙ ЗАЯЦ
Вернувшись из своей бурной поездки в Австралию и Тасманию, где лунному зайцу пришлось немало потрудиться, спасая животный мир этих чудных земель от богачей, озабоченных лишь своим доходом, лунный заяц Юэ Ту позволил себе немного отдохнуть – у него появился помощник, молодой зайчишка с японских земель Цукино Усаги, присланный на луну восточными богами. Сам лунный заяц с каждым тысячелетием всё более белел, и издали был похож на белоснежный нефритовый памятник самому себе. Особенно, когда застывал в раздумье, опираясь на свой яшмовый пестик, и обращая свои лучистые светящиеся глаза на родную землю, о которой с возрастом вспоминал всё чаще и чаще.
О плохом не думалось, вспоминалось всё доброе и хорошее. Вот и сейчас он ясно видел перед собой древний Муром тринадцатого столетия. Заяц с луны прекрасно видел, как дьявол, ненавидящий весь род человеческий, пробирался в спальню к муромской княгине, принимая облик благоверного князя Павла. Он видел, как младший брат князя Петр смело сражается с дьяволом, и убивает его знаменитым Агриковым мечом. Но видел заяц и то, как кровь с лукавого змея, рассечённого мечом, обрызгала Петра.
Лунный заяц хорошо знал чудовищные свойства ядовитой крови змея, и понимал, что Петра в скором будущем ждёт только смерть. Ничто не могло спасти Петра, кроме… чудодейственного снадобья лунного зайца, того самого, которое заяц готовит под коричным деревом из самых целебных плодов, трав и коры лунного дерева жизни. Но как доставить это снадобье в Муром, как уговорить Петра принять помощь лунного зайца? Дабы неистовые ревнители не заподозрили Петра в причастности к колдовству. Ко всем самым знаменитым целителям древней Руси обращался молодой князь Пётр, но никто не мог ему помочь излечиться.
Лунный заяц взял с собой привычную заплечную корзинку со снадобьем и всеми необходимыми травами, спустился по лунному лучику на землю в окрестностях Мурома, доскакал до деревни, любовно называемой Ласково, и постучался в дом к девице Февронье. Лунный заяц ещё с луны знал о мистической душе этой чистой девицы, её лунной сакральной предрасположенности, тонкости её души. Он быстро научил Февронью премудростям лечения травами, мазями и отварами. Кто бы ни приходил к Февронье, лунный заяц всегда тёрся рядом, держась лапами за её подол. Заяц понимал все человеческие языки, и быстро научил Февронью объясняться друг с другом знаками. Её загадочные слова, заговоры, образная поэтическая речь в сочетании с чудодейственными мазями, которые девицу научил готовить лунный заяц, быстро стали известны по всему княжеству Муромскому. И поэтому болящий, весь в язвах гноящихся, уже готовящийся к смерти Пётр, как к последней надежде обратился в деревню Ласково к девице Февронье за помощью.
Привезли его к Февронье. Пётр удивился красоте и пригожести деревенской девицы, удивился и чудному зрелищу, непривычному на Руси. Сидит у ворот пригожая девица, ткёт на ткацком станке тонкое полотно, а перед нею скачет заяц, и утыкается девице в подол, будто что-то шепчет. И никто этого зайца не гонит. Сказать честно, и заприметил-то князь Февронью лишь благодаря чудному зайцу. Не будь зайца, и проехали бы сани с князем мимо её избы. Да и заяц наш не случайно на глаза князю попал, ещё с луны глядючи, решил он помочь храброму и мужественному Петру в излечении от крови дьявольской. Пётр, лежащий в санях (верхом на коне он уже не мог скакать), приподнял голову и говорит девице:
– Вижу, ты пригожая девица, слышал, умеешь ты людей лечить, есть у тебя и снадобья целебные, если вылечишь меня, требуй любых подарков, на всю жизнь обеспечу.
А лунный заяц заранее девице говорит:
– Дарована тебе свыше, Февронья, небесными силами другая судьба. Никакими деньгами и драгоценностями, никакими земельными угодьями и нарядами князь Пётр от тебя не отделается. Ты должна стать его верной супругой, а потом и муромской княгиней. И я, чем могу, поначалу буду помогать тебе. Обучу и манерам нужным, и заговорам целебным, и приворотному снадобью. Не только князю, всему народу муромскому помогать будешь, и станешь святой на Руси, символом верной семьи и любящей супруги.
Поэтому, посмотрев на Петра, увидев все его страшные язвы по всему телу, искренне пожалев его, Февронья тем не менее нашла в себе силы сказать:
– Подарки мне твои, князь Пётр, не нужны. Буду лечить тебя, если согласишься стать моим супругом…
Задумался Пётр. Негоже ему, княжеского рода, крестьянскую девицу в жены брать. Но и жить дюже охота. Прикинул, хоть и высоко княжеское слово, но не для дворовых же крестьян. Ничего не убудет, ежели для виду и согласится с девицей, вдруг и вылечит. А там уж подарками задарит, да и жениха хорошего деревенского найдёт.
Не знал Пётр, что все мысли его черные зайчишке, трущемуся у ног Февроньи, видны наперёд. Чудно, конечно, что девица зайца ручного держит. Да ещё и целительством занимается, не иначе, как ведьмачеством попахивает. Но, поперву не перечит больной Пётр Февронье. Да и силы последние уходят, от жизни лишь тонкая ниточка осталась, как бы не оборвалась.
– Исцелишь от болячек и язв моих гнойных, так и быть, возьму тебя в жены…
А заяц лунный Февронье уже и все планы тайные Петра порассказал. Но сказал и то, какими мазями можно вылечить его язвы, полученные от дьявола.
– Только ты, Февронья, одну язвочку маленькую оставь несмазанной, если сдержит своё слово князь, залечишь быстро, если же обманет он тебя, пойдут по всему телу язвы и струпья ещё более страшные и болезненные.
Так все и случилось. Намазали Петра мазью целебной от лунного зайца, лишь на ноге маленькую неприметную язвочку открытой оставили. Быстро излечился Пётр, за ночь все струпья и язвы с тела исчезли, боли затихли. Вновь молодой и бодрый стал младший князь Муромский.
Через день-другой послал он девице Февронье в деревню Ласково целый воз с подарками, один краше и лучше другого. Живи, не горюй.
Только девица Февронья по совету зайца воз этот не приняла, велела отвезти обратно, а Петру велела передать, низко же он себя ценит, лишь за воз подарков, вот и вся княжеская цена и честь.
Рассвирепел Пётр из-за этих гордых слов крестьянской девицы, хотел было примерно наказать её, но вспомнил про былые боли и успокоился. Пусть живёт со своим ручным зайцем всем на диво…
Только вот незамеченная язвочка на ноге вдруг распухать, краснеть стала, а затем такой гной из неё пошёл, какого никогда раньше у Петра и не было. От того гноя и по всей ноге волдыри пошли, лопаются, а из них новый гной, уже и лица не видно у младшего князя, одна сплошная язва. Что делать? Наказывать девицу, а самому помирать?
Приказал князь едва живым голосом готовить новые сани и с отрядом всадников вновь отправился в рязанские земли в деревню Ласково, к девице Февронье, прощенья просить за обман. И дал во имя всего святого, всех близких своих, всего рода княжеского древнерусского святое обещание взять в жёны девицу Февронью, ежели она до конца вылечит его.
А девица уж и ждала его, даже нисколько не гневалась.
– Ну, так и быть, ежели всерьёз решил меня в жёны взять, вылечу тебя, будешь лучше любого здорового.
И вернулись в Муром уже вместе: князь Пётр и княгиня Февронья. И никогда в жизни Февронья не напоминала мужу о первом обмане. Взяла с собой Февронья и лунного зайца. Тот уже собирался обратно по лучику на луну возвращаться, но решил какое-то время погостить у молодых, давать вовремя умные советы. Князь не противился. Понял он давно уже, что его жизнь в руках Февроньи, и всё это по воле Божьей. И жить им надо в мире и согласии.
Спустя скорое время отошёл от жизни его старший брат, князь Муромский Павел. И всё княжество древнерусское Муромское стало подчиняться Петру и Февронье. Народу это любо было, да и жизнь они праведную вели, и законы справедливые чинили. Но бояре и чиновники вознегодовали: как это они будут ходить под командованием какой-то деревенской девицы, да ещё терпеть её ручного зайца. Иные из бояр, по европам понаездившиеся, слышали, что с зайцами водятся лишь колдуньи и чародеи. А тут княгиня без стеснения в конце каждого обеда все крошки вокруг собирает, зайца угощать. Вроде бы ничего особенного, став княгиней, Февронья не забыла народный обычай собирать крошки со стола после трапезы. Крестьяне потом крошки эти ссыпали домашним животным, а Февронья своему чудному зайцу.
Стали они попрекать князя за эти крошки заячьи, за колдовство княгинюшки. Не стерпел князь, велел как-то раз княгине после обеда разжать ладони, разжимает она, а там по заячьему волшебному дару и божьему благословению не хлебные крошки, а ладан и благовония, фимиам по всему залу разошёлся. Вроде бы должны были успокоиться бояре, ведь нечистая сила, ожидающая у храма, когда её кто-нибудь накормит остатками просфоры, бежит от ладана и фимиама. Значит, заяц должен был оказаться вне подозрений. Осрамились вновь бояре, но не успокоились. Подглядели они, как княгиня с лунным зайцем чудно разговаривает, будто совета спрашивает. Именно из-за этого чудного, а по мнению многих бояр и церковников, и прямо колдовского, ведьмаческого союза Февроньи и неизвестно откуда взявшегося зайца, из-за её шептаний и чудных мудрых приговоров, из-за её таинственного дара врачевания и ополчились на неё фарисеи. Стали обвинять Февронию в сговоре с нечистой силой. Собственно, вся борьба, приведшая к отъезду князя и княгини и к отказу Петра от княжения, заключалась в доказательствах того, кем же был заяц. Агнецом Божьим или посланцем колдовской силы? Кто-то же дал крестьянской девице волшебную силу излечения от тяжких болезней, дал рецепты чудодейственного снадобья и мази. Откуда боярам и иным церковникам было знать, что лунный заяц и спустился в Муром ради князя Петра и его чудесного исцеления, предвидя их дальнейшую счастливую жизнь.
И пришли все бояре в бесстыдстве и великом честолюбии своём к князю с жалобой.
– Князь благоверный, самодержствуй над нами, но отправь свою жену обратно в деревню с её постыдным зайцем. Пусть берёт себе богатства, сколько хочет, а в сани свои зайца впрягает, если без него жить не может…
Свалили на бедного зайца и все беды, все напасти, все болезни, которые случались в граде Муроме.
Княгиня же возражать боярам не стала, но поставила условием, что уедет не только с зайцем вместе, но и с князем, мужем своим. А князь и рад был. Не представлял он уже дальнейшей жизни без Февроньи, и нисколько не мешал ему ласковый белый пушистый заяц, время от времени воркующий о чём-то с княгиней.
Да и бояре этому рады были, каждый из них мнил себя князем, каждый хотел жить по своей воле, без общего управления, не думая о других.
Так и отправились князь с княгиней и с лунным зайцем в обратный путь в деревню Ласково. Поплыли в ладьях по реке Оке. Собирались жить в ладу и согласии по Божьим заветам.
Долго ли, коротко ли, но приплывают к ним из Мурома вельможи разные. Перед князем на колени. Как уплыли от них Пётр и Февронья, начали бояре муромские лютую борьбу между собой за право управлять городом и княжеством уйму народу перебили. И затосковал народ муромский, и возмечтал о былом князе Петре и его жене Февронье. Перестал смущать их и ручной заяц. К тому же мор навалился на Муром, а о чудесных качествах врачевания Февронии, о её снадобьях и мазях все были наслышаны.
Стали молить приплывшие к князю уцелевшие бояре вернуться в город и взять княжество в свои руки, а княгинюшка помогла бы исцелиться народу от напавшего мора.
Не стали держать обиду Пётр и Февронья на муромчан, вернулись в город и стали добрыми пастырями и исцелителями своему народу. И зажило муромское княжество в справедливости и дружбе. Странников привечали, бедных кормили. А лунный заяц, сполна обучив Февронию искусству врачевания, попрощался с ней и с князем Петром, который тоже давно уже всю правду о лунном зайце знал, и ценил его за доброту и сострадание к людям, и отправился прямиком на свою луну.
Уже сидя на луне под своим коричным деревом жизни, он своими лучистыми глазами продолжал следить за Петром и Февроньей всю их оставшуюся жизнь. Про себя как бы примеряя их добрую и ладную счастливую семейную жизнь на своё возможное, но несостоявшееся семейное счастье. Был же у лунного зайца, воплощавшего и символизирующего женское начало Инь, момент, когда он пожелал сбежать навсегда на землю уже в облике прекрасной царевны, и близок был момент их свадьбы с желанным принцем, но воспротивились небесные силы, определившие лунному зайцу вечное служение в изготовлении снадобья бессмертия и других целебных эликсиров. Вернули на луну, не дали состояться земному чуду любви и семейного счастья… Вот и решил лунный заяц подарить Петру и Февронье то семейное счастье, которого сам по воле Неба был лишён.
И когда после долгого и ладного правления ушли князь Пётр и Февронья в мир горний в один день и один час 25 июля, пожелали они и в общей могиле лежать. Но завистные люди, завидовавшие и их долгому правлению, и счастливой их жизни, воспротивились. Мол, не положено мужу и жене, если они приняли перед смертью монашеский чин, в одном гробу лежать, в общей могиле. Стали они фарисействовать, будто бы от имени Бога, упрекать даже посмертно князя и княгиню в мнимой ереси любви. Разнесли их тела по разным монастырям, расположенным далеко друг от друга, уложили в разные гробы. Тут уж не стерпел лунный заяц, своим чудодейственным яшмовым пестиком легко перенёс их обоих в ночное время в общую могилу, вытесанную в камне.
Возмутились всё те же стяжатели, которые из-за зайца и чудных речей Февроньи, из-за её чудесного излечения болезных горожан и при жизни княгиню не терпели, – вновь перенесли князя и княгиню по разным монастырям, и велели страже строго следить за их гробами. Да только светлому дару лунного зайца никакая стража не могла помешать.
Трижды фарисеи возвращали князя и княгиню в разные гробы, и трижды лунный заяц переносил их в общую семейную могилу. Под конец ещё и разметал всю стражу монастырскую по городам и весям, дабы неповадно было мешать семейному счастью.
И уж не посмели больше фарисеи прикоснуться к святым телам князя и княгини, поняв, что сами небеса желают их общего захоронения. Но и по сей день не смолкают споры о принадлежности феврониевого зайца к инфернальным силам. И всё же, такова была сила их любви и семейного счастья, что причислили и Петра и Февронью к святым.
А лунный заяц за своими трудами по изготовлению снадобья бессмертия нет-нет да и вспомнит как своих родных князя и княгиню, вспомнит мечтательно их долгое семейное счастье…
(обратно)
Евгений НЕФЁДОВ ВАШИМИ УСТАМИ
ГРЁЗЫ
"А Россию покинул
последний еврей..."
Александр БОБРОВ
То ли хочется мне, чтобы время скорей
Проходило вокруг – то ли нечто другое,
Но однажды с чего-то примнилось такое,
Что Россию покинул последний еврей.
Я отнюдь, между тем, никакой не расист,
Экстремист, или кто-то ещё в этом роде:
Я нормальный поэт, а ещё публицист,
Автор песен, частушек, а также пародий.
Я пишу про друзей, про поля и про лес,
Про любимую Русь, колеся по ней часто.
Я во всём – реалист. Но попутал же бес:
Ни с того, ни с сего – потянуло в фантасты...
(обратно)

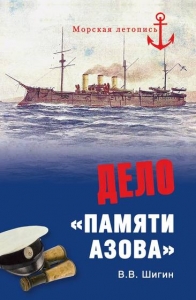


Комментарии к книге «День Литературы, 2009 № 02 (150)», Газета «День литературы»
Всего 0 комментариев