Владимир Бондаренко ИМПЕРИЯ СЛОВА
Наше государство сосредотачивается. Ещё робкими, неверными шажками новая империя устремляется в своё будущее. Будущее невозможно без технического перевооружения державы, без мощного промышленного технократического рывка. Это понимали египетские жрецы, готовившие свою техническую революцию, дабы возводить пирамиды и строить города в пустыне. Это понимали древние римляне, освоившие строительство дорог и каналов. Это понимали Александр Македонский и Чингисхан, Наполеон и Кромвель, Фридрих Барбаросса и Карл Великий. Это понимал Петр Великий, со многими жертвами воздвигнувший на болотах воистину имперский город. Это понимал Иосиф Сталин, сотворивший великую техническую наукоёмкую державу ценою великих народных лишений. Это прекрасно понимают ныне китайцы и индусы, умудряясь сочетать древний национальный менталитет и технократический индустриальный разум преобразователей мира. Они возводят свои алтари на сотых этажах своих небоскребов. Восемь из десяти самых высоких зданий мира находятся в Китае.
Но все великие национальные и религиозные лидеры, прежде чем начинать технические преобразования, настраивают душу нации на волну созидания. Какие бы деньги нынешний режим ни вкачивал в те или иные стройки, без национального подъёма, без сокровенно сказанных и сокровенно услышанных слов ничего произойдет. В десятилетие строящийся мост через Волгу денег уже вложено гораздо больше, чем в строящийся в Китае самый длинный в мире 36-километровый мост в Ханьчжоу (через Восточно-Китайское море). В то, что китайцы откроют движение по этому мосту в 2008 году, уверены даже враги Китая. А ведь это идентично 10 мостам от материка до Сахалина, о чём у нас мечтают только фантасты. Значит, дело не в деньгах, и даже не в их разворовывании – думаю, китайцы тоже не ангелы. Да и Меньшиков при Петре о своём кармане не забывал, но и Россию строил. Но при Петре ли, в Китае ли нынешнем была и есть великая мечта, была и есть воля к жизни, воля к победе. У нас же сейчас есть деньги – больше чем у китайцев, есть строители – не хуже китайских, но нет великой мечты, нет воли к победе. А мечта и воля реализуются исключительно через силу слов, через национальную культуру. Если национальная культура устремлена к идее смерти и распада, угасания и смирения с нищетой и убогостью, нас ничто не спасёт. Так было в период угасания советской империи. Ещё была самая мощная в мире армия, с армадами танков и кораблей, ощетинившаяся ядерными боеголовками, ещё была крепкая (что бы там ни говорили гайдары и грефы) экономика, которая и по сей день, недоразрушенная, продолжает служить, и наука наша ещё опережала весь мир по важнейшим своим направлениям в физике, химии и математике. Продолжительность жизни была одна из самых высоких в мире. Но культура наша, и прежде всего литература, уже были устремлены к смерти, к угасанию, как в либерально-прогрессивном трифоновско-рыбаковском варианте, так и в варианте почвенническом. "России нет, Россия вышла, И не звонит в колокола…" – писал поэт-почвенник Михаил Дудин. С настроем к смерти в космос не полетишь, цивилизация разваливалась прежде всего через культуру. А власти наши уже готовились к дележу недр, угодий и территорий, им было не до культуры.
Сейчас питерско-чекистская команда Путина, Медведева и Иванова готовится к мощному технологическому прорыву. Иного пути у них нет. Или государство окончательно разваливается – и территориально, и политически (вице-премьер Дмитрий Медведев пишет: "Распад Союза может показаться утренником в детском саду по сравнению с государственным коллапсом в современной России"), или неизбежна крутая техническая и экономическая модернизация всей плохо управляемой коррумпированной системы. Эту неизбежность команда Путина прекрасно понимает и готова вкладывать огромнейшие деньги в техническую и научную модернизацию. Увы, эта путинская команда почти тотально и чудовищно бескультурна. По-моему, после азбуки с её "Мама мыла раму" и "Рабы не мы. Мы не рабы" они никогда ничего не читали. Они даже не понимают , что такое культура и зачем она нужна. Думаю, потому и оставляют Швыдкого на "культурном хозяйстве", что не понимают её, культуры, важнейшего значения. Скажи им, что обществом до сих пор управляют швыдкие, они не поверят. Мол, у нас всё схвачено, всё в наших чекистских руках: армия, оборонка, техника, транспорт, космос, железные дороги. А над ними смеётся Дмитрий Быков. Мол, "жд" – железные дороги – у вас, но управляют умами машинистов – "ЖД", и значит – всем обществом управляют "ЖД", а кто они такие – предельно откровенно объяснено в самой книге Быкова. Может, эта самоуверенность, как обычно и бывало в мировой истории, и погубит разрушителей, и найдётся достаточное количество живых душ у русского народа, способных, как и раньше в трагические времена, зажечь сердца людей новой мечтой о возрождении, о великом строительстве Державы.
Прежде чем произойдёт техническое перевооружение, новый технократический прорыв в будущее, неизбежна, не побоюсь этого слова, – новая культурная революция.
Хватит плакать и стонать о потерянном. Россия – не покойница. Хватит развлекаться и впихивать в народ бульварное чтиво, русский народ – не девка с улицы. Мечты о новой реальности нужны талантливым художникам и поэтам, режиссёрам и прозаикам. Если эта незримая, но всегда могущественная империя слова будет поддержана империей дела, если творцы новой империи слова будут реально влиять со всех телеэкранов, со всех радиоголосов и подмостков эстрады, оттеснив импотентных женоподобных юмористов и пошляков, циников и развратителей народного сознания, тогда и общество преобразуется. Не случайно Иосиф Сталин даже в годы войны находил время для чтения художественных новинок, не случайно Наполеон приравнивал мастеров слова к целым дивизиям.
Кто царит в умах, тот господствует и в обществе. Вернуть писателей и поэтов на телевидение – важнейшая государственная задача. Не менее важно и – каких писателей и поэтов. В новом романе лауреата "Национального бестселлера" Ильи Бояшова о войне герой – танкист с обожжённым во время Курской битвы в схватке с немецким "Тигром" лицом. Этот человек обладает даром слышать голоса машин, он понимает язык танков, умеет с ними разговаривать. Вот так и крепнущее поколение новых русских писателей и поэтов, не менее танкиста обожжённое всеми нашими перестройками, разломами и катастрофами, тоже слышит голоса машин и понимает язык железа. Оно не боится "компьютеризации и электронизации всей страны", ибо и в компьютеры, и в новейшие мониторы и мобильники, телекоммуникации и электронные системы оно вкладывает душу, заставляя новейший мир техники работать на человека. И этот новый мир строят в своих стихах Марина Струкова и Всеволод Емелин, Евгений Лесин и Олег Бородкин. Его грядущая громада нависает над всем человечеством в босхианских и одновременно джойсовских полотнах Александра Проханова. Ангелы новой реальности прилетают к нам из книг Павла Крусанова, в сверхплотном сверхреализме работают Юрий Козлов и Юрий Петухов, в голос машин вслушиваются герои романов Веры Галактионовой и восторженные романтики из "Коралловой Эфы" Тимура Зульфикарова. Время действия – наша новая реальность в фантасмагорических утопиях Ильи Боровикова "Горожане солнца" и Ильи Бражникова "Сказка о белом бычке". Языком нового времени говорят герои Захара Прилепина и Сергея Шаргунова, Романа Сенчина и Василия Дворцова.
В своё время истинный певец машин и разворачивающейся громады преобразований Андрей Платонов, к сожалению, не был понят, хотя он и должен был стать реальным голосом прорыва в будущее. Сегодня можно сказать, что Андрей Платонов и стал той гоголевской "Шинелью", из которой вышла и выходит новая русская проза, готовящая новый прорыв в будущее. Следующим провозвестником стал еще в семидесятые годы Александр Проханов. Но и он оказался не ко времени. Был не понят тем Генштабом, который им же и воспевался. К счастью, у Проханова хватило и сил и времени для другого, нынешнего рывка, поймут ли его новые менеджеры технопроектов?
По крайней мере, для молодой когорты продолжателей великой утопической традиции он понятен и близок. Вот только как бы новые солнечные утопии ни оказались вновь не поняты и не востребованы. Общество, лишённое нового литературного солнечно-утопического импульса, вряд ли сумеет построить свои самые длинные мосты и самые лёгкие лодки.
Незримая империя русского слова готова к новым великим завоеваниям. Штурм продолжается!
(обратно)Владимир Олейник ПОЛЕ БИТВЫ-ДУША (Виктору ПОТАНИНУ – 70 лет)
Есть в человеческой жизни понятия, которые не требуют особых пояснений. С ними человек живет, да они во многом и составляют его внутренний мир. Это труд, честь, достоинство, совесть. Именно они определяют смысл всего происходящего в человеке и с человеком. Они являются тем критерием, по которым его судят окружающие и по которым он судит себя сам. И на этом строгом суде ответчиком и прокурором выступает нематериальная субстанция, называемая душой. И если душа болит, значит, она живая. Значит, ещё всё можно поправить, изменить. И жизнь продолжается, и не кончается её дорога...
...Виктор Федорович Потанин родился 14 августа 1937 года в зауральском селе Утятском. Его предки были старообрядцами, пришедшими в Сибирь в поисках свободной земли и духовной свободы. Свою новую родину они построили в селе Каргаполье, ныне районный центр Курганской области. Старообрядческие семьи аккумулировали в себе духовную энергию невиданной силы, позволявшую выдерживать любые искушения и самые страшные испытания. Такое испытание пришло в 1921 году, когда дед Виктора Потанина был расстрелян вместе с другими односельчанами карательным отрядом ЧК. Вся вина состояла в его вере и в его имуществе, достаточном, чтобы объявить Тимофея Ивановича кулаком и расстрелять. Бабушка Екатерина Егоровна станет главой и духовным центром семьи. Именно она, спасая семью от голода и репрессий, в начале тридцатых переедет в Утятское, где её дочь Анна обретёт свою судьбу – встретит единственную любовь, родит сына и всю жизнь проработает в сельской школе. Вскоре семью постигнет ещё одна беда – отец, сельский учитель Федор Степанович Потанин, уйдёт в армию и погибнет в том проклятом сорок первом году. От него сыну останется только мучительная боль детской памяти, преследующая всю жизнь. И все голодные и холодные военные годы опорой, защитой и надеждой для маленького Вити было женское лицо. Мамы и бабушки. Образ женщины с раннего детства станет для него нравственным мерилом, основным ценностным критерием.
В 1966 году Потанин был участником Кемеровского зонального семинара молодых писателей под руководством Сергея Антонова. Именно тогда он вошёл в круг той литературной молодежи, которая определила одно из направлений развития русской литературы. Их назовут "деревенщиками", но подлинной основой творчества для них станет нравственное отношение к жизни и человеку. А нравственностью была правда. Эта неформальная писательская группа очень скоро станет духовным камертоном отечественной словесности, а имена Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Василия Белова, Валентина Распутина обретут непререкаемый нравственный авторитет. Именно эти люди станут для Потанина творческим примером, а Валентин Распутин и Виктор Лихоносов ещё и ближайшими сердечными друзьями.
Повести и рассказы Потанина своей проникновенной исповедальностью и лиричностью достучались до читательских сердец, обрели популярность. Среди коллег по писательскому цеху, среди своих творческих единомышленников он выделялся этим застенчивым лиризмом и медитативностью. Его лица "необщее выражение" было характерным дополнением к портрету тех, кто вернул в русскую литературу традиционные ценности и обратился к корневой народной культуре. Вслед за читательским признанием пришло и общественное.
...Творчество Виктора Потанина прочно определено установками его миропонимания. И системой сложившихся ценностей, которые предельно конкретны, почти вещественны. Впитанное в детстве, вошедшее в плоть и душу стало для него Истиной. Поэтому слова "душа", "нравственность", "духовность" у него конкретны и зримы как "земля" и "хлеб". Система ценностей и определяет конфликт в его прозе. Это нравственный конфликт. Не между прошлым и настоящим, не городом и деревней, а между нравственным и "духовной ржавчиной". Ценностный выбор ставит вопрос о главном: что ждёт человека в итоге – вечность или пустота. Гарантий на абсолютную правоту никто не даёт, но по сути своего выбора герой Потанина, помня о прошлом, живёт в настоящем ради будущего. Ориентируясь на вечность. Это крайне непросто, потому что подобный выбор – знак определённой культуры. Означающий принятие на себя ответственности, ограничивающей человека внутри. И проблема его творчества – это проблема внутреннего человека. Герой Потанина – сокровенный человек. И динамику конфликта определяет его рефлексия. Она же служит обертоном лирической наполненности его прозы. В своих исповедально-открытых повестях и рассказах он поведал, в сущности, историю одной человеческой души.
Перед нами открывается внутренний мир провинциального интеллигента, человека ранимого, рефлектирующего, и своей рефлексией противопоставленного среде обитания. Его герой оказывается на острие самого сложного конфликта – конфликта с самим собой.
Для Потанина его герои – это люди, исполненные собственной мерой, живущие сердцем, созидатели, творящие добро по духовной природе своей. Они связаны с родной землёй, крышей дома, семьёй, языком, культурой. На первый взгляд это может показаться абстракцией, словоформой, производной от "возлюби ближнего своего". Но абстрактность форм наполняется живой плотью при погружении в содержание, когда произнесённое слово продолжается действием. И тогда любовь и сострадание к ближнему становится составной частью человека и его судьбы.
Рассказ для Потанина останется любимым и сокровенным жанром. В нём он выплескивал щемящую грусть и пронзительную нежность, самые интимные мысли и глубокие раздумья. Светлое чувство родного дома с его неизбежностью и любовью проходит через рассказы "На реке", "Тишина в пологих полях", "Мимо белых-белых берегов", "Русская печка", "В березовой тишине". И пусть не все гладко, но ведь не может человек, дыша этим воздухом, не быть счастливым. Потанину так хочется в это верить, потому что люди предназначены для обретения гармонии между собой и природой на родной земле.
...На рубеже 80-90-х годов творческая интуиция и художественный анализ действительности подвели писателя к печальному выводу – над человеком зависла угроза духовного самоуничтожения. Внешние перемены запустили в действие механизм, разрушающий ценностный мир, всю многообразную систему бытия человека. На волне предчувствия он создает повести-катастрофы "Мой муж был летчик-испытатель", "Плакала кукушка", "Доченька". Неизменно место – пространство русской глубинки, неизменен герой – провинциальный интеллигент. Изменилось внутреннее состояние героя. Обозначенное ещё недавно тревожными красными флажками латентное противостояние души и "духовной ржавчины" выплеснулось наружу, стало реальностью, вошло в обиход. Более того, Потанин увидел страшное – подмену понятий.
Но Потанина не оставляет вера в человека. Это единственное, чем он держится как личность, как писатель. Причем его вера изначальна – её не поколебать ни обстоятельствам, ни апокалиптическим проповедям. Человека он принимает в его современном обличии. Причём очень даже непричёсанного...
Философский подход способен примирить с неизбежностью жизни. Но как примириться с неизбежностью её конца, как вернуть и исправить ушедшее время. Память возвращает в прошлое и вершит суд – над собой. Не каждый рассудок способен выдержать такой анализ. Да и рациональные методы вряд ли годятся для расчета с прошлым: подсознательно человек стремится сохранить в памяти только лучшее, что с ним было. И к ощущению неизбежности круговорота бытия писатель добавляет мир чувств и чувствований. Ему кажется, что только таким способом в переломное время можно сохраниться человеку – не "хомо сапиенсу", а чувствующему и страдающему индивиду.
По глубочайшему убеждению Потанина мир держится именно на культуре. Для него это синкретичное понятие, равное цивилизации. И если рушится мир в человеческих душах, обнажая зыбкость всего сущего, то единственную надежду на спасение он видит именно в культуре. Поэтому сеет и сеет зёрна разумного и доброго...
Ведь культура немыслима без этой ежедневной кропотливой работы. Этого непосредственного труда души. Это способность построить в себе Храм и удержать его в целости. И держаться самому. Только тогда вокруг тебя возникает та аура, которую и называют духовностью. Может мои слова и грешат пафосом, но жизнь Виктора Фёдоровича Потанина представляет такое повседневное служение. Она состоит не только из творческой работы, из мучительного и прекрасного писательского труда. Это и его общественная деятельность, его отзывчивость на чужую боль и беду. Ведь культура – это ещё и живые люди со своими насущными проблемами.
...И главный итог его жизни – книги. Написанные болью его души. Тем прекрасным русским языком, какой уже не встретишь на газетных страницах и не услышишь с экрана телевизора. Потанин в своих книгах сохраняет высокие традиции литературного языка – чувственного и трепетного, образного и многозначного. Это очень серьёзно – быть хранителем родного языка. И пусть сегодня читают мало, пусть читают "легкие жанры", но на полках библиотек стоят книги. И пока они есть, не прервется связь времен – от поколения к поколению, от сердца к сердцу.
Прекрасного русского писателя Виктора ПОТАНИНА – с 70-летием! Здоровья, творческой радости!
Редакция
(обратно)Сергей Буров ОСКОРБЛЯЕМЫЙ ХЛЕСТАКОВЫМ
Быков Д.Л. Борис Пастернак. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 893 [3] с.: ил. – (Жизнь замечательных людей). Тираж 5000 экз.
Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.
Б.Пастернак
У свободы слова, как у всякого живого организма, есть свои физиологические отправления. И вот ещё в сентябре 2005 года на книжные прилавки из издательской утробы "Молодой гвардии" выпрастался тяжелый кирпич – биография Бориса Пастернака. Судя по объему, претендующий, по меньшей мере, на революцию если не в толковании произведений писателя, то в освещении его биографии. Далее появились рецензии – сначала беспардонно-льстивая по отношению к г.Быкову и вульгарная – к Пастернаку Льва Данилкина, затем – убийственная и оказывающаяся на N голов выше рецензируемого талмуда – Григория Амелина и Валентины Мордерер. На последнюю был затрачен труд такого качества, какого опус г.Быкова явно не заслуживает. Но мне кажется, что по поводу этой разухабистой книги стоило бы ломать научные копья, если бы г.Быков вообще понимал Пастернака. Между тем, свидетельства тугоухости и банального неразумения присутствуют едва ли не на каждой странице, и г.Быков, нимало не смущаясь, не только многократно признается в этом ("часто вовсе не поймешь, о чём идёт речь"), но и с невероятной самоуверенностью преподносит своё непонимание как вещь объективную и, более того, "совпадающую" с видением самого Пастернака. Претензия на метемпсихоз замечательная. Но поскольку г.Быков, производя такой оживляж, совсем не шутит, то для него потуги думать за Пастернака оказываются самоубийственными.
Развязному любителю кухонно-телевизионной болтовни, ворвавшемуся в калашный ряд серьёзной литературы, мстят сами тексты Бориса Леонидовича. За что? Да за то, что г.Быков их не понимая, абсолютно не уважает и при этом куражится и глумится над ними. Вину же за непонимание перекладывает на поэта, произведения которого видятся ему "неуклюжими" и "корявыми". "Оценки", которые с барского плеча раздаёт новоявленный пастернаковед, особым разнообразием и глубиной не блещут, зато шапкозакидательством и откровенным хамством – то и дело: "это слабые стихи, чего там!"; "совершенно неудобопонятное письмо"; об О.М. Фрейденберг – "девочка слов на ветер не бросала"; "если драмы не было, он её создавал на пустом месте"; "безумная, хаотическая образность"; "вкусовые провалы"; "как всегда, есть тут и неуклюжесть"; "достаточно случайные слова"; о "Вассермановой реакции" – "претенциозная и мутная"; "бессмыслица"; "отписки"; "как всегда у Пастернака, недостаток концептуальности покрывается избытком пафоса"; о "Высокой болезни" – "откровенная полуудача, в которой великолепные признания и формулы сочетались с редкой даже для Пастернака невнятицей и двусмысленностью". Приводя, например, известнейшую строфу из "Высокой болезни" "Всю жизнь я быть хотел как все, / Но век в своей красе / Сильнее моего нытья / И хочет быть как я", новоявленный биограф издевается: "Как же, как же. Всю жизнь мечтал". Читаешь такое – и глазам не веришь, опешивая от вульгарности. И эта базарная разборка – "литературоведение"?! Эту гадость признали "Книгой года России"? Признаюсь, за 20 лет чтения Пастернака и литературы о нём, мне ни разу не пришла в голову мысль, что о нём можно писать такое и так.
Еще более возмутительно отношение г.Быкова к людям, которые уже не могут ответить ему, поскольку умерли. Таково, к примеру, резюме о многолетнем друге Пастернака С.Н. Дурылине, который поддержал первые шаги поэта и был одним из его близких собеседников на протяжении жизни. Г.Быков бессовестно заявляет, что поскольку Пастернак посылал Дурылину в ссылку письма и деньги, то – цитирую – "оттого все воспоминания о нем окрашены у Дурылина особенно трогательным умилением и благодарностью". По себе, видать, автор судит: он бы так, вероятно, и прогибался. Зачем же приписывать Дурылину низость? Впрочем, это предполагается тем запанибратским развязно-менторским тоном, который автор взял по отношению не только к Пастернаку, но и вообще ко всем, кто упоминается в книге. И здесь г.Быкова вовсе не извиняет ни мнимая "ширпотребность" серии ЖЗЛ, ни оговорка, что, мол, "есть два полярных подхода к биографическим сочинениям. Первый – апологетический (подавляющее большинство). Второй – нарочито сниженный с целью избежать школьных банальностей и высветить величие героя, так сказать, от противного". Г.Быков, надо полагать, относит своё творение к этому о-о-очень благородному меньшинству. Однако он не только не избегает "школьных банальностей" (кстати: а что это такое в отношении Пастернака?), но и, как уже показали предыдущие рецензенты, кусками списывает чужие работы, не только "забывая" ссылаться на уважаемых авторов, но и пиная, так, между делом, "апологетов деконструкции и рыцарей семиотики", пишущих на "птичьем языке". Разумеется, для "неопознанных литературных объектов" (читай: журнал "НЛО", откуда г.Быкова с его "трудом" выставили бы, наверное, сразу) "великий и могучий" г.Быкова слишком "велик и могуч". Манера обращения автора что с Пастернаком и его текстами, что с литературоведами и их находками – та же самая, что у Хлестакова: "Бывало, говорю ему: "Ну что, брат Пушкин?" "Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как-то всё…" Вот как раз потому и нет смысла подходить к тексту г.Быкова, как к чему-то серьёзному. Написав долгоиграющий опус, этот человек проспекулировал на имени Пастернака, зная, что книгу будут читать не из-за него, г.Быкова, а из-за Б.Л. Напиши он, скажем, о Серафимовиче, аудитория была бы совсем другая, если бы вообще была. И понимая, что за кирпич возьмутся не равнодушные, но люди любящие и знающие Пастернака, всё же позволил себе безапелляционно пошлить. "Всей его жизни было семьдесят лет, три месяца и двадцать дней", – такими игривыми словами о Пастернаке открывается книга. Подобным образом можно было бы заключить непритязательную сказочку о каких-нибудь старичке и старухе или верно отслужившем псе. А вот не менее возмутительная фраза – уже о Ницше: "... Лу Андреас Саломе, по которой ещё Ницше сходил с ума (и в конце концов сошёл)". Да, подумает, читатель, раз уж г.Быков так Ницше прижучил, наверное, он – тот сверхчеловек, о пришествии которого пророчествовал великий философ. (Что ж, Ницше и впрямь сошёл с ума и тоже, как и Дурылин, умер – не ответит теперь г.Быкову, отчего ж последнему и не пошалить? Ай, Моська!..)
Перечень "достоинств" опуса поистине неисчерпаем, и приведу лишь отдельные, почти наугад. Г.Быков делает открытия в пастернаковедении по рецепту Шарикова -- взял да и поделил всю жизнь писателя на 7 десятилетий, и "в каждом новом периоде он проходит одни и те же стадии, числом три". Вот и вся тебе метода периодизации – чего там мудрствовали М.Л. Гаспаров, В.С. Баевский и другие?! Понятно, что на такой основе и произведения Пастернака кажутся высокоумному автору соответствующими. "И это не просто буйство от избытка сил, но очень часто – недостаток как раз личного опыта и ясности мысли: у раннего Пастернака часто вовсе не поймёшь о чём идёт речь, – да это и неважно, важно, что идёт, бежит, летит". (Ну, не напоминает ли Хлестакова и в то же время – книгу г.Быкова?) Ещё один (из бесчисленных) перл г.Быкова по поводу умственных способностей Б.Л.: "Пастернак тёмен, когда сам не до конца понимает ситуацию". Видимо, её всякий раз понимает г.Быков, но почему-то скромно умалчивает о том, что же он понял хоть в одном "тёмном" месте. А если его и "слабит жидким мрамором" – то пользуется чужими открытиями, скрепя сердце изредка упоминая всё же этих гадких деконструктивистов типа И.П. Смирнова и А.К. Жолковского (ведущих, заметим, пастернаковедов).
Если говорить об информативной ценности книги, то в ней нет ничего нового – ни открытий, ни новых прочтений. Всё, что пишет г.Быков, уже было сказано до него – самим Пастернаком, мемуаристами, биографами и исследователями его творчества. Есть темы, на которых г.Быкова особенно, что называется, несёт. Жаль, что его рассказы о "женщинах Пастернака", не может прочитать сам Б.Л. – наверное, встретив, сказал бы ему пару ласковых. Так, например, по мнению автора, О.М. Фрейденберг "понимала больше Али" (Ариадны Эфрон), а "всех по-настоящему умных женщин в пастернаковском окружении рано или поздно начинала раздражать его способность среди разрухи и голода обращать внимание на пейзажи". Так. Значит, если были "по-настоящему умные", значит были и... Нет, дурами их г.Быков не называет, но намеки оставляет еще какие!
Вот как об Иде Высоцкой. Сначала цитируется Пастернак: "Она так просто несчастна – так несостоятельна в жизни – и так одарена; – у неё так очевидно похищена та судьба, которую предполагает её душа, – она, словом, так несчастлива, – что меня подмывало какою-то тоской, и мне хотелось пожелать ей счастья". Затем г.Быков, не моргнув глазом, "перевоплощается" одновременно и в Пастернака, и в его возлюбленную и не только исправляет слова Б.Л. (это он делает многократно и залихватски), но и чувствует за Иду: "Тут неточно только одно слово: на самом деле у нее похищена судьба, которую предполагает её внешность. Душа там вряд ли что-то могла предполагать – она была, как уже сказано, "темна"; а внешность была прелестная, и Ида не могла не чувствовать диссонанса между своею трагической наружностью и безнадёжно мещанской душой". (Душевед, однако.)
А вот о Елене Виноград: "Ни на одну из своих женщин – кроме разве что Ивинской... не оказывал он столь возвышающего и усложняющего влияния". Здесь не место говорить о "возвышенности" и "сложности" О.В. Ивинской. О них можно судить по её мемуарам. А можно и по воспоминаниям Л.К. Чуковской. Заметим другое: после прочитанной фразы возникает вопрос, каковы же были остальные? Ответ получается глубоко оскорбительным для женщин. Думаете преувеличиваю? Нисколько. Вот еще образчик откровенного хамства в адрес Евгении Владимировны Пастернак, подразумевающий ситуацию ухода Пастернака: на карточке "Женя тихо полуулыбалась, так и всю жизнь проулыбалась самой себе".
О понимании г.Быковым пастернаковской поэтики загадочного и его "интерпретациях" текстов, особенно "Доктора Живаго", не возьмусь даже говорить. Они вызывают сначала нехорошее удивление, затем негодование и, наконец, гадливость. Одна из самых вопиющих – трепанация "Высокой болезни". Дело даже не в подходе к текстам – тут голову менять надо. Впрочем, г.Быков так и сделал: приделал Пастернаку свою и стал, ковыряя тексты писателя, буквально исправлять их и объяснять, поскольку-де "невнятны".
В одном согласен с г.Быковым: да, "российская филология переживает трудные времена". Это из-за того переживает, что с усилившимся нахрапом лезет в неё фельетонная эпоха, материализовавшимся "грядущим хамом" которой и оказался автор новой полупопсовой "биографии", которую – не дай Бог – преподаватели станут рекомендовать школьникам и студентам. Прочитав разухабистое топтание г.Быкова по великому поэту, последние ничего, кроме того, чтобы вести себя так же, как он, не научатся. И хотя читать разборы того, в чём их автор ничего не понимает, занятие довольно забавное – есть более приличные во всех отношениях книги, на которые стоит потратить время и деньги. Тратить же на макулатуру г.Быкова – слишком много чести для последнего. Я решился и пожалел.
(обратно)ХРОНИКА ПИСАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ Н.И. РЫЖКОВА
В московском Доме книги "Библио-Глобус" прошла презентация книги известного общественно-политического деятеля, последнего председателя Совета Министров СССР, члена Совета Федерации и Президента Московского Интеллектуально-делового клуба – Николая Ивановича Рыжкова "Трагедия великой страны", выпущенная в свет Издательским домом "Вече". 650-страничное издание представляет собой симбиоз воспоминаний, размышлений и исторических экскурсов в прошлое нашей Родины, посвящённых анализу того, что произошло с СССР в течение последнего двадцатилетия. Н.И. Рыжков взвешенно и честно рассказывает читателю о времени своей работы в советском Правительстве (а надо сказать, что ему довелось работать едва ли не в
самый трудный период существования советской страны, отягощённый такими событиями, как землетрясение в Армении и авария на Чернобыльской АЭС, куда он первым из тогдашних руководителей страны прилетал для принятия экстренных мер по спасению пострадавших. К тому же в те годы окраины советской державы уже начинали охватывать пожары межнациональных конфликтов, выразившихся в кровавых столкновениях в Алма-Ате, Баку, Фергане, Тбилиси и других регионах Советского Союза.
В книге есть главы, посвящённые глубокому историческому, экономическому и общественно-политическому анализу отношений России с Прибалтикой, Украиной и бывшими среднеазиатскими республиками СССР, причём глава о событиях в Баку в январе 1990 года ожидала своей публикации больше десятилетия. На страницах книги Рыжкова читатель встретится с именами М.Горбачёва, Б.Ельцина, А.Яковлева, Э.Шеварнадзе, Г.Алиева и других государственных деятелей последнего десятилетия советской эпохи, увидит их роль в трагедии СССР, узнает о том, что явилось подоплёкой тех или иных политических событий.
Высказать своё мнение о книге Н.И. Рыжкова в "Библио-Глобус" пришли Герой Социалистического Труда директор Института биологии Леонид Ильин, адмирал Игорь Касатонов, бывший посол Югославии в СССР Борислав Милошевич, народный артист России Михаил Ножкин, бывший министр иностранных дел СССР Александр Бессмертных, губернатор Саратовской области Павел Ипатов, председатель Союза писателей России Валерий Ганичев, председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков, народный артист России Владимир Трошин, писатели Сергей Есин и Юрий Голубицкий, литературовед Алла Большакова, холдинг-директор "Библио-Глобуса" Борис Есенькин, секретарь СП России Николай Переяслов, а также другие общественные и культурные деятели. Вёл встречу Председатель Совета и исполнительный директор Московского интеллектуально-делового клуба, доктор социологических наук, профессор, проректор Российского государственного социального университета Михаил Кодин.
О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
Сразу несколько серьёзнейших книг, посвящённых размышлениям об исторических путях нашего государства, анализу российских реформ и поиску максимально разумных альтернативных решений, было выпущено в конце 2006–первой половине 2007 года Институтом экономических стратегий совместно с Международной Академией исследования будущего и её российским отделением – Академией прогнозирования. Наиболее интересными и доступными для рядового читателя окажутся, наверное, книги мемуарно-очеркового жанра, представленные солидным томом академика РАН, доктора экономических наук, профессора О.Т. Богомолова "Раздумья о былом и настоящем" и книгой воспоминаний участника Великой Отечественной войны А.М. Дорохова "Прошу слова" (с предисловием генерального директора Института экономических стратегий РАН, президента Международной академии исследований будущего, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН А.И. Агеева).
Эти издания представляют собой личные воспоминания и размышления авторов о выпавших на их судьбу годах, и воспоминания, проецирующиеся на проис- ходящие сегодня в стране перемены и поиск оптимальных путей реформирования России.
С не меньшим интересом читаются и книги известного историка, философа, социолога, политолога, футуролога, культуролога, писателя и публициста И.В. Бестужева-Лады "Моя богоданная Россия: Очерк истории восьми диктатур (862–2000-2007)" и "Очень уж краткая история человечества с древнейших времён до наших дней и даже несколько дольше", в которых автор пробрасывает аналитическую нить от давно минувших дней существования Государства Российского до ещё не наступивших, но уже исследуемых взором учёного перспектив нашего общего грядущего. Написанные живым публицистическим языком, книги Бестужева-Лады не менее интересны, чем исторические или футурологические романы. И дают вместе с тем богатейший материал для размышлений о судьбе России и способах реформирования государства.
Самыми трудными для неподготовленного читателя и в то же время самыми информационно насыщенными (а значит, максимально полезными для специалистов) представляются книги "Малая российская энциклопедия прогностики" и "Россия и мир: взгляд из 2017 года", помогающие всем, кто профессионально занимается социально-экономическими прогнозами или серьёзно увлекается этой областью знаний, лучше понять, каким образом происходит прогнозирование нашего экономического будущего и какие факторы влияют на осуществление (или неосуществление) составляемых для нас правительством экономических планов.
Главное, что объединяет эти разноплановые издания и делает их причастными к категории высокой литературы, – это присутствующая в каждой книге неподдельная боль за Отечество, искренняя любовь к России и стремление помочь своими знаниями, профессиональным и жизненным опытом её экономическому, политическому и гражданскому становлению. Народ России должен жить достойно и счастливо – вот та мысль, которая отчётливо звучит во всех выше названных книгах поверх приводимых в них формул и графиков. И именно эта мысль должна быть главной при планировании любых революций и реформирований государства.
13-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА
В Союзе писателей России состоялась встреча писателей с представителями посольства КНДР. Встреча была организована Обществом дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, руководит которым А.М. Семёнов, и была посвящена 13-летней годовщине со дня смерти товарища Ким Ир Сена.
Во встрече приняли участие первый секретарь СП России Г.В. Иванов, секретарь СП России Н.М. Сергованцев, поэт С.Ф. Анисенков и другие.
Был организован просмотр кинофильма о Великом вожде Корейского народа.
На встрече было отмечено, что Ким Ир Сен был выдающимся мыслителем-теоретиком, создавшим идеи чучхе, был ни с кем не сравнимым военным стратегом, победившим в двух войнах с хищниками японского милитаризма и американского империализма, был великим политическим деятелем, превратившим свою страну в процветающую социалистическую державу, добившуюся сегодня поразительных успехов в экономике, науке и культуре.
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
26 июня в Союзе писателей России состоялось вручение ордена Петра Великого I степени семье Михаила Алексеева. Эта награда Академии безопасности и правопорядка готовилась к вручению большому писателю ещё при его жизни, но так случилось, что была вручена посмертно. На церемонии награждения присутствовали В.Ганичев, М.Борисов, Г.Иванов, Ю.Лощиц, С.Котькало, И.Янин, Н.Дорошенко, Я.Мустафин и другие.
Из рук Героя Советского Союза М.Борисова награду приняла внучка М.Алексеева, Ксения.
В.Н. Ганичев отметил, что широта воспоминаний, которая охватывает порой многих друзей этого замечательного человека, огромна. Вспоминаются поездки вместе с ним по земле русской – и на его родину, и в Сталинград. Академия безопасности и правопорядка в своё время отозвалась на письмо СП России о награждении М.Н. Алексеева.
"Пусть этот орден всегда напоминает потомкам о литературном и жизненном подвиге писателя, – сказал М.Борисов. – Пусть он передаётся в семье из поколения в поколение, из рода в род". Внучка писателя Ксения, которой когда-то дед посвятил один из лучших своих романов "Драчуны", с благодарностью приняла награду, обещая впоследствии передать её своему сыну Саше, правнуку Михаила Николаевича, которому нынче всего три года от роду.
О ПОВСЕМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ БУКВЫ Ё
Департамент государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России рассмотрел письмо Союза писателей России о повсеместном введении буквы Ё(ё) и сообщает.
В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по русскому языку, принятыми на выездном заседании в г. Иваново (протокол от 13 апреля 2007 г. № 6), в федеральные органы исполнительной власти и в администрации субъектов Российской Федерации были направлены рекомендации по употреблению буквы "ё".
Ныне буква Ё содержится в более чем 12500 словах, 2500 фамилиях граждан России и бывшего СССР, тысячах географических названий России и мира, имён и фамилий граждан зарубежных государств.
В связи с бурным развитием типографской деятельности в конце XIX века буква Ё стала вытесняться из текстов похожей внешне, но совершенно другой буквой Е. Это явление имело экономическое обоснование: наличие буквы Ё вызывало при литерном или линотипном наборе дополнительные материальные затраты. Сейчас наличие в тексте буквы Ё при компьютерном наборе и вёрстке любым кеглем и гарнитурой к удорожанию печати не ведёт.
ВИЗИТ БАШКИРСКИХ ДРУЗЕЙ
В рамках Дней Республики Башкортостан в Москве, посвящённых 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России, в Правлении Союза писателей России побывала делегация башкирских писателей во главе с руководителем СП Республики Башкортостан – Народным поэтом Башкирии Равилем Бикбаевым.
С приветственным словом к гостям обратился председатель Союза писателей России В.Н. Ганичев, давший высокую оценку творческому уровню современной башкирской литературы, а также отметивший непредставимо высокую для сегодняшней России заботу руководства Республики о своих писателях. Так, например, Президент и Правительство Башкортостана по-прежнему помогают писателям решать их жилищные проблемы, выделяя квартиры для членов писательского союза; книги башкирских авторов регулярно издаются республиканским издательством в рамках национальных культурных программ; живущие в Республике писатели получают за свои произведения гарантированные гонорары; в Башкортостане выходит несколько журналов на башкирском, татарском и русском языках; а, кроме того, в течение вот уже нескольких лет в Башкирии ежегодно вручается авторитетная и ощутимая в денежном выражении Аксаковская премия – причём эта премия не ограничена рамками одного лишь Башкортостана, а вручается писателям из всех регионов Российской Федерации, наиболее ярко проявившим себя в литературном творчестве.
Выступая с ответным словом, заведующий отделом культуры и национальных отношений Кабинета министров Республики Башкортостан Буранбай Кусянбаев зачитал приветственный адрес Союзу писателей России, подписанный Президентом Башкортостана М.Г. Рахимовым.
"Единственным оружием писателя, способным защитить добро и отразить зло, является слово", – сказал, выступая вслед за Буранбаем Кусянбаевым, председатель Союза писателей Башкортостана Равиль Бикбаев. Однако, добавил он, чтобы этим словом можно было пользоваться с максимальной эффективностью, писатель сам должен быть защищён государством от всех катаклизмов своего времени, а потому – писателям России сегодня жизненно необходим Закон о творческих союзах, из-за отсутствия которого они уже два десятилетия находятся вне зоны действия Российской Конституции.
Во встрече приняли участие также заместитель председателя Исполкома Всемирного Курултая башкир Кадим Аралбаев, Народный поэт Башкирии Марат Каримов, поэты Тимур Юсупов, Азамат Мудашбаев, прозаик Юрий Горюхин, редактор башкирского сатирического журнала "Вилы" Марсель Салимов и другие члены делегации СП Башкортостана, а также их московские друзья – секретари Союза писателей России Г.И. Иванов, В.Г. Середин, Н.В. Переяслов, заместитель главного редактора журнала "Наш современник" Александр Казинцев, главный редактор газеты "Российский писатель" Николай Дорошенко, прозаик Ямиль Мустафин, поэт Константин Скворцов и многие другие.
По окончании секретариата в конференц-зале Союза писателей России состоялся литературно-поэтический вечер с участием башкирских и московских авторов.
На следующий день члены Правления СП России были приглашены в Московский театр "Новая опера" им. Е.В. Колобова на гала-концерт мастеров искусств Республики Башкортостан, который открылся приветственными выступлениями мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова и Президента Башкортостана Муртазы Губайдулловича Рахимова, за которыми последовала концертная программа, представившая высочайшее мастерство башкирских артистов. Закончился этот изумительный вечер праздничным ужином в саду "Эрмитаж", где, продолжая слушать песни и приветственные речи, гости праздника угощались кумысом и национальными башкирскими блюдами.
В этот же день в Московском государственном выставочном зале "Новый манеж" в Георгиевском переулке открылась выставка достижений Республики Башкортостан.
Ещё более ярким и массовым стал третий из Дней Республики Башкортостан в Москве, во время которого в конно-спортивном комплексе "Битца" состоялся национальный праздник башкирского и татарского народов – "Сабантуй". На нём зрителям были подарены мелодичные башкирские песни, зажигательные пляски и вызывающие всеобщее восхищение номера верховой езды – с метанием копья в цель из седла и стрельбой из лука. На других площадках в это время шли соревнования по национальным видам борьбы, выступления художественных коллективов, а вокруг них работали многочисленные лотки, ларьки, стенды и палатки, в которых продавались и демонстрировались изделия мастеров художественных промыслов, продукция башкирских предприятий лёгкой промышленности, сувениры, книги, памятные альбомы, игрушки, башкирский мёд, а также вовсю кипела торговля шашлыками, пловом, чак-чаками, и, конечно же, щедро лился в стаканы белоснежный и веселящий душу напиток дружбы – кумыс.
В ПОСОЛЬСТВЕ БЕЛОРУССИИ
29 июня в посольстве Республики Беларусь состоялся приём по случаю празднования Дня Независимости Республики и 15-ти летия установления дипломатических отношений её с Российской Федерацией.
На приёме присутствовали представители аппарата правительства РФ, депутаты госдумы, деятели науки и культуры обеих стран, а также делегаты от СП России во главе с Л.Г. Барановой-Гонченко.
"Мы отмечаем главный государственный праздник – день республики, – сказал посол Белоруссии Василий Долголев. – Исполнилось 15 лет со дня установления дипломатических отношений между республикой Беларусь и РФ. К этой важной дате приурочен визит в нашу страну министра иностранных дел РФ С.Лаврова. Переговоры дали новый импульс межгосударственному диалогу.
В Москве состоялось очередное заседание Совета Министров Союзного государства, прошли переговоры премьер-министров Белоруссии и России. Обсуждены актуальные вопросы союзного строительства, намечены пути решения проблем двухстороннего сотрудничества.
Нас радует, что мероприятия, посвящённые Дню независимости Беларуси, были организованы во многих городах России. Многие ветераны Великой Отечественной войны находятся в эти дни на торжествах на белорусской земле.
Всё это свидетельствует о том, что взаимодействие наших государств становится всё более динамичным, принося ощутимые результаты народам обеих стран. Белорусы и россияне были и остаются народами-братьями, и узы этого братства сегодня так же крепки, как и в суровые военные годы."
В.Б. Долголев передал праздничное приветствие А.Г. Лукашенко, в котором особые слова признательности адресованы ветеранам, тем, кто в годы войны сражался на земле Беларуси ради её освобождения, ради светлого сегодняшнего дня.
"Празднуя день независимости, – говорится в приветствии, – мы белорусы прекрасно понимаем, как много ещё нужно сделать для процветания страны. Будет ещё немало испытаний, но мы знаем, что гарантией новых достижений на нашем пути будет свобода и независимость родного Отечества, трудолюбие народа."
ГОНЧАРОВСКИЙ ПРАЗДНИК НА ВОЛГЕ
Исполнилось 195 лет со дня рождения автора романов "Обрыв", "Обыкновенная история" и "Обломов", а также описания кругосветного плавания на фрегате "Паллада", и в честь этого события в Ульяновске, на родине И.А. Гончарова, прошли торжества, в которых приняла участие делегация Союза писателей России.
Организаторы 195-летней годовщины Гончарова сумели превратить приуроченные к этому дню мероприятия в поистине всенародный праздник. Думается, что немалую долю дополнительной энергии для этого они почерпнули из Указа о предстоящем через пять лет праздновании 200-летнего юбилея великого писателя в общероссийском масштабе, который не так давно подписал Президент Российской Федерации В.В. Путин.
В первый день праздника в Ульяновском Дворце книги уже во второй раз состоялось вручение Всероссийской литературной премии им. И.А. Гончарова, учреждённой Администрацией Ульяновской области и Союзом писателей России. Награду в номинации "художественная проза" губернатор области Сергей Иванович Морозов вручил талантливому архангельскому прозаику, главному редактору журнала "Двина" Михаилу Константиновичу Попову, написавшему исторический роман "Свиток", посвящённый судьбе и личности М.В. Ломоносова, а в номинации "литературоведение" – исследователям творчества И.А. Гончарова Ольге Демиховской из города Ярославля и Юлии Алексеевой из Ульяновска.
На следующий день в парке "Винновская роща" прошёл XXIX Всероссийский Гончаровский праздник, на котором зрители могли посидеть на "обломовском" диване, отведать знаменитые сенгилеевские блины, посмотреть спектакль театра кукол и торжественный концерт в летнем театре. Специально к этому дню Ульяновский театр драмы подготовил премьеру спектакля по роману "Обломов".
Делегация Союза писателей России в составе Юрия Пахомова (Носова), Ивана Тертычного, Светланы Вьюгиной, Марины Переясловой и других встретилась в библиотеках города с читателями и писателями Ульяновска, в частности – с Геннадием Дёминым, Еленой Кувшинниковой, Светланой Матлиной, Александром Лайковым, Лидолией Никитиной, главным редактором журнала "Мономах" Ольгой Шейнак и другими, горячо интересовавшимися ситуацией в сегодняшней российской литературе и делами в Союзе писателей России.
Кроме того, они побывали в музейном комплексе "Усадьба Языковых" и в доме художника Пластова в его знаменитой деревне Прислонихе, посетили гончаровскую беседку над Волгой и знаменитый гончаровский обрыв, побывали в нескольких музеях города, сфотографировались возле памятника букве "ё", а также совершили прогулку на яхте по волжской шири.
И повсюду они ощущали на себе искреннее тепло и заботу организаторов праздника – специалистов музейного дела, а также работников Центральной городской библиотеки имени И.А. Гончарова и ульяновского Дворца книги А.В. Лобкарёвой, И.В. Смирновой, И.В. Земсковой и Ю.К. Володиной, проявивших глубокие знания истории родной культуры и горячую любовь к И.А. Гончарову, его судьбе и творчеству.
НОВЫЕ КНИГИ
Виктор ПОТАНИН. Собрание сочинений в 5 томах. Курган, 2007.
С 19 по 22 июля пройдёт на Алтае очередной Шукшинский праздник. На нём впервые будет вручена литературная премия имени Василия Макаровича Шукшина. Вручаться она будет раз в два года и только одному претенденту. Номинал её – 150 тысяч рублей. Уже состоялось заседание комиссии, которая приняла решение за большой вклад в современную русскую литературу и в связи с выходом пятитомного собрания сочинений в этом году вручить премию Виктору Фёдоровичу Потанину, которому 14 августа этого года исполнится 70 лет.
Главный итог его плодотворной жизни – книги. Написанные болью его души. Тем прекрасным русским языком, какой уже не встретишь на газетных страницах и не услышишь с экрана телевизора. Потанин в своих книгах сохраняет высокие традиции литературного языка – чувственного и трепетного, образного и многозначного. Это очень серьезно – быть хранителем родного языка. И пусть сегодня читают мало, пусть читают "легкие жанры", но на полках библиотек стоят книги. И пока они есть, не прервётся связь времен – от поколения к поколению, от сердца к сердцу.
Грибанов С.В. Крест Цветаевых: Историко-литературный очерк. – М., 2007. – 502 с., илл.
Эта книга о большом русском поэте Марине Цветаевой, близких ей людях, времени революционных бурь, потрясений и духовного напряжения нашего народа. Долгие годы знакомства с семьей Цветаевых, работа в архивах и спецхранах позволили автору собрать малоизвестные материалы, первым рассказать правду о сыне Марины Ивановны. Впервые здесь публикуются и все сохранившиеся у автора рисунки Георгия, а также редкие снимки ушедшей в историю эпохи.
Книга – не истина в последней инстанции и представит несомненный интерес для тех, кто ещё не разучился думать. Она будет хорошим подспорьем отрокам – в качестве пособия для сочинений на свободную тему.
Шаг к свету
Московское издательство "Оникс" выпустило в свет книгу-альбом члена СП Росии, поэтессы и фотохудожника Алёны Лариной "Шаг к свету".
В книге представлены не только стихотворения автора, но и великолепные фотоэтюды. Причём, каждая фотография сопровождена стихотворным текстом, достойным внимания искушённого читателя. Стихи переведены на французский язык, что, несомненно, расширит круг читателей.
Яркая метафоричность, сочные живые эпитеты, выверенная композиция – всё это делает книгу интересной и современной. Кстати говоря, именно "созвучный сложному времени симбиоз" традиционных духовных ценностей и современных ориентиров в целостной поэтической картине отмечен Ларисой Барановой-Гонченко в её предисловии к сборнику. Действительно – жизнь человеческого сердца, его метания и всполохи, его жажда познать глубины бездны и бесконечность небес, а также экзистенциальная насыщенность монологов лирической героини заставляют читателя предельно внимательно читать стихи и – фотографии. Поскольку они всей своей цветовой гаммой работают на главную мысль автора: "Молитвенным, слёзным мерцанием слов" обрести Свет.
Стихи Алёны Лариной – это всплески воздуха под крыльями, это та опора, искрящаяся и туманящаяся, на которой держится ее крылатая душа. Уберите опору – и рухнет страждущая небесных высот сущность.
Не потому ли от стихотворения к стихотворению растет мастерство поэтессы, как мастерство полёта, ведь сверхзадача – не упасть – диктует ей лучшие строки, и результаты ее поэтических опытов воодушевляют.
Борьба внутренних сил показана ярко, выпукло, психологически точно. "Шаг к свету" – книга удивительно цельная. Здесь чувства сгущены до предела. И вдруг – ощущение "легкости" бытия, когда сердце читателя как бы выпускается на свет из тьмы неосознанных желаний и хотений. Героиня стихов Алены Лариной – личность незаурядная, круг её интересов широк. Она открывает мир, как шкатулку с драгоценностями, она горько плачет и по-настоящему страдает. Обладая поэтическим взглядом на все окружающее, радуется первому лучу солнца и первым шагам ребенка, встречает рассвет в горах и любуется закатом среди морских скал.
Путь к Свету начинается с того, что душа человеческая делает шаг из тьмы. И он, этот шаг, самый трудный, но и самый важный. Что ж, пожелаем читателям книги и её автору пройти по этому пути, сделав первый шаг вместе.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БАЛЬМОНТА
Фестиваль, посвящённый 140-летию со дня рождения классика русской поэзии "серебряного века" Константина Бальмонта прошёл на родине поэта – в Ивановской области.
Основные мероприятия проходили в городе Шуе и деревне Гумнищи бывшего Шуйского уезда, где он родился. Многие стихи поэта, особенно поздние, навеяны воспоминаниями именно о родной для него Шуйской земле. (Кстати сказать, в той же гимназии, где учился Константин Бальмонт и которая стала сегодня школой № 2, носящей его имя, учился и наш современный поэт – Виктор Верстаков.)
Нельзя не отдать должное нынешнему губернатору Ивановской области Михаилу Александровичу Меню, а также областному комитету по культуре, главе города Шуи Александру Алексеевичу Маслову и Ивановской областной писательской организации – фестиваль прошёл с необычайным размахом, был хорошо организованным и глубоко содержательным.
Специально к его началу было подготовлено и издано несколько книг самого поэта и книги о нём (среди которых особенно запоминается великолепно оформленный том избранных стихов и прозы "Под новым серпом", выпущенный издательством "Талка"). На праздник были приглашены не только российские, но и зарубежные гости, в частности, – восьмидесятилетняя дочь Бальмонта Светлана Константиновна Шаль, приехавшая на этот праздник из США.
В рамках торжеств прошли Бальмонтовские чтения, была открыта художественная выставка, поэты читали свои стихи, артисты исполняли романсы и песни на стихи Константина Дмитриевича, очень много выступало школьников…
Кульминацией фестиваля стало первое вручение Всероссийской литературной премии имени К.Д. Бальмонта, инициаторами учреждения которой выступили некоторое время назад ивановские писатели.
Первыми лауреатами премии стали поэтесса из города Кирова Светлана Сырнева и ивановские литературоведы П.В. Куприяновский, посмертно, и Н.А. Молчанова за книгу "Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба".
Вручали премию заместитель губернатора О.А. Хасбулатова и первый секретарь Союза писателей России Г.В. Иванов.
Со словом о лауреатах выступил один из крупнейших специалистов по поэзии "серебряного века" – заведующий кафедрой Литературного института им. А.М. Горького профессор Владимир Павлович Смирнов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кировоградская областная Русская община им. А.С. Пушкина (Кировоград, Украина) инициировала организацию Благотворительного фонда им. М.И. Кутузова, целью которого является всемерное увековечивание памяти великого полководца, и в том числе способствование открытию ему памятника на территории Елисаветградской крепости и созданию на этом месте историко-заповедной зоны.
С Елисаветградом (историческое название Кировограда) великого полководца Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова связывает многолетняя служба. Здесь родились и были крещены трое его детей, отсюда он уходил для участия в двух Крымских войнах, штурме Измаила и других сражениях русско-турецких войн.
М.И. Кутузов в самом широком плане связан с судьбами исторической Малороссии – современной Украины. Он исполнял должность Киевского губернатора, прекрасно проявив себя в этой роли. Полководец сорвал первоначальный план Наполеона вторгнуться в Россию через Турцию с юга, а затем в 1812 году помешал французским войскам двинуться из Москвы в киевском направлении, и таким образом дважды уберег землю Украины от разорения. Широко известен факт, что народное ополчение из исторической Малороссии активно участвовало в Отечественной войне 1812 года, одухотворённое единым для всей Руси патриотическим чувством.
В 2012 году исполняется 200 лет Отечественной войны 1812 года – важнейшему событию для России и Украины, нерасторжимо связанных между собой едиными историческими судьбами. И здесь центральной связующей фигурой, в равной мере значимой для обоих братских славянских государств, органично выступает фигура М.И. Кутузова, которая в подобном измерении приобретает интеграционный характер.
Исходя из внимания общественности России и Украины к личности великого полководца и самому широкому кругу связанных с ней проблем исторической памяти, чрезвычайно актуальных для современной духовной ситуации, в деятельности фонда будет проводиться идея общего духовного и культурного пространства Украины и России, нерасторжимой связи прошлого, настоящего и будущего двух государств и народов, огромного общеевропейского значения М.И. Кутузова как творца победы над Наполеоном, во многом определившей дальнейшее развитие европейской цивилизации и демократии.
Фонд начинает выполнение своей программы: систематизацию исторических материалов о М.И. Кутузове, подготовку международного симпозиума, сбор средств на памятник полководцу и часовню.
Наши координаты:
Украина, 25006, г. Кировоград, ул. Декабристов, 20, оф. 8, тел/факс (0522)-24-90-29.
Р/с 26008101888100 в отд. № 406 АКИБ 'УкрСиббанк" г. Харьков МФО 351005, код 3429369.
(обратно)Кирилл Анкудинов С ЗОЛОТЫМ ТАВРОМ...
К ИСТОРИИ ОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЕКТА
Не утихают споры на тему: массовый интерес к тем или иным поэтам (оборачивающийся уровнем их статуса в литературной ситуации) – явление искусственное или естественное?
С одной стороны, формалисты и структуралисты, а также всевозможные жертвы победно шествующего культа технологий убеждены в том, что "в поэты" назначают, что "образ поэта" – итог целенаправленной работы идеологов, менеджеров и пиарщиков. "Пушкин – классик потому, что Пушкина сделали классиком" – таково мнение сторонников теории "искусственного происхождения литературных статусов".
С другой стороны, сохранилось романтическое убеждение, что "глас народа – Глас Божий", а поэтов почитают, исходя из объективного уровня их творчества, "по таланту". "Пушкин – классик потому, что он гений" – это точка зрения "естественников".
Когда дело доходит до XX века, эпохи "восстания масс", споры ожесточаются до белого каления. "Есенин – народный поэт" – твердят одни. "Есенина сотворили социокультурные обстоятельства, политики, издатели и критики" – отвечают им другие. "Это Бродского раскрутило ЦРУ, – закипают первые. – А Есенин славен потому, что любим народом." "Всех делают мастера актуальной литературы, – надрывается модный культуртрегер, – и Есенин сделан ими, и Высоцкий, и в наше время поэтом будут звать того, кого мы утвердим на эту роль в Новом Литературном Обозрении."
Между тем, истина (как оно обычно бывает) гораздо сложнее и многомернее, она не ограничивается предпосылками исключительно одного (либо другого) свойства. Доля истины есть как в словах "естественников", так и в соображениях "искусственников".
Я бы сравнил процесс формирования славы поэтов (и не только поэтов) с ударом молнии.
...Ни один менеджер не превратит поэта-графомана в гения. Однако умный организатор литпроцесса может подтолкнуть процесс в ту или иную сторону, может обратить внимание общества на достойных поэтов и этим самым вытащить их из трясины безвестности. Наиболее значимые явления вылетают грозными электроразрядами из социальной подпочвы без содействия идеологов. Но, при всём при том, верна поговорка: талантам надо помогать.
Я хотел бы обратиться к опыту Вадима Кожинова, человека, проделавшего сложную эволюцию: от теоретика литературы к публицисту, историческому политологу и автору глубоких социокультурных расследований (замечу, что на протяжении всего этого пути и во всех ипостасях Кожинов оставался идеологом). В середине этой эволюции (с конца шестидесятых по начало восьмидесятых годов) Вадим Кожинов сознательно взял на себя роль "профессионального делателя поэтов". Он осуществил проект по внедрению в литературную ситуацию и в сознание советской аудитории поэзии определённого вектора (не стиля, не жанра, даже не течения, а именно – вектора). Имеет смысл исследовать некоторые параметры данного проекта вкупе с его итогами.
В конце шестидесятых годов XX века "эстрадная поэзия", доселе задававшая тон и собиравшая стадионы, начинает буксовать. Советскому читателю приедаются эскапады Евгения Евтушенко и эксцентриады Андрея Вознесенского. Что далеко не случайно. Уходит в прошлое человеческий тип, явленный в стихах этих авторов – юный шестидесятник с распахнутыми глазами, дерзкий экстраверт, непрерывно открывающий окружающий мир (и открывающий себя в этом мире) – уходит в разных вариантах – как в демократическом варианте лирического героя поэзии Евтушенко, так и в конструктивистско-технократическом варианте лирического героя поэзии Вознесенского. Во многом это связано с провалом хрущёвской оттепели, к 1968-1969 гг. ставшим совсем уж очевидным. Шестидесятнические иллюзии развеиваются, в советском обществе возникает понятное желание отдохнуть от стрессов и сумасбродств (фактически создающее психологические основы того социополитического и социокультурного явления, которое позже будет названо "застоем"). Вектор коллективных предпочтений от "светлого грядущего" смещается в прошлое, нарастают эскапистские и пассеистические настроения. Всё это, взятое вместе, подпитывает характерный для "эпохи застоя" культ классики (замечу: семидесятые-начало восьмидесятых – время расцвета киноэкранизаций произведений классической литературы).
Параллельно этому происходят иные – социальные – процессы. Хрущёвские указы 1961-1963 гг., урезающие приусадебные участки, разоряют советскую деревню. Крестьяне, получившие паспорта и не видящие смысла в работе на государство, в массовом порядке переселяются в города и посёлки городского типа. Через несколько лет роковые для деревни указы отменяются, но уже поздно: заинтересованность крестьян в сельском труде подорвана. В конце шестидесятых годов Советский Союз накрывает волна урбани- зации, катящаяся по всему миру. Мощно развиваются города, что требует дополнительных рабочих рук. Переезд сельских жителей в города усиливается на несколько порядков. Русская деревня получает смертельный удар (она будет пытаться оправиться от него в течение двух десятилетий, но так и не оправится). Это вызывает у советской интеллигенции чувство вины и скорби (сопоставимое с аналогичным чувством, вызванным у российской интеллигенции распадом сельской общины в пореформенные шестидесятые годы XIX века). "Деревенская Атлантида" горько оплакивается интеллигентами-горожанами. Всемерно возрастает интерес к творчеству прозаиков-деревенщиков, таких как Василий Белов, Валентин Распутин, Виктор Астафьев (кстати, Вадим Кожинов активно пропагандирует творчество этих прозаиков). Нарастает потребность в оформлении аналогичного течения в поэзии.
Стихийно оно уже сложилось. В статье "Заметки о поэтических веяниях последних лет" (1972 г.) Кожинов не без удовлетворения фиксирует изменения характера заголовков поэтических сборников, вышедших в 1971 году по отношению к заголовкам сборников, появившихся в 1968 году. По-шестидесятнически яркие, романтические, монохромные, экспрессивно-метафоричные и абстрактные названия книг (такие, как "Зелёное солнце", "Синий меридиан", "Тревожный парус", "Лунная скала", "Винтовая лестница" и "Радар сердца") сменяются названиями простыми, неброско-реалистическими, размыто-акварельными, ландшафтными, доверительными и подчёркнуто русскими (такими, как "Полустанок", "Околица", "Перелески", "Берёзовые блики", "Улетают журавли", "Ещё один сентябрь", "Прощание с зимой", "Ожидание урожая" и "Лён колоколится"). Эти, казалось бы, чисто внешние перемены знаменовали важный поворот в направленности советской поэзии.
Отмечу ещё один важный аспект: в семидесятые годы под ветшающим покровом марксистско-ленинской идеологии ведётся глухая, подспудная, во многом неясная для самих её участников, недопрояснённая в отношении терминов и определений, зачастую эвфемистическая, но при этом очевидная, яростная и с каждым годом нарастающая война между западническо-космополитической и консервативно-национальной интенциями. В недрах советско-партийного аппарата складываются "либеральная партия" и "русская партия"; у каждой из этих партий есть свои покровители на высших уровнях государства (вплоть до уровня Политбюро), есть свои организаторы, пропагандисты, агитаторы и "культовые фигуры". Один из самых умных идеологов "русской партии" Вадим Кожинов выстраивает ведущие концепты её культурной политики. "Поэтический проект" Кожинова более чем удачно вписывается в эти концепты.
Кожинов начинает с того, что чётко очерчивает границы собственного проекта, разделяя всех современных ему поэтов на две категории.
При этом он оперирует концептом, созданным Иваном Киреевским и подхваченным В.Белинским и Н.Добролюбовым, выделявшими в текущей литературе "высокое искусство слова" ("поэзию" в терминологии Белинского) и "беллетристику".
"Беллетристика не есть творчество в полном и прямом смысле слова. В её произведениях не создаётся самобытный, органический, как бы саморазвивающийся художественный мир, который немыслим без сотворения столь же самобытного и органического художественного стиля" ("О беллетристике и моде в литературе", 1972-1974 г.).
В поэтической деятельности Кожинов разграничивает "лёгкую поэзию" (стихотворчество) и "серьёзную поэзию" (собственно поэзию).
"Стихотворец схватывает насущнейшие сегодняшние настроения и выражает их осязаемо для всех. Он говорит то, что в данный момент у каждого просится на уста. И пусть его слово живёт недолго – оно за свою короткую жизнь может сделать очень много, может облететь целый мир.
У поэта другая цель. Он идёт, а не бежит. Он вслушивается в неясные подземные гулы, он говорит людям то, что без него не только бы не было выражено в слове, но и осталось бы неосознанным" ("Поэзия лёгкая и серьёзная", 1965).
Несмотря на то, что Вадим Кожинов оговаривает значимость (правда, разную значимость) и "поэтов", и "стихотворцев" для общества, их ценность для него далеко не равнозначна.
…В отношении литературного наследия процесс канонизации уже свершился. Но как же быть с современными стихами? Какие из этих стихов суть "поэзия", а какие – "стихи" и только?
Проще с зарифмованными очерками Евгения Евтушенко или Андрея Вознесенского; они вполне подпадают под определение "лёгкой поэзии" (и несут в себе все признаки, сопутствующие "лёгкой поэзии"). Но вот проблема: два поэта – Николай Заболоцкий и Арсений Тарковский. Они достаточно близки друг к другу, но стихи Заболоцкого Кожинову нравятся, а стихи Тарковского – не нравятся (и вдобавок современник Кожинова Тарковский входит в противоположный идейно-политический стан). Кожинов поясняет свою позицию, вскрывая исторические корни поэтики Тарковского, доказывая, что они восходят к советскому неоклассическому ("лефо-акмеистическому") авангарду двадцатых годов. Но как сие обстоятельство может помешать им стать явлением "высокой поэзии"?
…Да, Вадим Кожинов был субъективным критиком. А почему критик не должен быть субъективным? Да, он пытался работать "профессиональным творителем литературных репутаций", литературмейкером (замечу: в позднесоветской трясине проявлять себя на этом поприще было нелегко). Но разве плохо, когда критик открывает для широкой публики новых прекрасных поэтов или выводит на первый план тех, кто доселе пребывал в тени? Пора отбросить советское ханжество. Литература есть поле битвы разнонаправленных проектов. О значении этих проектов следует судить по тому, удаются они или нет (и насколько удаются). Посмотрим, в какой мере Вадиму Кожинову удался его "поэтический проект"...
Он выстроился вокруг двух базовых концептов – концепта "классики" и концепта "деревни", и в соответствии с этими концептами в центре проекта Кожинова оказались два поэта, внешне едва ли не противоположных друг другу, а по сути довольно близких – Владимир Соколов и Николай Рубцов. Соколов в рамках проекта отвечал за "классику". Рубцов – за "деревню".
Горожанин и интеллигент, москвич (волей обстоятельств родившийся вне Москвы), сын инженера и учительницы, племянник известного в своё время писателя Михаила Козырева, Владимир Соколов стал издаваться давно, с начала пятидесятых годов, но долгое время слабо замечался читательской аудиторией, будучи оттеснён на обочину буйной ватагой "эстрадных поэтов". Именно поэзия Владимира Соколова вызвала к жизни броско-шаблонный термин "тихая лирика" (к слову, Кожинов не был его поклонником). Ни Анатолия Жигулина, ни Николая Рубцова, ни Олега Чухонцева – всех тех, кого подвёрстывали под "тихую лирику" – нельзя было с достаточным на то основанием назвать "тихими"; Владимир Соколов подходил под это определение почти идеально. Певец уютных московских двориков, снежной городской зимы, чарующих весенних туманов, вокзалов и глухих паровозных гудков, он мягко сочетал в своих стихах классические (фетовские) традиции и благородно-сдержанную ностальгичность. В творчестве Соколова чётко прослеживалось романсовое начало, что не могло не импонировать Кожинову, заядлому домашнему исполнителю романсов.
Вот мы с тобой и развенчаны.
Время писать о любви...
Русая девочка, женщина,
Плакали те соловьи.
("Венок")
Именно это обстоятельство сделало поэзию Соколова мишенью критики, находившей сладкозвучие такой поэзии несколько чрезмерным и подозревавшим её закруглённый, красиво самодостаточный мир в стилизованности.
...Наверное поэтому, обращаясь к поэзии Владимира Соколова, Кожинов неизменно делает упор на её гражданственности, на нерасторжимом сплаве личного и общественного в этой поэзии. Следует отметить, что превосходный лирик Соколов менее всего был публицистом. Будучи близким другом Вадима Кожинова, он не принял никакого участия в идеологических баталиях перестройки и постперестройки, равно привечался за свои высокие человеческие качества во всех станах и подчёркнуто держал себя вне политики.
В случае с Владимиром Соколовым итог его сотрудничества с Кожиновым оказался прост: критик помог хорошему поэту, привлёк к нему влияние публики (при этом, никак не повлияв на его творчество и почти ничего не получив от него в идеологическом аспекте).
Не так обстояло дело с Николаем Рубцовым...
Иной – суровой и горькой – была его биография, неотделимая от впечатлений, которые Рубцов вынес из детства и ранней юности. Детдомовец, сирота при живом отце, с шестнадцати лет кочегаривший на рыболовецком судне ("Я весь в мазуте, весь в тавоте, зато работаю в тралфлоте"), затем служивший матросом на эсминце, он был долгое время оторван от культуры и истово тянулся к ней. По окончании службы "маленький кочегар" самозабвенно включается в кипучую жизнь богемы Ленинграда. Он посещает высоко котирующееся литературное объединение "Нарвская застава". У него хорошие отношения с Глебом Горбовским, он с ревнивой опаской интересуется фигурой Иосифа Бродского, сначала триумфально гремящего в ленинградских салонах, а затем ссыльного (в архиве Рубцова были обнаружены телефон Бродского и переписанное от руки стихотворение Бродского "Слава"). Более того, Рубцов в этот период жизни причисляет себя к кругу "формалистов"…
Николай Рубцов мог бы бесславно затеряться в лихорадочном богемном житье-бытье; этому весьма способствовали некоторые особенности его натуры, сформированные детдомовским воспитанием. Рубцов был похож на бодлеровского альбатроса: он жил исключительно поэзией и никак не мог приспособиться к быту и реальности. Инфантильный, скрывающий неуверенность в себе за пьяным куражом и нервной заносчивостью, безнадёжно выпадающий из социальных иерархий, одним лишь внешним видом вызывающий мгновенную профессионально-отработанную ненависть у советских чиновников, комендантов общежитий и ресто- ранных метрдотелей, оборванный, постоянно голодающий, он не мог не обойтись без опытного и умного наставника. Которым стал Вадим Кожинов.
Знакомство Рубцова с Кожиновым состоялось в августе 1962 года в Москве (после поступления поэта в Литературный институт им. А.М. Горького). Критик был ошеломлён талантом Рубцова. С этого времени Николай Рубцов становится главной звездой "кожиновской плеяды поэтов".
Личностное влияние Кожинова на Рубцова было взаимным. Пользуясь лексиконом эзотериков, можно сказать, что Кожинов помог осуществить "точку сборки" творчества Рубцова, открыл ему самого себя как поэта. Благодаря Кожинову и его кругу Рубцов осознал, что самое ценное в его стихах – именно то, чего он ранее немного стеснялся: простота, искренность, детская непосредственность, происхождение из русского северного села. После встречи Рубцова с Кожиновым меняется его поэзия: из неё исчезает напускная мужественность, в ней появляется характерный смысложест трепетно-истомного замиранья перед громадой многосложного мира.
Сорву я цветок маттиолы
И вдруг заволнуюсь всерьёз:
И юность, и плач радиолы...
("Тот город зелёный")
За мною захлопнулась дверца,
И было всю ночь напролёт
Так жутко и радостно сердцу...
("На автотрассе")
Возникает ещё одна черта стихов Рубцова – их удивительная мерцающая просветлённость, созданная виртуозным единством музыкального и изобразительного рядов (именно эта черта принесла поэзии Рубцова славу).
Россия! Как грустно!
Как странно поникли и грустно
Во мгле над обрывом
безвестные ивы твои!
Пустынно мерцает
померкшая звёздная люстра,
И лодка моя
на речной догнивает мели.
И храм старины,
удивительный, белоколонный,
Пропал, как виденье,
меж этих померкших полей, –
Не жаль мне, не жаль мне
растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне
разрушенных белых церквей!...
О, сельские виды!
О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел,
под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я,
как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья
и больше не видеть чудес!
После трагической гибели, произошедшей в 1971 году, Николай Рубцов стал главной канонической личностью поэтического проекта Вадима Кожинова. Все поэты "русской партии" поверяли свои стихи по живому эталону поэзии Рубцова. Масштабность и центральность этой фигуры не вызывала сомнений ни у одного из представителей "консервативно-национального стана". Даже многие идеологические противники данного стана с уважением отзывались о творчестве Рубцова; однако с их стороны посыпались упрёки на его наставника – Вадима Кожинова. Ленинградский друг Рубцова Эдуард Шнейдерман и неистовый архивариус поэтического самиздата Константин Кузьминский обрушили на Кожинова (и на весь круг Кожинова) град инвектив: по их мнению, складывавшийся талант Рубцова был загублен идеологами нового славянофильства, не смог раскрыть весь потенциал. Обвинения такого рода представляются мне более чем несправедливыми, хотя я понимаю: поклонникам авангардного искусства не по нраву "романсовая" манера "зрелого" Рубцова (ведь "зрелый" Рубцов – не менее "романсовый" поэт, чем Владимир Соколов).
…Наряду с Владимиром Соколовым, Николаем Рубцовым, Алексеем Прасоловым, Анатолием Передреевым, Алексеем Решетовым, Василием Казанцевым в "поэтический проект Вадима Кожинова" вошли другие поэты различного плана и уровня, которые не относились напрямую к "кожиновской плеяде", а скорее были её "спутниками", "попутчиками".
Прежде всего здесь необходимо назвать имена известных поэтов старшего поколения. Рядом с "тихим лириком" Владимиром Соколовым в координатах литературной системы пребывал его суровый друг Анатолий Жигулин, бывший заключённый ГУЛАГА, прошедший через мрак Колымы и ужас урановых рудников, непревзойдённый мастер отточенных пейзажных стихотворений-офортов в стиле Ивана Бунина (а также, как откроется позже, упрятанного в стол мощно-яростного "колымского" цикла). Другая, условно говоря, "деревенская" линия "поэтического проекта Вадима Кожинова" включила в себя таких замечательных представителей старшего поколения, как Фёдор Сухов и Николай Тряпкин; Кожинов восторгался их стихами, особенно – многоцветно-песенным ("клюевским") узорочьем Тряпкина.
Полпредом ленинградской поэзии в "проекте Кожинова" стал мужественный и подчёркнуто независимый Глеб Горбовский, трубадур бесшабашно-обаятельного люмпенства (его "Фонарики" распевала вся разгульная Россия); к сожалению, поздние стихи Горбовского – начиная с семидесятых годов – значительно уступают по качеству более ранним. Поблизости от Кожинова всегда держался его неизменный соратник по идеологическим схваткам – боевитый Станислав Куняев, будущий редактор журнала "Наш современник", флагмана национал-патриотического направления в литературе (в восьмидесятые-девяностые годы Вадим Кожинов станет ведущим автором "Нашего современника"). В поэзии Куняева звучали жёсткие металлические имперско-ницшеанские ноты, что было довольно непривычно для советского уха.
Нет! Как реликтовая весть,
Рим был, и есть, и вечен будет,
коль "Горе побеждённым!" – есть,
и – "Победителей не судят!"
Отдельно от всех стоял молодой Олег Чухонцев. Поэтическая манера раннего Олега Чухонцева отличалась экспрессией, психологической убедительностью, обилием точных деталей, непривычной для "тихой лирики" густотой письма, высокой плотностью стихового ряда. Поэзия Чухонцева импонировала Вадиму Кожинову своим демократизмом, своей вовлечённостью в каждодневный мир простых людей с их нехитрыми заботами посадских жителей (судя по всему, эта поэзия в кожиновском проекте должна была связывать "городскую" и "деревенскую" линии; посад – не город, но и не деревня, а нечто среднее, промежуточное). Своим отчётливым русским звучанием, среднерусскими (подмосковными) пейзажами, открывающимися с её страниц. Наконец талантливостью: недюжинный дар Олега Чухонцева был Кожинову очевиден.
Однако Чухонцев ничем не мог помочь Кожинову в идеологическом плане, и очень скоро пути Кожинова и Чухонцева разошлись. Дело в том, что Чухонцев был убеждённым западником и индивидуалистом, отстаивающим за личностью право на "путь Чаадаева" и "путь Андрея Курбского" (кстати, его проблемы с изданием книги были вызваны тем, что Чухонцев написал стихотворение в защиту Курбского).
Все названные мной поэты (кроме Фёдора Сухова и Николая Тряпкина) вошли в составленную Вадимом Кожиновым антологию "Страницы современной лирики", вышедшую в 1980 году в московском издательстве "Детская литература".
Всех этих поэтов – по крайней мере формально – можно было вписать в расплывчато-общую парадигму, очерченную такими категориями, как "реализм", "традиционализм", "исконные ценности" (и такими концептами, как "верность Истории", "память и корни", "восприятие мира сердцем").
Но после того как в "проект Кожинова" пришёл молодой кубанец Юрий Кузнецов, эта парадигма, и прежде трещавшая по всем швам, буквально пошла вразнос.
Идеология "поэтического проекта Вадима Кожинова" направлялась против модернизма (как в его вторичном, "вознесенско-евтушенковском" варианте, так и в первооснове, напрямую идущей из "серебряного века"); Юрий Кузнецов же – был бесспорным модернистом. Основным врагом Кожинова (причём не только политическим, но и эстетическим) стал "дискурс двадцатых годов", продлённый в шестидесятые годы; Кожинов поставил перед собой задачу преодолеть, изжить этот дискурс, знаменовавший разрыв между Россией дооктябрьской и Россией послеоктябрьской, советской. Преемственность того или иного культурного явления по отношению к "дискурсу двадцатых годов" – для Кожинова формулировка, которая равносильна приговору. Однако – словно бы по злой насмешке – корни поэтики, эстетики и метафизики Юрия Кузнецова напрямую уходили в романтическую поэзию тех самых злополучных двадцатых (и тридцатых) годов – к Луговскому, Симонову и Багрицкому. Оппоненты Кожинова (в том числе, оппоненты Кожинова из своего, консервативно-патриотического стана) не преминули указать на это обстоятельство.
"...ближайшие опоры мировоззрения Ю.Кузнецова во многом прослеживаются в новом искусстве, разветвлявшемся в 10-20 годах на множество более или менее "левых" ручейков, а особенно опознаваемы – в стихотворной советской романтике 30-х годов..." (Татьяна Глушкова. "Традиция – совесть поэзии").
И более того, "проект Кожинова" был заострён не только против "русского модернизма" как локального литературного направления, но и против Модерна как процесса глобальных масштабов. Этот частный проект был элементом иного, более широкого социокультурного проекта советских неославянофилов, призванного остановить Модерн в одной отдельно взятой стране, преградить ему дорогу, создав систему Контрмодерна, основанную на спайке новых (советских) ценностей и старых (традиционных христианско-православных и общегуманистических) ценностей.
Эти попытки оказались несбыточными. Семидесятые годы XX века стали для СССР (и для России) периодом, когда "в воздухе переломилось время", своеобразной "точкой невозврата". Модерн просачивался в советскую действительность сквозь все хлипкие пространственные и временные "железные занавесы" отовсюду: с Запада и с Востока, из прошлого и из будущего.
"Человек Модерна" Юрий Кузнецов это прекрасно осознавал, равно как он осознавал и то, что советские и общегуманистические (общеевропейские) ценности несовместимы с ценностями христианскими, а также то, что все эти ценности в эпоху Модерна теряют своё былое значение.
– Отдайте Гамлета славянам!
– Кричал прохожий человек...
...И приглушённые рыданья
Дошли, как кровь, из-под земли:
– Зачем вам старые преданья,
Когда вы бездну перешли?!
("Память")
"Старым преданьям" Кузнецов противопоставил единственно полноценную, по его мнению, реальность – а именно, реальность встроенного в человеческое сознание (а главным образом – в подсознание) праисторического самовосстанавливающегося, самовоспроизводящегося Мифа. Эта реальность есть начало внепространственное (и вневременное), вненравственное, нецеленаправленное, иррациональное, внеиндивидуальное и внекультурное. Она существует как динамическая сила, влияющая на бытие и лишающая бытие его основных свойств, превращающая пространство – в не-пространство, время – в не-время, нравственность – в не-нравственность, целесообразность – в не-целесообразность, культуру – в не-культуру, индивидуальность – в не-индивидуальность. По мнению Кузнецова, человек должен стать наследником Мифа, но это удастся ему лишь при условии, что он откажется от всех проявлений рационального сознания, в том числе, от индивидуальности. Взамен он получит победительную силу (или, в терминологии самого Кузнецова, "Волю") как атрибут мощнейшего энергетического поля Мифа, к которому окажется подключенным.
В этом мире погибнет чужое,
А родное сожмётся в кулак.
("Двое")
Очевидно, что в условиях советского контроля над идеологией такая философия (восходящая к Ницше, Штирнеру, европейским "консервативным революционерам" первой половины XX века вроде Уильяма Батлера Йейтса, Томаса Стернза Элиота и Эрнста Юнгера) не могла найти ни единой возможности для своего легального выражения. Тем не менее, Юрий Кузнецов широко публиковался в советских изданиях. Его спасало то, что он облекал собственные идеи в загадочно-смутные сюрреалистические образы, которые могли иметь неоднозначное толкование. Кузнецов получил у читающей публики семидесятых годов репутацию "сложного поэта", "авгура". С другой стороны, он умел искусно скрывать свою включенность в интеллектуальную систему общемирового Модерна, производя на сторонних свидетелей обманчивое впечатление чудаковатого провинциала, не обременённого знаниями и культурой (в поэзии Кузнецова уже обнаружились скрытые цитаты из Андрея Платонова, Кендзабуро Оэ, Эмили Дикинсон, Йейтса; предвижу впереди много открытий в этом же роде).
Тем не менее, на Кузнецова обрушился шквал недоуменных протестов со стороны советской критики. Поэта упрекали в безнравственности, бесчеловечности, жестокости, в "неразличении добра и зла", в холодном рационализме, в "гигантомании", самолюбовании и саморекламе (замечу, что Кузнецов частенько давал повод к таким обвинениям). Кузнецовские фирменные афоризмы в стиле Фридриха Ницше казались многим кощунственными, а выпады "мрачного гения" против Пушкина, Чаадаева, Блока, Ахматовой, Цветаевой становились поводом к хоровому негодованию.
Вадим Кожинов, с первого раза влюбившийся в поэзию Юрия Кузнецова, стал её добровольным пропагандистом, толкователем и защитником – во всех смыслах этого слова. Он защищал Кузнецова от советских церберов, стоящих на страже "самой правильной идеологии", умело интерпретируя строки поэта в выгодном ключе; он оборонял его от ретивых критиков (и в первую очередь – от критиков либеральной направленности, таких как С.Рассадин, С.Чупринин, Б.Сарнов); он отражал атаки неповоротливых партийно-номенклатурных чиновников, встревоженных выплесками "общественного мнения"; он отвечал на читательское недоумение, объяснял широкой аудитории смысл стихотворений Кузнецова; он всемерно рекламировал творчество поэта.
"Лирический герой с его отпущенной на волю душой пребывает не в какой-либо "квартире", но там же, где пребывает герой эпический, – в том "широком поле", в том пространстве тысячелетнего бытия, где творится История. Более того, формируя собою, своей духовной волей мир стихотворения, он делает, свершает – в сфере поэтического Слова, конечно, – именно то самое, что и эпический герой.... В поэтическом мире Юрия Кузнецова совершенно иной дух человечности и любви – иной уже хотя бы с точки зрения его размаха, его меры...
У поэта не столь уж много стихотворений собственно исторического содержания. Но почти в каждом стихотворении Юрий Кузнецов стремится так или иначе "преодолеть" время, чтобы древность – даже, как говорится, глубокая древность – и живая современность, чреватая будущим, грядущим сомкнулись и сопряглись в едином целом поэтического мира...
В лучших стихах Юрия Кузнецова духовная масштабность сочетается с образной пластичностью образной ткани...
Лирический герой поэзии Юрия Кузнецова сам пребывает в широком мире, и потому добро и зло борются в его душе так же, как борются они и в мире, и в народном сознании. В этом сознании никогда не было созерцательного, рассудочного, аналитического расчленения добра и зла". ("В поэтическом мире Юрия Кузнецова", 1981.)
Появление Юрия Кузнецова в "поэтическом проекте Вадима Кожинова" вызвало неодобрительную реакцию со стороны некоторых представителей "русской партии", стоявших на традиционалистских позициях. Так Татьяна Глушкова в обстоятельной и при этом крайне эмоциональной статье "Через несколько лет. ("Русский узел" в стихах наших дней)", написанной в 1983-1985 годах и вошедшей в книгу "Традиция – совесть поэзии", обрушилась и на поэзию Юрия Кузнецова (вкупе с поэзией Станислава Куняева), и на мировоззренческие основы историософской модели, разворачивающейся в этой поэзии, и на "славянскую тему" в стихотворениях и поэмах Кузнецова, и на покровителя Кузнецова – Вадима Кожинова, и на доводы Кожинова, при помощи которых тот отстаивал кузнецовское творчество...
"...пространство, "где творится История" и где действует лирический и эпический герой Ю. Кузнецова, начисто лишено признаков жизни. Оно подобно именно "пустыне мира", некоей свищущей "чёрной дыре", и, пусть лирический герой (а точней было бы: автор) и не отчуждён от эпического, оба они обычно отчуждены от чего бы то ни было на свете, не знают, не помнят, не слышат ничего на свете, кроме своей абстрактно-героической воли, направленной на всегда сокрушительное деянье. Оба они принципиально несозидательны...
Личность – фантастическим, мистическим образом самозарождается. Её генезис – Ничто, её содержание – воля, её задача – охранение пустоты. В герое Ю.Кузнецова крепнет человек, "который ушедшим родился" и перед которым всё оседлое, вкоренённое, традиционное – мелко и заслуживает быть сдутым. Это, так сказать, генетически ушедшая личность объявляется "подлинно героической"...
Эта ожесточённая полемика стала первым звонком, первым предупреждающим знаком раскола в "русской партии", который свершится на рубеже восьмидесятых и девяностых годов... Не случайно Т.Глушкова, принадлежавшая к левому крылу "русской партии", обратившись к поэзии Ю. Кузнецова, сопрягла темы "модерна" и "капитализма"; этот ассоциативный альянс оказался своеобразным чёрным пророчеством для Советского Союза.
Подводя с высоты нынешнего времени итоги "поэтического проекта Вадима Кожинова", необходимо признать, что по некоторым параметрам сей проект оказался более чем успешным. Налицо два его несомненных (и крайне значительных) плюса. Во-первых, благодаря этому проекту на обозрение широкой читательской аудитории был выведен замечательный поэт – Юрий Кузнецов. Во-вторых, в рамках "проекта Кожинова" произошло собирание и структурирование творческого мира ещё одного прекрасного поэта – Николая Рубцова. Не будь активной, самоотверженной и чрезвычайно тонкой работы Кожинова по внедрению этих имён в советскую литературную ситуацию, Юрий Кузнецов мог бы оказаться незамеченным, а большой дар Николая Рубцова не раскрылся бы в полной мере. Отмечу, что "проект Кожинова" способствовал усилению интереса читателей к стихам других хороших поэтов – Николая Тряпкина, Владимира Соколова, Анатолия Жигулина, Глеба Горбовского, Олега Чухонцева (хотя эти поэты имели бы успех и вне данного проекта). Однако все усилия Кожинова возвысить А.Передреева и Э.Балашова оказались тщетны; не слишком удалась критику и раскрутка более ярких авторов – А.Решетова и В.Казанцева.
Но литературный процесс – слишком сложное и живое явление, чтобы меняться в зависимости от решений и технологических приёмов его устроителей – даже таких умных, опытных и работоспособных устроителей, как Вадим Кожинов. Всякий, кто захочет "руководить литературой", будет обречён вместо искомой "Индии" обнаружить никак не ожидаемую "Америку". В этом и заключается главный урок истории "поэтического проекта Вадима Кожинова".
(обратно)Александр Ананичев ПРЯМОЙ ЭФИР
ДВЕ ЛЮБВИ
Л.
Не лети на сладостные сети,
В похоти слепой не пламеней –
Ничего нежнее нет на свете
Алых губ единственной твоей.
Лишь в ее любви незаходящей
Жажду утолишь свою всегда...
Это только кажется, что слаще
Из чужого кладезя вода.
А любовь запретная обманет,
Утомит, как ветер лебеду,
Уголек дымящийся оставит
Да глухую в сердце пустоту.
Улыбнётся. Сядет на прощанье
На твою уставшую кровать...
И её ночами в наказанье,
В снах тревожных будешь окликать.
Расслоит, замучает, иссушит,
Умертвит чарующая ложь,
Если ты повенчанную душу
На костре измены подожжёшь.
Лишь в её любви незаходящей
Жажду утолишь свою всегда...
Это только кажется, что слаще
Из чужого кладезя вода.
МОЛИТВА
Я твой, о Господи!
Не покидай меня...
Пускай Ты мною снова предаваем,
Пусть это я опять Тебя распял,
Одним Тобой храним и согреваем,
Не всё ещё я в жизни потерял.
Я как свеча в руках у святотатца,
Я с двух сторон восторженно горю.
Глаза Твоих угодников слезятся,
Когда на них украдкою смотрю.
Стена меж нами мрака и печали
И океан бушующий без дна...
Пусть я Тебя с собою разлучаю –
Не покидай, безумного, меня.
Вселенную пронизываешь оком,
Всю жизнь мою провидишь на ветру...
Спаситель мой! И на костре высоком
Распухшим горлом в сумрак проору:
"Я твой, о Господи!
Не покидай меня..."
ЧЕРДЫНЬ
Л.З.
Глаза закрою – снова предо мной:
Высокий холм над Колвою рекою,
Где край земли увидишь за тайгой
И до небес дотянешься рукою.
Седая Чердынь дремлет на ветру –
Едва дрожат еловые ресницы...
Как я мечтой негаснущей горю
Твоим покоем сумрачным напиться!
Шумит ковыль, шатаясь на крови...
Любить тебя вполсилы невозможно:
И я в ладони чёрствые твои
Своё влагаю сердце осторожно.
Как возликуют, будто детвора,
Твои дома, шагнувшие к обрыву,
Когда на волю дальняя гора
Отпустит солнца розовую рыбу.
ЗЕМЛЯ МОЯ
Л. Никитиной
Земля моя – зелёное безмолвье,
В хмельных лугах застывшая река.
Вокруг меня – великое раздолье,
В груди моей – великая тоска.
И, вроде, нету повода для грусти –
Ждут за рекой отец меня и мать –
А вот охота в милом захолустье
С печалью в сердце тихо задремать.
Приснится мне, что нам пора расстаться:
За мною гости дальние идут.
И не дадут тобою надышаться,
И наглядеться вдоволь не дадут.
Спаси Христос!
На всё – Господня милость.
Целую клевер в жаркие уста...
В душе моей, как в речке отразилась
Земли родной скупая красота.
Луна за тучи выбросила парус.
Летит страна за дальнюю версту.
Что русским был, лишь тем и оправдаюсь,
В краях иных вовек не пропаду.
ВЕСЁЛЫЙ РЕЙС
Нет причин предаваться заботе – Самолет задымился на взлёте –
Ну и что! Все живые вполне...
Тоже мне, называется, горе –
Лишний день задержаться на море, Да еще в православной стране!
Ушло под снег зелёное Бордо, Дрожит земля на западе Китая...
Над нашей Варной мирная зато Луны повисла груша золотая.
Пассажиров московского рейса
В пятизвёздный уют "Эдельвейса" Вместо "Внуково" гонят чуть свет... Равнодушно взирает и тускло
На хмельных и хохочущих русских Возле бара скучающий швед.
Гуляет по Флориде ураган,
Цунами будоражит Аргентину,
Зато у нас сиреневый туман
Прилёг на виноградную долину.
За серебряный месяц
над Варной
И за наш самолет
неисправный Выпивает веселая рать:
Разливаем хмельную ракию
За Болгарию и за Россию
И за шведа, сбежавшего спать.
Когда сегодня вечером взлетим –
А мы взлетим
с пилотом бесшабашным! –
Всем, всем
далеким жителям земным
Из облаков приветливо помашем.
ОТВЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АМЕРИКАНСКОМУ ПОЛИТОЛОГУ
Был президент с утра обычно пьян
И нашей кровью по уши заляпан...
А вы тогда кричали:
"Демократ он!"
И улыбались, глядя на экран.
Страна вот-вот рванётся на куски.
А вы нам песню пели:
"Russiа, Russiа..." И к самой шее подобрались нашей, На югославах пробуя клыки.
Чего ж вы нынче лаете на нас?
Что вор – в тюрьме,
что не горит Кавказ? Что, наконец, кремлевское оконце Позолотило царственное солнце...
Дай Бог,
от злобы вечной не пропасть Вам в Бирмингеме,
Хайфе, Минесотте! Чем нашу власть вы
яростней клянете, Тем, значит,
наша праведнее власть.
(обратно)Михаил Попов ОБЛАЧНЫЙ АРХИПЕЛАГ
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕСТ-ПОЙНТ
Южный берег Крыма и о двух берегах Гудзон
поразительно, до какой степени схожи.
Только здесь слегка коверкают горизонт
кубы казарм в крокодиловой коже.
Короткий рукав. Бицепс. Шеи толще голов.
Грудь у всех колесом,
как перед смертью у Данко.
В строю замечаю, с улыбкой, смешенье полов.
Всей этой белой гвардией
командует негритянка.
Невзирая на цвет кожи, пол и рост,
все кадеты выведены из икры доктора Спока.
На обед картофель сладкий, будто побил мороз,
есть противно, хотя и знаю – он маниока.
Мы здесь на шоу под девизом
"Френд – разоружись!"
Но Бог войны не стал безопасным,
став бесполым.
Янки убеждены, что продолжится жизнь,
не нашей лаптою, а их бейсболом.
КОРМЛЕНИЕ БЕЛОК В СОКОЛЬНИКАХ
Под сосной среди хвойного зноя
оказавшись, невольно молчишь.
Вон застыло семейство смешное:
мать, отец и глазастый мальчиш.
Запрокинуты ждущие лица
всех троих неподвижных гостей.
Видно, как напряженье струится
из приподнятых кверху горстей.
Наконец, суетливо и мелко,
что-то в кроне шуршит, а потом
на коре появляется белка
с недоверчиво-пышным хвостом.
Размышляя над каждым движеньем,
применяя то шаг, то прыжок,
опускается за подношеньем
небольшой, но реальный божок.
И когда из ребячьей ладошки,
что застыла под кроной густой,
белка ловко царапает крошки,
мальчик светится как святой.
***
Войско покидает Пеллу, царь впереди.
Матери и жены застыли, так же как эта арка.
Ты стрела времени, Александр, ну что ж, лети!
Греция заканчивается палубами Неарха.
Флот торжественно снимается с якорей.
Он заполнен не только фалангами
и Буцефалами.
Тут каменщики, плотники, куча лекарей,
и геометры, и землемеры,
и Зевсы уже с пьедесталами.
Будущим нагруженные суда,
веслами царапают мрамор моря.
Александру – пусть впереди лишь одна вода –
видятся миражи Дариева нагорья.
Утренним бризом колеблется царский плащ.
Мойры сплетают нить, которая все связует.
Будущее неотвратимо, плачь, Азия, плачь!
Тебя не просто разгромят, но и цивилизуют.
Ты уже проиграла, тебе это ясно самой.
Имя врага – Александр – это раскаты грома.
Он судьбоносен, он всю Элладу везет с собой.
И лишь Аристотель остался дома.
***
Пустынней весеннего дня не бывает пустыни,
ни в мыслях, ни в воздухе ни одного витамина.
Старухи сидят у подъезда, такие простые…
Тоска подступает и медлит, и медлит как мина.
Никто не придёт, замирают все звуки на марше,
и лестница тише и глубже какой-нибудь глади.
Старухи сидят и беззвучно становятся старше,
мне кажется, я обгоняю их в этом халате.
А где-то стартуют ведь "боинги" с аэродромов,
какие-то парни под юбки залазят к девицам…
Чего же хочу я? Ну, был бы хотя бы Обломов,
по праву бы ждал,
что само мне должно обломиться.
О, если б сидел я
хотя б под домашним арестом,
мятеж мой подавлен, и сам я подавлен,
но все же
меня поручат охранять
не старухам окрестным…
Какая же чушь лезет в голову, Господи Боже.
***
Так сдавило грудь, что стало ясно –
только Он умеет так обнять!
И душа конечно же согласна
тело на бессмертье обменять.
Ничего нет в мире достоверней
муки, обращённой в небеса.
Вверх стремлюсь я из телесных терний.
Вниз стекает мутная слеза.
Ангелы летят в крылатых платьях!
Боль моя – моя Благая Весть!
Я готов пропасть в Твоих объятьях.
Я готов, но кажется не весь.
***
Женщина в широком сарафане
в парке на скамье сидит, блаженствуя.
То ли Машею беременна, то ль Ваней,
и лицо – то детское, то женское.
За спиной фонтан взрастёт и тает,
карусель, повизгивая, вертится.
Женский взгляд рассеяно блуждает,
и с моим сейчас, наверно, встретится.
Встретились. Она глядит беззлобно,
вместе с тем упорно и бесстыдно.
Мне становится немного неудобно,
что во мне "такого" уж ей видно?
Вытирает шею полотенцем.
Этот взгляд не назовешь мечтательным.
Ты беременна не просто там младенцем –
будущим безжалостным читателем.
ЖАРА
Ивы беззвучны, хотя и плакучи,
птицы молчат, наглотавшись жары.
Бесшумно кишат муравейников кучи,
и одуванчиков тают шары.
Словно снотворной отверткой привинчен
облачный к небу архипелаг.
Слышно лишь только, как с земляничин
капает солнцем расплавленный лак.
(обратно)Анатолий Объедков ЛЕТЕТЬ НАВСТРЕЧУ
***
Не воины, а девы на конях
Скакали по степи в строю суровом,
Преодолев в себе презренный страх,
Мечи сжимая под ночным покровом.
Но кто теперь
в просторах вспомнит их?
Пропал их след.
Лишь коршуны лениво
Кружатся в струях солнца золотых,
Да лошади заржут вдали игриво.
Но скоро отрезвятся и они,
И степь не ляжет,
вздрогнув, под копыта…
И только ветер,
взвившись от стерни,
Напомнит вдруг
о давнем, о забытом.
***
Взнуздал ты день, и он как мерин
Заржал и стал копытом бить.
Ан нет, ему свой пыл отмерен,
Он должен седока любить.
Седок тяжёл, всей плотью давит,
Лишь селезенка ёк да ёк.
Но он конём умело правит,
А бабе дуре невдомёк,
Что едешь ты к небесным кущам,
Что ждут нас всех и там дела,
Что райский сад давно запущен,
Не зря ж ты вздёрнул удила...
***
Дымились пашни тягостно и горько,
И он чернел от боли и обид.
Терпеть такое
всем придётся сколько?
Тут не селенье, вся земля горит.
И чёрный ворон
над землёй кружился,
И плач летел над ширью деревень.
Но ничего мой предок не страшился
И, стиснув зубы,
гнал он чёрный день.
***
Бабочка порхает по стеклу,
Льётся бархат
крыльев тёмно-красных,
Разорвав развешенную мглу,
Рвётся она к вольному теплу,
Где цветы горят
росой алмазной.
Далеко её уносит взгляд,
Где сверкает день и луг зелёный.
Всё зовёт, зовёт к себе назад.
Оттого глаза её блестят
И с мольбой плывут по кругу звоны.
***
Кто подсыпал в кружку зелье,
Если мой разбит покой,
Если доброе веселье
Приумолкло за рекой?
Я в лугах теряюсь снова,
Встали травы в буйный рост.
В голосах их столько зова,
Что душа летит до звёзд.
Но зачем фильтрует время
Чувств встревоженных накал?
Я вдеваю ногу в стремя,
Вихрем конь мой поскакал...
***
Тележный скрип послышится колёс –
Меня встречает тихая обитель,
Омытая волной ковыльных грёз,
Где жил мой предок,
словно небожитель,
Где всё ещё живёт моя родня,
И избы молчаливо вдоль черешен
Стоят, забыв навечно про меня,
Как будто я теперь
вдруг стал нездешним.
Не потревожит их моя строка,
Горчит она травинкой неприметной.
Но машут мне руками облака
И даль кивает мне
с улыбкой светлой...
***
Нависли тучи тяжело.
За темными стогами
Ещё и солнце не взошло,
Но что-то сердце обожгло,
Надвинулось снегами.
Взметнулась ветровая трель
На самой грустной ноте,
Забесновалась вдруг метель,
Стеля заблудшим всем постель
В стремительном полёте.
Откуда взялся тут шаман,
Его ли злые духи
Погнали с ведьмой шарабан?
И кто-то крикнул: "Атаман,
Ты оборвал подпруги".
Сверкнули волчьи вдруг глаза.
Ах, кто в звериной шкуре
Затмил надолго небеса
И смело вызвал голоса
Лететь навстречу буре...
(обратно)Михаил Дроздов ШАНХАЙСКИЕ АКВАРЕЛИ
***
Жёлтых полна аллея
Листьев.
Гудит, смеясь,
Ветер – ночная фея
Песню –
Ты родилась!
Мокрый асфальт
Неброско
Рисует дождь –
По окошку вязь.
Завтра дождя не будет –
Солнце...
Ты родилась!
Прохожий застыл
Удивленно,
Чувствует с небом связь…
Веришь ли в Бога?
Верю!
Ты родилась!
По грифу танцуют пальцы
Струн и аккордов вальс –
Двое,
Губы их шепчут:
– Любимый!
– Любимая!
Ты родилась...
НЕ ПОНИМАЮ
Октябрь...
А календарь отцвёл,
С него последний лепесток
срываю.
Не изменить,
Закончен разговор –
Его как пулю в сердце
принимаю.
Окно,
За ним Шанхай,
Гудки машин...
Пунктиром
обозначенная стрелка
Погасла
От меня к тебе
Под сполохи
шального фейерверка.
Аквамарин...
В глазах печали след,
Себя от их укора укрываю.
Тот шитый золотом на шёлке
твой портрет
Я, как Малевича, не понимаю...
Высоких нот повисла пустота,
Поёт не сердце –
В клетке канарейка.
И мысли грустные
меня ведут туда,
Где в парке
одинокая скамейка.
***
... Текучка, серая текучка,
Слова, слова...
А за окном синеет тучка
Едва, едва.
И мы, как тучки кучевые, –
Вперёд, вперёд...
Спешим туда,
где ветры злые.
А жизнь идёт...
ВЕЧЕР
Крутой поворот Хуанпу.
Тусклый красит закат,
Носом упершись в корму,
Баржи-бурлаки пыхтят.
Втершись спиной в берега,
Город-астматик хрипит,
И, словно чёлн на волнах,
Змей над домами парит.
Я же сижу и смотрю,
Как опускается ночь,
Как мимо окон во тьму
Облако пятится прочь.
С плеч ниспадающий шёлк
Даст разве чувствам уснуть?
В час этот могут глаза
Прямо на солнце взглянуть.
(обратно)Екатерина Шидловская "Я СКЛОНЮСЬ ПЕРЕД СВОДАМИ"
***
И было Слово, были День и Ночь.
В пространстве пела золотая вьюга.
Века сменялись, уносились прочь.
Настало наше время – Кали-Юга.
Холодный вкус железа на губах,
Библейский змий,
приникший к каждой ране,
Безумная апатия в глазах,
Налет свинцовой пыли в Божьем Храме.
И Тот, кто жизнь свою отдал тогда,
В смирении надев
венец терновый,
Несёт свой вечный крест.
Летят года...
Его Завет давно уже не новый...
Распят! Несётся праздная молва:
Он отстрадал, а мы страдать не будем!
Никто не вспомнит мудрые слова,
В напутствие оставленные людям...
И Истина, которой больше нет,
Потеряна в крови и равнодушье.
Не искупить страданья стольких лет,
Погрязших в лицемерье и бездушье.
Лишь ветерок тревожит по углам
Размытые, запуганные тени.
И некому воскликнуть: Аз воздам!
И некому молиться о спасении.
***
Разлей палитру цвета осень,
Все краски вымешай до дна.
Твоя полуночная проседь,
Моя туманная луна.
Со мною рядом и не рядом
Ты будто в сердце и вовне.
Притягиваешь странным взглядом
И отражаешься во мне.
Рогатокрылые шептали
Нам о любви… Слетал покров…
Я размету твои печали,
Приму твой зов.
Возьми крыло от попугая
И нарисуй волшебный сон.
К тебе невидимо-нагая
Я выйду с четырёх сторон.
И, раскрылив потоки ветра,
Сольюсь с прохладной темнотой.
Сметя наложенное вето,
Ты из окна взлетишь со мной.
***
Я растворяю этот день,
Рисуя ночь.
Тебя коснусь – сквозь пальцы тень
Уходит прочь.
Я загораюсь от свечей в объятьях тьмы.
Здесь недосказанность речей,
Здесь только мы.
Натянута в осенний гром твоей рукой,
Стекаю… Таю… Первым сном
Вслед за тобой.
***
Я умирать уже не в силах,
Парить, растерзанная в дым,
И быть крестами на могилах,
И губы греть ещё живым,
И возрождаться вновь из пепла.
В огне сгорая, не сгореть
И, упиваясь болью пекла,
Беспомощно, бесстыдно тлеть.
Все повторится снова, снова.
Безумный, безутешный век...
Насквозь проржавлена подкова,
В смятенье слабый человек.
Я так устала, Боже милый.
Возьми меня под сень свою,
А я, покорно и остыло,
За всё тебя благодарю.
***
Я склонюсь перед сводами
старой церквушки
По-родному ступени мне проскрипят
У ворот приоткрытых
строго смотрят старушки
И над куполом, в небе, журавлята летят.
А внутри всё намолено,
а внутри всё насвечено
И церковные зорюшки
льются светом с икон
Облаченное таинство
с тишиною повенчано,
Образа золочёные, мой явившийся сон.
Я прошу милосердия, я прошу покаяния,
За дороги без отдыха и за ночи без сна.
Было много греховного,
было много отчаянья,
То ли жизнь, то ли осень,
то ли крыл белизна.
Ты прости меня, Господи,
всё, что прожито, – пройдено,
Всё со мною останется,
повторится в судьбе,
Только сердце открытое
всё тобою наполнено,
Я склонюсь перед сводами
и приникну к Тебе.
(обратно)Валентина Боровицкая РИМСКИЙ ПОРТРЕТ
Самая романтическая из тайн Атлантического океана – тайна острова Авалон. По старинной легенде, на этом острове Ангел несколько веков охраняет сон короля Артура, который, по утверждению британских историков, прежде чем стать легендарным королем, был новгородским князем, волею судеб оказавшимся на Британских островах.
По той же легенде, раз в году, в день смерти Короля, остров бывает видим.
Раз в году он бывает открыт.
Моряки говорили не раз:
Этот остров навстречу плывёт,
А потом пропадает из глаз.
Этот остров – загадка морей.
В середине – гробница и грот.
И склоняется Ангел над ней,
Колыбельную песню поёт.
И качается тонкий рукав
Над спокойным лицом Короля.
– Спи, Король, среди камня и трав.
Твое имя легенды хранят.
Положивши ладонь на мечи,
Твои рыцари спят средь горы.
Ваши кони на тайных лугах
Набираются сил до поры.
А в миру – голоса колдунов.
Судьбы мира вершатся в ночи,
И от мертвого шелеста слов
Умирают моря и ручьи.
Над землёй – всё темнее закат,
Там теперь только золота звон.
Наши тёмные храмы молчат,
Но зато всё светлей Авалон.
Это значит – всё ближе пора.
Всё притихнет – и горы, и лес.
Протрубит роковая труба
И раскроются своды небес.
Поднимись, Православная Рать!
Жизнь затянута мёртвым узлом.
Этот узел пора разрубать.
Поднимайтесь на битву со Злом!
И тогда ты восстанешь, Король,
Поседевшие кудри до плеч.
И блеснёт над притихшей водой
Пораженья не знающий меч.
В это верит и этим живёт
Каждый тонкий листочек земли.
А пока – защити, океан,
Обними нас, туман, обними.
До великой и тайной поры
Я с тобой, охраняю твой сон.
Бережёт нашу тайну гранит
На седом островке Авалон.
И не может понять капитан,
Это было виденье иль сон. –
Густо стелется дымный туман
Там, где только что плыл Авалон.
РИМСКИЙ ПОРТРЕТ
Ирония. Величие, Печаль.
И мудрость. И привычная тревога,
Что варвары у самого порога,
И войска нет, чтоб отогнать их вдаль.
Сенатор, полководец, меценат –
Кто был он, переживший гибель Рима,
Он, сохранивший в час неумолимый
Спокойный и величественный взгляд?
В прохладной тишине музейных зал
Смотрю на этот облик благородный.
"Свободное останется свободным", –
На постаменте скульптор начертал.
БУНИН
"... Счастлив я,
Что душа твоя, Виргилий,
не моя и не твоя."
И.Бунин
На русском кладбище в Париже
Ковёр из мрамора и трав.
Здесь все к земле и к небу ближе –
И те, кто прав, и кто не прав.
Гранитный крест темнеет строго.
К нему струилась много лет
Такая долгая дорога.
Шумит каштан. Плывёт рассвет.
Он здесь. (Не горько и не жалко
Себя, Россию. Всё равно.)
Его дворянская осанка.
Рука, державшая перо.
Он твёрдо знал – пройдут столетья.
И вынут жребий наугад.
Чтобы опять на этом свете
Заговорил его талант.
Он повторится. Это ясно.
Но пусть и в дальнем далеке
На том же самом, на прекрасном
Великорусском языке.
(обратно)Станислав Грибанов ”ХУЦПЕ”
Отрывок из книги “Крест Цветаевых” (Марина Цветаева, её близкие, друзья и враги глазами солдата)
Давно это было. Во время застоя развитого социализма. Я безмятежно жарился на пляже лётного профилактория в приморском городке Кобулети, вдруг, слышу, меня зовут. Кричат: "К телефону! Цветаева из Москвы звонит…" В плавках – так и рванул в приёмную. Звонила Анастасия Ивановна. Чистый, родникового звучания голос с произношением отдельных слов на старинный лад мигом перенёс в комнатку с роялем и акварелями Макса Волошина на шкафу. Анастасия Ивановна поинтересовалась, какая на море погода, хорошо ли отдыхаю и долго ли ещё буду на юге, а потом стала рассказывать о письме из Америки от какой-то Швейцер.
Письмо – открытое! – в боевой готовности к обнародованию, было по поводу второй части "Воспоминаний" А.Цветаевой, и мне Анастасия Ивановна звонила не случайно: дело в том, что на 20 страницах текста того письма 15 раз упоминалась моя фамилия. Словом, американка Швейцер выдавала! – всем сёстрам по серьгам…
Проблем с оплатой телефонных разговоров в застойные времена не было – говори, сколько хочешь, будто ты финансовый олигарх. Проблемы были с вареёной колбасой, свободой слова и двойным гражданством для "прогрессивной интеллигенции". Так что минут через 30-40 мы договорились о встрече после моего отпуска. Надо было конечно ознакомиться с письмом мадам Швейцер, а потом и решать – вступать с ней в душеспасительную беседу, каяться во всех наших злонамеренных действах или сразу послать на хрен! Последний ход мысли Анастасия Ивановна, понятно, не выражала. Это была моя интерпретация одного из "ответов Чемберлену"…
Ну, а суть озабоченности американки сводилась к тому, что она, "как читатель и человек, любящий Цветаеву и пишущий о ней", от всех остальных требовала писания на эту тему такого, которое ей было бы понятно и её бы устраивало. Она – цветаеволюб и цветаевовед на весь Калашный ряд и Соединенные Штаты Америки, а посему заявляет сестре Цветаевой: "В Вашей книге не только не вся правда о Марине Цветаевой, но и не всё – правда", "В Вашей книге есть ложь", "Утвержденная Вами ложь может со временем показаться или быть выданной за правду", "Эта прямая ложь уже тогда меня поразила", "Остальное – неправда", "Вы не называете вещи их именами, Вы способствуете тому, чтобы не знали и не понимали", "Марина Цветаева надеялась, что будущее будет за неё, восстановит справедливость, – могла ли она предположить, что Вы, ее родная сестра, окажетесь на стороне прошлого, будете способствовать сокрытию истины?" И так далее…
Словно на расправе "тройки", Швейцер бросала Анастасии Ивановне вопросы: "Откуда Вы знаете те слова, которые цитируете? Кто и насколько достоверно рассказывал Вам о собрании в Чистополе?.." "Свое пребывание на Дальнем Востоке в 1943 году Вы маскируете, как это принято в официальной литературе, ссылкой на войну. Зачем?" И дальше: "Поражает бестактность и безвкусица, с которыми Вы излагаете обстоятельства, при которых узнали о трагической гибели Вашей сестры". "Еще за 12 дней до смерти… бодро сказала группе писателей." Откуда это "бодро"? Кто мог так определить интонацию Цветаевой?" "Я просто убеждена, что слово "бодро" принадлежит Вам, оно тенденциозно, как многие подобные ему слова, расчётливо вставленные в Ваше повествование."
Вот она, Швейцер, убеждена – и это истина в последней инстанции. "Кто не с нами – тот против нас", а "кто не сдается – того уничтожаем!"
Возмутительная навязчивость, наглость автора "Открытого письма" в суждениях и о Марине Ивановне. Как это она не могла разглядеть, что за человек писатель Н.Асеев? Нашла к кому обратиться за помощью для сына! А ведь "имела возможность узнать Асеева в Москве". "Обращалась к нему в Чистополе…" Ох, не хватало тогда Марине Ивановне наставницы вроде Швейцер! Вот уж она научила бы, как жить и бороться, направила бы на путь истинный…
"Никакой специальной "травли" Цветаевой в эмиграции никогда не было. Была сложная и трудная жизнь Поэта в разрыве со Временем, в нежелании сколько-нибудь к нему приспосабливаться…" – продолжает Швейцер. Но судить о жизни Цветаевой, может, лучше все-таки по её строкам, а не по философическим экзерсисам американки?
…1926 год. После Праги – Париж, и Марина Ивановна пишет: "В Париже мне не жить – слишком много зависти. Мой несчастливый вечер, ещё не бывший, с каждым днем создаёт мне новых врагов… Если бы Вы только знали, как всё это унизительно…"
О том времени говорит и муж Марины Ивановны Сергей Эфрон: "Русский Париж, за маленьким исключением, мне очень не по душе. Был на встрече Нового года, устроенной политическим Красным Крестом. Собралось больше тысячи "недорезанных буржуев", жирных, пресыщенных и вяловесёлых (все больше евреи), они не ели, а драли икру и купались в шампанском. На эту встречу попала группа русских рабочих, в засаленных пиджачках, с мозолистыми руками и со смущёнными лицами. Они сконфуженно жались к стене, не зная, что делать меж смокингами и фраками. Я был не в смокинге и не во фраке, но сгорел со стыда…"
По Швейцеру, это просто жизнь и время, к которым надо приспосабливаться. Она не против приспособить к выдуманной ею жизни и сына Марины Цветаевой.
Что ж, к тем двум, кто засвидетельствовал расстрел Георгия прямо в казарме, добавим ещё кое-какую информацию на эту тему.
Значит, так. На войну сын Цветаевой ушёл сразу по приезде в Москву из семейства Ланнов и не в 1944 году, как записано в военкомате, где Эфрон состоял на учёте, а в 1943. Попал он в некий французский батальон (который до сих пор – вот уже 60 лет после Победы! – не рассекречивают. Военная тайна! – С.Г.).
Говорят, что после войны Георгия видели в Париже. Надо полагать, в той блестящей стратегической операции, проходившей под кодовым названием "Багратион", когда за 14 суток наши войска прошли по белорусской земле около 200 километров и завершили тяжёлые бои окружением противника, Георгий рванул в направлении Парижа и всех обогнал! 57 600 пленных немцев бежали тогда к нам, на восток, и около трех часов шли по улицам столицы мимо молчавших во гневе москвичей. А красноармеец Эфрон тем временем чесал в сторону Елисейских полей…
Французскую тему можно продолжить: какой-то пленный немец-инженер Альберт видел, как был сбит советский самолет из эскадрильи Нормандия-Неман. Приземлились два летчика, и один из них остался жив – сын Цветаевой! Потом его передали в гестапо, где зверски пытали, и он там погиб. Так сказать, "в небесах мы летали одних"…
Крупный цветаевовед за бугром госпожа В.Лосская в поиске сына Цветаевой тоже отличилась. Она рассказывает, что Георгия в конце войны кто-то встречал не в Париже, а в Берлине, на вокзале. Абсолютно точно, что он жив!
Марк Слоним, как и мадам Швейцер, полагает, что сын Цветаевой вообще на фронте не был – его свои ещё до фронта расстреляли. Письма, вот, тётушки Георгия напрасно сохранили. После трёх месяцев крутой подготовки молодых бойцов, которая любому, даже ставшему генералом, вспоминается, Георгий уведомляет теётушек: "Пишу вам с фронта. Адрес полевой почты – тот же". Это письмо от 3 июня 1944 года. И дальше: "Я не жалею, что сюда попал".
"И последнее – о Муре, – пишет мадам из Штатов. – Утвердив его единственным виновником смерти матери, Вы решили зачем-то присоединиться к С.Грибанову и "реабилитировать" Мура по гражданской линии. Будучи плохим сыном своей матери, он зато был замечательным сыном своей матери-Родины (впрочем, он родился в Чехии) – вот ради чего Вы присоединяетесь к пошлой и насквозь фальшивой статье Грибанова."
Мадам Швейцер понять можно. Ей не важно, что Мура – Георгия – из Чехии увезли ещё в пелёнках. И что мать его о Родине думала далеко не так, как это представляется мадам. "Родина не есть условность территории, – писала Цветаева, – а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя…" – вот суждение о матери-Родине Марины Цветаевой и подгонять его под свои мерки – "я просто убеждена!" – не слишком ли дерзко?.. Давно известно, для одних Россия – Родина-мать, а для других – мачеха.
Стихослагатель по фамилии Маркиш откровенно рифмовал по этому поводу из Израиля:
Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведёт тропа иная,
До их славянских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранны, но не сведены.
Мы отомстим – цветами в изголовье
Их северной страны.
Когда сотрётся лыковая проба,
Когда заглохнет красных криков гул,
Мы станем у березового гроба
В почётный караул…
Этому стихослагателю также в рифму ответила "землячка" по Штатам Галина Россич:
Вскормила ты сынов неверных,
Что смерти материнской ждут,
И в гроб, сколоченный поспешно,
Живой ещё – цветы кладут…
Здесь не место русско-еврейским разборкам. Ответ Маркишу был, конечно, достойный. Но вот что ещё о России-матери-Родине писала Цветаева: "Россия – в нас, а не там-то или там-то на карте, в нас и в песнях, и в нашей русой раскраске, в раскосости глаз и во всепрощении сердца, что он – через меня и моё песенное начало – такой русский Мур, каким никогда не быть Х или У, рожденному в "Белокаменной". Это из письма Марины Ивановны Ольге Колбасиной-Черновой.
Не знаю, где родилась мадам Швейцер. Но, полагаю, как цветаеволюбу Соединенных Штатов Америки, ей должны быть знакомы эти праведные слова большого русского поэта. А у евреев, между прочим, есть одно емкое слово – "хуцпе", означающее одновременно жестоковыйное присутствие духа, бесчинство, наглость и дерзость. Датский критик Г.Брандес поясняет: "Хуцпе у обыкновенных представителей еврейской расы принимает иногда возмутительный характер навязчивости и ни на чем не основанной страсти выставляться и играть роль". Но собственный-то пуп всегда ли критерий истины? Петух, вон, тоже – кричит на заборе спозаранку и думает, что от его крика солнце восходит…
Однако по поводу Мура. "О Грибанове говорить не стоит – он выполняет "социальный заказ", – сходу заключила мадам Швейцер в своём письме – и это, как приговор в бюро расстрелов. Ну, конечно же! Прямо со Старой площади, из ЦК КПСС звонил мне зам. зав. Отдела пропаганды товарищ А.Н. Яковлев и давал установку: "Признать Цветаеву!"
Видимо по той же "установке" о Цветаевой и журнал "Москва" принялся печатать "Воспоминания" сестры М.Цветаевой Анастасии Ивановны. Именно они-то и вызвали гнев мадам Швейцер из штата Массачусетс.
Однако, как развивался "социальный заказ" на сына Цветаевой? Мадам Швейцер доподлинно вычислила: "Если уж советская власть решила "признать" Цветаеву, ей нужна правильная биография, обыкновенная, не безымянная могила с нормальным советским памятником, а заодно и сын – отличник боевой и политической подготовки". Так что неноменклатурному "мудаку" свободных мест в посольствах не нашлось и, во исполнение "социального заказа", он вынужден был залезть в архив и в тоннах боевых донесений, сводок, сведений – пыльных бумаг военных лет – искать хоть какое-то упоминание о красноармейце Г.Эфроне. Требовалось доказать, что он отличник боевой и политической подготовки, ибо советская власть – по-Швейцеру – памятники и обелиски не отличникам, павшим в боях за Родину, не ставила…
Оглядываясь назад, в даль времени, порой думаю: а вот сейчас взялся бы за такое дело, взвалил бы на себя такой груз? Ответить утвердительно не могу. Хотя в архивах я работал немало: вел поиски своего 19-летнего дяди Гены Семёнова, погибшего под Алексиным в 1942 году, дяди Мини Лесняка, жизнь положившего где-то в боях под Смоленском в сорок первом, своих однополчан, летчицы Лили Литвяк, пропавшей без вести, Володи Микояна. Многое удавалось узнать, но могилы…
Известно, исход любой войны решает солдат. Ему посвящают свои мемуары полководцы и военачальники – это в мирное время. А в войну полк пехоты – три тысячи молодых жизней – хватало на месяц. Что там было писать о тех тысячах? Где, какие бумаги могли остаться о рядовом Великой войны Г.Эфроне? В лучшем случае, мог отыскать общий список награждённых, скажем, за успешный бой, в котором какой-нибудь красноармеец Сидоров отличился и заработал медаль "За отвагу". Вот в списках потерь, опять же общих, того Сидорова отыскать было проще. В полк-то он прибыл, но потом убыл. У мадам Швейцер и вопрос – на засыпку: "А куда убыл?" А на седьмое небо!.. Все документы вместе с батальонной полуторкой, походной кухней и лошадьми прямо так к апостолу Павлу и убыли. Санитарка 183-го медсанбата Катя Матвеева, конечно, старалась поскорее вынести с поля боя раненого солдатика – сразу под нож хирургу. Выжил – хорошо. Не выжил – на то, знать, воля Божья. Вперёд, на Берлин!..
Генерал И.М. Чистяков рассказывал, как пробивались наши войска к сиротинскому узлу сопротивления, как действовал 437-й стрелковый полк. Кратчайший путь лежал через болото. Первым в него двинулся ночью 158-й стрелковый полк. Вслед за пехотой артиллерию и прочее военное имущество полка тащили сотни лошадей. В темноте они пугались, вести их приходилось под узцы. К рассвету полк всё-таки вышел из болота. Бойцы на ходу выливали воду из сапог и продолжали путь дальше.
Противник не ожидал, что русские одолеют за ночь такую естественную преграду, поэтому не был готов к отражению удара. Утром наши овладели Сиротином. А командующий фронтом И.Х. Баграмян все подгонял: "Ускорьте, ускорьте темп наступления!" "Я и сам понимал, что значило бы подойти к Западной Двине с опозданием – противник сумеет хорошо подготовиться на берегу. Придётся долбить его оборону, а это потребует куда больше сил, а главное – жертв, – вспоминал Иван Михайлович те напряжённые, решающие мгновенья броска через водный рубеж: – Западная Двина – река широкая, быстрая, левый её берег, который занимал противник, командует над нашим, правым. И вот что мы увидели: всё водное пространство покрыто людьми! Кто на досках, кто на бочках, кто на брёвнах, кто вплавь к противоположному берегу…"
В этом аду под минометным огнём перебирался на рубеж, занятый противником, и красноармеец Эфрон. Он был в роте, которой командовал Гашид Саидов. Ему оставалось воевать еще долго – до 7 июля… Но Швейцер со своих стратегических высот имеет и на этот счет особое суждение: "Нельзя же всерьёз принимать слова командира роты, в которой якобы воевал Мур, – рассуждает мадам и выражает своё недовольство: – Вот все, что он "помнит": "Скромный. Приказ выполнял быстро и чётко. В бою был бесстрашным воином". Мадам раздражённо комментирует ответ командира роты на моё письмо с фотографией Георгия: "Это самый элементарный штамп официальной "положительной" характеристики". Эх, мать честная, да есть ли такие слова, чтобы в служебной характеристике передать хотя бы частичку того великого солдатского мужества, стойкости, терпения, которые проявляли все – не только красноармеец Эфрон, – выбираясь из болот, форсируя реки, бросаясь в огненные метели войны…
"После войны в Москве был слух, что Мур даже не доехал до фронта, что его за "строптивость" застрелил какой-то сержант прямо в казарме. Я много лет спустя слышала это от двоих, не связанных между собою человек", – нагнетает страсти мадам Швейцер. И дальше: "Письма Мура скорее наводят на мысль о том слухе".
Ну, конечно, конечно. Вот, например, такое письмо: "Я теперь ночую на чердаке разрушенного дома; смешно: чердак остался цел, а низ провалился. Вообще, все деревянные здания почти целы, а каменные разрушены. Местность здесь похожа на придуманный в книжках с картинками пейзаж – домики и луга, ручьи и редкие деревца, холмы и поляны, и не веришь в правдоподобность этого пейзажа, этой "пересечённой местности", как бы нарочно созданной для войны". Кто сочинил письмо? Да тот сержант, который застрелил Георгия. Он всех убивал за опоздание в строй. А вечером садился и писал солдатским вдовам и родным тёплые письма. Эфрон – москвич, интеллигент, значит, дави на басы: ну, там о Чайковском, Рахманинове, всяких книжках…
"Завтра пойду в бой… Абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придёт обязательно…" – это письмо его тёткам. А вот для цензуры: "Слава Богу, радуют победы…"
Это уж точно! Парня "застрелил какой-то сержант прямо в казарме", а письма идут и идут… с фронта. Георгий рассказывал тётушкам, что в той казарме у него было "очень много начальства": и командир роты, и командир взвода, и парторг, и старшина роты, и помощник старшины роты, и командир отделения, и дежурный по роте. "И это, не считая батальонного начальства". Он не упомянул еще секретарей комсомольских организаций той же роты, батальона, полка, которые, положа руку на сердце, как и перечисленные выше командиры, употребляли вслух нехорошие слова!..
"Не могу объяснить, – недоумевает Швейцер, – как это увязывается с письмами Мура с фронта?" В самом деле, он ещё и о природе пишет: "Здешние места замечательны для прогулки… идти по здешним полям доставляет удовольствие"…
О природе ладно. Она и в Штатах природа. А вот то, что лихой мат уже не режет тонкое ухо красноармейца Эфрона – это никуда не годится. Да что там, ещё и о национальных особенностях русского веселья заговорил! "Элемент тоски и грусти присущ нашим песням, что не мешает общей бодрости нашего народа, а как-то своеобразно дополняет ее", – рассуждает Георгий. Но этого не может быть! Швейцер убеждена: "Он родился в Праге, в Чехословакии!" "Родиной чувствовал Францию!" "За что он мог полюбить эту страну?"
А Георгий всё пишет: "Одно совершенно ясно теперь: все идёт к лучшему, война скоро кончится и немцы будут разбиты!" Ну, как есть – отличник политической подготовки!.. "Я увидел каких-то сверхъестественных здоровяков, каких-то румяных гигантов-молодцов из русских сказок, богатырей-силачей". Ох, и обработали мальчика большевицкие комиссары… "Играет штабный патефон. Как далека музыка от того, что мы переживаем! Это совсем иной мир, мир концертных залов, книг и картин, мир, из которого я ушёл и в который я вернусь когда-нибудь…" Ну, что ты скажешь! Ему надо быть расстрелянным в казарме, на худой конец, разгуливать в Париже или в Берлине, а он плетёт о каких-то концертных залах! Да ещё в этой России…
"Муру не за что было любить Россию…" – от гнева задыхается мадам Швейцер. А я вот читаю последнее, предсмертное письмо Георгия, которое заканчивается словами: "Жалею, что я не был в Москве на юбилеях Римского-Корсакова и Чехова!", и вспоминаю невыразимо тревожные минуты молчания, руки и взгляд, выдававшие состояние души Ариадны Сергеевны, когда она прочитала выписку на брата из книги учёта полка.
– Одного этого – так много… – сдавленным голосом, тихо произнесла она, отошла к полочке с книгами, что-то там достала и, вернувшись, протянула мне кипарисовый крест с распятием. – Это наш, фамильный. От моей бабушки Елизаветы Дурново. Крест из Иерусалима. Вот перламутровые символы, надпись… Это вам…
Умерших от ран и убиенных в бою хоронили зачастую на месте, где смерть застанет, порой, просто вдоль дорог – чтоб легче отыскать потом. После войны страна возрождалась из руин – не до братских могил было. Так и стояли солдатские пирамидки, словно вехи на пути к Победе, – от Сталинграда до Берлина. У меня и сейчас хранятся письма с указанием мест одиноких захоронений, солдатских могил на окраинах миру неизвестных деревушек, обозначенных в сводках боями местного значения.
…Кроме полковой выписки учёта потерь в архивах о рядовом Георгии Эфроне ничего не сохранилось. Да и какой архив мог быть у солдата! Тогда в поиске его я пошёл боевой дорогой 437-го стрелкового полка: в Центральном паспортном столе выписал ровно сто адресов парней, призывавшихся из Москвы и Подмосковья – тех, кто оказался в полку и 183-м медсанбате вместе с Георгием, и разослал их в надежде на ответ. Письма летели и в белорусские деревни Заборье, Поддубье, Коковщизна, Орловка, Еленцы, Бертовщизна, Гороватка… Но отовсюду отвечали: нет, такой солдат не значится ни в каких документах, нигде не захоронен…
И вот однажды из Друйского сельского Совета получаю такое вот письмо: "Путём опроса местных старожилов установлено, что на территории нашего сельского совета имеется могила неизвестного солдата, похороненного летом 1944 года". Сходилось место последнего боя 437-го полка в здешних краях и время. Командир взвода младший лейтенант Храмцевич рассказал, как происходила схватка за высоту, которую брали бойцы 3-го батальона: "Я хорошо помню этот бой… Немцы с высотки встретили нас плотным огнём. Мы залегли – кто где мог: в воронках от снарядов, в любом углублении. Два раза опять поднимались в атаку – и снова залегли, пробежав несколько метров вперёд. Третья атака нам удалась с помощью соседей. Так была взята деревня Друйка. Раненых отправили в 183 медсанбат".
Майор запаса М.Долгов уточнил, что тот медсанбат находился в лесу, километрах в 4-5 от деревни Друйки. Вот и всё.
Я написал очерк о Георгии и о людях, с которыми он разделил свою солдатскую судьбу, по деталям восстановил день 7 июля 1944 года, когда рядовой Эфрон пошёл в свою последнюю атаку. Закончил очерк словами о могиле, которая осталась после того боя возле деревни Друйка, – что лежит там, если не Георгий, то другой солдат… В рассказе о былом главным считал письма сына Цветаевой, которые ранее нигде не публиковались.
Помню, как читала рукопись о Муре Ариадна Сергеевна. Медленно, аккуратно перекладывая странички с одной стороны стола на другую. Наконец, материал перекочевал, улёгся полностью ровной стопкой, ожидая приговора, но Ариадна Сергеевна только и спросила: "Почему вы ничего не сказали о своём поиске?"
Поиск, откровенно говоря, был, действительно, непростой – одна география чего стоила! Сибирь, северный край страны – Коми, глухой аул где-то в горах, на границе с Турцией. Наконец, Центральное финансовое управление Министерства обороны, откуда удалось получить самые точные координаты однополчан Георгия, ушедших в отставку (известно, социализм – это учет). Помогали в работе сотрудники Подольского архива, наши краснозвёздовцы – юристы, девчата из отдела писем…
Мне, вообще-то, казалось, что я затяжелил бы очерк фрагментами своего поиска, но не выполнить просьбу Ариадны Сергеевны не мог. Да ведь как-то следовало и высказать признательность людям, причастным к той работе, не отмахнувшихся равнодушно от многотрудного поиска сына Цветаевой. Ведь, казалось, на черта бы искать им сына врага народа, который к тому же – говорят! – удрал к фашистам…
– Тридцать лет этот навет висел над нашей семьёй… – заметила Ариадна Сергеевна в тот вечер, когда я принёс из архива сообщение о Георгии, и с фамильным кипарисовым крестом подарила мне публикацию о Марине Цветаевой в журнале "Звезда". "Дорогому Станиславу Викентьевичу – с глубокой благодарностью за участие (не словом, а делом!) в судьбе моего брата. А.Эфрон" – память о том вечере.
...Только тучи-то, навет над семьёй Цветаевых не спешили расходиться. Когда очерк о судьбе "неизвестного солдата" Георгия был доработан с учетом пожеланий Ариадны Сергеевны, я направился в редакцию журнала "Новый мир", полагая, что материал заинтересует редакцию. Милая редактриса три месяца не отпускала от себя очерк о сыне Цветаевой – ни замечаний, ни уклончивых редакторских разговоров, и в то же время какая-то неопределённость, неясность по поводу публикации его в журнале. Но однажды, когда в рабочем кабинете никого кроме нас не было, я наконец-то получил этакий виноватившийся ответ: "Дело в том, – тихо произнесла редактриса, – что у нас новый главный, и мы не знаем, откуда ветер подует…" Главным редактором тогда идеологическая контора ЦК партии назначила поэта С.Наровчатова и, не рискуя вляпаться в историю, очерк о сыне Цветаевой мне вернули.
А ветер-то со Старой площади дул сквозняком на все четыре стороны! ...Но я всё же взял курс на редакцию "Юность". Там меня встретила юная брюнетка, материал о сыне Цветаевой она прочитала одним махом, а когда увидела подлинный портрет Георгия и его великолепные рисунки – журнал-то был иллюстрированный! – схватила всё это хозяйство, прижала к груди, произнесла одно слово: "Я щас!" – и исчезла.
Минут через пятнадцать брюнетка так же стремительно выпорхнула из какого-то кабинета и показала мне на первой странице рукописи чей-то автограф. В левом уголочке наискосок стояла подпись зам. главного редактора журнала А.Дементьева и, как приказ, простые и долгожданные слова: "Срочно в номер!"
У меня-то после столь решительной резолюции Дементьева, конечно, и сомнений не было, что материал будет опубликован. Но главный редактор "Юности" очерк о Георгии из мартовского номера снял. Это был известный в то время писатель Борис Полевой (Кампов). У него болело сердце, по болезни он отсутствовал в редакции и тут – на тебе! – явился на редколлегию и "забодал" мой очерк. Никто не мог объяснить причину такого решения, тогда я, можно сказать, вломился с кабинет Полевого и без долгих вступлений сходу спросил:
– Борис Николаевич! Чем вас не устроил мой очерк?
Без долгих рассуждений на тему обозримого будущего, о горных кавказских вершинах и полярном сиянии получил ответ:
– Ну, подумаешь – сын знаменитой мамаши! У нас есть подобный материал. Антокольский должен принести письма своего сына – тоже с фронта, – помолчав, шеф "Юности" добавил: – Давай какой-нибудь рассказ – в знак твоего морального ущерба…
Что Полевой… Куда как круче с искренними порывами юноши расправилась мадам Швейцер из Массачусетса! Вот Георгий мечтает, в письмах тёткам делится своим сокровенным, расспрашивает о московских театральных новостях. "Всё также жажду в Библиотеку Иностранной Литературы, всё также мечтаю многое прочесть и перечесть, – пишет он. – Всё это будет, будет обязательно, иначе все было бы бессмысленно"… Врёт! – решительно отбрасывает письма Георгия мадам из штата Массачусетс. Какие ещё театры! Какие библиотеки! "Это письма – подцензурные, к тому же цензурованные дважды: военной цензурой и лагерной…" – лепит мадам, как комиссарша из маузера.
"Пишу вам с фронта… Каждый день что-нибудь меняется, так что живу со дня на день, довольно, в сущности, беззаботно, как будто это и не я, или лишь часть моего я. Не читаю ничего, кроме газет. А в общем – всё это очень интересно и любопытно, и я не жалею о том, что сюда попал…" Что вообще за письма! "Мур не доехал до фронта…" – бульдозером проталкивает слухи о сыне Цветаевой цветаевовед Швейцер. А Георгий все пишет и пишет – невпопад фантазиям американки…
Откровенно, с легкой иронией сетует, что многому не научился в Париже: "Ночью орудовал лопатой, кстати сказать, весьма неважно, что обусловило кое-какие замечания о том, что я-де наверное "москвич". Вообще я здесь несколько в диковинку и слыву за "чистеёху" и т.п. Но всё это – пустяки, поскольку всё временно и настает час, когда все, в том числе и мы, – станем на своё место".
Вот-вот, и Швейцер о том же! Вокруг все вшивые – одни уголовники, воровство, спекуляция, мат-перемат!..
Чем-то напоминает мне эта мадам лютую ненавистницу России демократку Новодворскую. Если верить этим мадам, то и войну выиграли спекулянты да уголовники. Сталин – вор в законе. Маршалы Шапошников и Василевский – паханы Генштаба. Адмиралы Исаков, Кузнецов, маршал Рокоссовский – братки. Капитан Гастелло, Иван Кожедуб, ровесник Мура Тимур Фрунзе, в подлиннике читавший французскую и немецкую литературу, – шестёрки…
Интересно, а русский солдат с девочкой на руках, монументом застывший в берлинском Трептовпарке, – символ воина-освободителя Европы – он-то на какой зоне срок отбывал?..
"Все это – пустяки…" – пишет Георгий. Он уже покаялся своим тёткам, что когда был на перевалочном пункте в Алабино, сгущал краски: это было сугубо "под непосредственным влиянием момента". И не без гордости – жизнь, действительно, учит! – в последнем его письме такие вот строки: "Теперь вот уже некоторое время, как я веду жизнь простого солдата, разделяя все его тяготы и трудности. История повторяется: и Ж.Ромэн, и Дюамель и Селин тоже были простыми солдатами, и это меня подбодряет!"
Нет, не убеждают мадам Швейцер такие письма "неизвестного солдатика", было ожившего, было приблизившегося к своим сверстникам" И строчит мадам открытое письмо Анастасии Цветаевой.
"Почему его взяли в армию? Ведь у студентов тогда была бронь", – без тени сомнений утверждает Швейцер, словно она ведала мобилизационными вопросами Генштаба. Да в Литинституте не было никогда никакой брони!
"Если он "убыл в медсанбат", то почему он туда не "прибыл" или почему его не нашли среди мёртвых?" – путает карты мадам – полный профан в вопросах военной администрации. Так будет известно, в тот жаркий июльский денек наступательной операции "Багратион", когда тяжело раненного бойца Эфрона санитары вытащили с поля боя (без рук? без ног? с разорванным осколками снаряда телом?..), еще 300 человек из 3-го батальона – как корова языком слизала! Батальон больше никогда не упоминался в документах 437-го полка. И все, павшие в бою смертью храбрых, "убыли" туда, где архивы не ведутся – даже для таких ревнителей протоколов, как мадам Швейцер.
А парень из похоронной команды, слава Богу, успел хоть наметить так называемые кроки – место, где и кого закопали из убиенных да умерших от ран. Те, крестики, спешно набросанные на случайных крохотных листочках бумаги, сохранились в военкомате. Именно потому и сохранились, что был уже не 1941 год…
Вот в те края, которые с лейтенантских лет хорошо знал с высоты полёта и мог на память вычертить карту с массой населённых пунктов, извилинами рек, дорог; в края, где упокоился сын Марины Цветаевой, сразу я как-то не сообразил послать очерк о нём. Надоумила Ариадна Сергеевна. И вскоре добрые белорусы опубликовали в журнале "Неман" рассказ о судьбе рядового войны.
В "застойные" годы родился девиз "Никто не забыт и ничто не забыто". Богатств у нас в стране хватало, так что от установок памятников, обелисков, могил "неизвестным солдатам" (с вечными огнями) старая власть не открещивалась.
Это нынче: Чубайс захочет и может задуть, к ядрёной фене, все огни России – "веером"!
А тогда я сделал запрос в Браславский райвоенкомат по поводу могилы неподалеку от деревни Друйка и получил незамедлительный ответ. Действительно, на территории Друйского сельсовета есть могила красноармейца Г.Эфрона и на месте его захоронения недавно установили памятник. Военком подполковник Забелло оказал любезность и с ответом на мой запрос прислал три фотографии: деревья с опавшими листьями, заснеженная могила и обелиск, на котором короткая надпись: "Эфрон Георгий Сергеевич погиб в июле 1944".
Именно на том месте, куда привёл меня журналистский поиск, и оказалось захоронение сына Цветаевой. Могилку "неизвестного солдата" все годы после войны не забывали добрые люди: на многострадальной белорусской земле каждая четвёртая деревня сгорела, в каждой семье кто-то погиб, не вернулся домой…
Ну, а тогда, закончив отпуск, я встретился с Анастасией Ивановной. Зашёл разговор о письме Швейцер, и я спросил, кто это – такая легкокрылая заокеанская критикесса? Анастасия Ивановна улыбнулась и, похоже, без всякого интереса и к тому письму, и к автору его, заметила: "Так, одна окололитературная дама. Крутилась в ЦДЛ, потом уехала в Америку. И вот пишет…"
Повторением в известной серии издательства "Молодая гвардия" своей книжки о жизни Марины Цветаевой мадам из штата Массачусетс всколыхнула былое. Как много лет назад, резанули по сердцу слова её письма Анастасии Ивановне: "У Вас семья, внуки, Вы думаете об их благополучии. Но вы могли бы написать правду для будущего, "в стол". А если и это Вам не по силам, – поучала Швейцер, – есть ещё один хороший способ не принимать участия во лжи – молчать".
Экая, однако, окаянная сила – то "хуцпе"!..
(обратно)Сергей Шаргунов ОРЁЛ ВАНЯ
Отрывок из романа "Птичий грипп"
Он был похож на орла. С детства его отличал от других орлиный взор. В орлином взоре запечатлена гроза.
Клюв ему погнули в последнем классе на занятии по физкультуре: учительница довела их до одури бегом по кругу и прыжками, и они налетали друг на друга, ничего не соображая. Одноклассник заехал Ване плечом по носу, и нос наклонил вниз.
Из всего своего гардероба Шурандин предпочитал безразмерный серо-коричневый мохнатый свитер, напоминавший орлиное оперение. Причудливым объектом гордости были также ногти – длинные, ухоженные, сероватые когти.
Итак, Шурандин был писатель, но однажды ему надоело писать, хотя написал он за короткую жизнь мало.
Еще каких-то пять лет назад Шурандин не был писателем. Но он выскочил из ряда вон. Он нагло выломился, и знал: что бы ни написал, получит читателя, обрастёт шумом восхищения и злобы.
Сначала он сочинял рассказы. Печатал их на компьютере вслепую, не контролируя себя, чтобы не тормозить, а, отбарабанив страницу, обнаруживал лихой слог. Он рассказывал про свой первый поцелуй в летнем детстве, про то, как при нём мужик в ярко-красной куртке прыгнул под поезд в метро, про то, будто надоедливая учительница по физкультуре превратилась в тёмный, крепко заваренный чай.
Закончил школу, поступил в языковой вуз. На экзамене по французской грамматике, когда надо было готовиться к ответу, Шурандин увлечённо – мелко-мелко, чтобы не разоблачили – записывал строчки из нового рассказа. Ребята опоздали на автобус, и теперь они в ночной прохладе, на краю осеннего пугающего леса, а по дороге редко носятся ослепительные слитки машин… Сочинив, он скомкал листок и запрятал в карман.
Иван старался не поддаваться на провокации. Каждый предмет, любая деталь, первый встречный, всё становилось образом-провокацией. Ваня боялся запутаться и погрязнуть в образах. Боялся их запоминать. Всё равно образы забываются, и, попытавшись их воспроизвести дома, засев за компьютер, он только понапрасну будет ломать голову.
На первом курсе Шурандин решил отнести подборку рассказов в журнал "Новый мир". Он слышал, что это главный журнал в литературе. Туда и направил свои стопы.
Он нёс рукопись, на самом деле не очень-то веря в успех. Он вылез из метро "Пушкинская" и побрёл в редакцию, еще не подозревая, что с каждым шагом приближается к победе, и каждый квадрат асфальта под кроссовками укорачивает его путь. Шаг, опять шаг. Дверь в переулке. Клавиша. Гудок. Дверь запиликала.
Рассказы взяли. Он написал новые, взяли и их. И всё же – журнал-толстяк был высоколоб. А вдруг я сушёный эстет, а? – спросил у себя Шурандин.
Он написал повесть. Лихорадочно, за двадцать дней настучал на компьютере всему свету – историю ненормальной страсти подростка к коварной, криминальной и отвратно обольстительной бабе. Про любовь. Журнал струхнул печатать.
Шурандин пошёл в ночной клуб, всю ночь плясал на танцполе с девчонкой из Перми. На рассвете он сел с девчонкой за столик на зябком воздухе у клуба, и, пьяно шепелявя, она спросила, чем он занимается. Пишет он…
– Так есть же премия! – неожиданно шумно обрадовалась она. – По ящику показывали. Отошли туда! Потом – с тебя французские духи.
Эта рассветная девочка так, хмельным мимоходом обмолвившись о какой-то премии, дала ему импульс.
Он отправил повесть в большом жёлтом конверте.
Через полгода премию ему вручали. Он обыграл сорок тысяч своих соперников…
Ночь после премии Шурандин опять провёл в клубе. Кто бы мог подумать – он её встретил снова, пермскую девочку! Она увивалась вокруг крупного, агрессивного бугая. Иван начал приближаться, танцуя, но эта девушка в скользящих оранжевых и розовых бликах, словно осыпаемая икринками, сделала страшные глаза: я не знаю тебя, не лезь, а ну пляши в тот край! Он чувствовал похоть и одиночество, и не желал подтанцовывать ни к кому больше. Музыка ритмично трахала мозг. Блики скользили, тьма колебалась, невидимые рыбы метали электрическую икру…
Наутро, обвязав лоб мокрым полотенцем, он сел за роман. Про то, как погибнет в войне с миллиардным Китаем. И сделал за месяц.
Стали выходить книги. Он стал писать с оглядкой, вдумчиво, заранее просчитывая мнение критики. И поймал себя на том, что наблюдательно, со стариковской бдительностью озирается, карауля образы. Он усаживался за текст, но, совершив легкую пробежку по клавиатуре, возвращался к началу – перечитывал первое слово, менял на синоним, подбирал иной вариант, пока не выдыхался…
Вот оно, бесплодие!
И тогда он решил стать политиком.
Шурандин придумал собрать на литературный вечер друзей-писателей, чтобы те почитали прозу и стихи. И позвал на этот вечер важного думца, у которого просил оплатить фуршет – водку, сок и сэндвичи. Друзей-писателей Шурандин бодрил, превращал, оторванных и нелюдимых, в компанию, вместе они пили, болтали, болтались по Москве… Какими они были? Некая застенчиво-резкая девица, автор скандальных новелл, румяная, красноволосая, дородная, похожая на красный фонарь. Совсем другая – хрупкая блёклая девчушка-стихотворица, похожая на былинку. Коренастый замкнутый паренек с Урала, прозаик, похожий на запылённый валик советского дивана. Нервно-улыбчивый, похожий на зубочистку, москвич, бросивший всё и уехавший лесничим на Алтай, откуда он вернулся с покладистой раскосой женой.
Думец был вальяжный, сам себя он называл "империалистом". Ему предсказывали быть президентом. Шурандин узнал его мобильный. За завтраком, копаясь вилкой в омлете, набрал.
Думец ответил на незнакомый вызов.
– Да-а? Очень интересно, – сказал он бархатно. – Иван? Давайте мы поступим так…
Через сутки у Шурандина оказались деньги на фуршет.
Небольшой зал старинного особняка с сероватыми подгнившими колоннами. Вечер начался, а политик опаздывал. Зал наполнили старики и студенты. Не успела стихотворица-былинка прочесть первое стихотворение о далекой деревне, где сеет грибной дождик, – за окном хищно заулюлюкала мигалка. Минуту спустя в зал под охраной неторопливо вошёл с добродушной полуулыбкой будущий президент.
Его опытные глаза столкнулись с пронзительными шурандинскими и мягко сощурились.
Иван понял: будем дружить.
Политик сидел весь вечер на первом ряду, и выглядел он раскованно, непринуждённо, но при этом не делал ни одного лишнего, случайного движения, почти не шевелился.
Весь вечер Иван сгорал со стыда, точно впервые услышал своих друзей! Их тексты были похожи на жалобы. Это были парни с руками и ногами, девицы в соку, и тем постыднее звучали слова, зачитываемые с листков. Чудовищная гниль душевной нищеты! Стихи про пальто без рукава и обрывок сырой газеты, "набитый ржавью табака", проза про дешёвые макароны и миому матки у двоюродной тёти. Зачитывая эти унылые гадости, молодые, цветущие, неопрятно одетые писатели признавались: мы конченые чмошники, и жизнь наша не жизнь – дрянная житуха. Дай нам денег, дядюшка политик, мы хотим в твой мир. Мы завидуем твоей мощной, летящей поверх пробок машине, нарядному залу думских заседаний, прохладному кабинету с ярким привидением аквариума, твоей славе – миллионы сердец трепещут, когда на экране ты схлестываешься с господином Ж…
А мы сегодня выпьем, сколько дадут, и поплетёмся в темноте к метро, и разъедемся кто-куда – кропать и вымучивать сволочные строчки...
Через неделю политик позвонил и пригласил Шурандина на ужин.
Забавы ради?
В субботний вечер встретились на Ленинском проспекте у магазина "Кот и пес" (Иван жил в доме над магазином). Чёрный бумер он заметил сразу, вокруг машины застыли охранники, напряжённо высматривая киллеров. Шурандин приблизился, и из раскрытой дверцы ему навстречу потянулись улыбка и нос…
Они поехали за город, в особняк. Думец был находчивым и искромётным. Он напоминал итальянского актёра. "Какой контраст с литераторами, нудными мудилами, которыми я по недоразумению окружён!" – думал Иван, глотая вино. Позднее подъехала жена политика с вишневыми губами, в обтягивающем шоколадном платье. Когда-то она училась в Инязе, на том же отделении, что Ваня. Он рассказал ей про нынешний день профессоров-старожилов, пытавших ещё и её… Было весело, смешно, сладко, и на минуту Шурандин даже забыл, кто принимает его в гостях, просто симпатичный мужик и симпатичная женщина, они ярко переглядывались, расспрашивали его, как мальчика с улицы, который попал к ним на ужин, а после ужина навсегда растает… Ведь своих детей у них не было!
И вдруг он пресёкся, глянул на слушателей, как бы что-то вспоминая.
Резко включил орлиный взор. Нахмурил брови. Натянул кожу носа.
– Я решил заняться политикой.
Зачем он это сказал?
Мигом политик померк и недовольно отставил бокал, поднесённый ко рту. Мигом его жена выразительно зевнула – приглашая кого-то ко сну, а кого-то и вон…
Но Шурандин уже не выключал орлиного взора.
– Какой еще политикой? – устало спросил хозяин.
– Я создаю молодежную организацию, – ответил Иван, не моргая. – Вы мне поможете?
Он поднял бокал.
Политик помедлил, рассмеялся, и тоже поднял бокал. Легкий звон… Хозяйка поспешно схватила вино, и округлив глаза: "Мальчики, а про меня забы-ыли?" – присовокупила свой звон к их звону.
"А, ерунда! Чего-нибудь ему подкину", – очевидно, сообразил политик.
Начав новую жизнь, Иван стал терять орлиную внешность. Он был вынужден сменить мутный многолетний свитер на ладный темно-синий костюм функционера. Богемные ногти аккуратно остриг. Но взгляд его оставался прежним – грозой.
Думец дал Шурандину кабинет на улице Большая Никитская. Сотрудники из других кабинетов неодобрительно косились. В них рождалась смутная тревога: не грядут ли перемены, не набедокурит ли этот новичок, не нанесёт ли удар им по кошелькам?
Иван поместил в кабинете скандальную новеллистку, похожую на красный фонарь, и назначил ее секретаршей. За интернет-сайт новой организации стал отвечать уральский грустный прозаик. Сайт получился яростный, живёхонький, состоящий из забавных лоскутков – стихов, памфлетов, первых вестей.
Как назваться?
Они долго обменивались бредом, пока не остановились на простом: "За Родину!". Название обязывало сражаться, дорожить родной землей, и отчаянно кричать, распахивая рты… Так появился девиз – модернистская частушка: "Мы разгоним силы мрака! Утро! Родина! Атака!" Из последних трёх слов сокращённо получалось: "Ура!" Фронтовое русское "ура", пахнущее мокрой глиной окопа, спиртом и ещё чем-то сочным и горьким, вроде раздавленных зубами ягод рябины.
Идеология организации была простая – любовь к России и любовь к народу, но была еще тайная, нутряная идеология – освежевать политику и освежить литературу, научить пацанов писать стихи, а усложнённых поэтов строить баррикады… Марсианский проект.
Возникли первые люди. Леонид Разыграев, тридцатилетний крепыш, приехал в Москву из сибирского Ангарска. Он открыл тут небольшое дело – поставил жену торговать мехом на рынке. В метро увидел наклейку "За Родину!", позвонил, пришёл. Боксёр, восьмой ребёнок в семье, раньше Разыграев был бандитом, и в спине, под лопаткой, у него сидела пуля. Залихватский, голодный до подвигов он уже через день включился в работу. Шурандин назначил Лёню начальником "отдела регионов". Как-то Лёня принёс и показал альбом с фотографиями своей юности. Было много групповых снимков, таких, на которых в обнимку стоят по восемь-десять друганов. "Этот убит, этот убит, этому пожизненно дали, тоже пожизненно, в бегах, и этот убит…" – простодушным пальцем тыкал в лица Лёня. Выходило, он единственный из той ангарской группы, кто избежал тюрьмы, бегства и смерти.
Пришёл Федор, бывший певец, невысокий и плотный, хрипловатый и покладистый. В морщинистой, видавшей виды косухе. Он дымил трубкой. Показывал огромные пожелтевшие афиши, на которых он скалился между бородатыми Сциллой и Харибдой – слащаво-зловещим металлистом Пауком и вытаращенным очкастым рокером Летовым.
Явился Михаил Боков, взвинченный, худощавый, лязгавший челюстями, громко выдававший речи с наукообразными словами, вдобавок с неправильными трогательными ударениями. Недавно он вернулся из армии – из танковой части города Дзержинска. В армии он служил офицером-добровольцем, до этого закончив МГУ и получив красный диплом физика.
Первую акцию они замутили девятого мая.
– Кремль в курсе. Дан зелёный свет, – чуть лениво сообщил бархатный голос политика.
Девятого мая в Москву на парад победы заявилась старушка, президентша Латвии канадского происхождения. Накануне она обозвала советских ветеранов алкоголиками.
Шурандин предложил протестовать. Встать рано утром у посольства Латвии в переулке на Чистых Прудах и не выпускать латышку, не дать ей укатить на праздничную Красную площадь.
Переулок был умыт ночным дождём, полон клочковатым туманом и засажен липой, которая душно зацветёт в июле. В лужицах плавали, сорванные дождём, желтоватые мохнатые свечки.
Их было пятнадцать человек, по переулку подошедших к сумрачному, кофейного цвета посольскому зданию. На всякий случай Шурандин захватил с собой только мальчишек.
– Сюда иди! – раздался окрик из дверей зашторенного автобуса.
Омоновец выпрыгнул на асфальт и мотал башкой, разгоняя сморивший его сон.
Сонные омоновцы поволокли их в логово автобуса. Уложили на пол в проходе, растянули поверх ноги в сапогах, и стали досматривать недосмотренные сны...
Вечером думец освободил молодежь. Он подъехал к отделению милиции, вступил внутрь, и все менты смотрели на него благоговейно.
– Хулиганит. Непорядок, – отметили в Кремле.
И политика стали меньше показывать в телевизоре.
– Надо быть жестче. Плюйте вы на эту власть! – при каждой встрече подначивал Шурандин.
На последний свой телеэфир, перед тем, как навсегда исчезнуть с экранов, политик позвал именно Ваню – выступить секундантом.
Схватка была, как обычно, с господином Ж., экспрессивным, при каждой фразе напоминавшим арбуз, летящий на тротуар и брызжущий во все стороны яркой мякотью.
Дошло до реплики секунданта. И Ваня резко продекламировал:
– Мы ненавидим вас и смеёмся над вами, уродливый болван. Скоро вас сметёт метла революции! Да, грядёт великолепная, изгоняющая воров-чиновников, держиморд-ментов и проститутов-шутов, революция! Могу вам только обещать: революция вас, господин шут, не пощадит! И ей, и вам будет не до смеха!..
(обратно)Евгений Скрипин ПУТЕШЕСТВИЕ ТУРУБАРОВА
Отрывок из романа "Джизнь Турубарова"
***
Полетав по парижам, люди начинают снисходительно и горько – будто узнав взрослую тайну, думать, что шарик мал, смешон и постижим.
Я сам почувствовал нечто похожее вдали от родины. В римской пиццерии, через стол от меня с Аннеттой, два громилы в розовых рубахах говорили, густо матерясь, о брюликах. От этих, факт, нигде не скроешься, подумал я. Шарик, пожалуй, да, смешон и мал.
Поэт Тушёнкин, книжечку которого я взял в дорогу, говорил об этом как деле решённом.
***
Ребенок – школьница – готовилась ко сну, боролась с выданными проводницей простынями. Вертела попой, выгибалась обезьяной с верхней полки, не подозревая, о чём может думать хмырь внизу.
Милые дети!
Я сурово оглядел курятник.
До хрена нас тут. В плацкартном не было свободных мест. Кто-то сходил, и сразу заходили, вдвое больше, появляясь из щели прохода с полосатыми тюками. Чем дальше уезжали мы к Европе, тем больше было в пути всякой азиатчины.
***
Старуха справа съела курицу и водит, далеко отклонив голову, пальцем в тетрадке, шепчет: "Шу-шу… счастье детей… хр-бр… моли Твоего Сына…"
На свиданку, в зону?
Читает вдумчивей, серьёзнее, ожесточеннее, чем я Тушёнкина.
С высокой насыпи глазам открылась речка, скошенный луг, бегущая вбок, мимо стога, колея дороги.
И там, внизу, такая была заповеданная мощь, такая великая правда, что дух захватило. Я вскочил с места, нашел сигареты.
Чёрта с два шарик мал!
Сомнительны вообще шары, вот что. Похоже, истина не шар, а – вбок.
***
Я малость подостыл в дырявом тамбуре. Слишком по-русски механически и ненадёжно стучал поезд, гоня состав на угасающий закат. Стальные нервы, поэтически подумал я.
Натянутые жилы родины. Железный болеро.
"Та-та, та-та…" – били по рельсам, пружиня на стыках, колесные пары:
Во-ды жи-вой…
…набравши в рот,
Как понятой молчит народ.
Стоя в заплёванном, дрожащем тамбуре, глядя сквозь дым в стекло на холмы родины, я понял, что люблю страну больше, чем женщину. Или – чем истину.
Вернулся в клеть. "Хр-бр… шу-шу".
***
Старшой стал злее и сентиментальнее. Ушёл, заморгав, на балкон с иконой Божьей матери. Я задарил брату иконку, наспех выданную мне, как индульгенцию, отцом Герасимом.
Младшенький тоже изменился: радикально и необратимо. Я понял это по глазам старшего брата. Что-то не срасталось.
Идиот: не надо было, зря приехал.
От меня и здесь чего-то ждали. Мама дорогая! Это было всё-таки несправедливо: я-то от них ничего не ждал.
Ожидание заметно было по плескавшейся в глазах родни духовности. Впрочем, всего скорее мне это казалось. Крыша моя, похоже, уже вовсю ехала.
Были: брутальный увалень, сын жены брата, и жена сына, лёгкая тростинка. Ненастоящая, вторая жена брата успокоила меня своей фальшивостью. Всё шло как надо: как в лучших домах Лондoна.
Наутро молодежью мне была обещана экскурсия.
***
В местном музее была клетка Пугачёва, я сразу вспомнил эту клетку из учебника истории. Потолок узкой клетки едва доходил до носа, из чего я заключил, что Пугачёв был невысок или стоял в клети горбясь, как Квазимодо. Хорошо, местные не догадались выставить в клеть чучело.
Город гордился также, что здесь по своим писательским делам проезжал Пушкин. Повсюду были памятники Пушкину: я насчитал четыре или пять голов.
Пугачёв, Пушкин и огромный газзавод, крупнейший на планете, осеняли город. На газзаводе трудился мой брат.
Я догадался, чтo было не так.
Примак, брат желал предъявить меня, талантливого брата, не вполне родному городу. Кинуть на стол, срезать непуганых потомков Пугачева. У меня, думал брат, есть то, чего недостает самому брату.
Увы, но мне – нож острый! – даже для старшого не хотелось бить карты потомков. У меня не было сейчас на это сил.
***
Казачка, или, чёрт их разберет, русачка с энергичной чёрной гривой – первый живой, с осмысленным лицом человек на похабном азиатском рынке. Мы выбирали обувь брату, то есть выбирали брат с женой, а я, под солнцем, плёлся следом по базару.
– Будете брать?
Встречаемся глазами, и меж нами, дугой, пробегают электрические молнии. Казачка переводит, бессознательно, взгляд ниже, успеваю подобрать живот. Мы улыбаемся друг другу: да!
– Не будем.
Заворачиваю, следом за своими, за угол.
***
Спальное место мне отвели в зале на диване. Себе брат стелет рядом, на полу у шкафа с книжками.
Сейчас начнётся.
"Почему ты вечно учишь меня, брат? – всё время хочется сказать мне Стёпке. – Что за мания такая?"
На мне лежит проклятье первородного греха, на брате оно почему-то не лежит. Я молча, с понимающей улыбкой несу крест меньшого брата.
Он меня любит, старший, вот в чём дело. Может быть, брат – единственный, кто в этом мире меня любит. Только мне от этого не легче.
– Занятно, брат, – устроившись, сказал Степан. – Вот жена Федора…
– Тростинка.
– А? У них нет "Мастера и Маргариты". Ты же читал?
– Читал.
– Она берёт у нас. Прочитает, принесёт, снова берёт. А я пытался читать – мне неинтересно. Почему, брат?
– Это долго…
***
Брат, не вставая, вытянул из ниши томик.
– Вот. Лев Толстой. "Были брат и сестра – Вася и Катя, и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали её везде, но не могли найти…"
Брату известно о моих замашках. Он понимает: творческие муки, то да сё. Но брат не видит результата мук.
– Так же любой дурак сумеет, – сказал брат. – Сел, и пиши.
– Хм, – сказал я. – Ну, давай, сядь. Попробуй.
Брат шевельнулся, и у меня ёкнуло сердце. А ну как сядет и напишет? Сказать по правде, сказки Льва – дерьмо.
– Да я шучу, Коль, – сказал брат.
– И я пошутил.
– Мне как-то кино больше, – зевнул брат. – Фантастика. Типа машина времени: врубил, и в будущем… Я, брат, всё время думаю про вас.
Слезинка вытекла и побежала по щеке старшего брата.
***
Какое, к свиньям, будущее, брат!
Я вышел на обитый рейкой, превращённый в лоджию балкон.
Погляди за окно, на мчащие, с непроницаемыми стеклами коробки с пиками антенн, на невыветриваемый смрад над городом, бубнящих в рацию омоновцев на перекрёстках.
Оно, которого мы так тревожно ждём, давно пришло.
***
Брат все-таки повёл меня к друзьям. Кидать на стол. Главный друг Виктор, босс Степана, жил в газпромовском посёлке, специальном городке для богачей.
Я заскучал и тотчас заболела голова, только спустились, поздоровавшись с развинченным, поддатым боссом, в подвал замка. Где были сауна, камин, круглый бассейн, похожий на гигантскую, промышленных масштабов бочку. Я заглянул: нет, там не плавали листья укропа с хреном.
– Кто из вас старший? – нагло спросил босс.
– Вы с ним ровесники, – поспешно сказал брат.
Этот? Ровесник? Я оглядел стены. Зеркала в подвале не было.
***
Не зная, куда себя деть, разоблачившись, я пошёл периметром подвала. Несмотря на размах и мрамор, подвал был подвалом, свод сельскохозяйственно давил.
Виктор под длинную, торпедой, дыню завёл рабочий горький разговор: какие они с братом дельные газпромовские боссы, и сколько вокруг безруких – ни себе, ни Родине – людей.
Плескавшиеся после сауны в бассейне жёны шумно говорили, как им хорошо после парилки поплескаться, поплавать в бассейне.
Трёп, догадался я, терпим только от близких. Чужой категорически несовременен.
Вот Пушкин не трепался, оттого и культ, и головы.
***
Сели за стол, и я схватился за закуски, чувствуя себя шпионом, иностранцем, затесавшимся на грубую русскую пьянку.
Суслик – я сразу, только мы вошли в подвал, вспомнил о Суслике – рассказывала мне, что в мае на традиционной ежегодной вечеринке с одноклассниками ей впервые стало скучно, тошно от тостов и шуток, и она ушла плакать в уборную.
Потому что не было тебя, сказала Суслик.
– Коля, наверное, домашний, книжный человек, – сказала жена босса, обращаясь не ко мне, но к брату. Я заметил прыгнувшего в глазах брата чёрта.
Что-то похожее мне уже приходилось слышать.
***
Я тебя поняла, сказала мне Аннетта тогда. Я тебя разгадала.
Я был по-вечернему поддат, сидел, глядя в стеклянную стену на закатное солнце. Анна зашла ко мне с просьбой открыть очередную её фантастическую бутылку.
– Никакой ты не гуляка и не Казанова, – сказала Анна, шлёпая на стол коробку конфет и садясь на игрушечный диван: короткая юбчонка вверх, ловкие ноги Анны хоть куда ещё. – Ты, на самом деле, подкаблучник, домосед и жлоб.
Подкаблучник – это глупости, из ревности, но правда в Анниных словах была. То есть, начни меня скоблить, гуляка праздный слетит, точно кожура с молоденькой картошки.
Чистить картофелину дальше она, очевидно, не считала нужным.
Я знал, положим, что на самом деле всё не так уж очевидно. Открывая слой за слоем, рефлексируя, рискуя оказаться вообще ни с чем, я понимал, что только свет прозрений моё оправдание, и цель, и средство. И кому-то этого, наверное, хватило бы, и с верхом – но, увы, не мне.
Грустные мысли угнетали мою волю, вот какие это были мысли: что, если кураж, порыв мой – вовсе и не Богом данный путь, а только моё неумение жить ясной, здоровой, породистой жизнью, какой, наверное, живёт Валерка С. и какою, до знакомства со мной, жила Суслик. Что я недостоин и лишен её.
Они же, эти мысли, гнали меня дальше, дальше, дальше – в бесконечность?
***
"Ай, Витя! – думал я, щупая череп. – Ай, мерзавец! Ты ведь поумней, чем хочешь показаться. О чём ты думаешь, проснувшись ночью, в замке, победитель?"
Как всё же бесконечно далеко ушёл я от рабочих разговоров, от элитных дач, от боссов и от их бессмысленно стареющих, несексуальных жен… И никуда, никуда не пришёл.
Виктор как будто протрезвел к концу, когда стало понятно, что я не опасен. Мы попрощались с ним тепло, как братья.
Я ощущаю себя юношей, подростком. Потому что ни черта ещё не сделано?
***
Все русские семейные рыбалки удивительно похожи друг на друга.
На двух машинах мы приехали на дачу брата, перевалочную базу, и теперь брат возился с сетью, размотав её во всю длину газона, женщины занимались сбором яблок, падавших, со стуком, под деревья, а я любовался точными движениями брата.
Хорошо всё же, что мы с братом разные. Он вот такой военный, балагур, добытчик, а я вот такой ранимый, курицы не зарубивший в жизни и весь из себя писатель. Было бы глупо, если б оба мы были военные. Еще глупей – писатели.
Вторая жена брата, Дама Треф, была – заметно отличаясь мастью – фигурой из прежней колоды. Я едва не назвал её тем, первым, именем.
Было понятно, почему брат выбрал эту партию. В Даме легко угадывались черты бывшей мечты офицера – теперь, по истечении положенного времени, ставшей полковничихой, офицерской мамочкой. Она была семейный врач и массажист.
Мне вспоминается семейная рыбалка в Красных Горках.
« * *
Отцовский шофер с братом ушли ставить сети, не признающий сетей батя тихо удалился с удочкой, а мы с прихваченным на пикник лысым чёртом остаёмся на лужайке с женой Степки, белокурой мечтой офицера.
Сбитая с толку магнетизмом лысого, мечта щебечет, путая слова, с невесть откуда взявшимся акцентом. Фальшиво хохочет и боится встретиться глазами с влажным взглядом чёрта, вполне довольного раскладом сил.
Я с грустью думаю, что всё же женщине с такой кормой и такой грудью не пристало тушеваться, даже перед лысым, чью давящую волю, безусловно, ощущаю на себе и я.
Впрочем, силы демона и белокурой слишком неравны. У них и единицы измерения разные.
Уже умея противопоставить свою волю чёрту, я пока беззащитен перед сладкой энергетикой мечты.
***
Теперь другое дело.
Оторвавшись от блокнота, я спокойно, дым от сигареты в форточку, смотрю на вышедших ко мне в вечерних платьях Даму и Тростинку.
Брат с Фёдором уехали в ночь, ставить сети.
Опершись кормой о подоконник, избегая прямых взглядов, сбывшаяся мечта несёт обычный дамский вздор, подтекст которого: с таким, как ты, наверно, можно прожить жизнь, Ник, правда?
Наплакалась бы ты со мной, думаю я.
Идиллию с вареньем и наливками прервал звонок. Даму, домашнего врача, к температурящему сыну вызывал клиент.
Выругавшись, мечта стремительно переоделась и уехала.
– Я скоро! – помахала она из машины.
Мы помахали вслед. Огни, мигнув, скрылись за поворотом узкой улицы.
Я пропустил вспыхнувшую Тростинку за калитку и запер железные ворота.
***
Женщины Света. Матовые. Непростые.
Только от них исходит тонкий, несказанный свет, указывающий на возможность счастья.
Сияние: загадочное, лунное – одних, и энергичное, дневное, полное – других, часто и составляет смысл – о, не жизни! – гонки в бесконечность.
Мы просыпаемся в разных постелях, но в одной, по-студенчески разгромленной светёлке.
Заря лежит на шторах, на бутылках, на твоем комом брошенном свадебном платье.
Неосмотрительно, конечно, нас вчера оставили вдвоем.
Ты, милое дитя, ребёнок, с головой под одеялом.
Только рука на белой, выпросталась, жёваной подушке.
Лучик. Знак.
***
Супруга брата обняла меня в дорогу у вагона. Малость помедлив, обнялись и с братом.
Я влез на полку, лёг и стал одним из тех, которые лежат на верхних полках и которых видят, кося сумасшедшим взглядом, проходящие в вагоне.
(обратно)Михаил Крупин РУССКИЕ БЛИКИ или ЖАНР, КОТОРОГО ЖДАЛИ
Сергей Дмитриев. "По русским далям и просторам". Альбом фотостихотворений, изд. "Белый город". Москва, 2006.
– I – Пролистываю, а верней – легко вдыхаю "Альбом фотостихотворений (!) "По русским далям и просторам" Сергея Дмитриева, и ловлю себя на том, что невольно, совершенно естественно уже готов констатировать рождение нового жанра. Констатировать причём, как угодно – аллегорически, критически, наукообразно… Всё тут состыковывается – и в теории, и на практике. Ибо всё очевидно, зримо, ясно в этом "Альбоме фотостихотворений", а значит, и в новорождённом жанре.
Но только решил "пойти, так сказать, с самого начала", адресуя собрату-филологу свои веские формулировки и обоснования, и приступил к неспешному прочтению-просмотру Альбома, как вдруг обнаружил, что у этого новейшего жанра уже есть свой глубокий аналитик. Это сам Сергей Дмитриев. (Такое положение вещей характерно именно для русской культуры. Когда соловей споёт самозабвенно песню… и сразу задумывается – а что же это было?)
И мне теперь не удержаться, чтобы не впасть в цитирование, вместо того чтобы думать самому. Удержаться невозможно, потому что теория С.Дмитриева поэтически ясна и легка, и поэтому я полностью ее разделяю. "Продолжая писать стихи и увлекаясь одновременно фотографией, я вскоре почувствовал неразрывную связь между двумя этими Музами. Только поэзии и фотографии в силу их особой природы дано запечатлевать момент истины, тот самый миг очарования и познания, который подарен человеку Богом. … У них одна и та же задача – минимальными средствами, часто одним снимком или одной строкой, отразить суть реальности и выразить в "отпечатках бытия" красоту, сложность и глубину мира.
Такую аналогию можно продолжить и ещё дальше: если архитектура – застывшая музыка, то фотография и поэзия – это застывшее время, настроение… Фотографию вообще можно назвать застывшей поэзией". Добавлю от себя, что если существует песенная поэзия – то есть поэзия, положенная на ритмическую и частотную основу (иначе говоря, на музыку), то почему бы не существовать фото-поэзии, когда стихи оснащены виртуозным видео-изображением?
Но ведь, вдыхая Альбом Сергея Дмитриева, поверьте, меньше всего хочется теоретизировать. Такая сыновняя любовь дышит из его "Русских далей и просторов", и из снимков, и из стихов, что вопрос о том, нужны ли стихи фотографиям, а фотографии стихам, отпадает сам собой. Когда любишь свою землю, ее солнечные, облачные, чистые, морозные, святые города и веси, не бывает никакой избыточности, и невозможна "умеренность", и все кадры и строфы лишь дополняют друг друга.
Листая "Альбом", так и верится – будь фототехника так же развита на заре ХХ века, как сегодня, – "соглядатай странный" Сергей Есенин блуждал бы по "дорогим просторам и лесам" не иначе как с хорошим "Кодаком" за плечами. А цилиндр бы сразу выбросил – ведь фотоаппарат куда более функционален, а при этом тоже – атрибут "столичности".
Как невозможно рассказать песню, так же невозможно в литературной статье ознакомить читателя с "Альбомом фотостихотворений", его надо видеть самому.
Приведу прекрасное стихотворение Сергея Дмитриева "Русская природа", которое, на мой взгляд, задаёт тональность всей книги.
Природа, русская природа,
Как ты просторна и вольна.
Быть колыбелью русского народа
Ты волшебством наделена.
Без твоего надежного покоя
Не выдержал бы русский человек
Того безжалостного боя,
Что он ведёт который век.
И удаль русская, и вера,
И благодатный русский кров
Давно бы вылились в химеры
Без русских весей и лесов.
Природа, русская природа,
Неоценим твой щедрый дар
Родному русскому народу –
Певцу твоих волшебных чар.
Дальнейший текст настоящей статьи представляет собой размышления о стихах С.Дмитриева, записанные прежде, чем я ознакомился с "Альбомом". Кстати, почти все упомянутые здесь стихотворения и строфы вошли в книгу фото-стихотворений. Пожалуйста, не подумайте, что они приводятся здесь автором из вредности характера – ведь читать эти стихи, знать о сопутствующем им блистательном визуальном ряде и не видеть… немного досадно. Впрочем, всякий русский человек впитал эти поэтические картины с молоком матери и каждый в силу памяти воображения добавит их к прочтённым строфам.
Скажут, может быть, так зачем же фотографии, если воображение у россиян и так работает? Эх, так, да не так. Бережно храня в памяти любимые пейзажи, неужели мы откажемся от новых, вечно неожиданных, невероятно прекрасных картин, которыми столь богата наша огромная земля, наша Россия?
– II – Ягода? – Малина. Поэт? – Пушкин. Ученый? – Эйнштейн. Усложним этот простенький психологический тест.
Народный поэт?..
Здесь наш человек задумается. Потом, видимо, выдавит: Есенин, Некрасов… Едва ли в голову придёт даже былой эстрадник Евтушенко. Задумается даже: поминать ли Пушкина в этом ряду. О Никитине, Рубцове вспомнят лишь "избранные".
Но в первую очередь задумаются даже не о персоналиях… Настолько нелепо для современного уха прозвучит само это – "народный поэт". Да возможен ли сам этот феномен сегодня? Сам феномен поэзии не вымыт ли уже из спектра массового (корпоративное сегодня – суть замена коллективному) сознания настолько, что сакральный ярлычок "народности" к нему уже ни в каких видах не прилепим.
Что ж поделать? Если эпицентр сознания каждого и всех сегодня с невообразимой лёгкостью свершает путь – как на салазках под горку – от духовного к съедобному, от эстетики к конкретике. Но есть тут и вина… самих поэтов.
И именно в том она, что весь двадцатый век шёл процесс вымывания народности (читай, доступности, ясности) из поэтических строф. Словно похваляясь друг перед другом, гении и слабенькие, те – которым явно было что миру сказать, и те – которым на поверку, в общем-то, и нечего, шли по пути капризного, причудливого усложнения (под видом "остранения") своих поэтических текстов , "раскачивали" свои интеллектуально-метафорические мускулы "до безобразия", до каких-то туманных, трудно- различимых глыб, до бронированных стен, сцеплённых особым сплавом аллюзий и смыслов, сквозь которые бочком проникнуть внутрь мог только "свой", посвящённый.
Немудрено, что даже терпеливый наш народ в конце концов отвернулся от такой поэзии, и предпочёл телевизор. Пускай вздорный, но, в самой вздорности своей, ясный да спокойный, тёплый телек.
Где же нынешние-то Никитины, Некрасовы, Есенины, Рубцовы?
Разве сегодня возможно, чтобы поэт не побоялся выразить чувство и мысль искренне и просто, в том первозданном виде, в коем и пришли они к нему? (А это и есть первый признак истинной народности, всеохватности, "массовости" – считаю, что из этого слова пугало сделано намеренно.)
Оказывается, найти можно. Ведь:
Если где-то смолкает стих,
Значит, где-то рождается новый.
Не дано, чтобы голос Слова
На минуту хотя бы затих.
Это отнюдь не праздная цитата – родом из детства "золотого века", хоть и принадлежит русскому поэту Дмитриеву. Только не Ивану Дмитриеву, известному лирику, сатирику и баснописцу, ушедшему в один год с Пушкиным (хоть и родившемуся на сорок лет раньше), а Дмитриеву Сергею, нашему современнику. (Книга стихов "О жизни, смерти и любви…", 2005).
Предельная сказовость, почти разговорность, открытость стихов Сергея Дмитриева столь непривычна, что сперва даже мешает чтению. Серьёзная подверженность поэта семантическому ряду Золотого века ("тоска", "блаженство", "путь", "забвение", "раздумья", "страсть", "муки", "цепи", "восторг"… без тени столь привычной нам сегодня "развесистой" иронии!) словно относит нас в "начало всех начал", заново роднит с родной традицией. А откровенная, весёлая ясность и разговорность стиха всё-таки не оставляет сомнений: перед нами поэт современный.
Это та самая стилистически выверенная (нет, скорей угаданная) простота, что приближает предмет поэтического осмысления к самым глазам, – весьма причастная эстетике любезного сердцу Н.Заболоцкого и обэриутов.
Стихи крадутся, словно воры,
Из подсознания на свет…
Или вот:
Мне будет без тебя тоскливо
На рубежах вселенских трасс,
Пока Всевышний сам учтиво
Не свяжет бестелесных нас!
......
Я соберу твое тепло
В копилку собственного тела
И тягостным годам назло
Себя омоложу всецело.
Примечательно, что к нарочитой укороченности строк, почти михалковской "детскости" размера, пришли в конце концов интеллектуальнейшие русские поэты ХХ века – Георгий Иванов, Арсений Тарковский, Юрий Кузнецов и многие другие.
И удивительно, чем "легче душе", чем яснее, доступнее слово поэта, тем шире возможность коснуться серьезнейших, тончайших тем.
Там, где избыточный метафоризм-аллегоризм и центонная ретроспективность обязательно запутают дело и приведут к элементарному диктату поэтического языка, к преобладанию формы над мыслью, скупость и лаконизм вполне справляются с задачей. И не просто справляются: такие стихи не производят столь жестокого "отбора меж людьми" (А.Блок), коему ужаснулся бы и Блок, такие стихи оставляют поэзии шанс на всё же приличную аудиторию.
Я умру, когда живой рассвет
Над Землей расправит крылья
И поддержит все мои усилья
Доказать, что смерти вовсе нет.
Здесь значимость художественно-философской задачи, смелость и тонкость решения, умещённого в столь "малый сосуд", думается, не подлежат сомнению.
Впрочем, Сергей Дмитриев не скрывает, что за этой видимой лёгкостью стоят годы напряженного труда, ночи и дни "поэтической ломки".
Поэту не дано молиться
Капризной Музе лишь слегка…
......
Передумано всё, перемолото,
Как в муку, жерновами стихов,
Но немного намыто золота
Из руды бесконечных слов.
Но, конечно, подобный поэт уделяет несравненно более внимания не природе своего поэтического творчества (что, конечно же, тоже внимания достойно), а тем исканиям, духовным, плотским, даже виртуальным, которые наиболее роднят его с людьми, читай – с читателем. Уж такова природа (и примета) именно "народности" поэтовой.
Я хочу немного: просто жить
Без оглядки на ветра и годы
И на старости внезапно ощутить
Приближенье истинной свободы.
........................................................
Но там, за гранью бытия,
Я вспомню о России,
И вновь споёт душа моя
Напевы дождевые.
Я снова тихо поклонюсь
Горящему рассвету
И унесу родную Русь
На дальние планеты…
В каждом стихотворном цикле Сергея Дмитриева есть удивительные строки, тихо и чисто напетые его радостной, сыновней любовью к России.
Дорога, русская дорога,
Как парус на семи ветрах,
Летит под горочку полого
И исчезает в облаках.
Дорога за собою манит
И сказки сердцу говорит,
В пути далеком не обманет
И вёрст тревогой опьянит,
Подарит веру, но не счастье,
Приблизит цель, но не спеша,
Не отведет совсем ненастье,
Но… не умрет на ней душа.
Эти три "но" (и, в особенности, "но" последнее) подобны духовному манифесту поэта. Гордое "счастье" – не важный, даже избыточный приз, если достигнута "Вера".
Одна из причин этой веры и недостижимости надменного "счастья" – именно та, что цель приближается "не спеша". А, значит, так и надо. Ведь итог пути – бессмертие души, о котором сказано в стихотворении трепетно и убеждающе-тихо.
Поэт не строит иллюзий по поводу будущего своей родины. Но из любящих уст столь безнадёжные прорицания звучат особенно горько.
Побеждает кругом кошелек,
А не честь, доброта и отвага,
И позорный предписан срок
Для российского гордого флага.
Я уйду в такие места,
Где еще различима вечность,
И не так нелепо проста
Жизни горькая скоротечность.
Впрочем, есть проблеск надежды. Но надежда здесь и сейчас (по Дмитриеву) только на одно. На самого себя. Отрадно, что в отличие от сонма отстранённо-ироничных стихотворцев-созерцателей С. Дмитриев пытается мучительно осмыслить собственную ответственность за происходящее с его страной.
Наряду со стихотворениями a la classik , где узнается невозмутимая философическая сдержанность Е.Баратынского:
Одиночество – моё спасенье
И неразрушимая броня.
И его нисколько не браня,
Нахожу в нем только вдохновенье,
Что врачует и хранит меня.
Одиночество одно способно
Подвести к разгадке бытия,
Чем уже воспользовался я…
и вариациями на темы романтически-хмельной цыганщины Аполлона Григорьева:
Ты обними меня, как русскую гитару,
Сыграй на мне мелодию любви,
Я семиструнной песней старой
Зажгу огонь в твоей крови.
…В гитаре русской есть тревога,
Но есть в ней удаль и полет!
Любовь – совсем не недотрога,
Она всегда своё возьмет!..
отдав дань и мистически-ветреным страстям символистов "серебряного века":
Когда же мы с тобой упьёмся
Ветрами в радужном пылу,
Мы снова на земле сольёмся
В один клубок, крылом к крылу…
переболев соблазнами "бытового" метафоризма:
Листая жизни собственной страницы,
Я опечатки в ней с досадой нахожу.
За них, увы, мне не на кого злиться,
Я сам их сделал, честно доложу.
Такие опечатки не исправишь,
И жизни книгу не переиздашь,
И строки все висячие не втянешь,
И оформления не сменишь антураж.
побаловав музу и "дарами Востока", в коих вещая мудрость Омара Хайяма кажется переведённой неунывающим Хармсом:
Всего лишь три у жизни цели:
Зачать потомство
от любви в постели,
Дать счастье тем,
кто млад и стар,
И накопить в душе страданий дар.
преобразив и "лоскутную" эстетику М.Шагала в слово:
Жизнь, как лоскутное одеяло,
Сшита из разных кусков…
Беспечности время сначала,
Юности пестрый улов…
......
То лоскут счастливого взлета
Сошьётся с горя куском,
То страсти обрывок потом
Урежет шальная работа…
…поэт вновь и вновь окунается в российские просторы, где "мой Суздаль поет псалтирь", где "Святые воды Селигера / Прохладой резкой обожгут", где "Свой духовный свершает дозор / Над Россией Нилова пустынь", а оттуда недалече ему и до иных мировых православных святых мест – до "Золотого Иерусалима" (сей "от времени освобожденный сектор" выписан просто с придыханием), до Синая, Эфеса, Сакре-Кёр…
На мой взгляд, очень хорошо, что поэт не стесняется своей счастливой возможности странствовать с немалой пользой для души и музы. Не стеснялся же этого Пушкин, в конце-то концов, перед своими крепостными. Напротив – будучи "невыездным" – Александр Сергеевич болезненно остро ценил малейшую возможность путешествия в границах Российской империи – "срывался" то в Молдавию, то на Кавказ, то на Урал… "По прихоти своей скитаться здесь и там, / Дивясь божественным природы красотам / … / – Вот счастье! вот права…"
И ещё: уверен, что немалое значение при долгожданном воскрешении русской поэзии, при обретении заново ею публичного, широковещательного статуса, будет иметь то условие, чтобы поэты наши представали впредь перед своим народом не раздавленными комплексами, невостребованностью и нищетой, а победительными, успешными и гордыми. Только такие "художники слова" смогут вновь стать "властителями дум", а может быть и стяжать ещё неслыханную прежде роль (уверен, именно в России она всё же возможна) спасителей и вождей нации.
– III – Порою эта "простота без пестроты" Сергея Дмитриева загадочна и головокружительна, как чистая полоска горизонта при взгляде с горного хребта.
Все начиналось так:
Она была нага, и он был наг.
А жить им выпало в раю,
В древнейшем мире, на краю.
Порой подозрительна – а так ли уж все это просто? Но таков творческий метод поэта. А как заповедал нам тот же Александр Сергеевич: "судить поэта следует лишь по законам, им самим над собою признанным"!
Жизнь понятна и проста
От зачатья до креста…
......
Дальше жизнь в ином пространстве
И иная суета.
Жизнь в любом вселенском царстве
И понятна, и проста!
Вот так вот. Не убавить, ни прибавить. И не получится прибавить, коль скоро речь идёт здесь не о лукаво-интеллектуальном, избыточно-научном познании, но о духовном. И ведь заглянувшему поглубже в эти строки и впрямь верится, что – при достижении некой духовной высоты – действительно "в любом вселенском царстве" будет для тебя все просто!
А этих строк даже строжайший Юрий Поликарпович не "выплеснул бы с водой" из своего семинара ВЛК, уловив нечто очень родное:
Я русский поэт, потому и печален
Стою на дороге один
Над видами русских развалин,
Над бездною русских глубин…
Вообще, поэт на редкость уверенно повествует нам о запредельном, и эта уверенность его и завораживает, и весело поддерживает нашу несовершенную, оступающуюся то и дело веру:
Душе под силу уберечь
Напевы колдовской метели,
Любимой трепетную речь,
Сыновий голос в колыбели…
......
Здесь царит спокойствия порядок,
А не напускная суета.
Во Вселенной высшая награда –
Эта внеземная простота.
И вдруг – совершенно противоположное утверждение:
В этой жизни все непросто
И неведомо сполна.
От рожденья до погоста
Зашифрована она.
Но и в это верим. И вовсе не потому, что начитались Набокова, Борхеса и модернистов-поэтов. Эта жизнь знакома и нам не понаслышке. Но именно сейчас мы отчетливо почуяли страстный конфликт Земного, упёрто-суетного, и Небесного ещё и как непримиримый спор сложности и простоты.
(обратно)Владимир Гуга ГЛАС ВОПИЮЩЕГО ТРУБОЧИСТА
М. Веллер "Великий последний шанс", М.:АСТ, 2006.
"Я – трубочист. По утрам я облачаюсь в отстиранный комбинезон и приступаю к чистке труб. Это те трубы, которые у вас в головах. И они забиты пылью и копотью масскультурных наслоений, трухой готовых мнений для толпы и сгнившим тленом всегда господствующей демагогии."
Михаил Веллер.
Уроды! Кретины! Бараны! Дебилы! Идиоты! Посадить! Повесить! Конфисковать! Расстрелять! Михаил Веллер вопит со страниц своей надрывной книги, не ограничивая себя в выражениях. Прозорливый Веллер разносит вдребезги все иллюзии всех народных заступников, как левых, так и правых, как красных, так и белых.
Книга, безусловно, провокационная: читаешь – и чувствуешь, как глаза кровью наливаются, а кулак сжимается в порыве благородной ярости. Собственно, ничего нового – страной сегодня правят негодяи, воры и дураки. Но накал таков, что после чтения хочется плюнуть в телевизор. "Где наши сто миллиардов долларов от дорогой нашей нефти? Более того – где наши двести миллиардов долларов? От нефти? И газа? Про лес и никель мы уже молчим, так, мелочи для своих ребят." А действительно где? "Увы. Крупные люди почти всегда аморальны." И то верно. "Воровство и есть основное занятие российских властей." Трудно не согласиться. "Безнаказанное и гарантированное воровство – и есть идеальный бизнес." Пять баллов!
С каждой страницей автор заводится все сильнее. "Деточки. Рынок спустил страну в унитаз." "Равенства народов не существует", "Если я приеду на Кавказ и изнасилую кавказскую девушку – пусть меня повесят, как собаку на первом же дереве. Если ты (кавказец) приехал в Россию и изнасиловал русскую девушку – пусть тебя повесят на первом же дереве". С этими репликами не согласиться нельзя. Действительно, политкорректность – именно та злокачественная клетка, заложившая рак всего государства-организма. Вся страна думает об одном и том же, но сказать и протестовать – ни-ни.
Цинизм номенклатуры главным образом и заключатся в формуле: "воровать современно и престижно, а называть вещи своими именами – неполиткорректно".
Выступление Веллера-трубочиста – не злобное пустозвонство безответственных ура-патриотов, а очень серьёзная заявка. За каждым высказыванием стоит убедительная, если не сказать – железная, логика. Это не либеральная и национал-патриотическая вода, а тягучий концентрат наблюдений, анализа и вывода, доведённый до плотности сургуча. Этим сургучом автор и припечатывает все болячки и гнойники Российского организма, на котором, собственно, не осталось ни одного живого места. Ставит штамп раз и навсегда.
Звонкие безжалостные оплеухи Веллер раздает всем по кругу: президенту-гэбэшнику, ставленнику олигарха Березовского, существу профессионально незаметному и чудовищно власто- любивому; собственно олигархам-"трупоедам", циничным телевизионщикам, ворам-реформаторам, ленивому, невежественному народу-хаму, обворовавшейся армии, писателям всех мастей, гастарабайтерам, противникам свободной продажи оружия, ментам. Он топчет все национальные русские мифы, смешивая с грязью и наивные национальные идеи; закатывает вырождающуюся Европу в помойный контейнер, мордует Америку; даёт прикурить современному православию, исламу, евреям, арабам, неграм. Правда, арабов и китайцев он всё же хвалит, как сильных и хорошо слаженных граждан своих отечеств: мол, "вот какими надо быть, слюнтяи!" Припечатывает. Давит. Раскатывает танковыми гусеницами и асфальтовым катком. Всё, всё, всё! Никакого света в конце туннеля, никаких проектов, никаких перспектив. Всё – ложь и коллективное самоубийство.
"Страна уже погибла, народ уже растворился и вымер – мы переживаем агонию. Еще 70-80 лет – срок жизни родившихся сегодня детей – и они увидят мир без России." И нет оснований сомневаться. Автор – не автобусный агитатор и не пророчествующий бомж. Учение его складно, как институтская методичка (глава – пункты – подпункты), и искренне, как исповедь. Но самое главное: Веллер – человек немедийный. В учредителях культурных фондов не состоит, в жюри литературных конкурсов не входит, светские рауты не посещает. Сложный человек, одним словом. Ваё Ьоу. И это подкупает. Короче, книга мощная и точная, как попадание крупнокалиберного снаряда в десяточку. Затыка лишь с разрешением проблемы, которое предлагает Веллер.
Единственный выход из кризиса, по мнению автора – установление временной диктатуры. "Диктатура, – сразу же объясняет он, – это воля народа, напрямую сложенная в волю диктатора." Определение настораживает. Ну, пусть так. Путь в идеале. Но далее: "Заранее обдумывается, обсуждается и законодательно утверждается правовое поле диктатуры. Ибо никакой диктатор не должен быть над Законом и являться самоличным воплощением Закона в любой своей прихоти". То есть некие добропорядочные люди собираются и определяют рамки действия диктатуры. Хорошо. Но кто будет этим заниматься?
Ответа нет: "должны быть созданы как минимум два государственных органа, надзирающих за соблюдением диктатором закона – и одновременно друг за другом, чтоб затруднить возможность сговора диктатора с надзирающим". Вот и приехали... Чтобы избежать появления на вершине власти Гитлера, Муссолини и Пол Пота с Пиночетом, Веллер настаивает на образовании некоего совета, который выдвинет порядочного диктатора и установит над ним строгий контроль. И тогда правитель, безжалостный судия чиновников-взяточников, палач террористов и насильников, будет всегда находиться под бдительным надзором народа.
Но, согласитесь, вероятность, что этот идеалистический комитет сам утонет в коррупции, весьма велика. Что же этот будет за диктатор? Уж не голова ли все той же тухлой общественной рыбы? Тупик утопии.
Впрочем, на некоторые частные вопросы Веллер дает очень чёткий ответ: единственное средство борьбы с терроризмом, по его справедливому мнению, – ответный террор. За одного взятого заложника – сотня родственников захватчика – на мушку! Верное средство, не правда ли? А как же иначе! Ну не выйдет по-другому никак. Почему-то, власть предпочитает ликвидировать бандитов вместе с попавшими в их когти детьми и женщинами, вместо того, чтобы взять на вооружение их же метод. А ведь способ очень эффективный. Но нельзя! Не демократично, не цивилизовано, не политкорректно! Но если не так, то "Чечню – либо отцепить напрочь, либо задавить придётся".
Автор не церемонится. Он мыслит радикально.
Без сожаления интеллектуал Веллер пришпиливает, как реликтовое насекомое, либеральную интеллигенцию – окончательно деградировавшее, совершенно бесполезное полупарализованное сословие. Причём у читателя не остаётся никакого сомнения в ничтожности перестроечных паралитиков и коматозных проповедников реформ, по глупости или из-за плохого образования убедивших пустить могучее государство по ветру, а теперь жалко мямлющих на своих теле- и радио-кухнях.
Итак, книга как жесткий приговор, удалась. Правда, не указывает она толкового способа исцеления от недугов, ибо институт диктаторства по Веллеру – теория невразумительная.
Так кто указывает выход? Томас Мор? Платон? Маркс? Или Егор Гайдар? Сократ с удовольствием называл себя "оводом". Обидно, что таких оводов, жалящих прямо в мозг и прочищающих трубы в головах, почти не видно.
Среди немногих жужжит Веллер. Но его жужжание не проходит даром. Любой мало-мальски уважающий себя и думающий человек, знакомый с понятием "совесть", не пропустит мимо ушей ключевую фразу: "Терроризм сегодня – это звонок, возвещающий: прибыль не главное. Есть вера, желание, честь, справедливость, месть, гордость, патриотизм".
(обратно)Юрий Александров ПОТЕРЯННЫЕ СТРАНИЦЫ
Уважаемый редактор!
В одном из своих выступлений, посвящённых проведению Сочинской Олимпиады, президент Путин говорил о Прометее, который имел особое отношение к Олимпиадам в Греции – они, как правило, посвящались ему – мифическому создателю человечества – и начинались с Прометеад – с соревнования по бегу с огнём. Прометей, похитивший священный огонь у Богов и отдавший его людям, по легенде был прикован недалеко от берега Чёрного моря, к скале.
Эта скала находится в центре курорта Сочи – в Агурском ущелье. Тут я однажды услышал легенду древних убыхов, которая, как мне показалось, многое объясняет в истории одного из самых загадочных мифов Греции. Считаю: эту историю следует рассказать со страниц вашей газеты.
С уважением
член Союза писателей России
Юрий Александров
Кому не известен миф о Прометее? Пожалуй, каждый слышал чудное сказание о нём, подарившем людям огонь творчества, счастье созидания.
Сократ назвал Прометея самым несчастным богом. И пояснил: таким он был вовсе не потому, что перенёс несправедливую кару олимпийского верховного бога Зевса, а потому, что обладал даром предвидения, знал будущее. Известна ему была и судьба Зевса. Но на просьбу громовержца назвать имя того, кто отнимет у него власть, Прометей промолчал, за что и был наказан пыткой, которая длилась сотни, а может быть, и тысячи лет...
Вначале по приказу Зевса его приковали к скале, пронзили грудь алмазным копьём. Молчал Прометей. Повелел тогда громовержец низвергнуть его в Тартар, куда ранее поместил своего отца и многих других родственников, отняв у них власть. Это было исполнено.
"За все надо платить!" – таков не только коммерческий, но и нравственный закон. Поэтому боялся Зевс жестокой расплаты за грехи свои, чувствовал: ждёт его печальная, жестокая судьба. День и ночь думал громовержец о том, как изменить судьбу. Знал он: кроме Прометея, никто не ответит на этот вопрос. И приказал Зевс вновь поднять из Тартара на поверхность земли Прометея, чтобы заново пытать его – в этот раз самой кровавой, жестокой пыткой – орлом. Эта страшная птица ежедневно клевала печень титана. За ночь печень восстанавливалась, и орёл снова клевал её. Пытка продолжалась несколько столетий.
Молчал Прометей.
И вдруг, казалось бы, без всякого повода Зевс смягчился и разрешил своему незаконному сыну Гераклу убить орла, освободить ненавистного титана. Что же произошло? Греческие мифы об этом ничего не рассказывают.
Но ведь всем известно: Зевс ничего даром не делал. Так что можно смело предположить: в трагической истории титана Прометея потеряны важные страницы. Никто не пытался искать их.
Давайте же поищем их в мифах и сказаниях народов Кавказа.
Говорится ли что в фольклоре грузин, армян, адыгейцев, скифов о герое, прикованном к скалам Кавказа?
Да! У скифов, например, прикованным к скале был некто Фрол-Теул, "благодетельное божество". Он, как и Прометей, имел прямое отношение к созданию человека, которого воспитал, наградив "храбростью лисицы, осторожностью змеи, свирепостью тигра и силой льва". Наказан был высшим божеством за похищенный огонь.
У грузин такого же мученика звали Амираном. Он вступил в неравную схватку с самим богом, за что и был наказан. Приковали его в одной из пещер Кавказа, куда прилетал орёл и клевал у героя сердце. "Если Амиран когда-нибудь освободится, наступит золотой век для человечества!" Есть ещё с десяток сказаний и мифов, подобных этим, но особое место среди них занимает чудная сказка о красавице горянке, её любви к прикованному в горах герою. Вполне возможно, её рассказывали в древности синды или зихи, а потом их наследники – медовеи, шапсуги, абадзехи и убыхи. И, кажется, именно эта сказка может заменить потерянные странички Прометеева мифа.
Вы что-нибудь слышали о любви Прометея? Думаю, нет: в официальных мифах и строчки не найдёте о его любви или даже восторженном чувстве к какой-нибудь богине, нереиде, нимфе или к смертной красавице.
Странной кажется его деятельная жизнь без любви! Ну не может такого быть, чтобы, прожив огромную жизнь и подарив человечеству творческое вдохновение, созидательную мысль, искусство, он сам будто бы не испытал безумство страсти, священный огонь любви, счастье самопожертвования.
В некоторых мифах называются какие-то особые отношения, зарождающиеся чувства Прометея к Афине Палладе. По Гесиоду, именно из-за этих чувств, а вовсе не из-за священного огня, похищенного, кстати, с помощью Афины, разгневанный Зевс сослал на кавказские муки Прометея.
Многовековые пытки не сломили титана: не удалось царю богов выпытать у него имя возможного восприемника на троне Олимпа. Отчаялся Зевс: всех он покорил, все – и боги, и титаны – мгновенно выполняли его прихоти, один Прометей неподвластен.
И тут, вероятно, кто-то из хитроумных олимпийцев подсказал Зевсу еще одно испытание для Прометея – пытку любовью!
Признаюсь: это мое предположение, оно появилось, когда я прочел сказание черноморских горцев о трагической любви самой красивой девушки Кавказа – Агуры (точнее, Ахуры – так до сих пор называют её потомки черноморских аборигенов) к неведомому герою, прикованному к скале. Имя того героя в сказании не называется. Думаю, нетрудно его установить. Был это, конечно же, Прометей.
Зевс сам устроил встречу Агуры с Прометеем. Надеялся: ничего не выйдет из этого, не сможет гордая красавица полюбить истерзанного, замученного пытками титана – и ошибся.
Нетрудно представить изумление, а потом ярость Зевса, когда он увидел прикованного Прометея в объятиях Агуры. Не берусь описывать эту сцену. Закончилась она трагически.
Зевс – знаток магии и волшебства (помните, как он превращал сам себя то в лебедя для любовных утех с Ледой, то в золотой дождь, чтобы обмануть Данаю, то в быка для похищения Европы?), вот и в этот раз превратил Агуру в поток воды и бросил её к ногам Прометея.
Каково выдержать такое любящему сердцу?!
И сдался титан на милость Зевсу, рассказал ему, что погибнет тот от руки своего сына, который может родиться, если Зевс женится на нереиде Фетиде. А ведь и впрямь пылал страстью к Фетиде громовержец, и она готова была на взаимность. Пришлось царю богов искать другую утешительницу своим необузданным страстям – бросил он Фетиду и освободил Прометея.
Ну а что стало с Агурой?
Она так и осталась небольшим каскадом водопадов, которые люди с тех пор называют Агурскими. Падают они с высоты 74 метров на скалу, где когда-то был прикован создатель и спаситель человечества.
В яркие солнечные дни около этой скалы можно увидеть сверкающее радугой облачко. Говорят, иногда оно приобретает облик необыкновенно красивой женщины. А некоторым, особенно упорным, везёт больше: вздремнув в тени деревьев около водопада, видят они вещие сны.
Кто знает, быть может, чудный сон приснился здесь два с половиной тысячелетия назад пророку Заратустре, когда он тайными тропами пробирался на юг, к огнепоклонникам. Путь его лежал из прародины ариев, которую сейчас называют "страной городов – Аркаим", раскинувшейся у подножья Уральских гор. Следуя к огнепоклонникам в Малую Азию через Кавказ, Заратустра не мог не посетить священное место, где когда-то был прикован и перенёс муки ради человечества титан Прометей. Уверен: случайным совпадением нельзя назвать тот факт, что в имени главного бога огнепоклонников есть имя Агуры-Ахуры... Бог огня и благоденствия у Заратустры так и назывался – Ахурой-Маздой. Впрочем, все благие боги у поклонников огня назывались – Агурами-Ахурами или Язатами... Ахуры по Авесте – божества, борющиеся против хаоса, тьмы, зла.
В Индии от слова Агура-Ахура было образовано слово Агни. Оно почти без изменения перешло в русский язык – Агни-огнь-огонь.
Итак, заглянем на несколько минут к Агурским водопадам. Совсем рядом с ними находятся Орлиные скалы. Это 350-метровой высоты белые известняковые колонны. Они как бы закрывают вход в подземелье, где, вполне возможно, был вход в Тартар... Ещё выше этих скал зеленеет вершина горы Ахун (663 метра). С древних времен эта почти идеальной конической формы гора, кстати, с огромной пещерой внутри, считалась священной. Давным-давно здесь был древнегреческий храм, быть может, в честь Прометея. В Музее истории города Сочи хранится одна изумительной красоты архитектурная деталь – каменный орнамент этого храма.
Впрочем, чтобы испытать таинства агурского ущелья, следует пройти к нему от берега самого синего моря, вдоль которого пробита современная автомагистраль, к втобусной остановке. А затем к экзотическому комплексу "Кавказский аул", где можно подкрепиться, отведать экзотических блюд и полными сил, в хорошем настроении смело отправляться в увлекательную дорогу. Пройдя чуть более 500 метров от ресторана, можно увидеть "Чертову купель" – так люди назвали небольшой водоём с чистой холодной водой, окружённый высокими мрачными скалами; обычно самые смелые окунаются в этой купели, закаляя свое здоровье от разных болезней на год.
Кто знает, быть может, именно в ней окунала отвергнутая Зевсом Фетида своего сына – будущего героя Эллады – Ахиллеса. И он стал неуязвим. Всюду здесь гроты, камни, скалы, напоминающие превращённых в камень людей. И совсем недалеко – дача Генералиссимуса Сталина. Конечно, не случайно здесь было выбрано место для его дачи: Сталин любил мифы о героях и спасителях человечества. И сам стал для одних – зловещим, для других – благим мифом.
Рядом с "Чертовой купелью", в одной из мрачных скал находится таинственная дверь в… "Преисподню" – так иногда называют небольшую пещеру, где вас, если пожелаете, могут сфотографировать. А дальше ваш путь – по вырубленной в скалах тропе. 5-10 минут дороги, и вот оно – таинственное ущелье. Высоченные – до 150 метров – крутые скалы кажутся фантастическими, сказочными; у их подножья журчит река. Здесь гулко отзывается эхо. Тут можно увидеть невысокие деревья, словно прилипшие к скалам, на их ветках прикреплены разноцветные лоскутки или ленты: так традиционно оставляют о себе память туристы. Традиция эта позаимствована у аборигенов, приморских горцев – убыхов, абадзехов, шапсугов. Их предки таким образом напоминали о себе горным богам и богиням.
Неожиданно открывается панорама с величественной скалой Прометея. Высота её – 125 метров над уровнем реки.
Через реку перекинут металлический мост, с которого можно полюбоваться нижним Агурским водопадом. Он имеет два каскада: вначале вода падает в каменную ложбину, а из неё – в озеро диаметром около 30 метров. Есть ещё средний каскад, но его с моста не видно. Общая высота водопада – чуть больше 70 метров. В жаркое лето водопады пересыхают, бывают годы, когда пересыхает и озерко под нижним водопадом. Может оказаться интересной прогулка вдоль каскада водопадов, который начинается в 100-150 метрах от Прометеевой скалы – это тоже река Агура, после слияния её с небольшой спокойной речушкой, образованной горным ключом – Агурчиком. По легенде этот небольшой источник считается сыном красавицы-горянки и титана Прометея. Здесь тропа раздваивается, одна её часть круто поднимается вверх и идёт по бровке обрыва на высшую точку Орлиных скал (их высота – около 380 метров). Тут установлен монумент в честь Прометея. Его, кстати, привезли в Сочи аж из Сибири.
Изумительное по красоте Агурское ущелье
Господи, чего только тут нет на диво человеку! Нет, думаем мы, хорошего хозяина, который это благословенное место, прекрасный уголок почти что в центре Сочи превратил бы в Мекку для туристов, подобную той, что манит людей к подножию пирамид, где, говорят, с помощью японской чудо-техники можно услышать удивительные предсказания пророков. А ведь они могли бы "заговорить" и возле Агурских водопадов. Кто бы помог "оживить" их?
А был ли Прометей? – спросите вы.
Конечно – был. Его можно назвать первым революционером на Земле. Странно звучит! Прометей-революционер. Но как иначе назвать человека, открывшего людям каменного века способ добычи огня.
Покорив огонь, человек обрёл для себя бессмертие… Вполне возможно, звали его по-другому… Матаришваной, например. Именно так назывался похититель огня у богов в Индии. О нём рассказывается в древнейших арийских Ведах. Индийский бог Агни был существом таинственным, невидимым, никто не мог прикоснуться к нему. И скрывался он в деревьях… Древний человек Матаришвана узнал у бога Агни секрет извлечения огня из дерева и передал эту тайну ману – человеку.
Цитирую "Мифологические истории" Ф.Щербы: "Мифы о Прометее и Матаришване поразительно сходные, почти тождественные: в обоих речь об освоении человеком способа добычи огня. Греческий герой назывался Прометеем. А в индийских ведах словом "прамата" обозначалась палка, играющая роль огнива, с помощью которой индийские брамины путём верчения дерева по дереву добывали и до сих пор добывают Священный огонь. Следовательно, Прометей и индийская палка браминов – прамата – одноимённы!"
Простая ли это случайность? Безусловно – нет. Как не может быть случайным звуковое совпадение в названии сочинского водопада Агуры и имя бога огнепоклонников Ахура-Мазда. В этом совпадении есть нечто большее, чем просто фонетическое сходство. Тут есть общая идейная суть – высокая роль в жизни человека Огня.
Освоив добычу огня, человек обрёл путь в будущее. И нам, видимо, следует по-особому гордиться тем, что цивилизация человеческого рода началась не где-то в неведомых краях, а на территории нашей Родины – на Черноморье. И это обстоятельство намного значительнее, чем, скажем, создание египетских пирамид.
Кто знает, быть может, отсюда вновь пойдёт по земле очистительная вера в человека, в его силы, величие, достоинство. Ведь именно этого сейчас человечеству не хватает.
Все Олимпиады в Греции обычно начинались с Прометеады – бега лучших атлетов с факеломи. Это был своеобразный и прекрасный ритуал в честь создателя человечества Прометея.
В Сочи есть священное место, связанное с именем Прометея. Так что сам Бог велел тут провести Олимпиаду – общечеловеческий праздник красоты, силы, ловкости и мудрости.
Быть тому!
(обратно)Леонтий Авилов ДУХ ИСТИНЫ
Дух Истины мир не может принять,
ибо не видит его и не знает его.
Апостол Иоанн
Величайшей тайной из всех стоящих перед человечеством является тайна возникновения, развития и деградации самого человека.
В биологическом мире, от микроорганизмов, до крупнейших животных, название единичного экземпляра в достаточной мере определяет функции всей популяции.
Слово "человек" определяет только его физическую сущность, во внешней среде он проявляется как хищник или вегетарианец, внутри сообщества как "ястреб" или "ангел", гений или идиот и др. Кроме того, существуют такие термины как "сверхчеловек", "недочеловек" с весьма расплывчатыми понятиями.
Таким образом, критерий конкретной личности определяется состоянием её психики, и именно в этом надо искать причину не только высочайшего духовного возвышения одних индивидов над окружающими существами, но и глубочайшего падения других до уровня пожирающих друг друга пауков.
Первым существом, выделившемся из животного мира и положившим начало развития человека, биологи считают австралопитека. При весе 50 кг. объем его мозга составлял 350 см куб., что в 3,5 раза больше, чем у равновеликой обезьяны. Других существенных отличий не установлено.
Функции дополнительных 250 см наукой до сих пор не выяснены и она довольствуется утопией Ч.Дарвина, в корне противоречащей многим известным истинам. Между тем, этот дополнительный объём, к необходимому для обеспечения жизнедеятельности организма гоминоидов, продолжал возрастать в течение миллионов лет, достигнув у наших предшественников – палеоантропов – 1300 см. У кроманьонцев же, выделившихся из среды неандертальцев, этот объём возрастал до 1700 см, после чего они внезапно исчезли из поля зрения археологов.
А вот у неоантропов – наших непосредственных предков, он начал ускоренным темпом "усыхать", и за несколько десятков тысячелетий уменьшился на 20 % у современного человека.
Этот таинственный для науки добавочный объем мозга является органом широкоизвестного в народе "мозгового радио" – телепатии. Его проявления наблюдаются с различным уровнем развития даже у насекомых.
У далеких же предков австралопитеков появились, очевидно, мутанты с повышенным уровнем телепатии, которая в борьбе за существование даёт значительные преимущества перед окружением. Они заранее чувствовали приближение хищника, лучше ориентировались в поисках пищи, жили более сплочённой стаей, и это свойство продолжало развиваться, соответственно расширялся спектр осваиваемых возможностей.
В наше время оно в основном находится в состоянии анабиоза, так как люди в своей жизни замещают природный дар техническими поделками, в миллионы раз более грубыми, громоздкими, ненадёжными и опасными. К примеру, рентгеновский аппарат позволяет грубо и с немалой долей опасности для организма оценивать состояние того или иного органа – и всё. Далее к делу подключаются иные специалисты и аппараты, нередко с такими же свойствами.
В Библии же рассказывается, что когда царь Давид состарился, то нашли молодую красивую девицу, которая ходила за ним и спала с ним, но царь не познал её. Не познал он её в нашем пошлом потребительском понятии. Её же интуитивный орган мышления – инсайт, продиагностировав состояние его организма, вырабатывал потоки праны (жизненной энергии) и, облучая ими ослабленные и заболевшие органы, оздоравливал их.
Таким образом, она совершенно непроизвольно и несравнимо эффективней заменила собой всю нашу современнейшую аппаратуру и всех медицинских светил. В Индии эта было обычным явлением, там даже существует термин "тапас" – самоистощение ради оздоровления другого.
Реальное сострадание основывается на восприятии индивидом всего психофизиологического состояния наблюдаемого субъекта. Поэтому он не сможет принести боль, страдание другому существу, чтобы не ощутить его самому. Из этого следует, что они не могли быть хищниками.
Но именно это обстоятельство стало причиной выделения из среды палеоантропов их будущих конкурентов и могильщиков – неоантропов – предков современного человека.
Обезьяны воспитывают детей сообща, но если среди них оказывается такой, что не усваивает их правила поведения, его изгоняют из стаи, обрекая таким образом на гибель.
Но в обществе с развитой основой милосердия искусственный отсев практически исключён. Ведь изгнать или умертвить даже дегенерата – значит нанести ему боль, страдание, а это порог, через который они не могли переступить.
Но если у особи частично или полностью атрофирована система телепатии, то она может безболезненно и безбоязненно совершать всё, вплоть до убийства. Паразитируя на милосердии остальных, она будет к ним совершенно равнодушна. Таким становится и её потомство. Которое и переходит на хищнический образ жизни, что ознаменовалось созданием в эпоху мезолита (12 тысяч лет до н.э.) оружия дистанционного действия – копья и лука со стрелами.
Из-за отсутствия сострадания к живым существам они их могут убивать не только ради пищи, но и просто так, ради интереса, удовольствия, что в полной мере присуще и некоторым категориям "гомо сапиенс".
Так элита "святого народа", претендующего на мировое господство, предпочитает употреблять "кошерное" мясо – от животных, умерщвлённых особо жестоким мучительным способом. Им, видимо, доставляет удовольствие мысленно воспроизводить этот процесс даже во время еды.
Неоантропы, лишённые способности воспринимать эмоциональное состояние окружающих, развивали разговорную речь. Но речевое общение требовало осмысленности, поэтому наряду с развитием речи развивался соответствующий аппарат мышления, названный нами логическим, – сознание. Это своеобразный биокомпьютер, не воспринимающий никаких ощущений своего организма, как и эмоций окружающего мира.
Вполне естественно, что и свои действия, свой образ мышления обладатель такого приобретения будет формировать именно на основе информации, воспринимаемой через этот орган, то есть определяющим фактором его жизни становится сознание.
Таким образом, в животном мире стало развиваться уникальнейшее существо, обладающее двумя органами мышления, – Человек.
Трагичность ситуации заключается в том, что сознание возомнило себя не просто главенствующим органом мышления, но даже единственным. Ведь абсолютное большинство людей считает, что сознание – это и есть разум, и в своих мыслях не допускает сосуществования с ним другого мыслящего, а тем паче, более мудрого органа, хотя многие признают воздействие на них некоей таинственной сущности, не задумываясь, что оно собой представляет и где находится: внутри или вне тела.
3.Фрейд в силу своего заумствования назвал его подсознанием, тогда как академик психологии М.Ярошевский обоснованно возводит его в ранг сверхсознания.
Это есть реликтовый орган интуитивного мышления – инсайт, формировавшийся в течение миллиардов лет, орган творческого мышления, искуснейшего управления организмом, свободно контактирующий со всем окружающим миром, составляющий более 90% объема мозга.
И он-то оказался в роли бесправной Золушки у только что сформировавшегося сознания, не имеющего каких-либо традиций, собственных органов чувств и связей с организмом.
О пагубной роли сознания в жизни индивида было известно давно. Так, Цицерон задавался вопросом: "Если бы боги хотели причинить вред людям, то лучшего способа, чем подарить им разум, они бы не могли найти. Ибо где ещё скрываются семена таких пороков, как несправедливость, разнузданность, трусость, как не в разуме?"Как видим, он ещё отождествляет весь разум с сознанием.
Дж.Кришнамурти, которого теософы считали воплощением Христа, раскрывал ситуацию более конкретно: "Необходимо добиваться последовательного распада сознания, порождающего алчность, зависть, чувство собственности, тщеславие, страх и страсть, в результате чего освобождаются ум и сердце, и возникает гармония".
Таким образом, между этими органами мышления развилась, по выражению Шри Ауробиндо "ментальная завеса", то есть инсайт закрыл перед сознанием весь ценный опыт предшествовавших поколений и значительно сузил диапазон получаемой тем информации по "арендуемым" у него каналам.
Любой творческий работник подтвердит, что самые неординарные идеи рождаются не в сознании, а их поставляет инсайт. При заблокированном (загипнотизированном) сознании инсайт раскрывает скрытые им возможности организма: неимоверные физические параметры, обостренные зрение, слух, обоняние, намять и другое.
Однако продемонстрированные под гипнозом возможности организма далеко не исчерпывают того, что "законсервировано" инсайтом. На Востоке ещё в древние времена научились устранять "ментальную завесу", что в конечном счете заключается к преодолении амбициозности сознания и выводе инсайта на ведущую роль в организации жизни индивида.
При этом человек становится "пробуждённым", "просветлённым". В Японии это называют "открытием третьего глаза". Будда говорил: "Когда человек становится Просветлённым, с ним происходят две вещи, причем одновременно. Первая – это Каруна – доброта, сострадание; вторая Праджия – мудрость; два эти цветка расцветают в человеке".
В совокупности – Праджняпарамита – запредельная мудрость, базирующаяся на интуиции. Именно вот этих качеств, изначально заложенных в каждом из нас, не достаёт человечеству, чтобы остановить свое ускоренное растление и деградацию и вернуться на путь естественного развития.
Эван Бенс конкретизирует, какие возможности открываются перед достигшим просветления: "Великий йог наблюдает посредством ясновидения суть жизни мелких существ так, как это невозможно ученому даже с помощью микроскопа. Он описывает природу самых далёких солнц, планет и туманностей, которых до сих пор не сделал видимыми ни один телескоп. Так же могуч он и в наблюдениях физиологических процессов собственного тела и ему не нужны вскрытия умерших, вивисекция в его изучении и установлении присутствия носителей болезни. Лекарства и серрум ему не нужны, признающему дух создателем и владыкой своего тела и всех материальных соединений..."
Но ведь это при существенной утрате нами органа телепатии. Трудно даже вообразить, какими возможностями обладали кроманьонцы. Вероятней всего, они достигли уровня преобразования своего тела в иные формы, и именно их в различных видах мы принимаем за инопланетян.
Прототип Иисуса – Кришна был богатырского телосложения и стал национальным героем за ратный подвиг. Однако, неудовлетворённый этим, удалился на гору Меру, где в медитациях и аскетических упражнениях достиг просветления.
"Выслушайте, – сказал Кришна пришедшим послушать его учение отшельникам, – великую и глубокую тайну. Чтобы достигнуть совершенства, нужно овладеть Наукой Единства, которая выше мудрости: нужно подняться к Божественной Сущности. Она пребывает в каждом из нас, ибо Бог находится внутри каждого человека, но мало кто умеет найти Его."
Иисус также пояснял: "Царство Божее внутри вас".
В Танахе же говорится: "Бог – есть любовь". Я.Быкман комментирует: "Есть во мне любовь к ближнему – Бог во мне. Нет – я убил Его в себе. И в этом случае мой бог – сатана, дьявол. Если я обворовываю, обманываю, превозношусь и т.д. – Бога я в себе убил..."
Таким образом, не ставя под сомнение существование Вселенского Бога, надо признать, что человек может войти в контакт с Ним или с существами более высокого уровня развития, чем наша популяция, только через инсайт, следовательно миссия религий должна заключаться в том, чтобы помочь человеку ОБРЕСТИ ЕДИНСТВО МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЫШЛЕНИЯ, в результате чего он может войти в искомый божественный мир, где в полной мере ощутить блаженство и познать смысл существования.
...В 1989 году состоялась Международная конференция, обсуждавшая проблемы Человеческого ВЫЖИВАНИЯ. Американский психолог д-р С.Гроф пришел к выводу: "В значительной степeнии угрожающий человечеству глобальный кризис обусловлен ускорением научно-технического прогресса, что парадоксально противоречит надеждам западного общества на процветание и достижение счастливого будущего через экономическое развитие... Вопреки всем достижениям научно-технического прогресса "достойное стабильное и счастливое существование" остаётся столь же эфемерной мечтой человека, как и столетия назад, именно особенности человеческого сознания препятствуют повсеместному утверждению приоритета общечеловеческих ценностей, равномерному и справедливому распределению благ, формированию экологически ориентированной морали".
И возможность выхода из глобального кризиса видится в преодолении укоренившегося в сознании людей деструктивного начала, порождающего гонку вооружений, голод и нищету рядом с роскошью и пресыщением, разрушение природной среды в погоне за экономическим ростом.
Не отрицая роль политических, экономических и военных сил нашего общества в приближении всемирной катастрофы, следует заметить, что она имеет психологические корни.
Человечество своими действиями создало угрозу самоуничтожения, которую можно постичь и предотвратить только при условии перехода к новому порогу психологической и социальной зрелости...
(обратно)Евгений Нефёдов ВАШИМИ УСТАМИ
НЕ С ТОЙ НОГОЙ...
"А надо потакать лишь прихоти нагой,
А надо на горе стоять одной ногой,
Другую же, подняв,
не опускать, покуда
Не прилетит к тебе
пламеннокрылый конь,
И явное в душе не сотворится чудо."
Григорий КРУЖКОВ,“Пегас”
Стою себе, друзья, я с прихотью нагой
Однажды на горе с поднятою ногой,
Как будто жду коня, с которым мы поскачем...
Однако, вдруг смотрю: со стороны другой,
Откуда ни возьмись – не конь, а пёс бродячий!
Обнюхал он меня, и с прихотью нагой
Со мною рядом встал с поднятою ногой.
Точнее, не с ногой, а с задранною лапой,
И с целью, понял я, нисколько не благой,
И даже может быть, что с прихотью неслабой...
Не стал я потакать той прихоти нагой,
А предпочёл тикать, его пихнув ногой:
Видали наглеца и сукиного сына?
Куда с копытом конь – туда и с лапой псина!
... Ну не собачья ль дурь, читатель дорогой?
(обратно)
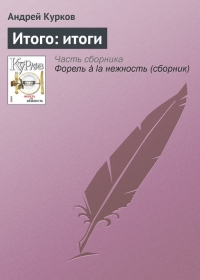





Комментарии к книге «День Литературы, 2007 № 07 (131)», Газета «День литературы»
Всего 0 комментариев