Владимир Бондаренко ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Тридцать лет назад поколение "детей 1937 года" или, как я достаточно условно окрестил их, "поколение сорокалетних", "московская школа", "амбивалентная литература", взошло на Олимп русской литературы и не сходило с этого Олимпа добрых тридцать лет.
Конечно, были в этом сильнейшем литературном поколении и ярчайшие таланты – как среди почвенников-традиционалистов, так и среди западников, – которые сумели заявить о себе совсем молодыми, в самом начале шестидесятых годов; прежде всего назову таких разных писателей, как Валентин Распутин и Белла Ахмадулина, Александр Вампилов и Андрей Битов. Но в целом, сила этого поколения и, как ни парадоксально для многих, некая общность его определилась лишь к середине семидесятых годов.
Моя книга "Дети 1937 года" в своё время вызвала большую полемику в самых разных литературных кругах. Одни по простоте душевной прочитали определение буквально, уверяя, что не бывает поколения одного года рождения. Я заранее соглашаюсь с ними, конечно же, на самом деле, поколение детей 1937 года определялось мною, а самое главное – отображенной этим поколением жизнью, новыми героями, – на целый промежуток времени, где-то года с 1935-36 до начала сороковых годов – пять-семь лет. А до этого всё-таки господствовало иное поколение, с иными героями, с иным отношением к жизни, с опорой на события двадцатых-тридцатых годов, с "отблеском костра". В целом это было поколение шестидесятников, уточняющих с разной степенью достоверности, с разным отношением великие переломы начала ХХ века, от октября 1917 до коллективизации. Для них ещё ни революция, ни трагедия русской деревни не были историей – были частью их собственной жизни, их национальным и социальным бытием. Иногда и несколько лет определяют границу между историей и современностью. Василий Белов ещё мог написать "Кануны", хронику великого перелома коллективизации, как часть своего общественного и национального бытия, Валентин Распутин уже писал "Прощание с Матёрой" – совсем иное национальное отношение к жизни, совсем иные характеры и взаимоотношения. То же самое и в исповедальной прозе, в эстрадной поэзии. Комсомольцы раннего Аксёнова периода "Коллег" и даже "звёздных мальчиков" или "Лонжюмо" Вознесенского не могли всерьёз восприниматься ни Николаем Рубцовым, ни Иосифом Бродским, ни скептическими и ироническими героями Андрея Битова, ни амбивалентными героями Владимира Маканина.
А вот герои Владимира Высоцкого, Зилов Александра Вампилова, Лёва Одоевцев из "Пушкинского дома" Андрея Битова, расхристанный и неприкаянный герой маканинского "Андеграунда" и (пусть не покажется это странным людям, реально ничего не читавшим, а знающим писателей только по навязанному имиджу) братья Ланины из северной прозы Владимира Личутина или даже герой прохановской "Надписи", или его же "Вечного города" – явно люди одного поколения и достаточно общих взглядов на жизнь.
Я писал вскоре после выхода дедковской статьи "Когда рассеется лирический туман", повторю и сейчас, хоть она и вышла уже после моих статей о литературе сорокалетних, после статей Гусева и Киреева, Курчаткина и Афанасьева, она принесла явную пользу этому поколению и по сути – была верна. Только отношение к амбивалентным героям прозы, взятым из жизни, подмеченное зоркими наблюдателями, было явно отрицательное и соответствовало партийному подходу к действительности. Критиковалась не жизнь, выявившая именно таких героев, ведущая к кризису самого общества, критиковались писатели, подметившие и зафиксировавшие такую жизнь. Не случайно Игорь Дедков до последних дней работал в журнале "Коммунист", главном идеологическом органе КПСС.
Кстати, прав был и некий Литератор, ведущий колонку в "Литературной газете" (многие утверждают, что эту ставку Литератора какой-то период занимал Сергей Чупринин, ясно, что его дополняли и поправляли партийные власти, но официально эту колонку вёл он), писавший, к примеру, о прозе одного из типичных амбивалентных "сорокалетних" Руслана Киреева: "К сожалению, чёткая и последовательная позиция не всегда различима в романе Р. Киреева "Победитель"… Деформированы реальные жизненные пропорции и перспективы, смещены конкретные моральные акценты, в результате чего нравственный вывод романа приобрёл весьма зыбкие, расплывчатые очертания". По сути, литератор и подтвердил теорию амбивалентности общества, зыбкости и расплывчатости его, но, подобно Дедкову, обвинил в этой зыбкости и расплывчатости идеалов не двойственность самой системы руководства, живущей к тому времени по одним законам, а утверждающей совсем другие, а писателя, подметившего эту деформированность общества.
Такие же обвинения в зыбкости и расплывчатости, в амбивалентности и ироничности, в двойственном отношении к действительности можно предъявить (и предъявляли) практически ко всем ярким писателям из поколения "детей 1937": к автору песен "А на кладбище всё спокойненько" или "Нам нового начальника назначили" Михаилу Ножкину, к Ключарёву и Алимушкину Владимира Маканина, к альтисту Данилову Владимира Орлова, к растерянным и брошенным женщинам Людмилы Петрушевской.
Это поколение первым зафиксировало усталость и кризис и традиционного русского общинного лада в прозе Валентина Распутина и Владимира Личутина, Владимира Крупина и Бориса Екимова, в поэзии Алексея Решетова и Бориса Примерова, Николая Рубцова и Юрия Кузнецова.
Это поколение первым зафиксировало усталость и кризис нового советского лада в прозе Андрея Битова и Владимира Маканина, Венедикта Ерофеева и Владимира Гусева, в поэзии Иосифа Бродского и Тимура Зульфикарова, Владимира Высоцкого и Юнны Мориц. Даже Чебурашка Эдуарда Успенского и тот – дитя все той же кризисной амбивалентности эпохи.
Это поколение искало гармонии природного лада, уходя в спасительное единение со стихией воды и ветра, огня и камня в стихах Олега Чухонцева и Игоря Шкляревского, в мистику души, подобно Анатолию Киму и Юрию Мамлееву.
Это поколение стоически не сдавалось ни времени, ни внешнему насилию, ища свою третью правду, как Леонид Бородин, отстаивая справедливость, как Виктор Пронин, с улыбкой на устах говоря жёсткую правду в лицо имитаторам, как Сергей Есин.
Это поколение выделило и своих отчаянных борцов за сохранение державы, таких, как Александр Проханов и Татьяна Глушкова.
Они все предельно разные (и были-то разные, а перестройка тем более разнесла их по разным углам), и я не собираюсь их подгонять под одну гребёнку, но у них у всех была своя великая эпоха, и это их объединяет помимо их желания.
Когда-то я писал о поколении "детей 1937 года": "Пока… в литературном процессе любой из литературных галактик, и демократической, и патриотической, лидируют дети 1937 года. Сила их таланта такова, что лидируют они без всякой форы, без режима наибольшего благоприятствования со стороны любых властей. Что на правом, что на левом фланге книги Валентина Распутина и Владимира Маканина, Александра Проханова и Людмилы Петрушевской, Андрея Битова и Леонида Бородина, Беллы Ахмадулиной и Игоря Шкляревского, Олега Чухонцева и Бориса Екимова, Эдуарда Успенского и Юрия Коваля, Алексея Решетова и Михаила Ножкина, Венички Ерофеева и Владимира Фирсова, Иосифа Бродского и Николая Рубцова, Юрия Кузнецова и Владимира Высоцкого, Татьяны Глушковой и Юнны Мориц определяют живой литературный процесс… Кого только нет! Предельная насыщенность и, как мне объяснил Игорь Шафаревич, вне математической случайности".
Прошло тридцать лет, моим когда-то "сорокалетним героям" справляют уже семидесятилетние юбилеи.
Литературу же по-прежнему во многом определяет именно это поколение и, с недавних пор, более молодые писатели из уже нынешних сорокалетних.
Но и сейчас, когда я смотрю на книжную полку и вижу "Надпись" Проханова, "Прощание с Матёрой" Распутина, "Андеграунд…" Маканина, "Утиную охоту" Вампилова, "Пушкинский дом" Битова, "Раскол" Личутина, "Третью правду" Бородина, "Лотос" Кима, "Москва–Петушки" Венедикта Ерофеева, вижу сборники стихов с автографами Юрия Кузнецова и Иосифа Бродского, Татьяны Глушковой и Юнны Мориц, Тимура Зульфикарова и Игоря Шкляревского – я отчетливо вижу в них литературную классику конца ХХ века.
Достойное литературное начало ХХ века завершилось достойным его литературным финалом.
(обратно)Руслан Киреев ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В РАЮ. Из книги мемуаров
Дедков в своей нашумевшей статье оперирует элегантным понятием "московская школа", но чаще этих писателей называли просто "сорокалетними". Итак, в одном случае – место (проживания), в другом – время (рождения), ну прямо-таки по Трифонову: "Время и место", однако все это – сугубо внешнее сходство. Прозаики были всё-таки очень разными, и спустя пять лет в том же "Литературном обозрении" критик признал, что это наиболее уязвимая сторона его работы.
Прижился в конце концов термин "сорокалетние" как, видимо, более звучный, если не сказать – хлёсткий. Придумал его, кажется, Володя Бондаренко, но наверняка утверждать не могу, поскольку на "учредительном собрании", которое сос- тоялось 24 ноября 1979 года в 1-м Кадашевском перулке в помещении Общества книголюбов, не присутствовал. Накануне Бондаренко, с которым я тогда говорил впервые в жизни, да и то по телефону, настойчиво зазывал, подробно перечисляя, кто будет. Проханов (точно помню, что первым назвал именно его) и Шугаев, Ким и Попцов, Баженов и Маканин, Скалон и Курчаткин… Я не пошёл. Не отказался, нет, просто не пошёл. Во-первых, из всех, кого назвал Бондаренко, лично знаком был лишь с Маканиным, а во-вторых, не понимал цели этого собрания.
А если б понимал? Если б понимал – не пошёл тем более. Зачем? "Ты царь: живи один", – из всех пушкинских заветов всю жизнь охотней всего следовал именно этому. Раз даже вынес эти слова в заголовок небольшого эссе, взяв себе в союзники, помимо Пушкина, еще и полузабытого немецкого драматурга Фридриха Геббеля, написавшего, кстати сказать, трагедию из русской жизни ("Димитрий"). В своём обширном дневнике – лучшее, что осталось после него, – Геббель отчеканил замечательную формулу: "Вся жизнь – неудачная попытка индивидуума обрести форму: постоянно перескакиваешь из одной в другую, и каждая тебе то узка, то широка…"
Но форму нельзя обрести в толпе, пусть даже и в толпе респектабельной. Я понимаю, что история искусства доказывает обратное: импрессионисты, акмеисты и так далее, но я говорю сейчас только о себе. Мне любое соседство мешает, подавляет, у меня слишком мало сил – и творческих, и духовных – чтобы противостоять чужому влиянию. Тем не менее из всех "сорокалетних" я в 82-м был, кажется, самым сорокалетним: именно в этом возрасте – ровно сорок – прожил весь год, за исключением последних шести дней, когда сорок один стукнуло. Но это сугубо формальный признак. Никакого внутрен- него единства со своими товарищами по поколению – ни эстетического, ни психологического – не ощущал, да, кажется, и не нуждался в этом. Однако так получилось, что всё в том же 82-м именно я стал ненароком автором едва ли не манифеста "сорокалетних". Во всяком случае, Алла Латынина писала в "Литературной газете": "Статья Руслана Киреева – не первая в ряду литературных манифестов, и если что в ней решительно ново – так это смелость оперирования литературоведческими категориями. "Новое качество литературного мышления", "контрапункт", "полифония", "амбивалентность"…" Последним словечком критики меня особенно достали. Приводили его к месту и не к месту, а Бондаренко – тот даже великодушно предложил в полемическом запале переименовать прозу "сорокалетних" в "амбивалентную" прозу.
Между тем я и не помышлял писать никаких манифестов, а статья, которую восприняли так и которая послужила поводом для многомесячной дискуссии, провалялась в редакции более полугода.
Мне сразу же было сказано, что для публикации должны созреть определённые условия. "Какие?" – поинтересовался я. Ну, во-первых, надо заранее подготовить оппонентов. Во- вторых, дождаться удобного момента: сейчас не время для статьи под названием "Возможны варианты". При этом мне даже не предлагали изменить название, настолько срослось оно с текстом, ратующим за толерантность, терпимость и плюрализм, хотя этих слов и не было в тексте. Нет-нет, не за политический плюрализм, за литературный, но все понимали, что литература, равно как и театр, равно как и кино, была у нас полигоном для обкатки именно политических идей. И у нас, и в странах так называемого социалистического лагеря. События в Польше, где всё еще действовало введённое в декабре 81-го военное положение, демонстрировали это с красноречивой наглядностью. Помню, каким откровением были для нас польские книги, польское кино, польский театр… С последним я познакомился, когда в 69-м прилетел по журналистскому обмену в Варшаву. Наибольшее впечатление произвели на меня мини-юбки на девочках и постановка в каком-то маленьком театре гоголевского "Носа". Увидеть что-либо подобное в Москве было в то время немыслимо...
Но возвращаюсь к своей многострадальной статье, для появления которой, не уставали повторять мне, требовалось два как минимум условия: оппоненты и удобный момент.
Оппоненты нашлись: первым был прозаик Юрий Антропов. Наступил и удобный момент: во вторник, 26 января, умер Суслов, не допускавший и мысли ни о каком плюрализме, а ровно через неделю, в следующий вторник, я держал в руках газету со своей статьёй. К подписчикам она должна была поступить на другой день, в среду, но я не поленился приехать в редакцию, где мне презентовали завтрашний номер.
Рядом с моей статьёй, точно выверенная по объёму, была статья Антропова. Называлась она "Решение – единственное". Заголовки, набранные одним шрифтом, почти вплотную приблизили друг к другу, так что читались они как одна фраза. Точнее, как партийная директива. Варианты-то возможны, но решение все-таки – единственное... Главный идеолог империи умер, но грозный пригляд его ощущался во всём.
Я не рядился в тогу этакого беспристрастного и стороннего наблюдателя. Какая тут беспристрастность, если каждый твой роман обвиняют в расплывчатости авторской позиции… В непроясненности отношения к герою… В объективизме… Излишнем объективизме – оговаривались при этом, что сразу переводило разговор из альтернативного плана "или – или" в план качественный: а в какой, собственно, мере приемлема попытка автора понять "правду" неправого человека? Вот и призывал я уйти от толстовской одномерности в пользу, скажем, объёмности Достоевского. Либо, ещё лучше, – Пушкина, у которого Сальери имеет такое же право голоса, как Моцарт.
Взывал я к авторитету не только классиков, но и современников. Привёл слова Матевосяна из его нового рассказа "Под ясным небом старые горы": "Никаких советов давать не буду, читай спокойно, не бойся".
Чуть ли не треть моей статьи перекочевала в статью моего оппонента в виде цитат, которые он комментировал то язвительно, то с пафосом. Мы никогда не разговаривали с Антроповым, даже не были, кажется, знакомы, но спустя много лет, уже незадолго до смерти, он прислал мне книгу с автографом и письмо, в котором говорилось, что его новый роман "перечёркивает" всё, что делал он раньше. "Он опровергает и мою творческую позицию в той дискуссии, на участие в которой я не сразу согласился."
Письмо отпечатано на машинке, но от руки сделана приписка: "Вам – верю". (Перед этим названы те, кому не верил.)
Открытая в начале февраля дискуссия завершилась в конце июля большой редакционной статьей, где было констатировано, что позиция Р. Киреева "вызвала решительное несогласие большинства участников дискуссии". Заодно были "точно выявлены типичные недостатки ряда произведений "сорокалетних" и прежде всего обозначившаяся в них нечёткость авторской позиции в подходе к сложным жизненным явлениям".
Мне выражали сочувствие – и при личных встречах, и по телефону, и письменно…
Игра под названием "проза сорокалетних", достигнув своего апогея в середине 80-х, начала затихать, выдыхаться и совсем умерла как раз к рубежному 91-му. Распалась, как распался Советский Союз, – практически одновременно с ним. Или даже немного раньше. И только тогда, задним числом, я окончательно осознал, что, как ни сопротивлялся, а был-таки втянут в неё. Участвовал…
Знающие люди поняли это, конечно, давно: не зря "Литературная газета" в самый разгар затеянной мной дискуссии опубликовала под своей традиционной рубрикой "Анфас и в профиль" три дружеских шаржа Наума Лисогорского. Слева, на стопочке книг, был изображён в профиль облаченный в военную форму Сергей Баруздин, тогдашний главный редактор "Дружбы народов", справа, тоже в профиль и тоже в военной форме – Николай Старшинов, редактор альманаха "Поэзия", а посерёдке – Руслан Киреев, анфас.
Киреевых, впрочем, было два: черный и белый. Так отобразил художник мою злосчастную "амбивалентность". И, как развернутый комментарий к шаржу, – большая статья под весёлым названием "Соло из двух голосов". Написал её Виктор Камянов, один из немногих, кто решительно поддержал меня в той разбойничьей дискуссии. Решительно и бесстрашно… Тоже, кстати сказать, фронтовик, как мои уважаемые соседи по "анфасу и профилю".
Конечно, "черный Киреев" оттесняет, заглушает "Киреева белого" – просто глаз прежде всего останавливается на этой африканской физиономии, ещё более устрашающей в обрамлении набросанных легкими штрихами симпатичных изображений Баруздина и Старшинова. Ну что ж, подобного очерни- тельства, не только графического, следовало ожидать. Сам ведь писал о жестокости Игры, причём как раз в то самое время писал, когда расположенный ко мне художник Лисогорский изготовлял свой не очень-то дружеский шарж. В день выхода газеты он позвонил мне, спросил, не обиделся ли я, заверил в неизменной симпатии ко мне и с особым значением в голосе упомянул о нашей духовной общности.
Общность… Это слово так или иначе фигурировало у всех, кого причисляли к "сорокалетним" и кто имел охоту (и возможность) письменно высказаться по этому поводу в специально подготовленной Володей Бондаренко анкете. Правила Игры позволяли…
В.КРУПИН. Общность "сорокалетних" чувствую.
А.КИМ. Общность "сорокалетних" – в мироощущении, в обострённой восприимчивости человеческого страдания, в восприятии эпохи как трагического момента истории.
А.АФАНАСЬЕВ. Сближает общность взглядов на жизнь, схожее понимание происходящих в обществе и в человеческой душе перемен.
А.КУРЧАТКИН. Из общности возрастов вытекает в немалой степени понимание времени.
Г.БАЖЕНОВ. Я чувствую и общность, и тягу к общности.
И лишь один честно признался: только тягу. И проницательно добавил: "Не уверен, что она сохранится на протяжении всей жизни поколения".
Крупным планом.
Александр ПРОХАНОВ
Это был, без сомнения, самый азартный игрок, с сумасшедшей энергетикой, которая не ослабла и теперь, когда ему под семьдесят…
В 82-м мы уже были знакомы, но шапочно, близко же сошлись в марте 83-го, когда журнал "Знамя" командировал в Волгодонск на подшефный "Атоммаш" нескольких своих авторов, нас с Прохановым в том числе. Индустриальный гигант прислал за нами небольшой самолёт, и семь гавриков с ящиком книг, которые мы должны были вручить там от имени редакции, отправились на берег знаменитого Цимлянского водохранилища.
Я дилетантски пишу просто "самолёт", Проханов же, выпускник авиационного института, сразу же определил и тип его, и год постройки, и технические характеристики. Мгновенно расположил к себе обоих пилотов, и те смотрели сквозь пальцы, как мы, устроившись на холодных металлических сиденьях, хлестали водку.
Проханов, впрочем, не хлестал, а лишь пригубливал. Он вообще равнодушен к алкоголю: допинг ему не нужен, эмоциональный градус его и без того высок. "Вдохновение, чай... – иронизировал надо мной, брякнувшим, что, когда работаю, пью зелёный чай. – Мне достаточно "Последних известий".
Ирония, подчас весьма тонкая, изощрённая язвительность, а то и сарказм живут и жалят в его устной речи. Он блестящий полемист: разбил, к примеру, такого опытного политика, как Ирина Хакамада, причём сделал это на глазах миллионов телезрителей, которые, голосуя в прямом эфире, отдали ему вдвое больше голосов, нежели его противнику. (Не оппоненту, а именно противнику: передача называлась "К барьеру!")
Но вот вопрос, на который я не могу ответить: почему в его текстах, в его огромных и многочисленных романах нет даже намека на иронию? Патетика царствует там. Риторика. Пафос громких, прямо-таки оглушающих слов и ослепляющих эпитетов, часто поразительных по точности и неожиданности.
Тут, пожалуй, он мог бы посоперничать с самим Юрием Олешей, признанным королем эпитетов, хотя не уверен, что это сравнение придётся по вкусу Александру Андреевичу. Его, создателя эпических полотен, уподобляют какому-то камерному писателю… А ведь между автором небольшой повести "Зависть" и творцом монументальных романов есть еще кое-что общее: оба третируют интеллигента, противопоставляя ему человека дела.
Итак, человек дела… Но если у Олеши художественная нагрузка ложится на первое слово, то Проханов заворожен вторым. Именно дело у него во главе угла, причём дело, воплощённое во что-то материальное, во что-то большое и мощное.
"Ему хотелось описать бетонные блоки ГРЭС с полосатыми трубами, кидающими в ночное небо красный дым. И гул стальных агрегатов, вырабатывающих молнии света. Конструкции железнодорожных мостов, принимающих в натянутые дуги свистящие стрелы составов… Медномасленный грохот корабельных дизелей. Он хотел описать индустрию, вертолеты, корабли, вездеходы."
Это его ранний рассказ "Красный сок на снегу", причем дорогой для автора рассказ, программный, коль скоро включён в сборник под названием "Мой лучший рассказ". Составитель этого увесистого тома Анатолий Шавкута сам ничего не выбирал, разве что авторов, "сорокалетних" и близких к ним по возрасту, а уж те сами определяли, что у них лучшее…
На "Атоммаше" я воочию убедился, что значит для Проханова техника. После вручения книг, на что ушло не более получаса, он сразу же исчез куда-то. Мы подождали его, а потом начали поиски, робко углубляясь в лабиринты бесконечных цехов, все дальше и дальше уходя от площадки, где проходила наша скромная культурная акция.
Обнаружился он часа через три, не раньше. Весь завод облазил (или почти весь) и был возбужден, опьянен – да-да, опьянён малопьющий этот человек, повторяя восхищённо: "Какие машины! Господи, какие машины!"
Но буквально в тот же день я стал свидетелем, как акцент со слова "дело" переместился у апологета техники на слово "человек". Опять внезапно пропал один из участников нашей знаменской экспедиции, правда, теперь это произошло уже в городе, после ужина, вечером. А поскольку этого непутевого господина поселили в одном номере с Прохановым, то он первым забил тревогу.
Непутевым господином был я. Просто в кино пошёл, чтобы убить время (в моих записях сохранилось название фильма: "Большие гонки"); и в мыслях не было, что кто-то заметит мое отсутствие, а тем более обеспокоится им.
Когда я вернулся, мне сразу же с укором объявили, что не на шутку встревоженный Проханов оставил уютное гостиничное застолье и отправился разыскивать меня. Безлюдные, плохо освещённые улицы чужого города и впрямь могли внушить тревогу: я явственно увидел ее, уже, правда, опадающую, остывающую, в устремлённых на меня глазах моего соседа по номеру. "Надо же предупреждать", – мягко, как бы стесняясь, что делает замечание, упрекнул Александр Андреевич.
В отношениях со своими товарищами (а в тот день я, несомненно, был его товарищем – по поездке, по гостиничному номеру, по литературному цеху, но это в последнюю очередь) – в отношениях с товарищами он всегда отличался и деликатностью, и самоотверженной готовностью помочь. На пятидесятилетнем юбилее, который он отмечал в ресторане "Москва", собралось человек двести гостей, не меньше, причем литераторов было немного, все другие какие-то граждане, о профессиональной принадлежности которых мы узнавали постепенно из их тостов. Эти люди вспоминали Мозамбик и Анголу, Эфиопию и Кампучию, Афганистан и Никарагуа… Они не живописали опасности, которым подвергались в этих экзотических для нашего слуха странах, они говорили о том, как мужественно, как по-солдатски стойко держал себя нынешний виновник торжества, в какие переплёты попадал вместе с ними, как подставлял плечо в трудную минуту, как пил в джунглях воду из какой-то лужи, как лежал с температурой под сорок в наспех сооруженном из бамбука и пальмовых листьев малярийном бараке…
Эти люди говорили скупо и подчас косноязычно, иногда слишком тихо для столь большого зала, так что раз или два мне приходилось подыматься со своего места и подходить ближе, чтобы услышать. Я верил тому, что говорили. Больше того, я и сам мог бы кое-что добавить: за два с половиной года до этого, в промозглую холодную осень 85-го наш будущий юбиляр приехал, тоже с температурой сорок, ко мне на окраину Москвы, чтобы поздравить с выходом в "Октябре" повести. Я пригласил его, поскольку он имел к этой публикации самое непосредственное отношение. Как член редколлегии написал отзыв, который, собственно, и решил судьбу вещи, выламывающейся из всех канонов тогдашнего редактируемого Ананьевым журнала и уж совсем не похожей на то, что делал сам Проханов.
Вскоре меня тоже ввели в редколлегию, и я тоже стал читать спорные вещи. Так мне на стол легла толстенная папка с романом Гроссмана "Жизнь и судьба". Потом она перекочевала к Проханову. Но ему было недосуг читать, улетал в очередную горячую точку. Позвонив мне, подробно расспросил об опальном сочинении, которое хорошо чувствующий время Ананьев подумывал напечатать, заручившись предварительно поддержкой редколлегии. (А уж потом, полагаю я, и ЦК.) На другой день, будучи в редакции, я встретил там Александра Андреевича: он принёс написанный с моих слов коротенький положительный отзыв. Спросил, куда мне, я сказал: до Пушкинской, и он предложил подвезти. Ехать тут минут пятнадцать-двадцать, не больше, но мы добирались полтора часа. Не из-за пробок. Повороты проскакивал, разворачивался, снова проскакивал… И не по рассеянности, из-за своего бешеного опять-таки темперамента. Разгорячённый спором – мы редко в чем соглашались, – забывал вовремя повернуть.
Спорили мы в основном о политике – художественные проблемы Проханова мало волновали – и спорили всюду: в холлах редакций и в Сандуновских банях, где к его услугам всегда был роскошный номер, и уж, конечно, в его огромной квартире на Пушкинской площади, куда он однажды привёл меня из Дома литераторов, опасаясь, что сам не доберусь домой. Полночи просидели в его кабинете с фантастическими бабочками, которых он пленил в фантастических странах. Жена Люся, мать троих детей, пожарила нам глазунью из полдюжины яиц, он поставил передо мной графинчик, не знаю уж, с каким напитком, опорожнив который я наконец угомонился. К моим услугам была тахта, хозяин самолично принёс одеяло и подушку. А когда на рассвете я с гудящей головой пытался выбраться наружу, мой ангел-спаситель неслышно возник рядом и заботливо проводил гостя до самого лифта…
Споры спорами, генеральная же сверка наших позиций прошла практически без каких бы то ни было аргументов – как с его стороны, так и с моей. Это случилось 25 апреля 87-го года в ресторане все того же Дома литераторов. Даже не в самом ресторане, а в отдельном помещении, где был заранее сервирован стол на восемь персон.
Явились все восемь. Ким и Курчаткин, Гусев и Бондаренко, Личутин и Афанасьев, Киреев и Проханов. Последний, собственно, не мог не явиться, поскольку торжественный обед давал именно он – по случаю выхода новой книги.
Высокая стопа заблаговременно подписанных толстенных томов ждала нас на отдельном столике. За них-то и провозгласили первый тост. А вот последний сорвался. Последний и самый главный, поскольку должен был скрепить союз единомышленников. Или, говоря проще, группу поддержки…
Проханов объявил, что после долгих и мучительных размышлений решил выставить свою кандидатуру на пост первого секретаря московской писательской организации. Вместо Феликса Кузнецова… "Но если, – добавил он, – хотя бы один из вас скажет "нет", мы встаём и расходимся. Ни обиды, ни тем более зла держать не буду – обещаю вам."
"Нет" сказал я. И мы разошлись. Он сдержал обещание – ни обиды, ни тем более зла я не почувствовал. До сих пор… Быть может, потому, что слишком далеко разошлись? Разошлись во всех смыслах слова…
Полностью печатается в журнале "Знамя", №5
(обратно)Валерий Ганичев ПОСЛЕДНИЙ СТАЛИНГРАДЕЦ
Казалось, и износу ему нет. Все последние десять-пятнадцать лет он не без обиды говорил: "Валера, ты меня не забывай, приглашай на все встречи и во все поездки". И хотя мы пытались щадить нашего воина, он ездил на все крупные писательские встречи, вступал во все дискуссии и работал над своей последней книгой, называя её с вызовом то "Оккупанты", то "Венский вальс" – о последних боях и первых послевоенных буднях воинов южной группы войск, взявших Вену и ставших там на мирную службу, ощущая всю сложность нашей послевоенной жизни.
В последние годы он был духовным вожаком российских писателей – его даже избрали председателем Высшего творческого совета Союза писателей России.
Писательские поездки были близкие и дальние, хлопотные и нелёгкие: Якутск, Омск, Краснодар, Орёл, Белгород, Волгоград, Челябинск, Красноярск, Иркутск. Помню Омский сибирский пленум: метёт снег, мороз отменный, мы выступаем, отвечаем на вопросы. А Михаил Николаевич безотказен, чёток, весел. А уже в конце пле-нума, хитро прищурясь, говорит: "Валера, а ведь ты здесь в школу начинал ходить?" "Откуда, – спрашиваю, – знаешь о своём коллеге?" "Ну, как же, я о тех с кем ходил в атаку и в окопе сидел, всё знал. Это уже родные". Съездили мы с ним и в марьяновскую шко-лу, где я пошёл в школу в 1941 году. А он в том же году встретился с врагом лицом к лицу. Но нас, кто исповедовал их фронтовые ценности: любовь к Родине и народу, считал соратниками.
Я Михаила Николаевича узнал в начале 60-х, когда мы в журнале "Молодая гвардия" печатали две его хрустально-прозрачные, чистые романы – "Ивушку неплакучую" и "Вишнёвый омут". Ка-кую же любовь излил он на своих земляков, на своих реальных и художественных героев. Как умел он воссоздать незабываемый мир их жизни. Как оградил их от грязи, пошлости и хамства. Нет, они реальные, простые и возвышенные крестьяне России.
В его селе Монастырском, когда мы приехали на юбилей, я узнавал всё: стоял у глубокого задумчивого омута, ходил к неплакучей ивушке, слушал знакомых соловьёв. Затянули протяжные песни у пруда. "Ну как тебе мои прототипы?" – с любовью оглядывался он на земляков. – Да я из всех знаю. И читатели твои их знают.
И их полюбили читатели, находя то хорошее, чистое, человеческое, на что всё время покушались ненавистники крестьянства. Всё это было им чуждо, Маркс, например, вообще называл всю деревенскую жизнь "идиотизмом". Алексеев категорически с этим не соглашался, высвечивал своим талантом такие качества русского крестьянина, что вся критика причисляла его к "почвенникам", "деревенщикам". Кто с восторгом, а кто и не без доли иронии, предполагая в этом что-то не до конца совершённое, второстепенное. Основоположниками же этого направления называли других. Думаю, что вместе с ними он и был главным "деревенщиком" – тем, кто возобновил нравственное, совестливое, сочувственное к людям направление русской художественной прозы. Причём он не погружал их в искусственно трагическую, драматическую среду. Он любил жизнь и передавал её со всеми красками своего таланта. И его герои входили в нашу жизнь, вызывали себе подобных на разговор, множили Добро и Любовь.
Это и его журавушка, и ивушка неплакучая, и его афористический дед, провозгласивший высший крестьянский принцип: "Хлеб – имя существительное". И действительно, по этой трудовой сознательной логике всё остальное – прилагательное, т.е. прилагается к труду и любви человеческой.
На Руси издревле всякий землепашец, он же и воин в любой момент. Михаил Николаевич – великий воин, он же и выдающийся писатель и художник ратного подвига. Как регулярный солдат он сражался и отступал в 41-м и 42-м до Волги. Как победоносный солдат он сражался и наступал от Сталинграда через Курскую битву, Прохоровку, Днепр, Румынию, Венгрию до Праги и Вены.
Его "Солдаты" понравились Михаилу Александровичу Шолохову, с ними он и вошёл в Союз писателей. Ну а потом – знаменитые "Драчуны", с конфликтами и драками тридцатых и великой драмой голода тридцать третьего, того "голодомора", которым предъявляют счёт русским людям украинские "самостийники". Алексеев показал: как косил голод, устроенный усилиями тех, кто кричал об "идиотизме" села русских, украинцев, не разбирая национально-стей. Да и те "драчуны", что остались живы, почти все и полегли на полях Великой Отечественной, ибо сражались ради жизни на земле. "Драчуны" – это великая книга о стойкости, жизненности нашего человека, о драмах, трагедии нашей жизни.
Тогда Михаил Алексеев поразил общество, показал, что честность художника, его талант могут преодолеть все препоны и препятствия и явиться миру в полноте правды.
Ну а потом он отдаёт долг своим соратникам, своим товарищам – красноармейцам, бойцам, воинам Великой Отечественной войны. Он пишет роман "Мой Сталинград" о сталинградцах – не панорамно-стратегический, не эпопею, а глубинно событийный, героически жертвенный о том, своём, Сталинграде, который он видел, в котором терял товарищей, в котором сражался и остался жив.
С какой-то оправданной наивностью он часто говорил: "Надо же, я участвовал в двух самых жестоких и кровавых битвах второй мировой войны и вот – живой. Одной бы битвы хватило".
Но Господь берёг его, чтобы с сыновней трогательностью рас-сказал о своей матери, о своих сельских земляках, о своих однополчанах. В последние дни, когда я был у него, в изголовье висела потемневшая старинная икона. "Выразительный лик, – оживился он, – маму и отца ей венчали". Потом впал в беспамятство, очнулся, с сожалением сказал: "Вот подвёл я тебя – не окончил "Оккупантов". – Ну, о чём ты, Михаил Николаевич, ещё окончишь. Вот вчера на 50-летии журнала "Москва" хорошо говорили, киноролик показали о тебе. Ты там молодой, с хитринкой. Вспоминали Карамзина. – Лицо его просветлело. – Как же!
Действительно, это ведь был издательский подвиг при всеобщем историческом голоде, когда "реформаторы" и "перестройщики" заявили, что они ведут страну к новой жизни, Алексеев решил на-помнить о прошлом и его уроках и стал печатать "Историю Государства Российского" Карамзина. Небезызвестный "прораб перестройки" потребовал прекратить печатать нелитературные материалы в литературном журнале. Но не тут-то было – читатель потребовал. Тираж литературного журнала подскочил до фантастического уровня – 600 тысяч!
Да, это был неожиданный прорыв сталинградца к отечественной истории, и в этот прорыв он ввёл миллионы читателей.
Ушёл от нас народный воин, писатель, гражданин Отечества, незабвенный друг и сотоварищ. Он был скромный человек, уважающий других людей. Но он был подлинный герой, имеющий награды, отражающие это, и в то же время наградой всем нам было то, что мы жили рядом с ним, мы читали его книги, беседовали с ним, поднимали чарку вместе с ним. Поднимем же и сегодня чарку в его честь, в его память, память выдающегося человека нашего времени Михаила Николаевича Алексеева.
(обратно)ХРОНИКА ПИСАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
КНИГА-БОРЕЦ
В течение двух последних недель сразу в нескольких общественных организациях Москвы прошла презентация художественно- публицистического сборника "Русский венок Слободану Милошевичу", составленного активистами движения "Антиглобалистское сопротивление" Еленой Громовой и Еленой Борисовой и выпущенного известным столичным издательством "Алгоритм". Сборник объёмом 304 страницы включает в себя стенограммы выступлений, посвящённых памяти президента Югославии Слободана Милошевича, выдержки из различных архивных документов, воспоминания близких людей, адресованные Милошевичу стихи и поэмы, а также отрывки из его собственных выступ- лений на заседаниях погубившего его гаагского трибунала.
Среди авторов книги – Леонид Ивашов, Борислав Милошевич, Валерий Ганичев, Сергей Бабурин, Воислав Шешель, Юнна Мориц, Николай Переяслов, Сергей Кара-Мурза и другие общественные, политические и культурные деятели.
Книга получилась не просто печатным памятником лидеру борьбы за независимость народа Югославии, но полноправной, живой участницей этой борьбы, пробуждающей в людях их национальный дух, религиозную совесть и притуплённое глобалистской пропагандой чувство патриотизма. Думается, что не меньше, чем бывшим друзьям и соратникам Слободана Милошевича, эта книга нужна сегодня нам, русским, испытывающим ныне не меньшее глобалистское давление, чем возглавляемый в своё время Милошевичем народ Югославии. Жаль только, что её тираж составляет всего одну тысячу экземпляров.
ВО СЛАВУ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
25 апреля 2007 года состоялось очередное заседание Киноклуба им. Сергея Лыкошина "Небесный град и земное Отечество". Вечер "Праздник праздников. Во славу земли Русской" собрал в конференц-зале СП России многих и многих – и тех, кто уже не первый раз участвует в подобных встречах, и тех, кто пришёл впервые.
Программа, как всегда, была очень насыщенной. Во-первых, состоялось представление книги "Небесный град Святой Руси" замечательного русского подвижника, архитектора и ученого Геннадия Яковлевича Мокеева – о земной и небесной символике древней Златоглавой Священной Москвы, а также о трагической и славной судьбе русской столицы. Затем – премьерный показ документального фильма Бориса Криницына "Пасха сорок пятого года" и демонстрация документального фильма Бориса Сарахутдинова "Земля Российского владения" о мужестве и духовной стойкости людей, осваивавших Русскую Америку.
Книга "Небесный град Святой Руси" издана ИИНК "Ихтиос" в серии "О Русская земля". В своём выступлении на вечере ответственный редактор серии С.И. Котькало отметил, что автор книги Г.Я. Мокеев – человек из той группы архитекторов, которые в 70-е годы начали борьбу против третьего, особенно разрушительного проекта реконструкции Москвы. Кроме того, по его почину в своё время началось восстановление Казанского Собора. Затем он участвовал в восстановлении архитектурных памятников Пскова, Кашина, Можайска.
В книге идёт речь не только о памятниках градостроительства, но подробно разъясняется, в чём, собственно, состояли разрушительные действия "строителей социализма". Например, речь идёт об уникальной веерно-ветвистой системе планировки древней Москвы, которую пытались заменить на примитивную радиально-кольцевую. Автор в своём повествовании обнажает архитектурные химеры Москвы, ужасающе вопиющие, рассказывает о многолетних мытарствах Златоглавой столицы. Г.Я. Мокееву удалось не просто констатировать необходимость возрождения Священной Москвы, а донести до читателя сердечную мысль о том, что такое возрождение возможно только при условии нашего всеобщего делания во имя восстановления справедливости.
Режиссёр фильма "Пасха сорок пятого года" Борис Криницын рассказал о том, как зарождалась его идея. О том, что он решил пойти по символическому пути. Надо сказать, получился живой, оправданный документальный символ. Рассказ скульптора А.В. Чуйкова, сына полководца, прозвучавший с экрана, внёс необходимую торжественно-победную ноту, и концепция фильма оказалась удивительно завершенной.
Вот, что сказал руководитель студии "Эковидеофильм" Максим Астраханцев:
"Киноклуб имени С.А. Лыкошина в Союзе писателей России был организован совместно со студией "Эковидеофильм" под эгидой фестиваля "Видеоархив. Память России" больше года назад. Фильмы из программы этого фестиваля мы и демонстрируем на заседаниях киноклуба один раз в месяц.
Целью создания киноклуба было восполнить зрительскую потребность в лучших образцах русской литературы, отечественного документального кино и некоторых документальных материалах, которые не доходят до зрителя, а порой пылятся на полках в архивах по причине так называемого "неформата".
Началось наше сотрудничество с Союзом писателей России, когда мы сделали фильм "За Тихий Дон", к столетию М.А.Шолохова, и принесли его сюда, в Союз писателей. Пригласили всех на премьеру в библиотеку им. М.А.Шолохова, которая всегда нас поддерживала.
Марина Ганичева предложила: "А почему бы ни показать этот фильм у нас? Есть зал, есть экран". Проблема была только в оборудовании. И здесь нас опять поддержала библиотека. Сегодня основную работу по организации встреч режиссёров со зрителями и подготовке заседаний проводит Сергей Котькало.
Многие люди стали завсегдатаями киноклуба. Зал всегда полон. Мы чувствуем, как не хватает сегодня честного документального кино и надеемся на то, что совместно с СП России делаем нужное дело.
Идея проведения фестиваля обрела горячую поддержку в Союзе писателей. Мы получили свыше 300 работ из разных уголков России, а также из Приднестровья, Молдавии, Украины, Эстонии, Франции, США, Польши… Участвуют и студии, и отдельные режиссёры.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРЯНИК ТУЛЫ
Тула – город уже и сам по себе знаменитый, славящийся на весь мир своими самоварами, пряниками, оружейниками да мастерами подковывать блох, решила посягнуть ещё и на лавры поэтической столицы мира, а потому взяла и, следуя примеру Президента России В.В. Путина, объявившего нынешний год Годом русского языка и освятившего его начало встречей с молодыми писателями в Ново-Огарёве, провела у себя по инициативе Администрации города Международный фестиваль современной русской поэзии. При этом, в отличие от ряда проводящихся время от времени в стране мероприятий аналогичного характера, на которые, как правило, собираются члены какого-либо одного творческого союза, сторонники одной мировоззренческой идеи или приверженцы одного художественного направления, на "поэтические сатурналии" в Тулу приехали мастера рифмованного слова, не только принадлежащие к разным поколениям и различным творческим союзам (Союзу писателей России и Союзу российских писателей), но относящиеся также к разным поэтическим школам и исповедующие разные художественные методы. Среди участников фестиваля были известный миссионер интернет-литературы поэт Андрей Коровин (Тула-Москва); теоретик метаметафоры, президент российского отделения ассоциации поэтов ЮНЕСКО поэт и философ Константин Кедров и его жена – известная поэтесса Елена Коцюба (Москва); секретарь Правления Союза писателей России поэт, критик и прозаик Николай Переяслов (Москва); председатель Калужской областной писательской организации СП России поэт Вадим Терёхин; белорусские поэты Дмитрий Строцев (г. Минск) и Ольга Гордей (г. Могилёв); пишущий на русском языке украинский поэт Станислав Минаков (г. Харьков); французский поэт Бруно Нивер (Париж-Москва); болгарский поэт, драматург и автор книг афоризмов Веселин Георгиев (Плевен-Москва), а также его жена – известный московский педагог Рита Георгиева; узбекский поэт Санджар Янышев (Ташкент-Москва); московские поэты Геннадий Фролов, Иван Тертычный и многие другие.
Три напряжённых дня были до предела наполнены творческой работой и встречами с тульскими читателями. Участники фестиваля выступили перед студентами филологического и исторического факультетов и факультета иностранных языков Тульского государственного педагогического университета, гуманитарного и горно-строительного факультетов Тульского государственного университета, учащимися колледжа культуры и искусств, читателями Тульской областной библиотеки и городской библиотеки им. Л.Н. Толстого, в галерее "Ясная Поляна", а также совершили экскурсию по городу, которую провёл поэт и краевед Валерий Ходулин. Кроме того, они побывали в музее-усадьбе Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", в музее оружия и в Тульском художественном музее.
Параллельно с встречами и выступлениями шла работа в поэтических мастер-классах, где московские гости разбирали рукописи самодеятельных тульских авторов, делясь с ними своим пониманием задач поэзии и поэтического мастерства.
Все эти дни повсюду звучали стихи, а болгарский гость Веселин Георгиев с большим успехом читал тульским поклонникам художественного слова свои блистательные и ёмкие афоризмы.
Завершением фестиваля стали Пленарные чтения, состоявшиеся в Тульском Театре юного зрителя и представлявшие собой симбиоз художественного вечера и торжественного заседания, который провели известные в Туле деятели культуры Юрий Коняхин (тоже, к слову сказать, довольно интересный лирический поэт) и Тамара Просандаева. С приветственным словом на этих чтениях выступила заместитель Главы Администрации города Тулы Ирина Михайловна Матыженкова. А затем руководители мастер-классов поделились своим мнением о растущей поэтической смене и назвали имена лучших из обсуждавшихся авторов. Специально для этого мероприятия были испечены знаменитые тульские пряники с изображением весело летящего на крыльях поэзии Пегаса и надписью: "Тула. Международный фестиваль русской поэзии", который и вручался на сцене лучшим из обсуждавшихся в мастер-классах поэтов. Ну, а потом в течение трёх с лишним часов приезжие и местные авторы читали свои стихи, барды Олег Пономарёв и Ольга Кузнецова пели под гитару свои песни, а некоторые из выступавших делали и то, и другое, и даже третье сразу. Так, например, "шансонье французской поэзии" Бруно Нивер не только читал свои стихи и тут же переводил их на русский язык, но спел также для присутствующих песню и продемонстрировал зрителям образцы своих "стихо-картин", представляющих собой примерно то же самое, что Андрей Вознесенский называет "видеомами" (а некоторые из его прямолинейно выражающихся читателей "видеотизмом") – т.е. начертанные c максимальной степенью запутанности и псевдомногозначительности слова и символы, сплетающиеся в странные полуфантастические изображения, в которых, точно в неких таинственных ребусах-пентаграммах, таятся закодированные автором поэтические тексты…
Самое удивительное в состоявшемся в Туле поэтическом празднике – то, что залы библиотек, студенческих аудиторий и местного ТЮЗа были до отказа наполнены людьми и, несмотря на изрядную продолжительность некоторых встреч, практически никто из пришедших на них не вставал и не уходил посреди вечера из зала (как это, к сожалению, довольно часто происходит в перекормленной всевозможными шоу Москве). Это говорит о том, что туляки успели серьёзно истосковаться по живым встречам с поэтами и звучащему поэтическому слову, чего им, похоже, в силу различных причин и обстоятельств не могут в достаточной мере обеспечить представители двух местных писательских организаций – Союза писателей России под руководством Виктора Пахомова и Союза российских писателей под руководством Сергея Галкина, которые тоже принимали участие в фестивале и, наряду с чтением своих стихов, говорили о сложностях существования писательских организаций в условиях рыночной экономики и недостаточного внимания местных властей к их нуждам.
Да, существовать творческим союзам сегодня действительно непросто, однако, излучающие восторг во время всего вечера в ТЮЗе глаза заместителя Главы Администрации города Тулы Ирины Михайловны Матыженковой говорили о том, что тульской городской власти вовсе даже не чужда любовь к настоящей поэзии, и, как она сказала после окончания вечера, Администрация города готова и впредь идти навстречу поэтам и их поклонникам и устраивать для жителей Тулы подобные пиршества духа.
Так что можно смело сказать, что первый поэтический пряник получился у туляков испеченным отнюдь не комом, оставив о себе самые замечательные воспоминания и вполне реальные надежды на новые встречи.
Остаётся только надеяться, что следующей из них не придётся дожидаться слишком уж долго…
ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА: СОЮЗ ВОЗМОЖЕН!
Если исходить из названия академического бизнес-журнала "Экономические стратегии", то, по мнению большинства рядовых граждан России, он уже по самому своему определению должен быть интересен одним только предпринимателям, бизнесменам, финансовым работникам, олигархам да всякого рода государственным чиновникам, причастным к распределению так называемых "денежных потоков". Однако, открыв уже первые его страницы, понимаешь, что это далеко не так, и во вступительном слове едва ли не к каждому номеру встречается такое далёкое от проблематики экономических стратегий имя как Пушкин.
Дело в том, что главный редактор журнала Александр Агеев стремится не просто придать "Экономическим стратегиям" вид высокоинтеллектуального издания, но наряду с решением задач по освещению непосредственно экономической тематики возлагает на свой журнал ещё и серьёзные нравственно-воспитательные задачи, пытаясь формировать на его страницах зачатки некоего "кодекса бизнес-чести".
"Чем наша жизнь щедрее на подвиг учительства, на расточение себя для других (без потери себя), тем она богаче принципами, эталонами, стандартами, – пишет, например, он во вступительном слове к № 5-6 за 2006 год. – Нет всего этого – нет авторитетов, старцев, всех тех, к кому прислушиваются, кому доверяют и у кого в минуту смуты ищут мудрого совета, и господствует хаос – турбулентность перемен, невыносимая беспринципность ни от кого не зависящих поступков…"
Примерно о том же говорит в № 8 за 2006 год и президент клуба "Леди-лидер" Марина Коростелёва, возглавившая недавно новую организацию – Культурно-просветительский центр "Позитив". Отвечая на вопросы заместителя главного редактора журнала Ольги Бардовой, она говорит, что "вкладывать деньги в культуру – выгодно". Культура, по её мнению, – это "нравственное отношение к жизни", а "человек высокой культуры умеет любить и ценить свою страну и её достижения. Для такого человека деньги не являются доминантой деятельности… Он не может не помогать тем, кто в этом нуждается… Культурный бизнес всегда социально ответствен".
"Прививка" чувства социальной ответственности – это как раз и есть то главное, что отличает журнал Александра Агеева от существующих ныне в Российской Федерации аналогичных изданий.
И если в отечественном бизнесе сегодня действительно стало заметно "возрастание его приверженности человеколюбивым манерам и принципам", то этому в немалой степени способствует та культурная политика, которую проводит на своих страницах журнал "Экономические стратегии".
ПОЭТИЧЕСКИЙ МАРАФОН
5 мая в Союзе писателей России состоялся московский зональный тур Всемирного поэтического марафона, проводимого Международной Ассоциацией писателей и публицистов (МАПП, президент Марат Каландаров, штаб-квартира в Лондоне). Цель марафона – открытие новых имен на русской поэти- ческой карте. Жюри (председатель Н.И. Дорошенко) после жарких дебатов назвало участников финала, который пройдет в 2008 году в Венеции. Ими стали Евгений Артюхов, Валерий Иванов, Сергей Коротков, Александр Кувакин, Игорь Куницын и Геннадий Фролов.
Своеобразным талисманом конкур-са стал ученик 4-го класса Ваня Корот-ков, который прочитал свои стихи в начале тура, а потом по просьбе поэтов и завершил его.
СТОЛЕТИЕ НАРОДНОГО ПОЭТА
В конференц-зале Союза писателей России прошёл вечер, посвящённый 100-летию народного поэта Чувашии Педера Хузангая, организован- ный землячеством Чувашской республики и Союзом профессиональных писателей Чувашии совместно с Союзом писателей России.
Символично, что столетие своего народного поэта в Чувашии отмечают именно в Год русского языка. Ведь П.Хузангай много переводил больших русских поэтов – Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Ахматову, Блока.
Он был делегатом первого съезда писателей и многих последующих съездов. С 1958 года являлся членом правления СП РСФСР.
На вечере выступили председатель СП России В.Н. Ганичев, председатель Союза профессиональных писателей Чувашии В.В. Тургай, заместитель министра культуры Чувашии М.Н. Круглов и многие другие. Сказали добрые слова вдова писателя Вера Кузьминична, народная артистка СССР и сын Атнер, известный арабист, тюрколог, критик.
К 100-летию поэта в Чувашии было издано шеститомное собрание сочинений поэта.
Каждая школа получила эти книги в подарок. Многие из присутствующих на вечере отмечали, что стихи Хузангая – своего рода поэтическая энциклопедия жизни. Жизни прежде всего корневой, национально-окрашенной, такой, о которой поются удивительные народные песни Чувашии, такой, которая вплетена в национальные орнаменты, хранящие следы древней письменности.
ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ
В апреле на Валдае состоялись традиционные, третьи по счёту, юношеские Романовские чтения, посвящённые памяти известного русского писателя, публициста, автора очерков и статей о проблемах российского Нечерноземья, лауреата Ленинской и Государственной премий Ивана Афанасьевича Васильева. И.А. Васильев работал главным редактором районной газеты "Валдайская правда", а затем "Ленинский путь" с 1960 по 1962 гг. Имена Бориса Романова и Ивана Васильева неразрывно связаны с Валдаем. Васильев в своё время впервые опубликовал стихи Б.Романова в районной газете, а Романов в 1996 году открыл памятную доску, посвящённую своему наставнику, на бывшем здании редакции.
Чтения приветствовали зам. Главы Администрации Валдайского района В.В. Кожемякин и от имени председателя правления СП России В.Н. Ганичева председатель иностранной комиссии О.М. Бавыкин, инициатор проведения первых романовских чтений в апреле 2001 года.
Открыла чтения председатель комитета по культуре Валдайского района, В.В. Юн. Организаторами и участниками чтений стали сотрудники центральной районной библиотеки, учителя и ученики городской школы №1.
Взволнованно выступала Татьяна Ивановна Малышева. Её после войны усыновил директор детского дома Иван Васильев. Отдавая дань памяти отцу, она трогательно рассказывала о человеке, который не только о ней – "обо всех заботился, за всё душой болел".
На вечере также выступил прозаик А.А. Бологов, поведавший о своих встречах с замечательным писателем и человеком большой души. Александр Александрович подарил библиотеке книгу "Завещание", в которую вошли последние произведения писателя.
КНИГИ-ЗЕРКАЛА
Вячеслав Васильевич Захаров – серьёзный и вполне уже состоявшийся писатель, исследователь удмуртской литературы, искусствовед и биограф, выпустивший такие книги как "Олег Поскрёбышев. Художественный мир поэта" (Ижевск, 1993) и иллюстрированный альбом-монографию "Мир Игоря Бабайлова" (Ижевск, 2001). Особенно интересной представляется вторая книга, хотя она написана без каких-либо особенных изысков и просто рассказывает о жизни и творчестве молодого русского художника, родившегося в удмуртском городе Глазове, учившегося в Москве в художественной школе при Академии художеств СССР и институте имени Сурикова, служившего в Советской Армии, и обосновавшегося, в конце концов, из-за своей невостребованности на Родине – в Канаде. Сегодня Игорь Бабайлов – известный во всём мире художник, за спиной которого персональные выставки (Монреаль), преподавание в Флорентийской Академии художеств, получение "Гран-При" на международном конкурсе портретистов в городе Монтгомери (штат Алабама), победа на конкурсе реалистов в городе Паркерсбурге (Западная Вирджиния), обладание другими наградами. Он писал портреты Михаила Калашникова и Хиллари Клинтон, президента Национального банка Канады А.Берарда и индейского вождя Андрю Мэрэкла, президента корпорации "Контранс" С.Данфорда и легенды канадского хоккея Бобби Халла, а также уголки Флоренции, Венеции, Монреаля, Коломны…
С одной стороны, интересу книге придают сама необычность судьбы русского живописца и присутствующие в альбоме репродукции его картин, свидетельствующие о неувядающей силе реалистического искусства. С другой, нельзя не отметить живого повествовательного стиля Вячеслава Захарова, рассказывающего о своём герое с необыкновенной теплотой и увлечением, и это увлечение не может не передаваться читателю.
Другая книга посвящена анализу творческого пути поэта Олега Поскрёбышева. В ней автор обращает особое внимание на то обстоятельство, что это именно "русский поэт, родившийся и живущий в Удмуртии". Исследуя истоки его творчества, автор отмечает, что они крепко связаны с крестьянским мировосприятием, и что это именно "деревня дала поэту богатый материал, во многом определивший его художественное зрение, вкусы, пристрастия".
В отличие от работ других литературных критиков (а о творчестве Поскрёбышева писали З.Богомолова, А.Урбан, А.Алдан-Семёнов, Н.Кузин, Л.Быков, А.Бобров и другие), исследовавших отдельные стороны и периоды его творчества, книга Вячеслава Захарова представляет собой "попытку целостного осмысления многогранного творчества народного поэта Удмуртии Олега Поскрёбышева", и эта попытка удалась. Перед нами образ живого поэта, а анализ его поэзии представляет собой не столько скучный филологический доклад, сколько прогулку по живому поэтическому лесу, наполненному голосами птиц и запахами цветов и трав: "Малиновая рань, / мани меня и рань; / приваживай мой взгляд, / оранжевый закат!" Обращает он внимание и на нравственно-воспитательную значимость поэзии Поскрёбышева, цитируя, к примеру, такие строчки:
Дни в лучах и ручьях – ах, пора горяча!
Дни журчат и кричат: не ленись, не сомлей!
Труден хлеб у грача, но он рад и грачат
с малых чад приучать к хлебородной земле.
Пахарёнкам-грачонкам совет да любовь
да отцово гнездо на берёзе родной,
а берёза стоит посредине хлебов,
а хлеба – посредине Отчизны родной.
Думается, что уже в том, какие строчки критик выбирает для цитирования, проявляется его собственный эстетический вкус, его идейные пристрастия и его понимание роли искусства в нашей жизни.
Во вступительном слове к своей книге о жизни и творчестве Игоря Бабайлова Вячеслав Захаров говорит следующее: "Игорь Бабайлов часто использует зеркало для проверки правильности пропорций рисунка.
В книге есть тоже своего рода зеркальная композиция: с одной стороны, художник отражает весь мир в своей душе, в своём творчестве, а с другой стороны, и сам отражается в зеркалах-воспоминаниях, в душах людей, которые знают его, дружат с ним, помнят и любят".
То же самое можно сказать и о книгах самого Вячеслава Захарова. Представляя собой своеобразные портреты-отражения поэтов и художников, о которых пишет автор, они отражают также его собственный внутренний мир и его собственную душу, ибо уже сам выбор угла зрения на чужое творчество говорит о симпатиях и идейных убеждениях пишущего.
ЯВЛЕНИЕ ПОЭТА
В Союзе писателей России прошла презентация книги стихов московского поэта Николая Рыжова "Мои негромкие слова", которую недавно выпустило в свет Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами. Книга представляет собой полновесное авторское избранное, состоящее из шести разноплановых разделов ("Лирика", "Ироническое", "Разное", "Стихи для детей", "Рыжики" и "Фразы"). Это своего рода творческий отчёт поэта перед читателем и временем, в котором он, если и не подводит итоги своей жизни, то, по крайней мере, оглядывает её с высоты прожитых лет, устраивая смотр всему, что он сделал и чего достиг. Увы, поэтические достижения измеряются сегодня чем угодно, только не материальными благами.
Но главное в жизни поэта – не деньги. Главное заключается в том, что он жил и продолжает жить честно, по любви и по совести, стараясь, чтобы его слова и дела не расходились с заповедями Спасителя. "Но, даже теряя дорогу, / я шёл не от Бога, а – к Богу", – и в этом признании заключается суть не только его поэзии и всей жизни.
В творческой встрече, приняли участие первый секретарь Правления СП России поэт Геннадий Иванов, секретарь Правления поэт и критик Николай Переяслов, главный редактор газеты "Российский писатель" Николай Дорошенко и другие.
У ПИСАТЕЛЕЙ ЯКУТИИ
Великолепный подарок читателям Республики Саха (Якутия) сделало Национальное книжное издательство "Бичик", основавшее в 2006 году серию "Писатели земли Олонхо", в которой уже успели увидеть свет книги Семёна Данилова, Платона Ойунского, Моисея Ефимова, Анемподиста Софронова-Алампа и Саввы Тарасова.
В посвящённой творчеству Семёна Данилова статье поэт Кайсын Кулиев когда-то писал: "Его книги говорят мне, что он верен стихии и обаянию родного фольклора, а также учится у крупных мастеров всех народов. По-моему, так и положено всем нам. Якутский поэт верен облику и воздуху своей земли. Это не мешает его сердцу быть распахнутым миру. Деревья родного края, его снег, вода, рассветы и сумерки, его скромные цветы, упорство людей заснеженной тайги – всё это входит в книги поэта и дышит подлинной жизнью…"
Думается, что эти глубоко прочувствованные калмыцким поэтом слова можно с полным основанием отнести и ко всем книгам серии "Писатели земли Олонхо", потому что всё это присутствует в произведениях каждого из представленных в ней авторов.
А в начале 2007 года в том же издательстве "Бичик" вышла не входящая в отмеченную выше серию, но органично к ней примыкающая книга Народного писателя Якутии Николая Лугинова "Пути небесные, пути земные", в которую вошли его повести о суровой, но по-своему отзывчивой и щедрой северной природе, а также легенды о монгольских и древнетюркских вождях.
Эта книга как бы пробрасывает собой мостик между писателями Якутии вчерашней и её нынешней литературной явью.
Хочется надеяться, что вскоре мы увидим столь же любовно и красиво изданную "Бичиком" книгу Натальи Харлампьевой и других современных писателей Республики Саха (Якутия).
Ведь эта холодная земля по-прежнему богата литературными талантами, которые достойны того, чтобы быть известными широкому всероссийскому читателю.
ВОЛОГОДСКИЕ ВСТРЕЧИ
Весной заметно оживилась деятельность Вологодской писательской организацией. В этом году сразу четыре писателя отмечают свои юбилеи – Ольга Фокина, Борис Чулков, Василий Белов, Александр Грязев.
В апреле в Вологде прошёл большой творческий вечер Валентина Распутина и Саввы Ямщикова.
Затем в Вологду приезжала большая группа писателей и художников для встречи с Василием Ивановичем Беловым, во главе с архимандритом Сретенского монастыря в Москве Тихоном (Шевкуновым).
В начале апреля состоялось отчётно-выборное собрание Вологодской писательской организации. С отчетом выступил председатель правления Михаил Карачев. Он, в частности, сказал: "Вологодская писательская организация в России – одна из самых авторитетных и признанных – заслуживает достойного и уважительного к себе отношения. Выражение такое есть: Вологодская область знаменита вологодскими кружевами, вологодским маслом и вологодскими писателями".
Докладчик отметил, что за два года выпущено более 30 книг, прошли многие встречи, писатели активно выступали в печати.
Писатели одобрили работу правления и вновь избрали руководителем М.И. Карачева.
В начале мая состоялась еще одна большая встреча в местном Литературном музее. На этот раз читателям были представлены книги Роберта Балакшина "Мой город милый", посвященная 860-летию Вологды, и члена Вологодской писательской организации Вадима Дементьева "Знаменитые монастыри России. От Москвы до Соловков" (издательство "Вече"), вышедшая уже двумя изданиями и большим тиражом.
Собравшиеся высоко отозвались об этих изданиях, отметили активную позицию авторов в отстаивании лучших достижений культуры северного края.
Также на встрече были представлены книги "Вологодские затеси Виктора Астафьева", "Светлые души. Рассказы лауреатов Всероссийского литературного конкурса имени Василия Шукшина", книга Капитолины Кокшенёвой "Русская критика" и только что вышедший из печати первый номер за этот год журнала "Лад вологодский", с каждым выпуском становящийся всё более популярным и интересным.
(обратно)Марина Струкова СТРАНА РОМАНТИКОВ. Из истории "потерянного" поколения
Знакомые упрекают тем, что в Санкт-Петербурге для меня существует только одна достопримечательность – Богословское кладбище.
Там у Братской дорожки стоит строгий чёрный монумент с надписью "Виктор Цой".
Благодаря Цою многие из моих сверстников состоялись как личность и выжили в эпоху перемен, потому что в его песнях мы действительно находили ответы на вопросы о смысле жизни, под их влиянием делали нравственный выбор, – абсолютно разные молодые люди, потому что его песни не навязывали никаких политических взглядов, не апеллировали ни к одной из религий, а лишь воспитывали сильную независимую личность, декларируя самутверждение, мужание молодого человека вопреки любым катаклизмам, равнодушию окружающих, судьбе.
Никогда ничто не влияло на меня так сильно, как русский рок. Как многие мои сверстники в 90-е, я слушала Шевчука, Башлачёва, Бутусова, Янку, известных и малоизвестных рок-музыкантов, ленинградских, московских, сибирских. Уважала как поэта Башлачёва с его по-русски трагическим "Временем колокольчиков", яростного мятежника Кинчева, но вот все их кассеты забыты дома, стёрты, потеряны. И только альбомы Цоя покупаю снова. Через шестнадцать лет после гибели Виктора его песни также актуальны, а наша деградировавшая рок-сцена не может явить столь же яркого и сильного автора.
Постоянство среди перемен. Искренность среди лжи и зауми современного искусства. Прогулка романтика по грязи двадцатого века, романтика, не отрекшегося от идеализма, благородства, честности. Тоску по осмысленной яркой жизни он призывал воплощать в действие по законам совести.
У Цоя много песен, где упоминается война. Эта война абстрактна, если попытаться подойти к расшифровке её философии с точки зрения примитивного противостояния красных и белых, правых и левых, потому что она неизмеримо выше примитивных схваток между стаями под пёстрыми флагами. Его Война – это борьба за собственную душу с миром, охваченным тьмой, спасение её от растворения в болоте обывательского безразличия к вечным истинам. "Между Землей и Небом – война", "Весь мир идёт на меня войной", "Война – дело молодых, лекарство против морщин". "Спокойная ночь" – про тех, кто спит, и тех, кто отправляется в путь, чтобы спасти этих спящих. "Белые дни", где "мне нужно только несколько слов и место для шага вперёд". "Ты должен быть сильным, ты должен сказать: "Руки прочь, прочь от меня", ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?.."
Так понятие Войны стало раскрываться для меня как многогранное, неисчерпаемое и прекрасное испытание человека на прочность, искренность, верность идеалам; Война – как храм героев, меняющих мир. Даже одного героя. Воинствующий индивидуализм человека, разочарованного в окружающей действительности, готового изменять её, несмотря на непонимание и осуждение "маленьких" людей. "У меня есть братья, но нет родных", "оставь меня в покое – не тронь мою душу". "А те, кто спал, живут из запоя в запой, кричат: "Нам не дали петь!", кричат: "Попробуй тут спой!" ...Мы идём, мы сильны и бодры, замерзшие пальцы ломают спички, от которых зажгутся костры. Попробуй спеть вместе со мной! Вставай рядом со мной"…
Пусть могилы других поэтов посещают официальные делегации с пафосными речами, государство устанавливает им монументы, славой Цоя наделил народ, российская молодёжь – не указ чиновника из Минкульта или литературные критики.
Сейчас в Интернете много сайтов, посвящённых Виктору Цою, там размещены все его песни – известные и редкие записи. Недавно создателям сайтов фирмой "Мороз рекордс" ("Мороз мьюзик") были разосланы письма следующего содержания:
"Уведомляем вас о том, что компании "Мороз мьюзик" принадлежат исключительные авторские и исключительные смежные права на всё, что касается творчества Виктора Цоя и группы "Кино". На вашем сайте неправомерно размещены произведения в форматах MP-3, MIDI, Wave и др., а также аудиовизуальные (видео) произведения. Ответственность за нарушение авторского права и смежных прав предусмотрена ст.146 УК РФ, ст. 7.12 КоАП, ст.49 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" и т.д."
Кучка дельцов шоу-бизнеса требовала удалить с сайтов песни Цоя, полагая, что тогда народ с большей активностью станет раскупать диски их фирмы. Закрылся на реконструкцию самый крутой сайт "Киноман", полагаю, оттуда уберут песни кумира. На днях были удалены песни с ряда сайтов. Ребята, Виктор учил не отступать!
Творчество Цоя принадлежит России, а не алчным торгашам!
Да, "демократический" закон на их стороне. Но есть зарубежные хостинги, с которыми вряд ли сладят доморощенные капиталисты, если сайты переместить туда…
В Москве мэрия не даёт разрешения на установку памятника, но есть Стена Цоя на Арбате. И Богословское кладбище. Теперь здесь тусуется новое поколение поклонников – им лет 12-15, и мои ровесники заходят. Последний раз была там 13 ноября 2006-го.
"Много народа приходит к Цою?" – спрашиваю у работницы местной церкви. "О, много. Взрослые ненадолго появляются, бывает, на машинах приезжают, положат цветы, постоят у памятника. А подростки часов с четырёх сидят до ночи". "Цой жив!" – говорят ребята. Для них он, действительно, присутствует здесь и сейчас. Подходя к памятнику, они прикасаются к надгробью, здороваются с Виктором, уходя, прощаются. Я на Богословском была свидетелем того, как парень, по словам его друзей, совершивший какой-то проступок, подойдя к могиле, извинился перед Цоем; если они ссорятся, то выходят выяснять отношения за ограду. Когда нам плохо, мы слушаем "Кино".
Меня тронула одна заметка о не так давно произошедшем случае: 11-летняя девочка Ася сбежала буквально из вагона, увозившего экскурсионную группу школьников обратно в Грозный. Девочка из далёкой, разрушенной войной республики хотела увидеть могилу кумира. Без копейки денег, десять часов ребёнок блуждал по чужому городу, и всё-таки она вышла на Богословское. К сожалению, побыть там ей не позволили милиционеры, спешившие возвратить беглянку под опеку учительницы. Пусть этой милой девочке песни Виктора помогут так же, как помогли нам. Разве кому-то ещё можно так верить в этом государстве – продажным политикам различных направлений, журналистам с их культом гламура, адептам сект? Эх, русский рок, пропадающий пропадом, где твои новые герои – свободные, сильные, неподконтрольные никому?
Константин Кинчев, последняя настоящая рок-звезда из выживших, поставил своих поклонников перед выбором: или вы принимаете мои новые взгляды, или не слушайте. "Я не червонец, чтобы нравиться всем". Кинчев теперь только для православных патриотов, но молодежь не только из них состоит. Кажется, могла бы заинтересовать метаморфоза, произошедшая с одним из уважаемых авторов, но его песни так похожи на статьи из патриотической прессы, что нет в них ничего нового, лучше газету почитать.
Нужен русскому року размах вселенских и всечеловеческих смыслов, а не "красный уголок" какой-нибудь идеологии.
21 июня 2007 года Виктору Цою исполнилось бы 45 лет, он погиб в 28.
Его поклонники взрослеют, но верят ему так же, как верили в юности.
В вахтовом журнале кочегарки, где работал Виктор, кто-то из ребят написал: "Давайте скорей его забудем, чтобы он снова вернулся" – давайте снова заблудимся, отчаемся, изверимся, и тогда небо сжалится – "Отдай нам Витю, Бог!" Им и мне кажется – страна была бы другой, если бы не погиб её певец.
…Темнеет, замерцали огни рекламы над домами, по серой улице идут серые, усталые люди. На кладбище вырубили аллею под новые захоронения – земля дорожает. Перед монументом – глинистая грязь в машинных колеях, а на скамейке снова сидят подростки, преданные всеми – преданные кумиру, и звучат юные голоса под гитару:
"Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой, я никому не хочу ставить ногу на грудь, я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой, но высокая в небе звезда зовет меня в путь…"
Россия остаётся страной романтиков.
(обратно)Борис Петелин ХОФБРОЙХАУЗ
"Губит людей не пиво…"
Хофбройхауз – это в Мюнхене. Знаменитый на весь мир придворный пивной трактир на малой площади. Существует с 1589 года. Так пишут в рекламных проспектах. Проще говоря – пивная, каких в Германии великое множество. Но Хофбройхауз -- один. Даже тот, кто ничего о нём не знает, наверное, подумает, что пивная эта как-нибудь связана с Гитлером. И окажется прав. 24 февраля 1920 года в большом зале Хофбройхауза состоялся митинг Немецкой рабочей партии, в которую полгода назад вступил Адольф Гитлер. И хотя он не значился в качестве основных докладчиков, тем не менее, его выступление стало главным. Гитлер огласил программу партии из 25 пунктов. Первую и единственную для становящихся на ноги национал-социалистов...
В Мюнхен меня привело, конечно, не желание посетить Хофбройхауз и другие места, связанные с историей НСДАП. Хотя для историка, тем более занимающегося германистикой, интерес к прошлому, пусть даже самому мрачному, предосудительным не является. Однако сотрудник архива дать какие-либо рекомендации воздержался. Мол, многое изменилось, исчезло, никаких экскурсий по памятным местам нет. Что до пивных, то они как были, так и остались. До Хофброй добраться просто: в метро до остановки Мариенплац, а там рукой подать. Свободного времени у меня было немного, даже город за неделю толком посмотреть не удалось, но отказать себе в удовольствии посидеть в знаменитом трактире я не мог.
...Поверить в то, что в Мюнхене не осталось исторических мест, связанных с национал-социализмом, невозможно. Как у Маяковского: "Здесь каждая башня Ленина слышала…" Так и в Мюнхене, где башен и площадей хватает. Только в отличие от Питера или Москвы нет памятных табличек: фюрер выступал тогда-то, состоялось то-то. Никуда не делись и улицы, по которым в 20-х годах браво маршировали штурмовики, горланя песни о тяжёлой своей судьбе и ненависти к ростовщическому капиталу.
Но немцы не без успеха преодолевают наследие тоталитаризма. Не пытайтесь с ними заводить разговор о фашизме, Гитлере, НСДАП. В лучшем случае услышите пару ничего не значащих фраз. Скользкая тема. Так слово за слово и о холокосте придётся говорить. А ну-ка, собеседник начнет пытать, да ещё вдруг не то с языка сорвётся. Ему то что, а в Германии закон, по которому наказываются те, кто публично отрицает официальные догмы холокоста (в Австрии известный английский историк Д.Ирвинг получил за это три года тюрьмы. Что тут скажешь? Демократия – в действии!).
Вот мы и наверху... Но где здесь пивная?
Чтобы быстрее достичь цели, спрашиваю у прохожего. Им оказался пожилой немец, ветеран. Немец любезно ответил, что тут, рядом, стоит только пройти прямо, влево, вниз мимо магазинов и лавок, а там и пивная. Видя, что перед ним иностранец и желая пообщаться, спросил: "Wohin?" – "Русский, Россия." – "А точнее, место: Ort, Stadt?" – "Вологда." – "О, Wolgograd, Wolgograd! Знаю, знаю." Что ж, пусть Волгоград, он им как-то ближе, в памяти отложился не на одно поколение. "Gut, sehr gut!" – хорошо, очень хорошо! И не только пожал руку, но и дружески похлопал по плечу. Конечно, русский ему не в диковинку. Но лишний раз встретить, всё равно, что в молодость вернуться, вспомнить "ходили мы походами… Deutschen Soldaten, Unterofizieren…"
Был полдень, не вечер, но народу в залах оказалось порядочно. В трактире одновременно могут находиться до 2 тысяч человек. Я решил сесть в главном зале, недалеко от оркестра, как сразу отметил с типичными баварскими парнями. За стол может вместиться 8-10, а то и больше человек, так как стояли не стулья, а обыкновенные деревянные лавки со спинками для удобств. Но народ за столами не теснился, я так и просидел всё время один. Возможно потому, что сел в центре вблизи с оркестром, а исполняемые им народные мелодии звучали порой громко. Большинство сидят парами, компаниями, пришли поговорить, отдохнуть, выпить пива. Заходят сюда и просто пообедать, служащие из местных контор и учреждений. Они не засиживаются, пообедав, уходят. За три часа, что я провел в Хофбройхаузе, пришлось увидеть разных посетителей.
Как только сел, подлетел кельнер. "Ein Bier" – заказ принят. В ожидании пива вглядываюсь в изрезанную столешницу. Стилизация под нашумевшую эпоху. Но причудливые линии и знаки не складываются в имена или призывы, не пересекаются в свастику. Некоторые столы покрыты скатертями. Понять можно. Не всем посетителям такая стилизация может показаться приемлемой. На одной из стен портрет мужчины с узнаваемыми усами. Разумеется, не Гитлер. Может Чарли Чаплин? Тоже вроде не похож. Можно было подойти, посмотреть, но не стал. Висит и висит. Значит так нужно.
У национал-социалистов в почёте были и другие мюнхенские пивные: Бюргерброй, Левенброй, Штернекерброй... Но Хофбройхауз занял особое место. Как вспоминал сам Гитлер о своём программном выступлении: "…в 7 ч.15 м. зашёл я в большой зал Придворной пивной, и сердце моё затрепетало от радости. Гигантский зал был полон народа. В зале негде было яблоку упасть". "…Теперь основные цели нашего движения уже не останутся без внимания, поскольку они завладели умами немецкого народа... Мы возожгли огонь, на котором будет выкован меч нашей свободы", – писал он в "Майн кампф".
Ein Bier оказалось литровой кружкой фирменного, оригинального мюнхенского пива по 6 евро 20 центов. Неплохо. Прикидываю на наши рубли. Да, в России нам такое пиво не по карману. Но я небольшой его поклонник. Не все и в Германии его пьют литрами. Гитлер, кстати, сам не очень любил пиво. "Пивной путч" в 1923 году, когда он появился с револьвером в одной руке и кружкой пива в другой – театр для возбуждения публики. Позже он совсем отказался от традиционного немецкого напитка. Цвет пива ему напоминал кое-что другое. Фюрер был брезглив.
У него была давняя любовь к Хофброй. Не став профессиональным художником, Гитлер своего увлечения не бросил. Рисовал акварели, тяготея к архитектуре, переносил на бумагу старинные здания, среди которых оказался и пивной трактир. Историк В.Мазер, перу которого принадлежат биографии многих немецких политиков, в своей книге об эпистолярном наследии фюрера пишет: "К знаменитым картинам Гитлера мюнхенского периода принадлежат его изображения Хофбройхауз". Сходство с оригиналом можно сказать безупречное.
За пивом размышления текли дальше. Губило людей не пиво. Но как на этом слабом напитке забродила эта мощная и жестокая сила? Не ради иронии, но предположим: если бы в этих трактирах употребляли водку, то какой крепости тогда оказался бы фашизм? Вряд ли он вообще бы состоялся. Водка не тот напиток. Это зелье забирает у человека волю, силу и разум. И вся заряжённость уходит на какую-нибудь бесшабашную выходку, слезливые всхлипы о загубленной жизни с битьём посуды, а после этого – похмелье, унижение и раскаяние… Не потому ли русский человек, тяготея к крепкому напитку (сколько его уже выпито им в истории!), так и не смог соорганизоваться. Да, погубило немцев не пиво, а политика, которая к нему примешалась. Мне потом говорили, что в Хофброй ещё приходят ветераны со своими кружками. И может, кто-нибудь потихоньку затягивает Хорста Весселя "Die Fahnen hoch, das Reihen dicht geschlossen…" Что ж, и их понять можно.
Но хватит размышлений, вернёмся в зал. Появилась девушка в баварской цветастой юбке и белой блузке с плетёной корзиной, предлагая посетителям баварский бренцель – крендель по- нашему. Отпробовать не мешало бы, но дороговат. Да и девушка что-то смахивает на турчанку. А вот этого пропустить нельзя. Фотограф, причём не с поляроидом, а с цифровой камерой, фото за пять евро и будет готово через пять минут. Запечатлеть себя в таком исторической месте, конечно, надо. Так прямо за столом, с литровой, опустевшей уже наполовину кружкой, и сфотогра- фировался. Фотографию принесли в фирменной рекламной открытке "На память о Вашем посещении Хофбройхауза", дату можно поставить самому. На обратной стороне открытки представлена хроника Придворного трактира в Мюнхене и подробный адрес, включая и интернетовский.
Внимание привлекла группа китайцев. Как и положено туристам из коммунистической страны, вошли дружно, организовано, впереди старший, у него был какой-то значок на лацкане пиджака. Прошагали по залу и уселись невдалеке за свободный стол. Взяли пива по небольшой кружечке, бренцелей на закуску, заговорили на своём о своём. Ведут себя без стеснения, уверенно. Что им Европа, когда за спиной такая страна и полтора миллиарда населения. А может быть им ведомо, что там написал Гитлер в своём завещании о торжестве жёлтой расы, после того как рухнут две великие державы? Одна, как известно, рухнула. А вторую, как пророчествовал фюрер, "ждет гибель еще до наступления поры зрелости".
Китайцы продолжали приковывать внимание к себе. Они не стали, как я, фотографироваться у трактирного мастера, а расчехлили свою технику. Сфотографировались за столом, потом переместились к оркестру. Решили запечатлеть себя на фоне баварских музыкантов. Но этим не ограничились. Старший группы, насвистев какую-то мелодию, пожелал, чтобы её подхватил оркестр. Получилось. У китайца неплохо выходило с дирижированием. Бросили мелочь в специальную банку. Заказали еще музыку. Стали подпевать. В общем, такой небольшой смешанный концерт из баварских мелодий с китайской спецификой.
Заказывать "Катюшу" я не стал. Но засняться на фоне оркестра тоже неплохо. Чтобы композиция была более основательной, фотограф попросит ребят привстать, оказать честь русскому гостю. Так и вышло на фото: четверо музыкантов в кожаных шортах на широких подтяжках и белых рубашках, и я с фирменным баварским пивом в руке. Я потом сделал снимок своим фэдом, и, надо сказать, фотография получилась отменной. Оркестр сидел под фонарями, что компенсировало отсутствие вспышки.
Мое сидение затягивалось, и само собой появилось желание попробовать что-нибудь из закуски. В меню выбор был ресторанным. Остановился на разделе "для постоянных посетителей", к которым я не относился, но зато мог быть уверен, что блюдо окажется истинно баварским. Так оно и вышло. Кельнер принес свиные косточки в кислом отваре, кислую капусту с отварным, мелким картофелем. Я уже привык, что порции в немецких кухнях внушительные, здесь они были просто гигантскими. На троих, не менее. Хотя, если ещё взять пива… Оно, кстати, оказалось не хмельным, под него можно было и оратора послушать. Завтра как-никак 9 ноября – годовщина "пивного путча". Да, только не нашлось таковых. Время ораторов прошло. А может, ещё не пришло?
…Обратно из Мюнхена в "свой Рур" ехал 7 часов на поезде. Состав идёт рядом с Рейном. Смотреть – одно удовольствие. Городки, домишки, на противоположном берегу по горам желтеют виноградники. А главное – река! Полноводная. В Германии все реки в берегах. Не то что наши, высыхающие, мелеющие, заброшенные. Суда, баржи, катера, лодки – всё это плывет вверх-вниз. Работает Рейн. Летом был разлив, они стали частыми в последние годы. Но заброшенности не видно. Последствия стихии устраняются быстро. Нет, у этого народа жизненная сила не иссякла...
(обратно)Татьяна Реброва Я ПОМНЮ...
Десять лет тому назад ушёл из жизни Владимир СОЛОУХИН...
Владимир Алексеевич...
Это и промозглый московский вечер, когда в Знаменском соборе разноцветно, но не цветасто, а дивно, как радуга, величает Россию ансамбль Дмитрия Покровского. Это домик Корина, где его вдова оставляет наедине с Русью уходящей, неизвестной, запрещённой, как душа. Это тоскующий голос Николая Гедды в мастерской художника, когда над Москвой летит снег, не знаю уж какого столетья. Это принесённые из Большого театра пластинки с записями древних церковных песнопений. Это пережитые с ним вместе всё чудо и вся мощь русской культуры, её истории, её духа. Это... Но всё это могло быть и сможет быть, если каждый день пронизывается ими обычно и незаметно, как воздух нашим дыханием.
Не помню, то была ранняя пасха или поздняя весна. Сугробы и сосульки. Сумки, полные рыночной снеди, на вокзале Конакова подхватил Владимир Алексеевич, уложил в багажник серой "Волги". Заранее рад: разговляться будем вместе. Пасхальная ночь Воскресения. Не просто ночь тайны, но втайне от всех – запрещено воскресение-то Господне. Он воскрес, а нам влетит за то, что знаем это, верим в это, что с Ним в этом заодно мы. Соучастники мы Господнего таинства, вот и радуемся. И нельзя нам сейчас порознь.
Дом князей Гагариных. Покои Владимира Алексеевича в одном конце, мои в другом. И никого, кроме нас.
Вечером едем в Городище – сельцо, в котором на крутом берегу Волги старинная церковь. Ледяные, сырые сумерки всё гуще. По краю обрыва, по старому кладбищу, утопая в снегу, пытаемся обойти храм. И вдруг из мрака появляется священник. Он узнал Солоухина и пошёл за нами. Батюшка благодарит за "Письма из Русского музея", вспоминает какие-то стихи и рассказы, говорит с воодушевлением, и видно, что этот образованный добрый усталый человек любит Владимира Алексеевича и рад несказанно этой встрече! И мы втроём уже родные люди, ожидающие одного и того же. Батюшка приглашает нас обогреться. В простом бедном доме много детей, с которыми мы наполняем винегретом большой таз. А в церквушке деревянные, выскобленные, свежевымытые полы, печка истоплена, на скамейке шубёнки, пальтишки. Женщины с узлами разноцветных яиц, и пахнет куличами. И все иконы, как фотографии в деревенских домах, на которых всё свои, кровные, заступники ненаглядные. И матушка всех, как гостей, встречает.
И колокола над обрывом волжским, и свечи, свечи, и храм в тучах над рекою парит. А когда мы вернулись и начали разговляться, то те яйца, которые были разбиты в ночь разговления, были о двух желтках. Кроме них, все остальные оказались с одним. Кем нагадано? Что загадано? Но Духов День и день рождения Владимира Алексеевича в этом году в один календарный день праздновали.
Перекрестив друг друга, почили по своим покоям, и вдруг, не знаю почему, так стало жутко мне от этих маленьких окон, к чьим белым занавесочкам вплотную подступала дремучая тьма, и скованная льдом река, по берегам которой сплетались могучие старинные, седые от снега и странного снежного света, ивы. И пустой тёмный громадный старый дом, родовое гнездо старинное. Тишина. Господи, да неужели же нет рядом силы, что отгонит жуть ночи и времени? И так как-то сразу после этого вскрика моего стало мне спокойно, весело, и я впервые за много лет уснула так, как засыпала в детстве. С бессознательной надеждой на счастье.
А утром Владимир Алексеевич был расстроен тем, что обронил где-то кольцо, подаренное в Париже княгиней в часовенке домашней во имя Серафима Саровского. Кольцо-то с надписью-оберегом: "Преподобный отче Серафим, моли Бога о нас". И как обронил, если в то время с болью и трудом снять не мог? Как? Но вот что странно: впервые за много лет уснул, как в детстве с бессознательной надеждой на счастье. Я вздрогнула: слово в слово, чувство в чувство. И тут упал солнечный луч, и на серебристом паласе вспыхнула синяя капля. Обронённое кольцо? Кольцо-то носила женщина, которая умерла, а болезнь начиналась с боли в плече. И у Владимира Алексеевича плечо болеть незадолго до этого начало. Не знали мы тогда, что кольцо очистить надо было проточной водицей, да и вообще без специалистов в этом деле обойтись нельзя было. И вот какою силой было сдернуто оно с пальца? Как знак – не носи. И в то же время имя Святого испускало энергию защиты. Защита имени его и присутствия его и дало сон спокойный.
Вещь – одно, а имя – это другое. Имя его спасало от вещи, и от жути ночной.
Летом я писала свою книгу "Китежанка", жила уединенно в г. Чехове, недалеко от усадьбы Ланских. Владимир Алексеевич приезжал часто и всегда ранним утром. Солнце, река, щебет птичий, ранний завтрак, показ стихотворений мною и его рассказы и приветы. В один из приездов он отправился проведать знакомых, старых людей – мужа и жену. Часа через три вернулся и протянул мне подарок пожилой пары – жестяночку с написанным на ней Серафимом Саровским. Примитивно написанная иконка: старец в лапотках выписанных, с сумочкой холщовой, с посошком. Деревцо меньше его. Детский рисунок. Прямо Руссо из музея Пушкина. "Вот тебе прислали, очень им хотелось именно её подарить тебе. Как осенило вдруг. Достали и велели передать".
А потом была Александрова Слобода. В древнем храме шелушилась и осыпалась со стен старинная роспись. И вдруг в тяжелом, как спрессованное время, воздухе блеснуло озерцо с кувшинками, затерявшееся в лесной глуши. Мы подошли поближе.
У светлой водицы на камне коленопреклонённый Серафим Саровский протягивал руки. К небу? Нам? В вечное обещание помощи. Молодой священник, монах в щеголеватой, изящно сшитой рясе строго попенял нам, что мы громко начали разговаривать. А мы говорили, что на наших иконах святые и лошади, и березки, и кувшинки, и озёрца лесные. Мы вышли за ворота крепости Ивана, мы шли по траве детства, по спорышу, целебной траве. И Владимир Алексеевич вдруг сказал: "Когда уже я не смогу тебя защитить, тебя защитит от хворей и дурных людей простая русская травка. Не зря же она у ног Серафима на той жестяночке намалёвана".
(обратно)Ямиль Мустафин РОДОСЛОВНАЯ
Лето 1968 года выдалось жарким. В двадцати трех километрах от Москвы, в деревне Усово, я снял "дачу".
"Дача" – избёнка, ушедшая двумя прогнившими венцами в землю, стояла на самом краю деревни, возле колхозного кукурузного поля. Хозяйка "дачи", Лидия Васильевна, худая женщина с елейным голосом, добродушно, но удивительно упорно талдычила:
– Ну скажите, где вы за пятьсот рублей снимете такую дачу?
Я старался увидеть "дачу" – подходил то к завалившемуся углу избы, то к маленькому оконцу, осторожно ступал полшага от крыльца, боясь наступить на ранний гривастый укроп, кружевные побеги петрушки.
– Да что вы разглядываете, будто купить хотите! – с доброй улыбкой продолжала хозяйка, заметив на моем лице растерянность. – Лес рядом! Москва-река – рукой подать. Тишина! Воздух!
– От скотного двора силосом...
Я не успел высказать мнение, хозяйка сочувственно, как добрый давний знакомый, перебила меня:
– О каком запахе говорите, дорогой? Запах, правда, бывает, когда ветер оттуда, но это так редко, да и то чаще всего ночами... Почему, думаете, я вам сдаю за такую малую сумму?
– …Люди за такие деньги снимают дом с участком! – слабо возразил я.
– Может, и снимают, – упёрлась она короткими руками в костлявые бока. Сощурила чистые, небесной голубизны глаза, искривились в усмешке тонкие губы, лоснящиеся от густой помады. – Дорогой, вы не дали мне высказаться до конца, перебили. Так вот, я сдаю вам за такие деньги лишь потому, что вы о собакой, – хозяйка кивнула на Раджа, спокойно сидевшего возле моих ног. – Да ещё дети. У нас в Усове никто вам дачу не сдаст! Да-да, тут у нас особая зона… – многозначительно заметила женщина. – Сами видите, какие дачи вокруг нас! Там живут цэковские работники... Им покой нужен! Небось видели, в какой чистоте и порядке содержатся тут дороги, леса... Тишина какая, чуете? Так что смотрите, неволить не стану. Дачники найдутся... Москва-река – рукой подать!
После таких слов мой доберман поднялся на задние лапы, передние положил мне на плечи и лизнул в лицо, точно понял смысл нашего разговора. Кто знает, а может и понял...
– Ишь какой ласковый песик-то, – улыбнулась хозяйка избушки. – Кому он понравится? Телёнок и только. В деревне народ строгий, собак не особенно-то любят, своих держат на улице. А чтоб в избу? Упаси Бог! Пуская к себе с таким псом, я рискую врагов нажить... А мне жить с соседями, сами понимаете. Вижу, вы человек интеллигентный, грамотный, знаете, что к чему... – шумно вздохнула женщина, точно вынырнула из воды. Радж снял тяжёлые лапы с моих плеч и уставился рыжими глазами на хозяйку "дачи". Коричневые брови собаки двинулись вверх. Он словно разглядывал и оценивал женщину, а верно ли она толкует?
– Ишь какой! – делая улыбчивую мину, заметила Лидия Васильевна. – Вот что у него в башке? Про что я и говорю, – и хозяйка "дачи" отступила на шаг.
– Он у нас умный, спокойный, – сказал я и обнял Раджа. – Правда же, сынок?
– Как же вы такого телёнка сыном называете? Не грешно? – изумилась женщина. – Говорите, у вас есть сын и дочь...
– К нему мы все так привыкли, что он стал самым настоящим членом семьи, – смущённо ответил я. – Радж наш любимец.
И тут Радж снова лизнул меня в щёку, и короткий хвост задрожал с быстротой секундной стрелки.
– Хорошо, уговорили, – согласился я. – Дня через три мы приедем. Не знаю, правда, как всё это понравится ребятам, жене...
– У нас всем нравится, – твёрдо заявила женщина. – Не зря же вокруг нас зелёные заборы. Давайте задаток и можете в любое время приезжать. – И Лидия Васильевна сняла одну руку с бедра и, как бы между прочим, небрежно протянула мне. Жест был настолько красноречив, что возразить я не мог. Вот, пожалуй, тогда я понял, что передо мной не избёнка, не избушка и не какой-то домик, а настоящая дача, вошедшая в сюжет классических произведений, и хозяйка не официантка из шашлычной "Цапля", а истинная дворянка, привыкшая повелевать...
На "дачу" мы приехали в начале июня, когда пышно цвела сирень, в лесу благоухали ландыши и, казалось, что цветы-колокольчики издавали малиновый звон. Упитанные шмели в бархатных сюртучках гундосили над россыпью тысяч крохотных солнц-одуванчиков. Лепестки яблонь, вишень позёмкой вихрились по земле...
Когда жена увидела снятую на два месяца "дачу" за пятьсот рублей, она развела руками:
– За такой сарай, такие деньги?!
– Лес рядом... Река... Тихо... Воздух. За зелёными заборами живут цэковские работники, – почти словами хозяйки "дачи" говорил я жене.
– А откуда так отвратительно пахнет? – обернулась жена в сторону силосной ямы.
– Ну... Скотный двор... Коровы...
Обстановку разрядили Радж и дети: они носились по тропинкам, смеясь и визжа от радости и восторга, когда пёс валил их на землю и, басовито полаяв, отбегал и принимал позу сфинкса. Вся его довольная, до ушей, улыбка как бы говорила: "Ну, кто сильней? Кто ловчее? Вот где раздолье!"
– Дети, нравится здесь? – спросил я, стараясь как-то утвердить свой выбор.
– Очень! – дружно ответили они. А Радж подбежал ко мне и, как палками, ударил меня передними лапами в грудь и чуть не сбил с ног.
– Папа, Радж с тобой хочет поиграть! – обнимая собаку, весело говорила дочь. – Побегай с ним...
– Мать, видишь, мы все очень довольны! – в тон детям сказал я.
– Вижу... Что ж мне с вами делать? Соглашаюсь, – ответила жена. И тут на крыльце появилась хозяйка "дачи". Улыбаясь во все тридцать два зуба, из которых больше половины были золотыми, она спросила жену, нравится ли ей дача. Я был уверен, что жена, которая только что дала оценку моему выбору, как человек прямой, непременно скажет, что никакая это не дача, за такие деньги люди снимают хоромы с фруктовым садом. Но к моему удивлению она робко произнесла:
– Хорошо... Лес рядом... Река... Тишина... Воздух...
– Я в этом не сомневалась! – продолжая улыбаться, ответила Лидия Васильевна. – Надеюсь, ваш супруг остальные деньги сегодня заплатит.
– Конечно, конечно, – виновато улыбнулась жена.
– Вот и отлично. А собака у вас умная... Как она хорошо играет с детьми. Сколько же она съедает в день? Гладкий пёс!
– Раз животное держишь, значит, и смотреть за ним надо хорошо, – ответила жена, хотя сама частенько упрекала меня и детей за "излишнее" внимание к Раджу. – Вижу, оказывается, и вы любите собак, раз сдали нам комнату. А то ведь нынче хозяева дач не особенно любят собак. Спасибо вам, Лидия Васильевна…
– Да-да, мало таких, – согласилась хозяйка, польщённая словами моей жены, одновременно настороженно посматривая на разыгравшихся детей и собаку.
После её ухода мы быстренько расставили наши немудрёные вещи в комнатке, в сенях, больше похожих на хороший чулан. Жена часто повторяла озабоченно, наверно, больше для себя: "Ну и выбрал... Ну и нашел..."
Я не замечал неудобств: мы рано утром с собакой уходили в лес, возвращались к завтраку. Подкрепившись, с Раджем и детьми снова уходили в лес. Дом служил для нас ночлегом и столовой. Если приезжали гости, то все мы обедали на улице, в избу не заходили: там было тесно и неуютно.
Ко двору Лидии Васильевны примыкал огромный пятистенный дом под железной крышей с мансардой. Владелец дома – Терентий Савельевич Сидоркин был человек общительный и работящий. Несмотря на свои семьдесят три года и неказистый рост, он с утра до вечера копошился во дворе: пилил дрова, что-то строгал, поправлял штакетник, сарайчики, похожие на собачьи конурки, поливал яблони, окучивал картошку, в тенёчке под навесом чинил обувь дочерей, трёх зятьёв, приносил из леса сухие валежины и распиливал их на короткие чурбачки – готовил на зиму дрова. По воскресеньям мы с ним ходили в посёлок Жуковку, где находились специализированные магазины с высококачественными продуктами.
Дочери меж собою частенько ссорились из-за удобств в избе. Обвиняли друг друга в несправедливом разделе комнат: у кого-то окна комнаты выходят на улицу пыльную и шумную, у кого-то смотрят в огород, у кого-то половицы скрипят...
Мужья в таких случаях убегали в Жуковку пить пиво... Они уверены, что сёстры договорятся, как бы ни костерили друг дружку, помирятся, и будут вспоминать детство и как они не могли поделить одну куклу. Мать девочек Анастасия Михайловна отбирала куклу и гнала сестёр во двор помогать отцу в работе... Вслед бросала: "Не дал же Бог ни одного мальчишку! Скорее бы замуж отдать!"
Может, сёстры и жили бы дружно, если бы видались реже, а не по десять раз в день, да и квартировались бы не под одной крышей, как сейчас, а врозь. Родственник всегда ближе, дороже, когда он живёт далеко и ничего не просит...
Большой дом соседей Лидии Васильевны, поделённый на комнатки и чуланы с отдельными входами и выходами, напоминал гигантский улей. Супруга Терентия Савельевича, дородная Анастасия Михайловна целыми днями занималась домашними делами дочерей: заходила и выходила в одни двери, потом, скрывалась в другой комнате, наводила там порядок и шла в комнату третьей дочери... Я заметил, что весь дом подчинялся ей, хотя дочери и зятья что-то бурчали ей вслед, но вслух возразить или перечить остерегались.
Я удивлялся, как она легко носила своё грузное тело и не повышала голоса даже тогда, когда зятья, изрядно подвыпив, начинали сводить счёты, делить имущество неумерших ещё тестя и тёщи. Если дело доходило до рукопашной, и начинали трещать рубашки, во дворе, прихрамывая, появлялся Терентий Савельевич и зычно командовал:
– А ну, марш по домам? – и начинал вталкивать зятьёв в их закутки. Тут уж доставалось и дочерям: – Вы-то чего раскудахтались, мокрозадые?! Чего не поделили? Ну-ка, тащите домой своих героев! Выгоню завтра же всех из дома! Продам всё! В город уйду! – грозился старик.
На следующий день, помогая ему пилить дрова, поливать сад, я спрашивал, чего он терпит таких зятьёв?
– А куда денешься? – выдохнул старик. – Какой палец не укуси, одинаково больно. Вот так и дети. Ради дочерей, внучат терпим... – задумался и грустно закончил: – Теперь уж недолго осталось терпеть... Что станет с моим домом? Ведь в нём я родился... Раньше бывало хоть раз в месяц со старухой обязательно ездили в Первопрестольную. Настоящий был праздник! А теперича Первопрестольную видим в день десятки раз. И что? Ни душе отрада, ни голове – разум. Вот так вот, сосед, – сокрушался старик.
Как-то Терентий Савельевич спросил, зачем я держу такую здоровенную собаку, да ещё в доме, и кормлю, видать не пищевыми отходами ("Брось мосол и пусть грызёт, зубы-то, что у волка!"), прогуливаю, словно человеческое дитё? ("Посадил бы на цепь и пусть сидит.") Я, как мог, деликатно объяснял, что доберман – такая порода, которая должна жить в тепле, её специально для этого и выводили два века тому назад. А прогуливая собаку, я восстанавливаю своё изношенное после инфаркта здоровье, и что Радж очень положительно влияет на детей... Сосед во многом соглашался со мной, кивал плешивой с жиденькими волосами на висках и затылке головкой, напоминавшей обдутый ветром одуванчик.
– Говоришь, после инфаркта? А зачем мне тогда за "так" помогаешь?
– Ну… как сказать ... – смутился я. – Мне нравится работать.
– Хмы, нравится?! Зятья и то спрашивают, не чокнутый ли ты? – Помолчал, посмотрел на меня так, будто видел впервые и спросил: – Ты образованный мужик, сурьёзный, видать, а смыслу житейского не петришь. Лучше б козу держал, пас её – вот тебе и прогулка для здоровья от инфаркту... На худой конец кроликов завёл бы... А кормить впустую такого кобеля!? Сад охранять? Именье? Ты, сосед, не сердись на старика... Надо жить с умыслом...
И всякий раз в голосе Терентия Савельевича я слышал нескрываемый укор, и было видно, что он не то что ненавидит собаку, а презирает её. Однажды даже раздражённо спросил:
– Сосед, а чаво это твой кобель голосу не подаёт? Зятья спорют, мол, он кастрированный, вот у него и нет голосу. Верно? Говорят, и роду-то он не имеет?
– Почему же, голос у него что надо и родословная неплохая, – отшутился я. – Зачем ему впустую брехать? Лает он в лесу. Дома не лает, чтоб жалоб от соседей не было. Радж – пёс понятливый.
– Скажешь тоже – понятливый! – усмехнулся старик и посмотрел в сторону моей "дачи". – Лидка-то молчит? Терпит?
Мне было обидно за умного и преданного Раджа, что о нём так худо думают, но ещё больше было жаль людей за невежество и непонятную предвзятость к собакам, которые многие века беспредельно преданы человеку, верней верного служат ему...
Но однажды случилось то, чего я сам не ожидал от Раджа.
Как-то субботним вечером я с ним возвращался из лесу. Возле нашего дома стояли незнакомые женщина и мужчина, на поводке резвился молодой узкоплечий, с плохо стоящими после купирования ушами доберман. На всякий случай Раджа я взял на короткий поводок, дал команду идти рядом. Когда мы подошли, хозяин молодого добермана сказал, что он впервые приобрёл собаку. Узнав, что я тоже владелец добермана, хотел бы получить кое-какую консультацию: как воспитывать неуравновешенную Альму, как содержать её, чем и как кормить... Я сказал сыну, чтобы он принёс книжки "Собака – друг человека", "Как воспитывать своего друга".
Собаководы – люди общительные и, когда разговор заходит об их воспитанниках, они тут же переходят на откровение, легко освобождаясь от условностей и ложных предвзятостей, так укоренившихся в нашем обществе. Вот и мы, пока сын бегал за книжками, многое узнали о наших воспитанниках, да и о себе немало. Оказалось, мои новые знакомые – люди одинокие, детей не имеют. Чтобы как-то скрасить жизнь (надежду на ребёнка они ещё не потеряли, хотя им было за сорок), они приобрели неделю назад годовалую Альму. Характер у собаки оказался неуравновешенным: она то ласкалась, как кошка, то делалась своевольной и капризной, то становилась агрессивной, то пугалась даже ворон…
Я сказал, что доберманы – собаки нервные, смелые и до двух лет требуют строгого и ровного воспитания, легко поддаются дрессировке и потом за любовь платят верностью. Среди своих собратьев по понятливости не имеют себе равных.
Тут на тропинке появилась соседка – Анастасия Михайловна. Мы с собаками сошли с тропинки, чтобы дородная старуха могла пройти спокойно. Я не боялся за Раджа – он был выучен и имел за дрессировку жетоны. Дойдя до нас, Анастасия Михайловна вдруг остановилась и, зло взглянув на собак, прошипела:
– Был один бесхвостый, теперь другой объявился! – и она, видимо, нечаянно или сознательно наступила на лапу молоденькой Альме.
Собака взвизгнула от боли и спряталась за ногу хозяина. И тут случилось то, чего никто не ожидал: Радж одним прыжком настиг старуху и хватил её за ягодицу... Я резко рванул собаку к себе и хлестнул поводком, чего никогда себе не позволял. Соседка ойкнула, молча дошла до своего участка и уже из-за калитки вдруг истошно закричала и стала осыпать нас бранью и угрозами. Пока я завёл собаку домой и сказал перепуганной жене, чтобы она заперла дверь и никого не впускала, возле калитки появились зятья Анастасии Михайловны: один с топором, двое – с палками. За ними, охая и прихрамывая, поддерживаемая под руки дочерьми, шагала пострадавшая, которую утешал Терентий Савельевич.
– Очкарик, выводи собаку. Мы сейчас прикончим её! – надрывался зять Сабир, работающий носильщиком на Казанском вокзале.
Он лёг грудью на штакетник, зыркнул из-под рыжих бровей на крыльцо, где испуганно стояли жена и дети, шёпотом успокаивая грудной рык Раджа...
– Ворчит еще, паразит бесхвостый!
– Если не отдашь, самого верблюдом сделаем! – подсказал весело Афоня и довольный собой оглядел родичей. Мол, ну как я его оттянул!
– Не посмотрим, что антилигент... – поддержал третий зять кавказского вида.
– Угомонитесь вы, наконец! – приструнил всех старик. – Разберёмся сами, что и как...
Но зятья продолжали надрывать глотки:
– Нашу любимую мамку...
– Да мы за неё кому угодно горло перегрызём!
– Давай лучше своего бесхвостого! По-хорошему давай! Не доводи до греха!
– Кому сказал, перестаньте! – прошёлся суровым взглядом по зятьям Терентий Савельевич.
– Чтоб ни дна ни покрышки бесхвостому вашему! – размахивая руками, надрывалась одна из дочерей.
Когда я подошёл к изгороди, зять соседа кавказской наружности лет тридцати бросил мне:
– Не бойся, тэбя быть не будем! А суку давай!
– Он кобель! – поправил я.
– Один чёрт – собака!
– Говорите, что вам от меня нужно, – как мог спокойней ответил я.
– Кобеля, кобеля давай! – снова заголосил рыжебровый, мурластый младший зять соседа, который на днях кричал на всю улицу тёще: "Отдай нам большую комнату! Тебе всё равно где спать!"
– Сабир, знай с кем разговариваешь, – одёрнул зятя Терентий Савельевич. – Он ведь не твоя женка, которую ты колотишь...
Старик строго оглядел зятьёв, дочери сказал:
– А тебе чего здесь нужно? Ты б так за себя стояла. Идите все в избу. Мы сами тут без вас разберёмся... Тоже мне – адвокаты!
Но Афоня, улучив момент, всё же подсказал тёще:
– Мамань, покажь интеллигенту, как бесхвостый чуть ползада не отхватил. Ты не боись его – мы в обиду тебя не дадим, – и стал поворачивать тёщу ко мне спиной.
– Отстань, срамник! – хлестанула зятя по рукам соседка.
– Тоже мне "срамник"! В избе же показывала...
– Сынак – во! – развел руки в сторону кавказец.
– Деньги с него за штаны и укус, – поддержал Сабир.
– Будя! Кому я сказал, чтоб шли в избу! Расквакались! – выходил из себя старик. – А вы что смотрите, гоните их в избу, – набросился Терентий Савельевич на дочерей.
– Вишь, папаня, сам говорит, что от бешенства... – снова встрял в разговор Афоня...
– Собака породистая... Таким обязательно надо уколы делать… – растерянно лепетал я.
– Во-во, сказанул тоже "породистая"! – поддержал родственника Сабир. – Бесхвостая и породистая! Ну и сказанул!
– Честное слово, мужики, она нормальная собака, и ей сделаны все необходимые прививки, – как мог миролюбивей защищался я.
– Дети, хватит, идите домой, – настойчиво начал подталкивать зятьёв и дочерей Терентий Савельевич. – Мы тут сами разберёмся.
– Вот бешенство хватит её, тогда не будешь хорохориться, – буркнул Афоня и первым направился к дому.
Его слова внесли смятение в ряды семьи. Дочери ошалело уставились на мать, двое зятьёв зашушукались.
– Наверняка бешеная! Нормальная не стала бы кусать!
– Сорока уколов не миновать!
– Никакая она не бешеная! – сказал я. – Собака имеет прививки.
– Справку кажи! – подала голос толстобёдрая, с красными коленями в мини-юбке дочь…
– Терентий Савельевич, Анастасия Михайловна, собаке сделаны все необходимые уколы – от чумки, бешенства... Она же с родословной, – неуклюже защищался я, боясь, что соседи могут ворваться во двор и тогда не миновать беды – Радж постоит за себя, тем более за нас…
Когда все ушли, я пригласил Анастасию Михайловну и Терентия Савельевича в дом. Старушка было заупрямилась, боясь, что Радж снова может ее укусить. Но я успокоил её и настоял, чтобы она вошла в дом.
– Сосед, может не стоит? – засомневался старик.
– Здесь неудобно... Заверяю вас, Радж даже голоса не подаст.
Мы вошли в притихшую комнату, отчего она показалась ещё более убогой и маленькой.
Дочь и сын сидели на полу, обняв собаку за шею. Радж лежал, положив лобастую голову на вытянутые вперед жилистые мощные лапы. Он покосился на нас рыжими виноватыми глазами и настороженно поднял уши.
– Лежать, Радж, – сказал я строго собаке и погладил его по лобастой голове. – Это – соседи, люди хорошие...
– Неужто понимает? – кивнул старик на собаку.
– Видите, как внимательно слушает? Переживает за свой поступок... – робко сказала жена. – Вы уж извините, Анастасия Михайловна, с ним такого не бывало...
– Бабушка сама пнула Альму, вот Радж и хватил, – тихо сказал сын.
– Не его же... Водют тут всяких кобелей... – не осталась в долгу соседка.
– Выведите его в сени, – сказал я детям. – Нам поговорить надо.
Радж поднялся и с опущенной головой первым направился в сени. За ним пошли ребята.
– Отец, глянь-ка, и вправду, кажись, понял! – изумилась Анастасия Михайловна.
– Вижу, – отозвался старик. – А справку, сосед, всё же покажь, может зятья и правы, – сказал Терентий Савельевич. – Они народ молодой, грамотный, их не проведёшь...
Моя жена достала коробку, где лежали все документы Раджа – родословная, справки о прививках, дипломы, жетоны...
Сосед внимательно прочитал справки о прививке от чумки, бешенства и спросил:
– Не подделка?
– Я ж не враг своей собаке...
– Оно, конечно, – с интересом читая родословную Раджа, буркнул старик. – Это что ж, такие знаменитые родители у него?
– У собак родословные точные... – и я рассказал о клубах собаководов, питомниках, где выводятся элитные породы, о преимуществах и достоинствах той или иной породы. Старик внимательно и с интересом слушал меня, его всегда озабоченное домашними заботами лицо подобрело, стало мягче.
– Скажи, сосед, только как на духу, неужто в этой бумажке точно указаны все родичи твоего пса? – с недоверием посмотрел старик на меня и кивнул в сторону сеней, где с Раджем тихо занимались дети.
– Истина, Терентий Савельевич... – подтвердил я.
Сосед вздохнул шумно, блуждая выцветшими от времени глазами, и попросил:
– А погладить его можно?
– Ты что, старый, рехнулся? – прервав беседу с моей женой, уставилась на мужа соседка. – Мало тебе, что меня хватанул?
– Это впервые с ним... Он всё понимает... – виновато заметила жена.
Я окликнул Раджа. Он вошёл с достоинством, оглядел соседей и лёг возле меня в положении "сфинкса". Дочь и сын стояли у порога и настороженно смотрели на нас, чем-то закончится для всех нас этот разговор…
– Раджик, сосед наш – человек хороший... Ты ему понравился. Он хочет погладить тебя. Ты же у нас умница... – и я почесал за клинастыми, горячими у основания ушами. И почувствовал, как Радж напрягся. – Терентий Савельевич, можете поласкать его...
Старик робковато протянул руку к Раджу. Я подсказал, чтобы он был смелее, не делал резких движений. Но как только чужая рука коснулась чёрной спины Раджа, у него под кожей пробежали мелкие волны, будто ему неожиданно стало холодно. Я успокоил собаку: потрепал по мощному загривку, сказал нежные слова. Сосед осмелел и провел ладонью по голове, по спине, легонько прихлопывал по крестцу.
Радж лежал чёрным изваянием и преданно смотрел на меня.
– Совсем псиной не воняет, – резюмировал старик. – Будто и не собака... Гладкий, чёрт...
Радж повернул голову на соседа, в рыжих глазах блеснули огненные бесенята.
– Сосед пошутил, – успокоил я Раджа и положил руку ему на голову. – Ты понравился ему...
– Неужто понял? – старик вперился в Раджа. – Надо же!
Пока мы мирно разговаривали с Терентием Савельевичем о собаке, его повадках, моя жена вела тихую беседу с пострадавшей об ущербе, нанесённом Раджем её гардеробу. И в то же время я слышал, как жена мягко и тактично защищала Раджа...
– Я, как и вы, Анастасия Михайловна, не люблю собак... Честно окажу, даже не хотела, чтобы в квартире жила собака, да ещё такая большая. Однако со временем привыкла – Радж покорил меня понятливостью, преданностью... Понятно, что мы возместим... юбку, бельё...
Соседка согласилась, что пёсик, видать, действительно умный, не то что та шавка, испугавшаяся её пинка... И, слава богу, что хоть тело он не прокусил, правда, штаны в четырёх местах порваны, юбка пострадала, хотя и сшита из солдатской плащ-палатки...
– Тряпками занимаешься, а тут вона какая родословная! – потряс паспортом старик. – Как фамилия твоего прадеда, помнишь? – вдруг спросил он жену.
– Откуда помнить? Я ж его в глаза не видела, – отмахнулась старуха.
– А вот он знает! Десять или сколько там колен знает! – и старик уважительно, как послушного сына, погладил Раджа по голове.
Уходя, сосед попросил на время паспорт и родословную Раджа.
– Детям покажу, соседям...
– Не надо, зачем, – отказал я и по лицу старика заметил, что мой отказ обидел его.
После ухода соседей у нас в комнате долго стояла гнетущая тишина. Дети молча листали книги, жена сидела, всё ещё находясь под впечатлением происшедшего, за столом, подперев подбородок, и смотрела в окошко, тревожась, как бы зятья соседей, ещё добавив горячительного (тем более, что повод был), не вернулись обратно.
– Что будем делать, если они придут?
– Теперь-то уж незачем. С Анастасией Михайловной уладили... Хорошо ещё, что не прокусил тело...
– Всё равно, наверно, очень больно... Синяк-то со сковородку.
Примерно через час я услышал, как на улице закричали пьяные зятья Анастасии Михайловны.
– Эй! Мужик, не боись! Выходи!
На миг я растерялся, но всё же направился к двери. Жена вцепилась в руку.
– Не ходи... Позови милицию...
Дети испуганно смотрели на нас, Радж нервно поскуливал, шерсть на загривке вздыбилась, в груди опять заклокотало...
– Не волнуйся, ничего не будет...
Выйдя на крыльцо, я увидел весёлые лица пьяных соседей.
– Что вам? – как мог строже спросил я.
– Слушай, покажь своего бесхвостого, – миролюбиво попросил задиристо-насмешливый Афоня. Его квадратное лицо сейчас излучало добродушие. – Мамка говорит, пёс у вас дворянских кровей. Неужто правда?
– А папаня сказал, что гладил его... Верно? – это подал голос шумливый Сабир. – А можно мне его погладить?
– Сейчас, соседи, нельзя. Собака возбуждена. Да и перегар водочный не любит. В другой раз...
– Трезвенник, выходит...
– Ещё какой! – с трудом сдержался я, чтоб не рассмеяться.
– Во даёт! Тогда покажь документы, что он из графов!
Я крикнул детям, чтоб они дали Раджу паспорт и родословную.
Радж в зубах принёс все бумаги, сел возле меня и как гипнотизёр упёрся глазами на молодых людей.
– Ну даёт! – восторгался Афоня. – Неужто у него, как и у меня, имеется паспорт?
– Имеется-имеется, – подтвердил я. – Вот, – и протянул соседям документы Раджа.
– Ребята, ну кабыздох даёт! – держа документы собаки, улыбнулся Афоня. Он рассматривал внимательно, заинтересованно. – Ведь и кумекает – бурчит. Папаня правду сказал.
– Жалко, у нас татар в избе собак не держат. Такого молодца я заимел бы... Хорош сукин сын...
Радж недовольно буркнул и двинул плечами. Зятья Терентия Савельевича долго и внимательно изучали паспорт и родословную Раджа. Их лица вытягивались от удивления и неприкрытого почтения к тому, что было написано в документах.
– А чего же справку о прививках не смотрите? – напомнил я.
– Дорогой, зачым?! Сразу видно – князь! – лихо махнул рукой кавказец.
– Сабир, ты прадеда своего знаешь? – ткнул кулаком в бок родича Афоня и громко расхохотался. – Надо же, семь колен! – Он счастливо тряс над головой документами Раджа: – Во!
– Сам-то кого помнишь? – ощетинился Сабир.
– Откуда! – безобидно отмахнулся Афоня.
– А чего ж тогда спрашиваешь?
– Вот что, мужики, бесхвостый, видно всё же не зря хватанул нашу тёщу, – подал голос кавказец. – Я её знаю больше вас... Так что, сосэд, не помни на нас зла. Она, понимаешь, вбежала и кричит: умыраю, собака укусыла... А мы закусывали, понимаешь, разговор душевный вели о том, о сём. Хошь, Сабира, Афона спроси. Жалко стало тёщу...
– Всё же она – маманя наших жён, – добавил Афоня. – Кричит, бесхвостый укусил! А пёс твой, сосед, – незаметно перешел Афоня на "ты", – нам сразу не понравился – шибко гладкий и гордо ведёт себя... А вот, сосед, деда своего я помню – Кристалов Иван Федорович! С войны пришел с орденом Красной звезды, медали, гвардеец... Ранен был несколько раз... Помер после бани. Пришёл, сказал, худо себя чувствует, лёг и не проснулся… Вырастут мои дети... Спросят о моём родословии. А я им тык-мык и всё. Как у одного поэта: "Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз..." Родословную свою знаем: маму и отца – и баста... А у твоей собаки, сосед, вон какая длинная родословная!
– А я вот не знаю даже отца и маму – в детдоме вырос, – грустно заметил Сабир.
– Я – из князей! – вскинул голову кавказец и с неприкрытым превосходством оглядел родственников.
– У вас на Кавказе через одного все князья, – поддел Афоня.
– Да, не вэришь? Дам телеграмму, пришлут все бумаги! Больше, чем у его, понимаешь, собаки!
– Меня тоже не в капусте нашли, – грустно заметил Афоня.
– Правылно! Ты тоже настоящий князь! Но без бумаги. А у мына – бумаги настоящие! С гэрбом! Печать сургучный!
Соседи ушли тихо-мирно... В их глазах я заметил необычную грусть.
Исчезла в них лихость, неудержимая шалость... Зятья Терентия Савельевича дружно пообещали, если по нечаянности возникнет какой-то конфликт с Раджем, они придут на помощь...
Я долго ещё стоял у калитки и думал о причудах жизни – почему у одних родословная большая, длинная, славная, а другие вообще не знают дальше матери и отца. Наверно, и благородство происходит отсюда. Радж тоже был тих и печален. Он тёрся то головой об меня, то заглядывал в глаза и время от времени поскуливал, вывалив красный язык, нервно дышал...
На другой день вечером к нашей "даче" подошёл Афоня с двумя незнакомыми парнями. Все были слегка на взводе.
– Эй, сосед, покажь вот этим обалдуям Раджа и документы его! Они не верят, что у него есть паспорт и родословная ого-го какая!
Я выполнил просьбу соседа, как-никак, а с соседями лучше жить в мире.
Парни тоже не без интереса посмотрели собачьи документы, поглазели на Раджа, порассуждали о совершенстве экстерьера и выдали свой вердикт:
– Хоть и бесхвостый, но пёс что надо!
– Чистый волк, только бесхвостый. Жаль! Родословная – будь здоров!
– Мужики, вот какой псина хватанул мою тёщу! Ха-ха-ха... – восторженно заключил Афоня . – Синяк во весь зад!
– Что ты говоришь?
– Точно! У хозяина хошь спросите.
– Ну и как она?
– Как? Сразу мы всем двором сюда... Хотели прибить. Вон хоть соседа спросите.
– Сейчас-то как она? – допытывался приятель Афони.
– Да всем рассказывает, какая родословная у бесхвостого... Гордится тёща, что такая собака умная её укусила...
Потом ещё долго, до самого отъезда, к нам приходили подвыпившие зятья Сидоркиных с приятелями, и всякий раз восторженно показывали на Раджа.
– Во какая собака укусила нашу тёщу! Ха-ха-ха... Молодец Радж! – и подробно перечисляли его родословную, дипломы, жетоны... В подтверждении своих слов выпрашивали документы Раджа, чтоб показать. Однажды пришла сама пострадавшая – Анастасия Михайловна и, окликнув меня, попросила, чтоб я вывел Раджа. Поодаль стояла, опершись на палочку, согбенная седенькая старушка. Я подумал, что же могло случиться? Может дочь, гуляя с Раджем, не справилась с ним...
– Анастасия Михайловна, опять какие-то проблемы возникли? – спросил я
– Да что вы, сосед, всё хорошо... Да вот моя подруга решила взглянуть на вашего умного Раджика... Матрёна Карповна, не боись, он хоть и с телёнка, однако добрый и жуть какой сообразительный! Что твой человек. Башковитый, что твой зять. В пашпорте, я тебе скажу, милая, как на духу, евонная родословная до десятого колену записана... Графья, бароны... Я ж говорила тебе про беду свою... Так вот, энто он укусил меня! – лицо старушки просветлело, дальнозоркие глаза озарились счастьем.
– Ой! Страсть-то какая! И как ты жива осталась? – хлопнула себя рукой по бедру Матрёна Карповна.
– Говорю ж – он у-у-умный! – прочувственно ответила Анастасия Михайловна.
* * *
Когда мы уезжали, наша хозяйка доброжелательно сказала на прощание:
– Приезжайте на следующий год... Я никому не сдам дачу.
– С чего бы это? – не удержался я. – Дети, да и Радж, вон какой шум устроили…
– Наоборот, вся деревня только о вашей собачке и говорит... Я из-за неё и с соседями помирилась... Правда, приезжайте...
И мы, действительно, приехали на следующее лето.
(обратно)Виктор Широков С ЧИСТОГО ЛИСТА
***
Не зная укоризны
и пьяненький с утра,
живу весёлой жизнью
простого маляра.
То потолки грунтую,
то затеваю клей,
зато судьбу чужую
не предпочту своей.
Работаю проворно,
гоняет сердце кровь.
Искусство рукотворно, –
я утверждаю вновь.
Поэтому не сиры,
чисты, в конце концов,
стоят мои квартиры
и ждут своих жильцов.
И снова, спозаранку
взглянувши на восток,
легко берусь за дранку
и верный мастерок.
***
Я еду в утреннем метро,
открытый большинству ветров,
от водки выпитой багров,
опять рифмуя вкривь и вкось,
чтоб предстоящее сбылось.
Ждёт – не дождётся ЦДЛ,
признайся, – не поднаторел
ты в подковёрной суете,
в душе по-прежнему пострел,
и "Дездичадо" на щите.
Игрун, бездельник, шалопай,
профукавший душевный пай,
ты всё равно – дитя утрат;
рукой подать последний край,
ночной изысканный парад.
Лети, душа моя, лети,
по безысходному пути,
назад дороги нет,
весёлым звонким конфетти –
и лишь обёртки вслед.
ПАУТИНА ДЖЕКСОНА ПОЛЛОКА
Искусства приблизительность проста…
Как просто
всех выравнивать по росту!
Сухая патина кленового листа,
разлуки еле слышимая поступь…
В мозгу сидел чудовищный паук,
он ткал неудержимо паутину…
Художнику порою мало рук –
возьми да вылей краски на холстину!
Останется сплетенье глаз и жил,
останется всей жизни стенограмма;
а то, с кем пил, с кем враждовал, дружил –
случайный повод для самообмана.
Вся жизнь прошла, увы, меж "Да" и "Нет",
продажные легко скрипели перья…
Добавьте к прежним бедам Интернет,
"всемирной паутины" лицемерье.
А после смерти снимется кино,
сыграть легко бродягу-одиночку…
Мозг высох, в гулком черепе темно…
Самоубийство только ставит точку.
***
Ты молчалива и бледна.
Запястья хрупки.
Мишень отчётливо видна
на правой грудке.
В "десятку" выпячен сосок.
Невыносимо
смотреть туда и – на висок.
В руках – Мисима.
Как совместились вдруг легко
эпохи, страны!
Все параллели – под рукой,
меридианы…
Но это – видимость, а глубь
не столь подвластна.
Кто захватить сумеет губ
и глаз пространство,
и угадать души настрой
и сердца фетиш?!
…Под Тулу к бабушке больной
с лекарством едешь.
И я со всей своей гоньбой
едва ли нужен;
ведь не японец, не герой;
не быть мне мужем…
Что ж, выйду из метро. В лицо
ударит замять.
Гудит Садовое кольцо.
Сигналит память.
***
Автобус тронет, сдвинется
и побежит вперед…
Гостиница, гостиница,
гостиница "Восход".
Какие здесь гостинцы!
Какие номера!
Принцессы здесь и принцы
гуляют до утра.
Я – тоже гость заезжий,
вполне случайный гость.
Но пылко и мятежно
был вбит, как в стену гвоздь.
И ночь как содержанка
была лицом бела,
когда петербуржанка
вдруг в номер зазвала.
Она стихи читала,
вертелась колесом,
а мне и горя мало,
плыл в танце, невесом.
О чем-то лунном грезил,
белеющий овал
взамен любых поэзий
влюблённо целовал.
Но пьяная истома
подсказывала вдруг,
что оба мы – не дома,
далече милый друг.
Утешусь лунной долькой,
взглянув на миг в окно;
ведь остаётся только
грустить и пить вино.
***
В музее Васильева тихо,
лишь лампа у входа горит.
Зевая, бредёт сторожиха,
смущаясь за заспанный вид.
Ей нужно захлопнуть калитку,
рабочий закончился день;
лишь мне с виноватой улыбкой
слоняться по парку не лень.
Поодаль то львы, то грифоны
гранитно покой берегут…
Напрасно звенят телефоны,
взрывая музейный уют…
Картины закованы в рамы,
и двери уже на замке.
Последний обзор панорамы
в одной уместился строке:
в музее Васильева тихо…
***
Автограф нам являет благо
и то, где автор насолил:
Бетховен рвал пером бумагу,
Бах Божье слово обводил…
Струились красные чернила,
как будто явленная кровь;
и вообще всё очень мило –
судьба, чудачество, любовь.
***
Переживаю своих врагов,
и – удивитесь – переживаю…
Казалось, – радуйся: ещё один готов,
а ты не выдохнешь: весть – рана ножевая!
Что ж, ненависть похожа на любовь,
враги в тебе искалисовершенство,
утяжеляя жизнь и портя кровь,
по-своему дарили и блаженство.
Когда уйдут совсем, замучит пустота…
Возникнет мысль, мол, экая досада!
И красота уже не красота, –
штуковина, манящая де Сада.
***
Год начинаю с чистого листа,
сжёг прежние свои календари.
Душа моя, как свежий снег чиста,
не мусори, мой друг, и не сори.
Иди вперёд, с рассвета до темна,
не повторяя прежней колеи;
и если даже встретится стена,
пройди насквозь, внедрив следы свои.
(обратно)Георгий Судовцев ВЕРЕТЕНО ВРЕМЕНИ
***
На полустанке
Когда-нибудь поезд её увезёт
туда, где дружны
Лобачевский с Эвклидом…
Но вишни цветут, и дымит креозот,
и рядом подружки, Наташа и Лида.
Их пристальный мир из ракушек и мальв,
в которых до срока таятся принцессы, –
мир маленьких тайн, не имеющих веса
наутро – не знает ещё про печаль…
И грохот составов, и пение птичье,
и кашель машин через их переезд,
где скорый под вечервстречают привычно,
и машут, и машут ладошками вслед…
***
А всё это было – имя!
Светлые, в пояс, косы,
да глаза – больше нету в мире –
весёлых, зелёных, раскосых.
И звали её – Светлана...
Она понимала шутки,
плавала с аквалангом,
прыгала с парашютом,
без промаха в тире стреляла,
знала приёмы самбо,
танцы – от вальса до самбы,
так, что казалось – мало
места ей на планете…
После, уже в перестройку,
эта шальная ракета
рухнула где-то в Нью-Йорке,
угробив с полсотни янки –
только не так и не тех…
Что вам еще о Светланке,
школьной моей мечте?
Открытие Хлебникова
И – всё изменилось. Корова
полем свой короб влекла,
исполненный млека
и всякого влажного блага,
лопнуть готовый,
чтоб солнцем излиться на травы –
отверстые ветру и света врата,
творенья цветов и корней,
буравящих норки
и верноподобных зверью полевому,
чьи тропы – плетенье племён
и азы языка,
где имя имати и слова веслом
пенить бытийные воды,
вскачь запуская
времени веретено…
***
Спелое солнце
висело на ветке.
Пели оконца
весёлую "летку".
Гегеля томик,
Гёте и Манна.
Не было в доме
боли обмана.
И на картине
кисти Ван Гога
шли вы, как тени,
к истине Бога.
***
У страны моей – не судьба.
У страны моей – благодать.
Только нефть залила хлеба.
Только газ не даёт дышать.
Не паши, не сей и не жни,
не люби, не рожай, не строй!
Голубые гудят огни
по развалинам русской Трои.
Что же Господа я прошу,
если прежде даны в ответ
и рубцовской берёзы шум,
и рублёвской Троицы свет?
***
С ветерком в "мерседесе"
по Рублево-Успенке
под Высоцкого песни
и Жванецкого пенки.
От Чукотки до Бреста –
обручей не разжать –
бродит русское тесто
на еврейских дрожжах.
Не мукой – мукой с кровью
захлебнёт через край
небо мира иного…
Здесь мы – хлеб.
Там мы – рай.
***
Не говори: "Мы канем
в небытие без боли".
Был я лежачим камнем,
был я и ветром в поле.
Слово мое у Бога
шло сквозь огонь и воду,
не разбирая дороги,
не вызнавая броду,
чтоб по следам слагалась
жизни простая повесть:
вся, до конца от начала, –
с верой,
надеждой,
любовью…
(обратно)Александр Костюнин КОЛЕМЖА
Посвящается сыну Леониду
Белое море.
Уже от самого названия веет чем-то далёким, суровым. Произнесу эти слова торжественно – и будто холодная сыпь солёной морской волны обдаст с головой.
Туда, на северные острова, поехал я в начале ноября со своим приятелем Сергеем Буровым на лосиную охоту.
В Беломорье все мужики морехоцци. Вот к одному из них, Савве Никитичу Некрасову, в Колежму, мы и отправились.
Сергей в двух словах объяснил:
– Савка – мой очень хороший давний друг. Истый помор. Моряк. Горлопан. Они все горлопаны из-за этого моря – его ведь перекричать надо. К Савве приезжаешь, чувствуешь, он тебе рад. В душе у человека никаких тёмных закутков. Да там по-другому и нельзя. Сама природа к этому обязывает.
Колежма – старинный посёлок на берегу Онежской губы Белого моря. Ещё при Иване Грозном перешли колежемские земли вместе с рыбными ловицами и соляными варницами в собственность Соловецкого монастыря.
Приехали мы под утро. Был отлив. Вода ушла, обнажив размашистые отмели и бугристые острова из жёлтого песка. Мотобот у причала оказался на суше. Лежат на боку лодки, стоявшие в прилив на якорях, – вода суха – куйпога.
Я поднялся на гледень.
Внизу рубленые дома, баенки, ломаные линии изгородей из кольев, деревянные гати-мостовые, а дальше к горизонту – пустынная гряда холмов и почти плоская тундровая равнина. И запах здесь держится иной – пахнет карбасами, просмоленными их бортами. Стоит дух влажного песка, мха, сетей и рыбы.
Действительно есть какая-то сила в этих домах, в этой природе, которая делает Север ни на что не похожим…
Савву Никитича я представлял себе как раз таким: лет сорока, чуть выше среднего роста, крепкий, соломенные волосы, пшеничные усы, открытая улыбка.
Увидев Сергея, он шагнул навстречу, широко развёл огромные ручищи и крепко обнял.
– О, Чернобровый приехал!
На следующий день, когда мы остались с Буровым вдвоём, я не утерпел:
– Сергей, а почему он тебя чернобровым назвал?
– У меня отец Чернобровый был, и от отца это прозвище перешло ко мне. Здесь никого по имени не зовут. У самого Савки прозвище Капитан.
Отчаливать мы решили в момент, когда силы прилива и отлива уравновешиваются – матёра вода стоит. В это время Луна, ровно сказочный гигант, после выдоха ненадолго замирает перед тем, как вновь глубоко вдохнуть морем.
Но до этого у Савки было ёще одно важное дело. Василий Шумов, сосед, попросил у него накануне мотоцикл. Он – в ответ: "Я тебе дам, но токо верни не по частям". – "Савв, в восемь часов – пригоню под окно".
Но ни в восемь утра, ни в восемь вечера мотоцикл не появился.
– Порато хоцю Ваську увидеть, на беду об ём скуцяю, – мечтательно произнёс Савва.
Ну, у поморов и речь… Для постороннего уха не сразу понятная: "Говоря одна, да разны поговорушки".
Дома Васи не было. Савва Никитич пошёл искать. Я увязался за компанию.
Одно беспокоило: как я с ним буду общаться? Он же толкует не по-русски.
Центральная поселковая улица круто сворачивала. Мы вышли из-за поворота. Впереди прямой участок дороги. Идут люди. Кто в магазин, кто куда. Женщины, детишки. День в разгаре.
Савва увлечённо рассказывает мне что-то. И вдруг – раз! Тишина. Замолчал. Остановился как вкопанный. Чего это он? Весь напружинился, глаза устремились в одну точку, не моргает. Губами шевелит, но не молится. Проследил за его взглядом: на мостике – метров триста от нас – какой-то мужик. Может, Васька?
Савва набрал полные лёгкие воздуха и силой выплеснул:
– ...ыблядок!
А я-то боялся, что он русского не знает.
– Утоплю, с-суку!!!
Маты осколочными минами летели через весь посёлок по навесной траектории и кучно ложились рядом с Васькой. Смотрю, тот заметался на мостике. Неотвратимо, как судный час, Савва приблизился к нему.
– По кальи-то те вот жарну щас!
Перед носом у Васьки – сурдопереводом – образовался бесформенный кулак размером с детский футбольный мяч. Мужичонка в ответ лишь шумно сопел и чесал лысину. Голова и плечи его непроизвольно подёргивались, не давая возможности и нам толком сосредоточиться. В том месте, куда он поглядывал, из-под воды торчал никелированный руль мотоцикла.
Наконец, заикаясь, Васька попытался выстроить речь в свою защиту.
– Ввввы-в…
Лицо от натуги сделалось пунцовым. Я стал ему помогать, подсказывая слова. Он, вконец разволновавшись, обречённо махнул рукой и замолчал.
Тик заметно усилился.
– Поди-ко скоре проць, а то застёгану.
Поостыв, Савка развернулся и побрёл к дому. Проходя берегом, он залюбовался сверкающей на солнце водной гладью:
– Море-то как лёшшицце.
Нам пора было собираться и выходить. Савва Никитич оделся по уму: оплецуха – поморская шапка-ушанка с длинными до плеч ушами; лузан, надеваемый через голову, с большими карманами на животе и спине; буксы – непромокаемые, пропитанные жиром рыбацкие штаны.
Наши с Сергеем ватники больше смахивали на сухопутную амуницию.
Карбас, на котором мы собирались идти в море, Савва перегнал к бранице – расчищенному месту на лодочной пристани, куда стаскивают груз.
Поклажи набралось прилично, но и лодка большая, надёжная, с дизельным стационарным двигателем-двадцаткой.
– Мало, кто сейчас умеет ладить такие. А Савва в этом деле жёх – опытный, знающий своё дело мастер. В старину поморы на таких судах за два-три месяца плавания доходили до Новой Земли: "Лодка не канет, не лягуцця, да не опружлива – дак и дородно быват". Во как!
Пока Сергей вычерпывал плицей воду из карбаса, я сел за вёсла. Савка готовил к запуску дизель и капитанствовал:
– Грени-ко ишша маленько.
Я сделал ёще ряд энергичных гребков и вывел лодку с мели. Мотор заработал и, монотонно бурча, стал уводить нас в открытое море. Сергей долгим взглядом проводил пристань:
– "Агой!" – прощай! – говорили в старину моряки земле.
Савва трижды перекрестился.
– Никитич, – усмехнулся я, – небось, и без крестного знамения обойдёмся.
– Кто в море не хаживал – Богу не маливался, – произнёс он и надолго замолчал.
Курс взяли на север: где-то там пролив Горло соединяет Белое море с Баренцевым. Затем повернули к востоку. Мы угадали в погодье: нежно светило солнце, щёки пощипывал лёгкий сланец, вода была кротка?..
Часа четыре шли на полном ходу. Вдоль Поморского берега, как Млечный Путь, вытянулись острова.
– Остановимся на Мягострове. Он, пожалуй, самый крупный в Онежских шхерах: двенадцать километров из края в край. Вон тот – впереди по курсу.
– А откуда такое название? – поинтересовался я у Сергея.
– Одни считают, от карельского мяги пошло. Гора, значит. Но я так не думаю. Очень тяжёлый остров: болотья – скалы, болотья – скалы. Три дня ходьбы по нашей тайге легче, чем полдня тут. Нет ни дорожек, ни тропинок. Звериные только тропы да багульник по колено. Грузно бродить. Через каждые сто метров нужно останавливаться и отдыхать. А есть места такие топкие… Я один раз решил сократить путь и выйти к взморью напрямик, побыстрее. Думаю, раз зверь ходит, и я пройду. От берёзы к берёзе прыгал, пока они вместе со мной в жижу не начали уходить. Одним словом Мягостров – мягкий.
Пролив Железные ворота, отделяющий Мягостров от материка, мелководен. Опасно держать напрямую. Поэтому заходили к острову с восточного берега. Он более приглуб, чем остальные.
Савка указал место высадки.
Издали я увидел избушку и рядом высокий крест. Сергей пояснил:
– Крест – на добычу, чтобы рыба лучше ловилась.
Сначала с кормы, потом с носа мы зачалили лодку двумя якорями. Раскатали голенища болотных сапог. Сошли в воду. Савва первым делом подошёл к обветренному сосновому кресту и трижды перекрестился с поклоном.
– Думаешь, поможет? – осклабился я.
– Зря ты так, – упрекнул меня Сергей, – тоня – место святое. Приходить сюда надо с чистой душой. В сенях гости по традиции говорят: "Господи, благослови!" Хозяин отвечает: "Аминь!" И только потом входят в избу. А не с шуточками…
Савка отмолчался. Он, словно здороваясь, любовно погладил ладонью шершавую, поверхность креста.
Перетаскали вещи в избушку – тёмную, приземистую. Заходишь – низко кланяешься. У порога печка-буржуйка. Рядом истопель – запас сухих дров. У махонького оконца стол. Раскидистые щедрые полати.
Пока обживались, стемнело.
…Неделю охотимся. Каждый день зверя видим – взять не можем. Савва предложил:
– Попробуем на Маникострове. Там, если лось зашедший, его легче брать. Утром мы переехали. Остров маленький: можно организовать загон. При этом я остался на номере, а Сергей с Саввой отправились кромкой берега в обход и оттуда, с подветренной стороны, решили шумнуть. Если зверь в окладе, непременно вывалит на меня.
Я едва перевалил взгорок: открытое болото с редкими сосёнками, а краем – невысокий, в мой рост, чапыжник. Место хорошее. Лоси, как стронешь их с лёжки, любят закрайком леса уходить.
Слышу выстрел погонщиков. Начали ход. Я снял карабин с предохранителя. Жду. Стою не шевелюсь. Не курю. Дышу через раз.
Морозец подсушил почву и кустарник. На болоте ледяная корка. Жёсткая погода: за версту шорох слышно. Ветер слегка подтягивает от меня. Потрескивание веток! Может, показалось? Нет, ещё раз треснуло. Над молодым подлеском плывут рога. Бычара! Самого не вижу пока. Остановился, крутит головой: прислушивается, принюхивается, осторожничает. Опять тронулся. Прямо сюда… Волнительная дрожь по телу.
Плавно поднимаю карабин. Вглядываюсь в оптику. Вот это рога… Борода. Ноздри раздуваются. Вышел на чистинку. Великан! В пол-оборота повернулся ко мне. Нащупываю перекрестием прицела точку под левой лопаткой. Без рывков, плавно, спускаю курок. Выстрел!
Бык в агонии прыгнул, не разбирая пути. Рывок. Ещё один. Ноги непослушно подкосились, и он рухнул глыбой на землю. Захрипел.
Я с гордостью, всей грудью, выдохнул:
– Е-е-есть!
Ловко мы его.
Закинув карабин за плечо, пошёл к зверю. Лежит неподвижно, но, кто его знает… Лучше подходить со спины, а то, уже умирая, может копытищем гальнуть: как картонную коробку, насквозь пробьёт.
Кровь нужно пустить, пока не остыла. Уверено перерезаю горло. (Нож остро наточен: лезвие ещё в Колежме, перед самым выходом, правил.) Бордовый фонтан из шеи сначала хлынул, затем сник. Кровь, крупными каплями зрелой брусники окропляя седую бороду, уносила остатки жизни лесного великана. Величавые размашистые рога, которыми короновали хозяина острова, теперь касались белого багульника. Гармония, веками создаваемая, была нарушена одним выстрелом.
Странно, привычного чувства азарта и радости я не испытывал.
Наступила тишина. Ветер стих. Мне на миг показалось, что вся природа замерла. Сверху раздался скрипучий, хриплый крик. Задрал голову: надо мной чёрной тенью пролетал ворон.
Подтянулись мужики. Сергей крепко пожал мне руку:
– Могучий зверь. Молодец!
Савва Никитич угрюмо молчал.
– Ты чего, – спросил я, заметив, как он переменился в лице.
– Это не просто лось. Не надо было его стрелять. Плохой знак. Зря я вас сюда привёл…
В гнетущем безмолвии освежевали шкуру, разделали мясо. Голову с огромными, тяжёлыми рогами в двенадцать отростков я взял себе трофеем.
Выходим к берегу, выносим тушу и вещи, смотрим: карбас-то нам не достать. Качается на волнах: до него метров тридцать. Вода поднялась. Высоты сапог не хватает.
Савва растерянно произнёс:
– Чертовщина какая-то! Не могла вода за два часа так подняться.
Нужно раздеваться и – вброд. Но ветер… Северный ветер, осень. Хотя мне и раньше, как раз в эту пору, доводилось подбирать кряковых вплавь. Дело привычное. Я бодро заверил мужиков:
– Сейчас достану.
Сергей категорично:
– Не дури! Это море. Руку в воду опустишь – жжёт во всю силу, а ты вброд… Морская вода – рассол. Уже давно минус, а она всё не замерзает. Пресные заводи, волохницы, давно во льду, а тут волны плещутся. Мы-то с Савкой мёрзлым морем учёные. Давай останемся до утра. Заночуем. Изба есть и на этом острове. Мяса вдоволь. Чай с собой. Чего ещё надо? Хлеба только нет и соли.
Я разгорячённо перетаптываюсь на месте, слушаю, а сам на лодку поглядываю, примеряюсь. Бравый, после удачного выстрела.
– Не, ночевать будем на старом месте. Выпьем, добычу отметим.
Савва, в отчаянии:
– Саня, не баракай! – И обращаясь к Сергею: – Он не бардат ницёво. Муниди отморозит себе, и всё.
Показно снимаю шапку, куртку, рубаху. Разуваюсь. Одежду аккуратно вешаю на борт выброшенного штормом разбитого баркаса.
Савка вслед:
– Ты хоть одёжу возьми, над головой неси. Заскочишь в лодку – оболокайся живей!
Я хотел посмеяться, но отчего-то не стал. "Ладно, – думаю, – возьму. Не велик груз". Самому в душе озорно. Вот тебе и поморы: моря боятся.
Ветер крепчает, пронизывает. Кожа превращается в мелкую кухонную тёрку. Не мешкая, подхожу к воде. Делаю шаг.
– Ё-ёё-о! В-в-вот этта д-аа…
Зря полез. Если бы не мужики, вернулся бы. Но я чувствую на себе пытливые взгляды, которые вилами упираются мне в спину. Нащупывая опору, по склизкому от водорослей и тины каменистому дну, я едва-едва, продвигаюсь к лодке. Ноги жжёт, как серной кислотой. Мёрзлый рассол, поднимаясь выше и выше, острой бритвой полосует кожу. Вот, чёрт, дёрнул!
Пробую ступать быстрее.
Не м-мм-мог-г-гу… Зубы лихорадочно отстукивают дробь, своим клацаньем перебивая шумное прерывистое дыхание. Студёная вода подступает к груди.
– Не могли лодку нормально поставить! Мореходы долбанные…
Я, словно в бреду, дотягиваюсь до просмоленного борта. Запрыгиваю. Мокрое тело на морозном ветру, кажется, вспыхнет сейчас. Одежда ремнём перетянута. Непослушными пальцами пытаюсь ослабить узел. Не хватает силы хлястик дд-дёрнуть… Наконец-то!
Успеваю заметить, что мой "меньшой брат" спрятался с головой, как черепаха в панцирь. Скорей одеваться! Сперва – брюки. Учили нас так: "Сам погибай, а товарища выручай!" На сырые ноги натягиваю ватные штаны – не лезут. Липнут к ногам. Наконец нацепил и – хлоп! – падаю на дно карбаса, от ветра кроюсь. Лёжа одеваю рубаху. Затем куртку. Куртка и штаны – моё спасание!
С благодарностью вспоминаю Савву… но, будто опасаясь быть уличённым в доброте, отгоняю эту думку прочь.
Обезумев от холода, стараюсь не унять дрожь, а наоборот, усилить её, согреваясь при этом. Пробую себя ущипнуть: тело не чувствует новой боли. Оно онемело от боли, той. Крепко стискиваю зубы и глухо рычу. Понимая моё состояние, меня не понукают. Не задают вопросов. Не острят.
Встаю. Выбираю якоря. Несколько сильных гребков – и упираюсь в берег. Смотрю, мужики запаливают костёр. Не глядя им в глаза, прошу подать портянки и сапоги. Озябшими руками обматываю ступни "ноговицой" и обуваюсь.
Ветхий, отслуживший свой век баркас, уже пылает.
Савка зовёт:
– Иди ближе к огню-то. Грейся.
Я молча подхожу к костру с подветренной стороны. Языки пламени и дым ударяются в меня. Искры пригоршнями звёзд летят на ватные брюки и фуфайку. Коленям становится горячо. Отступаю на шаг. И здесь жар обнял. Отодвигаюсь ещё дальше. Присаживаюсь на корточки. Замёрзшие пряди волос на голове оттаивают. Дым щиплет глаза. Я довольно жмурюсь.
Вдоль горизонта растянулась длинная полоса зари, предвещая перемену погоды.
Савка залил огнище. Обугленные чёрные рёбра бота ворчливо зашипели.
Когда причалили к Мягострову, солнце спряталось глубоко за горизонт.
– Темёнь-то кака!
На ощупь добрались до избушки. Зажгли керосиновую лампу.
– Поперьво скинывай скоре мокру рубаху.
Я переоделся. Шерстяной, ручной вязки, тёплый свитер с глухим воротом приятно покалывал.
Достали самогон. Разлили по кружкам. Нарезали ломтиками сало. Выпили. Кровь пошла по кругу, согревая.
Заранее припасённая лучина и "берёсто" быстро занялись. Спустя минуту поленья облизывал алыми языками огонь. Дрова заплели. В трубе довольно загудело.
Сергей стал готовить на ужин сырую вырезку. Я никогда не ел прежде сырого мяса и оттого лишь с подозрением наблюдал. Он, между тем, нарезал лосятину мелкими кусками. Сложил в миску. Сжав в кулаке, выдавил до капли лимон. Нашинковал крупную луковицу. Щедро посыпал душистым чёрным перцем и каменной, грубого помола, солью.
– Ты ужа излиху-то не сыпь, – предупредил Савка.
Не отвлекаясь, Сергей принялся разминать пальцами густо-красные кубики лосятины, жамкать, тормошить их. Мясо приобрело бурый оттенок. Яство выдержали на холоде. Дали дойти соком.
Самогон потихоньку делал своё дело, и я уже с интересом поглядывал на эту сыромятину. В желудке требовательно посасывало.
Сели вечерять.
Старинная охотничья изба. Снаружи – шум ветра, приглушённый плеск волн, стынь, а внутри – тепло…
О чём-то потрескивают поленья в печи. Флегматичным лепестком повис огонёк на фитиле. По кружкам разлита оловина. Сырое звериное мясо на закуску. Неспешные разговоры. Палёшка, запечённая в золе. Горячий сладкий чай.
Всё это – награда за тяжёлый день.
– Ну, расскажи, как ты тогда? – поинтересовался Сергей.
– Чуть не умер…
– Ещё бы! Не зря на поморской иконе "Страшный суд" ад изображён Студёным морем.
– Ты есюды спать повались, ближе к печи.
Ночью меня стало лихорадить. Я натянул всю свободную одежду и укрылся с головой. Нагрелся. Вспотел. Поднялась температура. Сильный жар смешал сон и явь.
Кровь.
Лезвие ножа.
Хриплый крик ворона, призывающего: "Ка-ара! Ка-ара! Ка-ара!"
Яркий свет.
Копыто лося, пробивающее мне грудь.
И острая боль…
Я открыл глаза. Пот крупными каплями стекал по лицу. Горячка усилилась.
За окном серело. А полагал, не дождусь утра…
Савка вышел на улицу "выветрицце" и, справив нужду, вернулся.
– Ветру выпало много. Нельзя идти. Ждать надо. Вона-ка боры каки на мори.
Три дня бушует Белое море. Никак погода не может угомониться. Валы морского прибоя, напоминающие непрерывно закручивающуюся спираль, набегают один за другим. Страшный шторм упал. Три дня каждое утро я слышу его рёв, смотрю в окно и вижу всё одно и то же: свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта, пустынный берег. В небе висит бусовая серая мгла с мелким затяжным дождём.
Мне становилось всё хуже. Надо возвращаться домой. Хоть как…
Шторм, вроде, стал утихать. Мы уложили ружья, вещи и рубленую тушу в лодку. Поверх всего – лосиную голову с рогами. Можно отправляться. Быстро отчалили, а ветер поднялся с новой силой.
Карбас ставит дыбом, чуть ли не на корму. Нас маслает вовсю. Десяти минут не прошло, а вся одежда моя уже сырая насквозь. Забившись в нос, я уцепился двумя руками, чтобы только не выпасть за борт.
И тут я почувствовал на себе чей-то пронзительный взор.
Лосиная голова…
Жёсткий, мстительный взгляд.
Когда проходили узким местом, нас сильно кинуло на камень. Борт подломился.
Всё-таки лягнул!
Сергей и до этого не успевал вычерпывать воду, а теперь дела и вовсе пошли плохо.
– Втора, – сумрачно произнёс Савка.
– Беда…
Волны, точно отцепившись, лютовали.
Я с тихим ужасом наблюдал, как поднимается по сапогам студёный рассол и, словно язычник, заклинал Белое Море спасти нас…
И тут, в радуге брызг, я увидел Савву. Он стоит за штурвалом, всматриваясь в солёную промозглую морось.
Сильный. Надёжный. Невозмутимый.
Высокая волна, ударившись с ходу в дюжую грудь, как в гранитный утёс, осыпается пыльём.
Нет в его глазах страха.
Он уважает Море, но оно cамо на посылках. Не Морю решать: жизнь или студёный ад.
Судьбу определят Высшая Сила.
И сейчас общая мера содеянного добра и зла – на весах.
(обратно)Дмитрий Колесников И НЕПОДЪЁМНОЕ ПОДЪЁМНО...
Александр Сегень. Роман "Поп", ж."Наш современник", 2006, № 6-7.
Александр Сегень. Поп. Роман, изд-во Сретенского монастыря; М., 2007.
В мартовском номере журнала "Наш современник" за 2006 год на обложке появилась надпись: "Читайте в ближайших номерах журнала новый роман Александра Сегеня "Поп", в котором впервые в русской литературе писатель обращается к теме служения православных священников-патриотов на оккупированной фашистами территории".
Роман вышел в летних номерах и, увы, остался незамеченным критикой. Я говорю "увы", поскольку, во-первых, фигура Александра Сегеня, блестящего прозаика, автора таких замечательных исторических романов, как "Державный", "Евпраксия", "Александр Невский. Солнце Земли Русской", уже сама по себе требует пристального внимания. А во-вторых, вспоминаются слова обозревателя "Литературной газеты" Сергея Казначеева, который отмечал, что для своего нового произведения прозаик-романист "избрал сложнейшую, неподъёмную тему" ("ЛГ", 2006, № 28). И оказалось, что эта неподъёмная тема Александру Юрьевичу Сегеню очень даже подъёмна.
В эпиграфе романа "Поп" сказано, что он "посвящается светлой памяти самоотверженных русских пастырей Псковской Православной миссии в годы Великой Отечественной войны". Деятельность этой миссии, разработанной германским имперским министром восточных областей Розенбергом и одобренной самим Гитлером, и находится в центре повествования.
То есть, по планам Гитлера, на оккупированной фашистскими войсками Псковщине восстанавливалась церковная жизнь, полностью разрушенная большевиками, и русские священники, участвовавшие в её восстановлении, должны были в благодарность проводить профашистскую агитацию среди местного населения. Однако этим весьма наивным планам, также как и плану "блицкрига", суждено было с треском провалиться, ибо, как верно пишет Светлана Ляшева, "церковь заняла патриотическую и освободительную позицию" ("Литературная Россия", 2006, № 31). Эта позиция мощным лейтмотивом звучит на протяжении всей книги Александра Сегеня. Она ярко выражена и в отказе служителей Псковской Православной миссии подчиниться абсурдному требованию немцев перейти с юлианского календаря в богослужении на "ошибочный" григорианский, и в спасении ими партизан под куполами храмов, и в активной помощи, оказываемой "пастырями овец православных" несчастным узникам концлагерей, и в категорическом несогласии первоиерархов захваченных гитлеровцами земель отречься от Московского патриарха, якобы "сталинского", по утверждению Гитлера, и во многих других эпизодах.
Что касается ключевых слов данного произведения, то я не могу согласиться с Василием Яранцевым, который полагает, что ими является фраза, произнесённая митрополитом Киевским Николаем Ярушевичем на встрече высших иерархов православной церкви со Сталиным: "По-гречески "поп" означает то же, что по-нашему "батюшка", в слове том нет "оскорбления"" ("ЛГ", 2006, № 45).
Мне кажется, самые сильные слова, наилучшим образом отражающие смысл романа "Поп", принадлежат непосредственно Сталину: "Русская Православная Церковь прекрасно проявила себя в годы войны. Оказалась на передовой борьбы с фашизмом. И не только на нашей территории, но и даже на оккупированных".
Роман Александра Сегеня охватывает крайне сложный период нашей истории, открывающийся 1941 годом – годом создания Псковской Православной миссии – и завершающийся 1944 годом, когда в феврале советские войска освобождают Псковщину от оккупантов. Главным героем произведения является шестидесятилетний священник отец Александр Ионин, очень добрый и милый человек с многотрудной судьбой. Будучи одним из подвижников Псковской миссии, он ни разу не пошёл против своей совести, ничем не потрафил фашистам. Напротив, он вдохновляет жителей села Закаты, в котором ему выпала доля служить, и окрестных мест на сбор продовольствия и одежды заключённым концлагеря в местечке Сырая низина, пригревает многих детей-сирот, чьи родители трагически погибли в годы свирепой войны, смело проклинает убитых предателей-полицаев вместо того, чтобы устроить им отпевание, прячет тайком от немцев под главным куполом храма Александра Невского бесстрашного партизана Лёшку Луготинцева и узника Сырой низины по прозвищу Иван Три Ивана, отважно пытается остановить публичную казнь партизан фашистами на площади и даже гневно провозглашает на проповедях анафему пришедшим бесчеловечным поработителям, утверждая, что Гитлеру давно уже уготовано место в аду.
Вспоминая всё это, только диву даёшься, как это немцы не ликвидировали не в меру храброго батюшку? Могли ведь запросто "щёлкнуть", и всё. А они не только пальцем не тронули отца Александра, но и обходились с ним всегда вежливо, почтительно. Уважали, что ли, за такую неистовую смелость? Но о каком, простите, уважении может идти речь, если они, фашисты, людей заживо в камерах сжигали, если даже над детьми устраивали зверские, чудовищные по своей жестокости пытки? Сам автор, однако, не даёт вразумительного объяснения, как Александр Ионин умудрился остаться "белой вороной". Должно быть, не считает нужным.
Тем не менее, нельзя сказать, что судьба была слишком уж благосклонна к русскому священнику. В переломный год войны уходит из жизни его любимая жена; потом фашисты вместе со снайпершами эстонками хладнокровно уничтожают всех узников Сырой низины, которых отец Александр по праву считал своими детьми – ведь он лично крестил многих из них; затем сгорает заживо в своём доме семья Торопцевых, глава которой – Николай Николаевич – служил пономарём в храме Александра Невского и с которым у батюшки сложились прекрасные дружеские отношения; а по приходе в село советских войск бедного протоирея арестовывают за участие в миссии и препровождают на долгие годы в далёкие красноярские лагеря.
Вообще же роман "Поп" структурно состоит из трёх сюжетных линий. Первая линия изображает нелёгкую жизнь отца Александра и его семейства, их тяготы и невзгоды и маленькие скупые радости. Вторая линия посвящена развёртыванию партизанского движения на оккупированных советских территориях (в псковских лесах и на Украине, к востоку от Гдова, где была создана целая партизанская республика и даже имелся свой аэродром), и связана она, прежде всего, с именем одного из центральных героев Алексея Луготинцева.
И, наконец, третья линия представляет собой художественно-документальные вкрапления в повествование, заметно, кстати, утяжеляющие текст, придающие ему, и без того глубокому, дополнительную фактическую глубину. Этими вкраплениями служат и разговоры Сталина и Гитлера с ближайшим окружением, основанные на стенограммах; и доклад начальника особой группы НКВД по разведывательно-диверсионной работе в тылу германской армии Павла Судоплатова заместителю председателя правительства СССР Лаврентию Берии о победоносном бое за мост через Москву-реку, в результате которого немцы были отброшены от Москвы в 1941 году, а также о разработке и начале секретной операции под кодовым названием "Послушники"; и крайне важная встреча Сталина с высши- ми иерархами Русской Православной церкви в 1943-ем, вернувшая в Россию институт Патриаршества, да и вообще в ходе проведённых переговоров государство согласилось пойти на ряд уступок церкви, оказать ей посильную помощь во многих делах, и тем самым оно наконец-то, после многих лет страшных гонений, повернулось к церкви лицом, осознав её выдающуюся роль в патриотическом подъёме населения и необходимость налаживания диалога с нею.
Особо хотелось бы обратить внимание на то, каким показан Иосиф Сталин в книге Александра Сегеня. Это вовсе не тот растерянный и дряхлый старикашка, какого сыграл Игорь Кваша в фильме "В круге первом". Сталин Александра Сегеня – это, прежде всего, настоящий руководитель великого, первого в мире социалистического государства, самоуве- ренный, гордый и жёсткий вождь. Вот он выступает на торжественном заседании 6 ноября 41-го, в то время когда вовсю шла легендарная битва за Москву, и вот как он держится на этом выступлении: "Он говорил уверенно, без тени волнения. Никаких сомнений в том, что в ближайшее время враг будет отброшен от Москвы. Ни единого слова о том, что правительство может перебраться в запасную столицу на берега Волги, в старинную Самару, ныне город Куйбышев.
Слушая его, Судоплатов чувствовал, как полностью исчезла, растворилась неуверенность в завтрашнем дне. В том, что рано или поздно Советский Союз одолеет фашистов, он и до этого был убеждён, но что не сдадим Москвы, сомневались многие. Теперь же было ясно – священную столицу государства Российского Гитлеру, в отличие от Наполеона, не видать!"
Однако три года спустя тот же Сталин в романе "Поп" отвечает на предложение кровожадного Берии отправить всех без исключения священ- ников Псковской Православной миссии, оставшихся на освобождаемых советскими войсками территориях, в лагеря следующим образом: "Ты прав, Лаврентий, сажай их. По десятке, по двадцатке, кому сколько. Кстати, потом мы сможем торговать ими с нашими главными иерархами, когда надо будет манипулировать. Это ты правильно решил. Проявляешь полезную жёсткость". И далее следует хитроумно-циничное сталинское обоснование принятого им решения: "Господь Бог на нашей стороне и нас не осудит. Лагерь – это тот же монастырь. Хороший священник это поймёт и роптать не будет. Для спасения души необходимо страдание". И вот тут уже, применительно к сталинскому времени, мне вспоминаются слова одного из персонажей солженицынского романа: "А что такое жизнь человека?!."
Словом, Сталин выведен в произведении Сегеня как фигура весьма противоречивая и неоднозначная. Именно так, в сущности, его и нужно выводить, если, конечно, судить о его эпохе непредвзято. Но, увы, очень немногим это удаётся. Писатели, рисующие сталинский период, в подавляющем большинстве своём делятся на два диаметрально противоположных лагеря. В одном находятся верные писатели-сталинцы (Юрий Бондарев, Александр Проханов, Владимир Карпов, Михаил Алексеев), в другом – ярые антисталинисты (Анатолий Рыбаков, Александр Солженицын, Василий Аксёнов, Владимир Войнович).
А ведь сталинская эпоха суть кроваво-крепкое, неразрывное переплетение высокого, героического и трагического. С одной стороны – подъём промышленности и возрождение армии, пламенные, огненно-яркие лозунги и острый идеологический пафос, мощные произведения литературы и искусства, Великая Победа, светоносное освобождение европейских стран от фашизма, доставшееся нам ценой гибели миллионов советских солдат. С другой – гибель огромного количества ни в чём не повинных людей в лагерях, гнетущая атмосфера удушливого, едкого страха и гнусного лизоблюдства. Именно таким, сложным и неоднозначным, и видит анализируемый нами исторический период Александр Юрьевич Сегень. И всё-таки больше, на взгляд автора (как, впрочем, и на взгляд главного персонажа), было в сталинском времени всё же хорошего. Не случайно много лет спустя по возвращении из лагерей отец Александр в беседе со своим другом, отцом Николаем Гурьяновым, произносит такие слова: "Я молюсь о его спасении. Пусть простит Бог Иосифа". И вот как он сам их поясняет: "Всё-таки при нём и Патриаршество вернулось, и такую колоссальную победу одержали". Да и потом "ведь он, как ни крути, а ту страшную изначальную большевизию прикончил".
Если оценивать роман с точки зрения идеологической направленности, то его можно определить как державно-патриотический...
В общем и целом, роман "Поп" суть полотно историческое. Однако вместе с тем он ставит перед читателями актуальный донельзя и ныне вопрос о том, по какому пути должна идти наша многострадальная Родина. Собственно, самому автору этот вопрос представляется риторическим. При погребении истреблённой фашистами семьи Торопцевых протоирей Ионин с гневом и болью в голосе говорит: "Нам всё время твердили: "Немцы пришли сюда, чтобы вернуть Россию в Европу". Вот мы и увидели, какая она, Европа. Празднуя своё католическое рождество она совершает такие злодеяния. И что же, нужно нам в эту Европу? С её Лютером? С её Гитлером? Да нет же! Анафема! Анафема тем, кто пришёл в наш дом и творит немыслимые преступления! Анафема!"
Ему вторит и Николай Торопцев, однажды в беседе заметивший, что из-за скептического отношения к воскресению Христа европейцы "постепенно утрачивают облик человеческий". И действительно, сегодня мы всецело убеждаемся в правоте пономаря, видя, как Европа, выбравшая своей религией свободу и права человека, погрузилась в пучину острого духовного кризиса. Так надо ли нам идти по её стопам или, может быть, лучше всё же учиться на её ошибках?..
(обратно)Владимир Бондаренко “НО… ЭТОТ СОН…”
Вадим Воронцов. Орхидеи у водопада, или Что-то – пронзительное и звенящее. Повествование.
Изд-во “Вагриус”, 2006 г.
Неспешно погрузился в чтение книги Вадима Воронцова "Орхидеи у водопада, или Что-то – пронзительное и звенящее". Это лирическая проза, напоминающая давние книги Виктора Лихоносова или Юрия Казакова, где герои – русские интеллигенты, погруженные в вечные русские проблемы. Но размещаются интеллигентные герои Вадима Воронцова в пространстве разрушенной русской деревни. Зоркий интеллигентный наблюдатель фиксирует на протяжении позднего советского периода, а затем и в перестроечное время всю трагическую картину распада русского народного быта.
Вадим Воронцов вроде бы никого и не осуждает, с любовью описывает своих деревенских пьянчуг, того же Рыжего Беса, тётку Матрёну и других, в нынешних повадках которых уже нет никакой сдерживающей силы, расхлябанность затопила всё и вся. "Расхлябанность и низкая цена слова. Дело, конечно, не в пьяных обещаниях, с этим всё понятно. А так, сели за стол, приняли по стопке-две, и поехало. Златые горы, и не ищи нигде, и не проси ни у кого. Всё. Завтра же. Какие деньги? Да ты что? И выходите вы из-за стола лучшими друзьями на всю оставшуюся и даже ещё и дальше. И очень вы сделаете правильно, если ничего этого вы не будете ждать ни завтра, ни далее. И очень будете вы неправы, если напомните про обещанное. Обидеть можете человека…"
Уже перед нами модифицированная деревенская земля, где живут простые, но вполне приспособившиеся русские люди совсем по другим законам, нежели жили наши предки. Кончился деревенский тысячелетний беловский "Лад", начался сплошной разлад. И посреди этого разлада, на острове, живёт счастливая городская интеллигентская семья. Они искренне наслаждаются жизнью, находя своё очарование даже в руинах былого деревенского быта. Но долго ли может длиться такая идиллия?
Тему разлада Вадим Воронцов начинает ещё с советской поры. Для него уже в самой идее коммунизма, в советской коллективизации было заложено начало "разрушения крестьянского сознания". Как я понимаю, и сама повесть была написана, хотя бы вчерне, ещё в советское время, и следы некоего интеллигентского подполья остались на её страницах. Конфликт народа и власти никогда не затухает. Ни в советское, ни в перестроечное время. Автор, обновляя повесть и добавляя в неё события наших дней, определяет своё отрицательное отношение к этим разрушительным реформам, которые умудрились и то, что было хорошего в советское время, уничтожить начисто. Вот он, уже в своих "островных мистериях", позабыв о скептическом отношении к советской власти, проговаривается, что на его остров "когда-то пароходы ходили часто, чуть ли не каждые полчаса. Это была пара белоснежных красавцев-пароходов. Исчезли они как-то мигом. На воде ведь след теряется быстро. Вот он и потерялся. Теперь ходит посудина времен не то Ползунова, не то братьев Черепановых…" Так проходило и по всей России. И в моей родной Карелии в советское время летали в Петрозаводск самолёты из Москвы и Питера, из Киева и совсем дальних мест, а теперь нет этого аэродрома, как нет и тысяч других. Исчезли и кукурузники, доставлявшие старух из районных посёлков до областных центров. Исчезли и красавцы-теплоходы. Жизнь скукожилась и замерла.
Ещё со студенческих лет перед героем, а на самом деле и перед автором, возникли некие "они" – "комсомольцы", начальнички. Вот герой приходит на приём к главе города с идеей о сохранении каких-то старых реалий жизни: "Глава… честно и твёрдо ответил гражданину: "Эти клоунские тумбы – из старой жизни, с которой мы раз и навсегда покончили". Передо мной встала та непробиваемая стена, которая встанет еще не раз. И я подумал тогда, что надо бы жить "без них". Вот только как?" Автор делит всех окружающих его людей на "людей компромисса" и тех, кто не считал возможным для себя такой компромисс. "Люди компромисса" могут быть и неплохими, даже героями. Но что делать и как жить довольно большому количеству людей, не склонных на компромисс? Становиться злобными и агрессивными?
Насколько я понимаю, и сама книга Вадима Воронцова – результат бескомпромиссности автора, не пожелавшего ещё в давние советские времена что-то исправлять, что-то дополнять в своей наблюдательной прозе. Когда-то он носил свои первые рассказы для публикации в те или иные издания, рассказы такие же, как и нынче, с зоркой наблюда- тельностью природного начала, со славной пришвинской традицией. Один из таких рассказов: "Голуби" – опубликован и в этой вагриусовской книжке. Хороший рассказ, чувствуется знание автором темы, этакое природное мирочувствование. Но от автора в те былинные времена потребовали что-то переделать, что-то убрать, вочеловечить и восславить. Молодой тогда ещё автор – не пожелал, и лишь усилил свое неприятие "тех", своё пренебрежение к властям. Остался непечатаемым. Вроде и ничего особо дерзкого не писал в своих островных наблюдениях, но и чуточку лояльности добавлять не желал. "В моём повествовании всё – правда, чистая правда и одна только правда. Я не меняю не только имён, но даже и отчеств, а дойдёт до фамилий, не скрою и их. Я готов поклясться хоть на кресте, хоть на Библии, что всё, о чём повествую, – всё это я либо лично видел, либо лично слышал, либо не менее лично вообразил…"
Писал уже скорее для себя своё повествование в главах : "Сын", "Дорога", "Наташа", "Каникулы", Распятие". Это поток сознания одинокого героя и одновременно поток действия вокруг него самого и его семьи. Это – одна и та же семейная жизнь, увиденная с разных точек зрения, с точки зрения мужа, с точки зрения жены. Жизнь на переломе эпох. И потому неизбежно, при всей своей индивидуалистичности, ставшая исторической и общественной жизнью, даже если это жизнь всего лишь трёх героев. Это – по сути экзистенциалистская проза, обретающая неожиданно некий соборный размах именно потому, что герой и его небольшая семья – жена Наташа и маленький сын – живут среди людей, среди природы, среди истории, и воспринимают обострённо все свои взаимоотношения с миром. Наташа как-то говорит герою: "Для тебя жизнь – это жизнь души, а у души и своя память и своё отношение ко всему. Для тебя всё, что вокруг – на десятом месте, потом, когда-нибудь после, а на первом, втором и третьем месте, сейчас – впечатление от всего этого, и впечатление именно души, мысль о предмете, о человеке, о картине, да о чём угодно для тебя достоверней самого этого предмета… Мне нравится мир, который ты выстраиваешь, он лучше реального, а главное – добрее…"
И на самом деле, при всём определённом скепсисе по отношению к окружающему миру, проза Вадима Воронцова – добрая проза. Детали прорисованы точно, предметный мир, да и людской тоже, отличаются достоверностью. И ко многим приметам уходящего и начинающегося мира – доброе отношение. Ко всем забулдыгам и пьяницам, набивающим себе мозоли на ладонях всё же нелёгкой работой, а не беспрерывным пьянством, тоже самое внимательное и сострадательное отношение. Добрые городские дачники посреди деревенской островной разрухи. "Руки Юрия Иваныча были без больших пальцев. Это здесь у каждого второго. Пила-циркулярка. Жестокий и беспощадный инструмент: никакого снисхождения к алкоголю."
Это относительно новая тема в современной русской литературе – городской интеллигент, может быть, даже родом из этих мест, приезжает отдохнуть с семьёй в разрушающуюся деревню. Увы, но, по сути, он и становится чуть ли не единственным хранителем прежних устоев, сами деревенские жители погружены в непрекращающуюся круглосуточную пьянку, в разворовывание всего, что плохо лежит.
Это уже в каком-то смысле сторонний наблюдатель, как бы он иногда ни любовался, ни восхищался живописностью своих героев, он глядит на них уже как бы со стороны, да и не желает жить их разрушенной жизнью, тем более, не видя и стремления в них самих как-то изменить её.
Такой взгляд на русскую деревню со стороны мы видим и в романе Владимира Личутина "Беглец из рая", и в повести Петра Краснова "Новомир", казалось бы, видных представителей прославленной деревенской прозы, но уже смотрящих на нынешнюю деревню совсем иными глазами – глазами зорких наблюдателей.
Такой же взгляд на русскую деревню и в книге Вадима Воронцова с длинным названием "Орхидеи у водопада, или Что-то – пронзительное и звенящее", вышедшей в издательстве "Вагриус" в 2006 году и состоящей из одноимённой повести и некоего приложения к повествованию – "островных мистерий", ярких зарисовок увиденного автором или героем повести и пережитого им на своей даче на Юршинском острове в Рыбинском море. Конечно же, и повесть, художественно оформленная трагическая история о любви двух героев, крепко держится, как на фундаменте, на всё тех же дачных островных наблюдениях и зарисовках.
Светлая и радостная жизнь небольшой крепкой любящей семьи. Временами проза Воронцова напоминает традиционную семейную прозу, которую можно продолжать бесконечно долго, как "Сагу о Форсайтах" Голсуорси, увлекая читателя таким спокойным семейным чтением, временами же проза Воронцова переходит в плоскость детского восприятия, становится добротной детской прозой, как повести Юрия Коваля или Сергея Иванова. Эта неустановившаяся, колеблющаяся жанровость повествования, идущая скорее всего от затянувшегося писательского дебюта, самой прозе никак не вредит. Но как бы даёт установку на внимательного читателя, умело переключающегося с детских рассуждений на природные зарисовки, с лирических отступлений (своеобразных тургеневских стихов в прозе) на бытовые семейные переживания. И всё это украшено непрерывающейся мечтой автора о счастье.
"Маленькие люди, прыгающие по асфальту, танцующие по лужам и указывающие пальцами на солнце. Они целуются просто так. Они про всё спрашивают. По ночам они выбегают на улицу, царапают мелом мостовую (записывают свои желания, и это одно из желаний – вот так выбегать по ночам). Они так кричат, что грачи умолкают (их всё равно не слышно). Они ищут подснежники, заглядывая под скамейки, и удивляются, когда не находят. Они всему удивляются (поэтому у них такие глаза). Они бегут за кораблями, провожая их до самого колодца, а потом ложатся на решётку и долго смотрят в темноту и ко всему прислушиваются… Припав к подушке, они сразу засыпают и во сне улыбаются, и встают очень рано, всегда вместе с солнцем…" Тут слышна мелодия и Ганса Христиана Андерсена, и Александра Грина. Детская мечта о счастье. Но пронзительный мир детства уходит, исчезает, и уже строгий любящий отец стремится сохранить мир своей маленькой семьи. Начинается "Дорога", дорога на свой любимый остров вместе с любимой женой и сыном. Жизнь семьи каждый раз как бы начинается сначала. Мы видим её и глазами героя, и глазами его жены.
Думаю, проза Вадима Воронцова чересчур автобиографична, и потому поневоле прощаю автору излишнюю сентиментальность, уже зная о печальном конце повествования. Жена героя гибнет нелепо и как-то даже неправдоподобно. Нырнув с обрыва и ударившись о камень. Если это пририсованный финал к лирическому повествованию или сегодняшнее дополнение к неопубликованной прозе конца восьмидесятых годов, то чересчур картинно и киношно. После добротного детализированного всамделишнего существования и героя, и героини, которое вполне можно было закончить на любом месте, безо всяких проработанных сюжетных концовок, ибо подобная жизнь героев и в философских размышлениях, и в бытовых подробностях, и в страстной полноте чувств, и затем в бунинском замедленном изящном увядании, так могла бы до бесконечности и длиться в днях, "наполненных пронзительным звоном и красотой этой самой жизни", и совсем не требовалось придумывать картинный кровавый финал. А вот сама жизнь вполне могла подбросить нечто подобное. Не хочу ничего предполагать о жизни автора-героя.
Не знаю, может быть это просто литературный приём и подобным образом автор хотел покончить со всей и своей прежней жизнью, и с прежней литературой, – поставить жирную точку на своей красивой дачной бесконечности посреди людского ненастья?
Но, когда по второму разу перечитываешь этот отрывок, уже не даёт покоя это финальное кровавое пятно на камне.
А может быть, зоркого дачного наблюдателя победил поэт. И на место точных, но чересчур интеллигентски безукоризненных и безоблачных в своей жизни наблюдений и размышлений пришли горькие строчки поэта, переживающего за участь своей России:
Поля бурьяна…
И простор…
И снова этот вечный стон.
И этот жуткий, страшный сон…
Моя несчастная страна…
Но если это только сон,
То надо вспрянуть ото сна…
И бунтующий поэт, резко не приемлющий распродажу родной страны, от лирического пролога о волшебной дивной стороне переходит к трагическому финалу. И в повествовании, и в своих стихах. Ими и закончу:
Была страна.
И было бабье лето.
Была струя воды за пароходом.
И значит – будет то, что не проходит.
И значит – было то, чего уж нет…
…....
Конечно, власть была не в масть.
Но и под этой серой властью
Моя страна была прекрасна…
Поляна. Небо. И простор.
И сена стог.
И девы стон.
Но… этот сон…
(обратно)Сергей Куняев НЕ ПОТЕРЯТЬ БУДУЩЕЕ
Кто не делает выводов, не извлекает уроков из прошлого, тот теряет будущее. Последние 15-20 лет показали нам это очень убедительно.
Сергей Куняев как писатель состоялся как раз в эти годы. Одна за другой стали выходить его книги "Огнепалый стих", "Сергей Есенин" в серии ЖЗЛ, "Растерзанные тени" (обе в соавторстве с С.Ю. Куняевым), "Русский беркут". На выходе новая книга статей и литературных исследований "Жертвенная чаша". В 2005 году Станислав Юрьевич и Сергей Станиславович Куняевы стали лауреатами конкурса "115 лет ЖЗЛ" "за самую популярную книгу серии "Жизнь замечательных людей" последних лет". С книги "Сергей Есенин" и началась наша беседа.
– Помню, как весной 1995 года в журнале "Наш современник" появились главы из этой книги под названием "Божья дудка" (так называл себя сам Есенин). Их читали тогда с огромным интересом, ведь впервые без всяких умолчаний появилась биография любимого народом поэта. Биография, вплетённая в широкий контекст времени, осмысленная с исторических и философских позиций, и, самое главное, пропущенная через сердце, через сердечную боль о поэте и о России, которой была отдана его душа. Сколько изданий выдержала эта книга?
– Вышло за эти годы пять изданий, три из них в серии "Жизнь замечательных людей". Я без всякого преувеличения могу сказать, что это случай беспрецедентный как в этой серии, так и вообще в биографической литературе последних лет. Номинация, по которой мы получили премию "ЖЗЛ", называется "Хождение в народ". В самом названии уже заключён глубокий смысл: войдя в народ первыми же стихами, Сергей Есенин в народе и остался. Вослед поэту в народ вошла самая полная и обстоятельная на тот день биография. На протяжении 12 лет выходили одно издание за другим. Каждое из них в каких-то местах подлежало правке, в каких-то – существенным дополнениям. Прописывались и обогащались отдельные сюжеты книги, биографические линии, по-новому интерпретировались и оценивались некоторые произведения.
Это вполне понятно и естественно, потому что за это время вышло огромное количество литературы о Есенине, включая серию томов с материалами чтений в Институте мировой литературы. Я не говорю уже о фундаментальном труде, который сейчас выходит тоже под грифом ИМЛи – биографическая хроника Сергея Есенина, полная летопись его жизни и творчества. Естественно, не могла не оказать влияния на нашу книгу работа, которая велась над составлением и комментированием первого полного академического собрания произведений Сергея Есенина в семи томах и десяти книгах. Оно выходило на протяжении десяти лет, в то же самое время, как шла наша работа над биографией поэта. В комментировании отдельных документов для этого собрания я принимал самое непосредственное участие.
Текучий, почти неуловимый образ Сергея Есенина как бы подразумевал текучесть его биографии. Там, где, казалось бы, все необходимые документы найдены, акценты расставлены, выписан уже целый пласт его жизни, вдруг вторгаются какие-либо полторы-две строчки, которые освещают всё совершенно новым светом, либо совершенно по-новому заставляют интерпретировать и осмысливать целые узлы, биографические и творческие, того или иного периода.
– Ваша книга выходила только в московских издательствах или ещё где-то?
– К сожалению, только в Москве. Не единожды приходилось сталкиваться с тем, как русской периферии не хватает этой книги. Общаясь с литераторами, с людьми, имеющими отношение к гуманитарной сфере, да и просто с читателями, постоянно слышал вопрос, где и как можно её достать? Ведь первое издание вышло тиражом 10 тысяч экземпляров. Представьте себе, каким тиражом биография Есенина вышла бы в серии ЖЗЛ в советское время и как бы она распространялась по всей России – сотни тысяч, если не миллионы. Правда, в том виде, в каком она появилась, в советское время она бы явно не смогла выйти. Потому что многие факты, и особенно наша интерпретация их, ни с какого боку не вписывались в тогдашние идеологические установки. Как, впрочем, не вписываются и теперь. Что такое десять тысяч даже для Москвы? Я не говорю уж о всей России.
– Чем вы объясняете такой интерес к вашей книге?
– Интерес понятен. Сравнительно недавно в журнале "Вопросы литературы" я прочёл такую характеристику нашей книги – "лихой биографический роман". Самое интересное, что никакого романа мы не писали, перед нами стояла совершенно другая задача. Мы пытались по возможности передать образ Сергея Есенина в контексте того времени, что заставило нас волей-неволей переосмыслить многие устоявшиеся оценки той эпохи, как предреволюционной, так революционной и послереволюционной.
Фактически Сергей Есенин заставил нас заново написать историю целого периода русской жизни. Потому что фигура поэта притягивала к себе множество людей из самых разных слоев общества. Как из маленького отростка вырастает целый куст, так и нам приходилось целые пласты событий, вырастающие из единичных фактов, окучивать и вскапывать заново. Мы анализировали отношения Есенина то с царским двором, то с членами первого ленинского правительства, то с идеологическими вождями той эпохи, то с его ближайшим литературным окружением, которое, в свою очередь, тоже было связано с людьми из совершенно других сфер. Так кругами, кругами наслаивался материал, который, естественно, чисто физически не мог войти в нашу книгу. Приходилось отслаивать целые пласты этого материала. Очень жаль было расставаться с отдельными сюжетными линиями, но они бы неизбежно увели нас ещё глубже и, возможно, далеко от самого поэта.
Такого рода подход к есенинской биографии, к его судьбе и поэзии не мог не вызвать огромного интереса. Это связано не только с тем, что книга вышла в год столетнего есенинского юбилея, когда была взбита очередная "пена" вокруг его имени. Помимо серьёзных работ, было много шумихи вокруг фигуры Есенина, которая подогревала интерес к нему. Мы не подогревали интерес. Мы пытались рассуждать вместе с поэтом и вместе с его читателем, что произошло в России в те годы, как это сказалось на есенинской судьбе, и какое влияние он всей судьбой оказал на своё время. Прямо скажем, что это весьма нетривиальный разговор, очень своеобразный контекст в русле всех многочисленных книг о Есенине, которые вышли до этого.
Конечно же, подобный смысл разговора и подобная его тональность вызвали интерес к книге. Произошло, в общем, то, о чём мы подспудно про себя думали, но даже боялись на это рассчитывать: что наша книга заставит идти дальше нас в разговоре не только о судьбе Есенина, но и о судьбе России в ХХ веке. Тем не менее, это произошло. По многочисленным письмам и встречам с читателями, по тем вопросам, которые нам задавали, по совершенно неожиданным открытиям, которые делали наши читатели в процессе чтения книги, мы увидели, что разговор вошел именно в то русло, которое мы пытались этой книгой проложить. Тем паче, что время, когда вышло первое издание нашей книги, было временем полной беспросветности в жизни страны. Казалось, что над Россией висит какая-то густая, чёрная, огромная туча, абсолютно непроходимая. Туча, которую не способен прорвать ни один лучик света. Это состояние тоже повлияло на нашу работу в том плане, что мы так или иначе были вынуждены сопоставлять наше время с есенинским. И думать о том, как жилось ему в его эпоху. И как он умудрялся при всём при этом даже перекраивать целые событийные куски времени своей поэзией, своими поступками. Своим поведением, вообще самой своей жизнью.
– Чем больше сгущаются подобные тучи, тем острее в обществе потребность прорвать темноту, осветить и развенчать какие-то укоренившиеся либо старательно укореняемые мифы. Не так ли?
– Безусловно. Я здесь поставил бы вопрос ещё острее. Приходилось развенчивать не только укоренившиеся мифы, но и мифы, наново созданные в каком-то лихорадочном порядке и массированным прессом вколачивавшиеся в головы людей с такой силой, на какую не был способен советский агитпроп. Самое отрадное в общении с людьми по поводу нашей книги было то, что мы удостоверились, как велико в умах людей сопротивление этому новому агитпропу. И какое подспорье сам Есенин и наша книга о нём оказывают в этой тяжелейшей интеллектуальной, духовной и душевной борьбе за русское самостояние.
– Не хотелось бы прерывать эту линию разговора, но вернёмся к созданию книги о Есенине. Как шла совместная с отцом работа над рукописью? Литературное соавторство – такая тонкая и сложная вещь, что не случайно во всей истории литературы – буквально считанные случаи удачных опытов на этой ниве.
– Отвечать на этот вопрос, с одной стороны, очень просто, с другой, – очень сложно. Приходится возвращаться к самому процессу работы над книгой. В моей творческой судьбе это был единственный случай именно совместного написания, после которого я сказал себе, что больше такого опыта никогда повторять не буду. Дело не в том, что мы как-то мешали друг другу или вносили какой-то дискомфорт в жизнь друг друга во время работы над книгой. Нет. Дело в том, что интенсивность творческого процесса была очень велика, приходилось соединять главы, совершенно по-разному и с разных концов написанные. К счастью, мы сразу решили не писать вдвоем одну главу, а разделили материал и обозначили в плане книги, кто какие периоды в жизни Есенина берёт. Тем самым работу облегчили, сделали ее более естественной. Но все равно без очень жёстких споров, без каких-то удвоенных, утроенных по силе размышлений над теми или иными моментами биографии, над теми или иными строчками отдельных глав обойтись, естественно, не могло. А ведь ещё стояла задача подогнать главы друг к другу так, чтобы не было стилистического зазора между ними. Нам удалось этого добиться: люди читали книгу и не отличали главы, написанные отцом, от глав, написанных мною. С одной стороны, для творческого человека эта характеристика самоубийственная. Но, с другой стороны, как будто сам Есенин потребовал от нас такой жертвы, принесенной лично для него. Хотя приносить её было, ой как непросто.
Хочу подчеркнуть, что сила и интенсивность мозгового, нервного и духовного напряжения в этот период была такова, что, разбирая накопленный за 20 лет материал, мы осмыслили его и написали книгу за два месяца. Это кажется невероятным?
Если бы мне сейчас кто-нибудь сказал, я бы тоже в это никогда не поверил. И тем не менее, это чистая правда, я говорю, как есть. Было такое ощущение, что это пишем не мы сами, а кто-то помимо нас.
– “Божья дудка”, говоря словами Есенина?
– Возможно.
– А когда открылись архивы в начале 90-х годов, как вы работали с ними? В повествование вошел такой обширный материал, который действительно в советское время был недоступен.
– Слава Богу, опыт работы с архивами у меня уже был. Поскольку я, можно сказать, многолетняя "архивная крыса", накопились навыки обращения с документами, рукописями, они многому способствовали в создании книги. Ведь впервые есенинские подлинники я взял в руки в двадцатилетнем возрасте. И с этого момента шло уже не просто эмпирическое чтение его стихов и попытки анализа тех или иных произведений. Это совмещалось с попыткой проникновения в его творческую лабораторию, в его непосредственную поэтическую работу над стихотворением, над его формой, над каждой строкой. Здесь уже шло постижение того, что водило рукой поэта, когда он писал ту или иную строчку или слово. Впрочем, я подхожу уже к той черте, которую не стоит переступать.
Во время чтения документов и накопления материалов открывались такие вещи, которые по самой своей природе, наверное, не могли укладываться ни в какую письменную или устную формулу. Я знаю страницы книги, где эти моменты присутствуют, можно сказать, за кадром, за написанным текстом и как бы сообщают ему необходимую музыку. А что касается новейших архивов, то безусловную помощь нам оказали сотрудники тогда еще Комитета государственной безопасности, давшие возможность ознакомиться с делами, заведёнными на крестьянских поэтов в 20-30-е годы. Тогда мы впервые увидели дело Есенина, заведённое в ЧК в 1920 году, знаменитое дело четырех поэтов 1923 года, а также все дела друзей Есенина: Николая Клюева, Сергея Клычкова, Василия Наседкина, Петра Орешина, Ивана Приблудного и других.
– То есть параллельно Есенину шло накопление фактуры для следующей книги, о крестьянских поэтах?
– Да, фактически одновременно с биографией Сергея Есенина у нас складывалась книга "Растерзанные тени", которая состояла из этих дел и комментариев к ним. Отдельными главами она печаталась в 1992 году на страницах "Нашего современника". Но само книжное издание состоялось тогда же, к юбилею Есенина в 1995 году в издательстве "Голос".
– А сборник "О Русь, взмахни крылами!", куда вошли стихи названных поэтов, вышел чуть ли не за 10 лет до этого – в 1986 году?
– Собственно, с него всё и началось. Потому что мы предложили издательству "Современник" выпустить антологию так называемой новокрестьянской поэзии. Тогда впервые подумалось о том, чтобы к 90-летию Есенина представить как единый литературный пласт это уникальное направление в литературе. Я нисколько не преувеличиваю, говоря о нём, как о направлении. У нас принято считать последним литературным направлением символизм. Но новокрестьянская литература обладает всеми признаками, свойственными именно направлению, которое, к сожалению, в таком качестве практически не рассматривалось. В лучшем случае, этих поэтов считали литературной группой рубежа 10-20-ых годов. С тех пор их произведения под одной обложкой, как представителей единого культурного пласта, никогда за все годы советской власти не появлялись. Можно сказать, на её излёте мы это сделали первыми.
После выхода антологии "О Русь, взмахни крылами!" появилась книга "Последний Лель", объединившая прозу крестьянской плеяды – от публицистики Клюева до "Чертухинского балакиря" Клычкова, романа "Завтра" Алексея Ганина и "Яра" Сергея Есенина. Только тогда этот пласт уже стал осмысливаться как совершенно отдельный, оригинальный, уникальный, обладающий колоссальным творческим и энергетическим зарядом и огромным влиянием на современную литературу.
– Я бы оценила это не только как литературный, но и исторический феномен. Ведь впервые за многовековую историю крестьянство России так мощно вышло на общественную арену, дав целое созвездие талантов не только в литературе, но и в науке, в музыке, живописи, в военном деле, в технике… Впервые пришло сословие из глубины народной жизни. И вы, наверное, очень вовремя заговорили об этом явлении.
– Вы продолжаете мою мысль. Я сейчас не стремился выходить на такие широкие обобщения, вы это сделали сами и совершенно справедливо. Здесь невольно подумаешь, через что же должно было пройти это сословие и какие потери понести в годы революционной и послереволюционной смуты, как оно методически убивалось вплоть до последних дней, чтобы на излёте, на исходе своего существования дать возможность расцвести гениям, многочисленным талантам, в буквальном смысле одарить человечество таким плодоносным вертоградом, говоря языком русских гениев.
– Судя по всему, с выходом пяти изданий книги о Есенине ваши есенинские изыскания всё ещё не закончены?
– Вы правы. Я обращу ваше внимание на один занятный сюжет. Мы довольно подробно в книге о Есенине рассказывали про общение Есенина и Клюева с Обществом возрождения художественной Руси, через которое – и, в частности, через полковника Дмитрия Ломана – они оба оказались при дворе, были представлены императрице и её сестре Елизавете Фёдоров- не. Мне всё время не давал покоя один вопрос. Идёт первая мировая война, положение на фронтах колеблющееся, более того, неблагоприятное для России, так что думать о встрече с какими-то народными поэтами было, мягко говоря, не ко времени. А что творилось в тылу, при царском дворе?!
Только сейчас, с привлечением известных исторических материалов становится очевидно, какую жуткую игру вели против русской монархии абсолютно все круги и абсолютно все высшие сословия того времени, включая ближайшее царское окружение и даже членов его семьи. Представьте, что тут вдруг появляются два народных поэта, которые принимаются императрицей, двором. Что происходит? Это путало многих. Так, в мемуарах Владислава Ходасевича этот момент обыгран таким образом, что, дескать, тут никакой заслуги поэтов и не было, что кто-то аккуратно подстелил соломку. Соломку-то стелили. Вопрос, кто и с какой целью?
Прежде всего, сам Ломан вряд ли мог рекомендовать принять поэтов при дворе. Ломан способствовал устройству Есенина в санитарный поезд под покровительством императрицы, но не более того. Поэтов же направил не кто иной, как Григорий Распутин. Сохранилась его записка Ломану с просьбой принять, "особенно молоденького". Ходят разговоры, что, де, Распутин с Ломаном находились не в таких отношениях, чтобы старец мог ему кого-то рекомендовать. На самом деле, Ломан, по подкреплённым документально показаниям филеров, дежуривших у дверей распутинской квартиры, навещал Распутина в это время около 50 раз. Их отношения были далеко не такими холодными, как их пытаются представить. Ломан вполне мог прислушаться к распутинской рекомендации. А откуда, в таком случае, поэты оказались пред очами Распутина? Тут уж все вопросы к Николаю Алексеевичу Клюеву, который никогда не рассказывал беспочвенных легенд. Есть его свидетельство, что он встречался с Распутиным ещё до появления того в Царском Селе. Более того, когда Николай Гумилёв в начале 1917 года написал свое стихотворение "Мужик", лучшее в его творческом наследии, он, конечно, использовал в нём черты распутинской биографии и её трагического конца, но психологический портрет, там нарисованный, едва ли мог принадлежать Распутину, с которым Гумилёв никогда не встречался. Он прямо взят у хорошо знакомого Гумилёву Клюева. У меня нет никаких сомнений, что Клюев знал это стихотворение ещё до его публикации. И он ответил на него своим знаменитым "Меня Распутиным назвали в стихе, расстригой без вины…" Видите, какие узлы тут закручиваются? И этот узел далеко не последний.
– Позволю себе цитату из вашей книги о Павле Васильеве "Русский беркут": "Я сижу летним днем 1977 года в квартире Сергея Николаевича Маркова и расспрашиваю его о Николае Клюеве, с которым писатель встречался в начале 30-х годов". Если не ошибаюсь, вам было тогда 20 лет, и вы ещё учились? Откуда такой интерес к истории русской литературы у столь юного человека?
– Да, учился на филологическом факультете МГУ. Во время работы в Центральном государственном архиве литературы и искусства я держал в руках многочисленные подлинники наших классиков ХХ века. Через мои руки прошли рукописи Есенина, Клюева, Блока… Для молодого человека, выросшего в литературной семье, этот интерес был вполне естественен. А что касается Сергея Маркова, то я, узнав его телефон, позвонил ему домой и напросился на эту встречу сам. По молодой наглости мне удавалось встречаться и разговаривать с людьми, к которым попасть было не так-то просто. Сергей Николаевич Марков был один из них. Человек, мягко говоря, потаённый, очень непростой. Я тогда не знал его полной биографии, в частности, о времени, проведённом в заключении и ссылке. Но уверен, это не остановило бы меня, если бы и знал. Я шёл к нему как к поэту, стихи которого мне очень нравились. Причём, о встрече его с Клюевым не имел никакого понятия. Просто у меня было чутьё, что человека из той эпохи можно расспросить о многом, в том числе и о Клюеве. И когда он по телефону подтвердил, что действительно встречался с ним, и пригласил меня на беседу, я шёл к нему, не чуя ног.
Встречу эту я хорошо помню. На каждый мой вопрос он отвечал очень обстоятельно, рассказывая о каких-то моментах, которые у меня не звучали, либо по незнанию, либо по непониманию, насколько это важно. Я тогда записал практически всю нашу беседу. Перечитывая эту запись, я обнаружил, что Марков, дойдя до какой-то черты, сразу останавливался и дальше слушал мой следующий вопрос или переходил на что-нибудь другое, как бы обрывая логическую линию разговора. Видимо, он не хотел заходить за какие-то расставленные им вехи в беседе со мной, или вообще не желал вслух вспоминать о чём-то…
Многое, конечно, мне стало понятно после того, как я познакомился в архиве КГБ с делом "Сибирской бригады" 1932 года. Когда Леонид Мартынов, Сергей Марков, Евгений Забелин, Николай Анов были осуждены на три года ссылки по обвинению в "русском фашизме", антисемитизме и распространении контрреволюционных произведений. Эта формулировка достаточно о многом говорит, не так ли?
– Формулировка звучит как-то очень современно, за исключением контрреволюционности, которая, впрочем, легко заменяется на "экстремизм".
– А чему тут удивляться, если учесть, что одним из первых декретов советского правительства в 1918 году был декрет "Об антисемитизме", опубликованный в газете "Известия". Чему удивляться, если вспомнить первые перестроечные годы, когда в борьбе с так называемым "сталинизмом" поднимали на щит ленинскую гвардию со всем её идеологическим наследием и со всеми её мировоззренческими установками. У меня не проходит ощущение: всё совершающееся в России сейчас – во многом повторение того, что уже было, включая расстрел Верховного Совета 1993 года.
– Установка деятелей ленинской гвардии на мировую революцию, ради которой Россией можно пожертвовать, как вязанкой хвороста, удивительно схожа с установкой наших так называемых демократов, с упоением разрушивших "эту страну" во имя построения другого фетиша – "рынка". А если мешает менталитет народа, то долой его, этот менталитет! Или, как заявил их духовный отец А.Н. Яковлев, России необходима реформация, переделка сознания народа на иной, западный лад. И не случайно и те, и эти так безжалостны именно к крестьянству, несущему в себе в наибольшей полноте национальное сознание. В этом контексте поистине злободневно прозвучала ваша книга о Павле Васильеве "Русский беркут" и солидный том сочинений и писем поэта, составленный и откомментированный вами. Впервые наследие Павла Васильева, разбросанное по периодике прошлого века, вернулось к читателю в самом полном виде. И произошло это благодаря вашим трудам, понадобились прямо-таки шахтерские раскопки, чтобы до всего этого добраться. Те слои, которые, по вашему признанию, приходилось отсекать во время работы над книгой о Есенине, проросли книгами "Русский беркут" и "Павел Васильев. Сочинения. Письма". И, видимо, они не последние в этом ряду?
– Время Павла Васильева, по сравнению с есенинским, – уже совершенно другая эпоха. 30-е годы очень непохожи на 10-е и начало 20-х. Это время требовало другой человеческой породы, способной на творческое выживание.
– Порода новая, но корень-то её всё тот же – ярко выраженное русское национальное сознание. От Сергея Есенина к Павлу Васильеву, а если брать ближе к нашим дням, и к Николаю Рубцову. Традиция продолжается.
– А каково было жить с этим ярко выраженным национальным самосознанием в те годы? И не просто с ним жить, а отстаивать и воплощать его в своих сочинениях? Причём, не в подпольных, потайных произведениях, а предназначенных к публикации, обнародованию. Более того, собирать славу на почве этих сочинений, а потом получать "гонорар" в виде тюремных сроков, а в конечном счете пули у стенки. Вот это и есть судьба Павла Васильева. Моё обращение к этой фигуре было закономерным, потому что есенинский тип человека никуда не исчез из русской жизни. Вот эта удаль, эта лихость жизненная, это ощущение простора, бескрайней земли, как принадлежащей лично тебе, сочеталась с одновременным непрекращающимся чувством горечи – "в своей стране я словно иностранец". Это было свойственно тогда очень и очень многим. Любовь к Есенину, когда через час по чайной ложке выходили его стихи, когда они изымались при обыске, когда разгонялись литературные кружки, существовавшие полуподпольно ради чтения и обсуждения есенинской поэзии, сметала все преграды. Ведь она позволяла русскому человеку сохранять себя как русского человека в буквальном смысле. Его поэзия питалась этим чувством родного, которое пронзительнее, точнее и совершеннее, чем Есенин, в ХХ веке не выразил никто из русских поэтов. Да и в мировой поэзии ничего подобного не было. Так вот, Павел Васильев – очень своеобразный и очень оригинальный продолжатель этой смысловой линии. При всём при том, он шагал по жизни и по литературе победителем и ощущал себя в каждом своем проявлении победителем. Не понимать, что чем победнее была его поступь, тем сокрушительней будет нанесённый ему удар, он не мог. В конечном счёте именно это и произошло.
– Вы делаете благородное дело, возвращая в литературу незаслуженно забытые имена. Что сейчас лежит на вашем письменном столе? В каком направ- лении продолжается поиск?
– Сейчас работаю над первоначальной редакцией книги о Клюеве в серии "ЖЗЛ". В результате получается целый триптих – Клюев, Есенин, Васильев. Он вырос самым естественным образом. Клюев благословил Есенина, был его поводырём и учителем и успел благословить и Павла Васильева. Жизнь Клюева охватывает предреволюционное, послереволюционное время и почти полностью 30-е годы, время, уже описанное в книгах о Есенине и Васильеве. Но Клюев – это ещё и начало века, 10-е годы. Именно в этом отрезке времени завязывались все те узлы, многие из которых приходилось потом развязывать или рубить, а некоторые так и остались неразвязанными и неразрубленными. В разговоре о Клюеве этого периода невольно возникает огромная, невероятная по сложности и боли тема состояния русского православия в начале ХХ века. Это разговор тяжелейший, наталкивающий на выводы, которые придутся не ко двору очень многим людям совершенно разных воззрений, умонастроений, политических и социальных направлений и толков. Считаю, что он крайне назрел и даже перезрел.
– Тема, как я понимаю, важная даже не столько для литературы, сколько для понимания истории России в ХХ веке вообще?
– Для русского самосознания в целом. Для понимания состояния русской души и русского умонастроения в то время. Соответственно и с выводами о русском самосознании, самостоянии и душестоянии в наше время.
– Такой разговор, мягко говоря, не приветствуется в наши дни, когда самый большой народ государства российского лишен даже графы "национальность" в паспорте, в отличие от некоторых автономий, которые в тех же паспортах гордо ставят свои названия. Не говоря уже о миграционной политике, будто специально направленной на размывание национального тела государствообразующего народа.
– И приветствоваться не будет, я в этом уверен. Как уверен и в том, что этот разговор сегодня более чем необходим. Нам надо снять струпья с ран, которые в своё время заживлены не были. Без очищения они не заживут.
– Что помогает такой работе, когда, грубо говоря, чувствуешь, что идёшь на баррикады?
– Пожалуй, одно: надо не держать эти баррикады в поле зрения. Когда идёт разговор только между тобой и поэтом, да его современниками, не нужно думать о том, что закричат доброхоты.
– Возможно, я сама себе буду противоречить, но все-таки задам такой вопрос. В одном из последних номеров "Нашего современника" вы пронзительно откликнулись на трагическую и безвременную кончину замечательного поэта и прозаика Николая Шипилова. Нет ли у вас чувства вины, что слишком поздно появились эти строки, наполненные тонким пониманием его творчества и так необходимые любому пишущему при жизни?
– Хороший вопрос, хотя отвечать на него и трудно, и больно. Николай Шипилов… Я часто вспоминаю своё общение с ним. Не скажу, что часто встречался, но каждый раз встречи были насыщенными, очень серьёзными. Хотя самого его я помню веселым и немного даже бесшабашным человеком, при всей его глубоко спрятанной грусти и боли. Он вообще был в хорошем, высоком смысле слова русским, советским человеком по отношению к жизни, к людям, по миропониманию. А вина? Есть и вина. Много раз я пытался ещё при его жизни заказать статью в "Наш современник" разным людям, хорошо его знающим. Так никто её и не написал. Самому мне казалось, как это часто бывает, что я всегда успею это сделать. Последняя его вещь – "Псаломщик" – появилась в "Роман-газете" уже после его смерти. Но моё поминальное слово о Николае Шипилове не будет последним.
А что касается собственно критики, посвящённой творчеству современников, с этого я и начинал. Причём, критические статьи шли одновременно и параллельно с историей литературы, Время, хочешь не хочешь, вносит свои коррективы. Я давно хочу написать о поэзии и об исторических занятиях замечательного поэта и историка Владимира Карпеца. Благодарен судьбе, что появилась возможность познакомиться с прозой Веры Галактионовой. На мой взгляд, это уникальная страница нашей литературы, до конца ещё не осмысленная. И тут я вижу связь с тем наследием, которым я занимаюсь на протяжении многих лет. Казалось, эта нить в русской литературе прервалась. На самом деле, она существовала всегда. Мне посчастливилось при жизни Николая Ивановича Тряпкина написать и опубликовать о нём две статьи. С другой стороны, я много размышлял и писал о поэзии Юрия Кузнецова. И это всё как бы разные лучи, сходящиеся в единый солнечный круг большой русской литературы.
– Задавая вопрос о Шипилове, я имела в виду не его одного, а все поколение, к которому принадлежит и Вера Галактионова. Недавно в "Дне литературы" появилась основательная статья Владимира Бондаренко "Самосожжение любовью" о её творчестве. Критик приводит её слова: "Наше поколение немного провисло. Сначала нам перешли дорогу мертвецы (речь идет о так называемой "возвращённой" литературе). Огромные журнальные площади, которые должны были быть нашими, ушли под то, что находилось в запрете, под спудом… Произошло искусственное обеднение русской литературы. В глубинке зачахло, не пробилось к свету многое из того, что должно было стать по-настоящему великим… Страшно подумать, сколько талантливейших судеб сломано, погублено, смято в этой невидимой войне".
– Я считаю, что Галактионова совершенно права. Всё именно так. Журналы наперегонки печатали "возвращённую" литературу". А надо бы издавать её отдельными книгами, что было бы естественней и полезнее для читателя, с обстоятельным справочным аппаратом, с добросовестными, квалифицированными комментариями, содержательными предисловиями, не оставляя за бортом живую литературу. Но литературная политика строилась на совершенно иных основаниях. Искусственно взгонялись тиражи, причем тиражная политика была частью политической борьбы тех лет. Из современного печаталась преимущественно проза либералов, и получалось, что патриотическая линия была вынута из литературного процесса. И Галактионова, и Шипилов принадлежат как раз к этому крылу. В том столкновении, в круговороте летящих искр было не до незамечаемых современных писателей, многие из которых таки не сумели по-настоящему войти в литературу. А те, кто вошли, вынуждены были в полном смысле этого слова пробиваться сквозь асфальт.
– Сергей Станиславович, мы коснулись политической борьбы "перестроечных" лет. Приходится признать, что патриоты в ней проиграли. В том числе и писатели, работающие в русле отечественных традиций, болеющие народной болью. Их просто изгнали из информационного пространства. А взамен пытаются навязать новых "гениев" – от широко известных в узких кругах сорокиных и приговых до заполонивших все прилавки представителей масс-макулатуры типа Акунина и Дашковой. И вот уже Швыдкой торопится сообщить "городу и миру", что русская литература умерла…
– Чего ещё можно ожидать от господина, заявившего, что "русский фашизм" страшнее немецкого?! Для него и русская литература давно умерла. Правда, тут он выдаёт желаемое за действительное. Ну, уж очень хочется! Просто руки чешутся взять лопату и наконец закопать её. Не дождётся, понятно!
Но я бы хотел сейчас сказать о другом. Возьмём последние 15 лет и попытаемся вспомнить появление на телеэкране Василия Белова, Валентина Распутина или фильма о Николае Рубцове. Их не было. А теперь, хоть и изредка, – начинают появляться. Через много лет, по чайной ложке – и всё это определяется гнуснейшим понятием "неформат". Им оперируют теледеятели, дабы отсечь всё мешающее и ненужное им. Возьмите повесть Валентина Распутина "Дочь Ивана, мать Ивана". Вещь эта поистине пророческая, как бы прояснившая за три года до событий в Кондопоге их причину… Русское национальное начало умудряется выстаивать и осуществлять себя при всех фазах борьбы с ним...
– И все-таки мы оказались не готовы к тому повороту событий, который ждал Россию в конце 80-х – начале 90-х годов. То есть наше поколение проиграло свою битву. Растим ли мы следующее поколение, которое будет способно выиграть сражение за Россию?
– От нас зависит, какой опыт мы передадим своим детям. А это напрямую вытекает из того, как осмыслим горькие уроки своих поражений. Мы в общих чертах представляли себе, с кем приходится бороться во второй половине 80-х годов. Но даже отдалённо не представляли методов борьбы, которыми она будет с нами вестись.
А вторая причина: мы слишком рано уверовали в собственную победу. Нами овладела эйфория открытого выражения своих взглядов в печати. Нам казалось, что достаточно добиться того, чего мы не имели десятилетиями, и это уже станет залогом победы. Эта же эйфория породила самоуверенность многих патриотических лидеров, перешедшую в эгоизм, в деление шкуры неубитого медведя.
Уроки таких провалов нам необходимо учитывать, учить этим урокам своих сыновей и дочерей, чтобы не проиграть окончательно наше будущее.
Будущее процветающей России, крепкой в своём самостоянии.
Беседу вела Светлана Виноградова
(обратно)Владимир Бондаренко ПО МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПЕ
У него явно есть своя, незахоженная медвежья тропа. И потому к коллективным "медведям" из "Единой России" он никогда не рвался. И вообще, что это за медвежья стая, возможна ли она изначально? Нет уж, берлога Дмитрия Медведева стоит в своём лесу. Тропа к миру тоже своя.
Мне первый вице-премьер Дмитрий Медведев иногда напоминает молодого Дэн Сяопина. Не выпячивается, на трибуну лишний раз не лезет, но молча и упорно делает своё дело во имя национальных интересов своей страны. Впрочем, таким же был и Иосиф Сталин, тоже лишний раз себя не демонстрировал публике. Вот и наш герой – некий "тихий русский в Кремле". Его трудно раскрутить на публичность, хотя, надеюсь, мне удастся как-нибудь побеседовать с ним лично для нашей газеты ещё до выборов, и задать ему уже накопившиеся вопросы. Тем более, и в политике Дмитрий Медведев нарушает установившиеся правила игры. Он не дипломат, и если говорит, то, похоже, именно то, что думает. И потому его ответы всегда неожиданны. Скажем, в недавнем интервью "Итогам" он признается: "Мне всегда нравилось то, чем занимался. И в кремлёвской администрации, и сейчас, в белом доме. Интересно работать, когда видишь результаты труда. Наверное, в этом смысле я счастливый человек".
Мало кто из людей власти так откровенно выскажется. Явно, он не увлечён инстинктом потребления, как бы он ни проповедовал права на частную собственность. Не человек шопинга, а человек творческий, что для чиновника, каким он уже долгое время является, по-моему, счастливое исключение. Человек правового сознания. Как и многие новые бизнесмены – трудоголик.
В каком-то смысле ему любая идеология противопоказана. И неинтересна. Если бы оставался советский режим, он со своим логическим программным мышлением руководил бы великими стройками. И уж точно, был бы при деле. Недаром он опять же прямодушно заявляет, что когда Советский Союз приказал долго жить, то он, "как всякий нормальный человек, испытывал тогда дискомфорт. Было непонятно и неприятно. До сих пор помню тот момент: я полетел в командировку в Германию. Уезжал из СССР, а вернулся в другую страну. Меня это глубоко потрясло… Понимал: переименованием государства дело не ограничится… К счастью, Россия прошла по лезвию ножа, избежала распада и полномасштабной гражданской войны".
Как видим, он уже совсем молодым ещё в советское время был встроен в систему, неудачники тогда по Германиям не разъезжали. Для работы ему прежде всего нужна спокойная строительная площадка. Это и есть его, если хотите, политическое кредо. Претворять громадье планов – путинских ли, своих ли или кого-то иного, близкого ему по духу, – в жизнь. Этакий ленинградский преемник Сталина Вознесенский, со своей чёткой и спокойной программой на будущее. Но тогда, в начале пятидесятых, ленинградскую блестящую строительную команду Вознесенского завистники и разрушители государства сумели уничтожить, возбудив показное "ленинградское дело", как бы в отместку за кампанию против космополитизма. Так же лихо уничтожили кировскую деловую команду, шедшую во власть, в тридцатые годы. Сейчас, вроде бы этого не должно случиться?
Питерский дух, кто бы и под какими либеральными или консервативными знамёнами ни шёл из этого города в столицу, – это имперский деловой дух, идущий от гранитных мостовых, от коней Клодта, от величественных мостов, от Медного всадника и Ростральных колонн. "Невы державное теченье" делает державником любого выходца из Петербурга. Дух русской Европы, русской деловитости, русского размаха. Что это за политика: либеральный консерватизм, консервативный центризм, патриотический либерализм? Одно можно сказать: Дмитрий Медведев не допустит развала страны, если надо, пойдёт на все тяжкие, но страну сдаст в свое время отделанной под ключ. Он, возможно, идёт к той или иной власти в момент, когда хоть частично, но исчезло чувство безысходности, безнадёги. "Да, жизнь и сегодня трудна. Чем дальше от Москвы, тем сложнее. Но ощущение безысходности пропало… Я вижу свет в конце тоннеля и знаю, куда двигаюсь…" Может быть, и стоит России, наконец-то, сделать ставку на того, кто знает, куда двигаться. Не рисует радужных картин, но и на свет из тоннеля, наконец, выведет.
И главное, что звучит из уст питерского интеллектуала, сынка из профессорской семьи, далеко отошедшего от своих деревенских предков из Белгородской области. Звучит уже давно, не пафосно, плакатно, не в рамках предвыборной кампании, а на основании опыта добротной многолетней работы: Дмитрий Медведев многим обязан русской земле и никуда отсюда не уедет, он прекрасно понимает – для того, чтобы "тут жить и работать", надо очень внимательно учитывать ту русскую "национальную специфику, которую нельзя игнорировать".
Даже учиться, по мнению Медведева, необходимо в России, ибо западная учёба основана на западном менталитете и на западном взгляде на мир. И ладно бы ещё физики и химики набирались ума-разума в Оксфордах и Кембриджах. Но ни юристы, ни экономисты свой западный опыт в России применять практически не смогут, если только ни разрушат до основания всё существующее. Потому и сына в России учить собирается. "Учиться будет дома, это определенно. Я вот получил советско-российское образование, видите, каким начальником стал. Если бы уехал в Оксфорд, Стэнфорд или Гарвард, не факт, что разговаривал бы с вами в нынешнем качестве", – это из интервью Андрею Ванденко.
И потому он поборник сильной России, которая, по его мнению, нужна всем: "В конце концов, сильная Россия должна быть столь же необходима не только нам, но и нашим соседям и партнёрам". Всё безразличие к России порождено её перестроечной слабостью и подчинённостью западной политике. "Какие бы проблемы ни переживала наша страна, какие бы противоречия её ни раздирали, какие бы ошибки ни совершались во внутренней и внешней сфере, наши партнеры оставались к ним совершенно равнодушны. Оно и понятно. Слабое государство уязвимо и неопасно."
Он – державник, обращённый лицом к западу (впрочем, и к востоку тоже, не зря же Медведев так внимательно изучает китайский опыт). Будущее покажет, сумеет ли Дмитрий Медведев в какой-то мере сыграть в России роль китайского лидера, по-настоящему определившего на сто лет вперёд бурное развитие нашего великого соседа. Да и дадут ли ему это сделать?
Самое главное, что эта роль ведущего не повязана напрямую на те или иные главенствующие должности, за свою жизнь Дэн Сяопин был и в ссылке, и во главе страны, и где-то сбоку, оставляя всякий раз за собой свою программу развития. Но уже сейчас к знаменитому выражению Дэн Сяопина: "Мне всё равно, какого цвета кошка. Главное, чтобы она ловила мышей", я бы добавил и медведевское: "Время всё расставит по своим местам".
Время заставило определиться Дмитрия Медведева и с программными заявлениями на будущее. Впрочем, то же самое произошло и с его напарником в до сих пор неозвученной гонке претендентов на кресло президента, ещё одним первым вице-премьером Сергеем Ивановым.
В связи с этим вспомним сакральное для многих наших мистических систем число три, вспомним и российский имперский вариант сакральности, заложенный в уваровской триаде:
"Православие, самодержавие, народность".
ДАВОССКИЙ ВЫЕЗД
Мы давно смотрим на Давосский всемирный экономический форум, как на смотрины преемника. Когда-то симпатии западных политиков завоевал лидер коммунистов Геннадий Зюганов, продемонстрировавший вполне приемлемую для западного мира концепцию развития России. По-моему, эта речь целиком так и не была опубликована, олигархам она была не нужна, ибо примиряла с Зюгановым предпринимателей, левые пугались её рыночной основы. Именно после Давосского форума, поняв, что Запад готов принять Зюганова, перепуганные олигархи забыли о своей вражде друг с другом, и, объединившись, сумели оттеснить в 1996 году Геннадия Зюганова от президентского кресла. Спустя четыре года в Давосе всех уже покорял Владимир Путин. По-моему, там, в Давосе, и родилась эта знаменитая вопросительная реплика "Who is Mr. Putin?" Давос становился президентской ярмаркой невест для непобедимого Росса.
Вот почему в кремлевских кругах шла нелёгкая борьба, кто поедет в Давос в январе 2007 года, практически за год до президентских выборов. Герман Греф в газете "Ведомости" признавался, что далеко "не все разделяют мнение" о важности Давосского форума, под этим мнимым предлогом ненужности форума иные хотели бы совсем никого туда не посылать. Хотя все понимали, дело не в экономических доктринах, провозглашённых в Давосе (важны они или второстепенны), дело в ставших традиционными смотринах русского преемника на власть.
И всё-таки поехал в Давос Дмитрий Медведев, это уже была значимая демонстрация его силы и решимости. А приехав, он уже не мог позволить себе ограничиться какими-то общими положениями о стабильности и открытости. Требовалось всему миру заявить русскую программу на будущее. В своей прошлой статье о Медведеве, в конце 2006 года, я размышлял о вероятной будущей программе путинского преемника. Ждал, когда же он выскажется "по самым главным проблемам… развития страны".
В Давосе и была произнесена концепция построения русского будущего. Думаю, её читали многие, обсуждали и в мировой печати, и в политических, и в экономических кругах.
И всё-таки, позволю себе процитировать заключение, озвученное Дмитрием Медведевым по-английски, о том, что такое новая Россия и куда она движется?
"Россия – это страна, которая в ХХ веке была подвергнута тяжелейшим испытаниям: революциям, гражданской войне, мировым войнам, экономическому коллапсу. Сегодня мы строим новые институты, основанные на базовых принципах полноценной демократии. Демократии без ненужных дополнительных определений. Демократии эффективной, опирающейся на принципы рыночной экономики, верховенства закона и подотчетности власти остальному обществу. И хорошо понимаем, что ещё ни одно недемократическое государство не стало по-настоящему процветающим. По одной простой причине: свобода лучше несвободы.
Да, нам надо сделать ещё очень многое. При этом мы осознаём все проблемы: чрезмерную зависимость от рынков минерального сырья, коррупцию и по-прежнему высокий уровень дифференциации доходов населения при снижении его численности.
Мы не заставляем кого-либо любить Россию. Но мы никому не позволим причинять России вред. И будем добиваться уважения, как к гражданам России, так и к нашей стране в целом. Причём, не силой, а ответственным поведением и успехами.
В нынешнем веке мы видим себя развитой страной с сильной экономикой, надежным торговым и внешнеполитическим партнером. Такой Россия исторически была на протяжении многих веков…
Мы движемся именно к такой экономике – основанной на следующем поколении технологий, опирающейся и на крупные компании, конкурентноспособные на мировых ранках, и на широкий слой малого и среднего бизнеса. В том числе – инновационного. Уверен, что разработки российских компаний будут пользоваться спросом во всём мире. Российская экономика будет не только в полной мере реализовывать свой исторический мандат энергетического и транспортного центра Евразии. Мы восстановим наши позиции как одного из крупнейших научных центров. А также превратим наш финансовый рынок в один из наиболее эффективных и востребованных в мире."
Для создания этой новой развитой экономики Дмитрий Медведев находит три заветных ключа: "Первый ключ – это диверсификация. Второй ключ – создание современной инфраструктуры. И третий ключ – вложения в человеческий капитал".
Диверсификация – это и есть желанное изменение структуры экономики, отказ от неблаговидной роли сырьевого придатка. "Это глубокая переработка всех видов природных ресурсов, аэрокосмический сектор и сектор интеллектуальных услуг". Он надеется, что развитие этих отраслей потянет за собой и преобразование всей экономики России. Создание современной инфраструктуры общества от электронных коммуникаций до разветвлённой дорожной сети тоже давно назрело. Впервые, кажется, в России он всерьёз заговорил о дорожном строительстве. О тех, крайне необходимых дорогах, "которые всем нам вместе придётся строить, если мы хотим идти дальше". Он нацелился на экономику знаний. Не случайно и в своей важной западной поездке он прежде всего встретился не с банкирами или политиками, а с Биллом Гейтсом, создателем сети "Микрософт Виндоуз". У нас уже не хватит ни рабочей силы, ни времени догонять Китай по количеству заводов. Но, как и в гонке вооружений, всегда есть асимметричный ответ. Как утверждает Дмитрий Медведев: "В развитых государствах вложения в образование, науку, культуру, здравоохранение примерно в разы превышает вложения в машины, оборудование, здания, сооружения. Соответственно и основной прирост национального богатства определяется сегодня прежде всего качеством жизни и условиями, созданными для раскрытия человеческого потенциала".
Давно известно, по своим интеллектуальным возможностям русский народ – один из лидеров, наравне с индусами, немцами, евреями… Так может быть, пора нам воочию доказать это интеллектуальное лидерство? Может быть, это и есть тот локомотив, который вывезет Россию из нынешней ямы? Вот поэтому прежде всего звучит в его программном выступлении тезис о необходимости создать все условия для развития талантливой личности. "Талант, способности личности играют сегодня во многом определяющую роль." Дмитрий Медведев наконец-то собрался решить вечную российскую проблему: дураки и дороги. Избавившись от дураков, сделав ставку на активную творческую личность, вполне можно наконец-то застроить Россию и дорогами. А где дороги хорошие, там и жизнь хорошая начинается.
Интересно, что кроме этой экономической триады развития в своём давосском выступлении Дмитрий Медведев изложил и собственное видение русской исторической триады: "Сегодня я хотел бы поговорить не об одной, а о трёх разных странах. О России 2000 года. О России сегодняшней. И о России будущего…"
Интересно, что почти во всех выступлениях Медведева не осуждается, а лишь противопоставляется Россия советская (с совсем иными, но достаточно ёмкими способами развития) России сегодняшней, которая, по его словам, лишь только-только подходит по своим экономическим показателям к той прежней. "Например, по объему ВВП мы выйдем в этом году на максимальный уровень советского периода. Мы к этому стремились – и это радует."
А для осуждения прошлого, для примера нашей бездны и пропасти Дмитрий Медведев выбрал и в Давосе, и в других своих программных выступлениях ельцинское время экономического коллапса, время кошмара.
И с цифрами в руках доказывает, как Россия вылезала из этого кошмара, демонстрирует, что Россия 2006 года – это "другая страна".
Для России будущего он и предлагает свою волшебную восточную трехлапую жабу, ведущую человечество к счастью и процветанию, – три опоры для долгосрочного роста российской экономики. А далее определяет и конкретные три отрасли, приоритетные для страны.
В Давосе Дмитрий Медведев убедительно доказал, что новая Россия состоялась как государство, хотя ей и пришлось из-за перестроечной дурости лет пятнадцать догонять самоё себя. В Давосе мировая элита убедилась, что Дмитрий Медведев практически состоялся как политик, как аналитик, как разумный прагматик, ставящий перед собой и перед своей страной вполне разумные глобальные цели.
Кстати, как главные опасности на дальнейшем продвижении общества, он видит уже иную, но тоже триаду: "Это – терроризм, бедность, преступность", три главных опасности, способные и сегодня разрушить Россию как государство. "Поэтому основной риск – дестабилизация общественной жизни, возникшая вследствие актов террора или грубых экономических ошибок и происходящая на основе масштабной драки элит. Как следствие – передел собственности, возникновение региональных барьеров, сепаратизация общественной и хозяйственной сфер."
Что меня радует, в отличие от иных любителей всевозможных запретов уличных митингов и демонстраций, которых сегодня развелось с избытком и в правом, и в левом движении, в рабочей поступи страны Дмитрий Медведев совсем не страшится этих самых митингов и демонстраций. Ведь это доказывает наличие в России гражданского общества. А сам Медведев относит себя к тем, "кто считает: гражданское общество было в нашей стране всегда... и в самые мрачные периоды истории люди отыскивали способ выразить собственную позицию, независимую от государства, даже если для этого им приходилось прибегать к эзопову языку. И сегодня, на мой взгляд, гражданское общество соответствует уровню развития демократии в России".
Естественно, это гражданское общество имеет право демонстрировать свои, отличные от государства мнения во время уличных шествий. Насколько я понимаю, в возможную будущую эпоху Медведева марши несогласных будут себе спокойно маршировать по улицам городов, лишь бы при этом вся страна уверенно шла по пути развития. Видно, что ему самому критичность в его адрес лишь помогает лучше сориентироваться. "Это хорошо. Мы не ЦК КПСС и не пропагандируем единомыслия. Главное – не утратить критичность по отношению к себе, не опуститься до примитивных управленческих схем, забыв об истинных целях государственной деятельности." И если механизмы управления обществом не срабатывают в должной мере, если государство отвернулось от насущных нужд народа, уличные выступления лишь подчеркнут важность тех или иных мер. "Выступления на улице – нормальная реакция смущённых людей. Если хотите, прямое и не всегда приятное доказательство существования гражданского общества. Ничего сверхъестественного в них нет", – заявил он.
Думаю, эти слова охотно поддержал бы Эдуард Лимонов или Захар Прилепин, мои друзья в мире литературы, и вряд ли они понравились бы ретивым охранителям, набивающим в Москву в дни митингов ОМОН со всей России. Более того, Дмитрий Медведев не раз говорил об опасности административного ража в деятельности правоохранительных органов: "Это опасная вещь. Последствия не до конца продуманных действий скажутся в экономике. Вызовут смущение в политической жизни". Очень деликатно, но он не боится высказывать свое мнение, отличающееся от господствующего. И даже от мнения нынешнего президента. Но, допуская и даже приветствуя митинги протеста, Дмитрий Медведев, судя по всему, видит реальную опасность от разъединения страны, от расколотости общества, от пропасти между кучкой богачей и массой бедного люда. Он понимает, что и сегодня существует опасность уничтожения самой России как таковой. Он понимает важность державной государственной, по сути – имперской идеи. "Если мы не сумеем консолидировать элиты – Россия может исчезнуть как единое государство. С географических карт были смыты целые империи, когда их элиты лишились объединяющей идеи и вступили в смертельную схватку." Прежде всего "сохранение эффективной государственности в пределах существующих границ… Все остальные идеологемы вторичны."
Думаю, это важнейшее заявление одного из возможных будущих лидеров России. Государственность превыше всего. И заметьте, как оно согласуется с Лимоновским лозунгом: "Россия – всё, остальное – ничто". И как оно не похоже на путинскую шуточку о нашей национальной забаве – искать объединяющую идею…
Мне интересно, даже как определенный психологический фактор, в противовес медведевской триаде экономических задач другой претендент на звание преемника Сергей Иванов опубликовал в газете "Известия" свою программную статью "Новая триада русских национальных ценностей", и он уже даёт в чем-то схожие, в чём-то совсем иные ответы на дальнейшее развитие России. Параллельные прямые, долгое время не пересекающиеся на нашем политическом поле, приближаясь к выборам, вдруг уже по теории Лобачевского пошли под разным углом. Сергей Иванов в своей программе делает упор на развитии военной мощи. Суверенитет страны, развитие ВПК, международный статус державы.
К пяти медведевским национальным проектам Сергей Иванов добавляет с мощным перевесом еще один военно-промышленный, предполагая дальнейшее развитие науки и промышленности, как бы вытекающее из новейших оборонных разработок.
Но сумеем ли мы одновременно развивать и мощное военное направление, и здравоохранение, и образование, и программу жилья, сможем ли мы в рамках программы Иванова улучшать качество жизни человека? Не в этой ли всеохватности была заложена слабость советского строя?
И кого в таком случае из этих двух кандидатов предпочтет на выборах народ?
РАБОЧАЯ ЛОШАДКА
Думаю, устойчивая система взглядов выработалась у Дмитрия Анатольевича Медведева ещё в питерской юности. Он родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде в профессорской семье. Собирался продолжить профессорскую традицию (может быть, она ещё и продолжится когда-нибудь?). Он шёл к своей заветной цели, к профессорской кафедре, к заслуженной известности в юридических кругах; написал в соавторстве учебник, по-моему, рассматривая как некие помехи свои первые шаги в должности помощника Анатолия Собчака.
Легко уступил публичное место своему другу и коллеге Владимиру Путину.
Не случайно, работая с июня 1991 по июнь 1996 года юридическим экспертом комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял Владимир Путин, Дмитрий Медведев упорно не бросал преподавание на юридическом факультете ленинградского университета. Гордился тем, что быстро стал доцентом, мечтал уже о своей докторской, был уважаем в среде и преподавателей, и студентов. Мне кажется, он человек не амбициозный, главное для него – достижение поставленных перед собой целей. Его медвежья тропа до сих пор проходила не по магистральным дорогам. Он не оратор и не трибун, хотя упорно учится и тому и другому. Учится публичности, учится популярности. Но – удовольствие получает от проделанной работы.
Для него нет пропасти между советской Россией и нынешней Россией, точно так же военспецы помогали создавать Красную Армию, а финансисты обучали комиссаров науке торговать. Он сам понимает уникальность своего поколения, попавшего между двумя столь разными эпохами. "Я считаю важным для моего поколения то, что мы можем сравнивать две эпохи. Ту, которая ушла, но мы росли в ней, получали образование в эту эпоху. И та эпоха, которая наступила. Со всеми её плюсами и минусами. Мне кажется, это довольно важно для того, чтобы определяться в какой-то ситуации, принимать взвешенные решения…"
Более того, он сознает важность для себя советской эпохи, "видимо, это и сформировало определённый набор ценностей". Ценности нравственные, государственные. Ценности трудового воспитания, как бы это сегодня смешно ни звучало. Не случайно же он после школы год проработал лаборантом в ленинградском технологическом институте. Не случайно в свободное время уже студентом юридического факультета ЛГУ подрабатывал лаборантом на кафедре. Знаю по себе, так и закладываются навыки труда, сам начал работать, ещё учась в школе, годами подрабатывал тем же лаборантом, будучи студентом ленинградской лесотехнической академии. И деньги свободные не помешают, и опыт идёт, и привычка к постоянной работе возникает.
Конечно, будущим историкам предстоит разобраться, почему столь удачно подбирал своих студентов и помощников Анатолий Собчак. И в нём ли дело? Всё-таки и студентов у Собчака были сотни, и помощников тоже с избытком. Но вот ещё одно преимущество студенческой ватаги, сплочённости птенцов того или иного гнезда, будь то писательского (от распутинско-вампиловской иркутской стенки до кожиновского поэтического ядра), научного (из будущих знаменитых физиков-ядерщиков) или политического, чему явный пример имперская путинская ватага. Слабые в эту ватагу не попадали изначально, отсеивались при первых же встречах.
Конечно, попади в преемники Ельцина вместо Путина кто-то иной, от Немцова до Степашина, и выбор был бы другим, возможно, так и остался бы известным профессором юрист Дмитрий Медведев. Но неудачником не стал бы всё равно, и по-прежнему чувствовал бы себя счастливым человеком, получая удовольствие от своей работы. Везде был бы рабочей лошадкой, везде был бы великим визирем, на которого всегда можно положиться. Вот загадка для психологов: когда рабочая лошадка и даже великий визирь становятся сами во главе, не чувствуют ли они каких-то неудобств от того, что сами вынуждены ставить себе задачи?
И может быть, именно поэтому выбрал одним из преемников своих президент Владимир Путин свою многолетнюю рабочую лошадку, положившись на неё и в будущей достаточно рискованной президентской гонке? В администрации президента знали – со временем Дмитрий Медведев справится со всем: с ельцинской семьёй, с самодурами из "Газпрома", и даже с будущими национальными проектами. Ведь справился же он с операцией "ельцинский наследник", во многом при поддержке Волошина и ещё ряда отставных величин, причём блестяще и незаметно, страхуя нового президента Владимира Путина. В одночасье скромный питерский доцент становится одним из руководителей государства, впрочем, и вся остальная питерская команда, включая президента, также мгновенно пересела из провинциальных саней в дворцовые кареты. Кое-кто и выпал по дороге, кое-кто выпадет и в дальнейшем, но где та новая команда молодых доцентов из каких угодно университетов, которая была бы способна опрокинуть нынешних? И кто поведёт их к такой цели?
И потому реально путинская университетская команда конкурирует лишь с путинской же чекистской командой. Я бы не спешил заранее отдавать предпочтение чекистам, успешность их действий за последние десятилетия не раз ставилась под вопрос. Чересчур порою витают они в облаках, подобно институтским барышням, чересчур поспешно питаются сырой информацией, которая их же и подводит. Иной университетский аналитик, подобно Дмитрию Медведеву, на основе открытой информации сделает гораздо более правильные и серьёзные выводы, нежели подпитывающийся скрытой, а потому и непроверенной информацией чекист.
Я обратил внимание, где бы ни работал Дмитрий Медведев, всегда сотрудники искренне сожалеют о нём после его перехода на другую должность. Не такое уж частое это явление. Сожалели сотрудники петербургской кафедры, откуда в Москву уезжал доцент, сожалели питерские коллеги из мэрии, даже Александр Волошин и тот высоко оценил работу своего ставленника. Он никого не подсиживал, никого не "разводил", не интриговал. Он лишён был жажды подзаработать на своём посту (что совсем уж диковинно для нашего чиновничества). Останется ли он таким же честным и прямолинейным до конца, позволят ли ему переделать со временем под себя и всю структуру управления? Или и его заставят привыкнуть не видеть лишнего?
Пока ещё есть надежда на реальную модернизацию России, на выход из системного кризиса, не только экономического, но и управленческого. Вывезет ли на этот раз рабочая лошадка?
ИГРА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ
Развернутая глобальная программа президента Путина, изложенная в его последнем послании, уже предназначена для кого-то другого, который весной будущего года будет зачитывать своё президентское послание.
Вполне возможно, что в будущем послании не останется ничего из путинских обещаний. А будет нечто другое. Ведь есть же две другие программы развития, всерьёз заявленные Дмитрием Медведевым и Сергеем Ивановым. Я не очень-то верю в появление иных каких-то кандидатур за полгода до выборов. Такого не бывает...
Скорее, подобно искусственно созданным по американской модели двум партиям власти, уже всерьёз сцепившимся друг с другом за будущие голоса, на предвыборной сцене будут проявлены именно эти одинаково поддержанные Владимиром Путиным две кандидатуры с достаточно разными программами будущего развития России. Дело в том, что самому президенту, мне кажется, подходит и одна, и другая программы – и реформирование всей социальной системы, и строительство новых авианосцев, цена которых заметно превышает весь бюджет здравоохранения. И ставка на глубокую переработку сырья, на новейшие технологии; и модернизация всего комплекса вооружений, с привлечением всех оборонных открытий в гражданскую сферу (так с опорой на ВПК давно уже развивается промышленность США). И ставка на человеческий фактор, на привлечение в экономику cильных активных личностей; и коллективистское государственническое сознание, диктующее определенное ограничение прав и свобод тех же личностей.
По сути, нам предлагается гениальная игра, цена которой вся последующая жизнь России. Два путинских преемника в свободной и жёсткой конкуренции с равновеликими возможностями, с одинаковым административным ресурсом будут добиваться победы на предстоящих выборах. Пусть выбирает сам народ...
И до самого последнего момента, до, как объявлено, 2 марта 2008 года, руку на пульсе будет держать Владимир Путин. Сможет ли он держать её и дальше? Будущее покажет. Таких примеров в истории России ещё не было. Впрочем, Россия всегда идёт каким-то своим необычным путём.
Я скажу только одно – обе фигуры давно уже не пешки, за тем и другим мощные финансовые группы, группы влияния; оба достаточно самостоятельны в своих суждениях (я не касаюсь лишь идеологической программы). Её мы увидим уже после победы кого-то из двух. Добрый дед Мороз с подарками из национальных проектов, определяющих качество жизни каждого из нас, или же воин-защитник, стойко отстаивающий наши рубежи от внешних врагов.
В любом случае, и после поражения ни тот, ни другой лидер, скорее всего, не уйдут с политической сцены, являясь противовесом командной системе.
Медвежья тропа Дмитрия Медведева не затеряется и после выборов, пробивая свою дорогу среди русских лесов и болот, возвышенностей и равнин.
(обратно)Евгений Нефёдов ВАШИМИ УСТАМИ
ВИННОЕ-НЕВИННОЕ
"Мы пили любовь, как шампанское пили,
И всё – до глоточка – с тобою допили.”
Сергей КАРГАШИН
Поэты веками слова рифмовали,
И все – до единого зарифмовали.
В такой ситуации что же мне делать,
Какое созвучие к месту приделать?
Мучительно-долго над этим я думал,
И всё-таки выход, конечно, придумал.
Пойду за шампанским! Обую ботинки,
А если не слякоть – то полуботинки.
Пойду по привычке в какой-нибудь маркет,
А то и, пожалуй, в любой супермаркет.
Вот только не знаю: купить там сухое
Или предпочесть ему полусухое?
Подумав, я первое всё же купил,
Но тут же другое к нему прикупил.
До дома донёс, и пока я писал,
До капли их выпил! И всё описал...
(обратно)

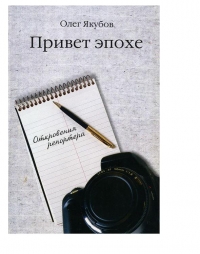
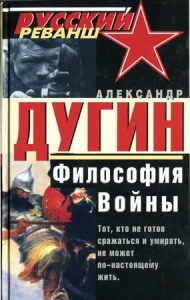


Комментарии к книге «День Литературы, 2007 № 05 (129)», Газета «День литературы»
Всего 0 комментариев