Фотографии
Empty data received from address [ ].
(обратно)Юрий Павлов НЕОБХОДИМОСТЬ БОНДАРЕНКО
В советское время победителям социалистического соревнования присваивали звание ударника коммунистического труда. Владимира Бондаренко без преувеличения можно назвать ударником критического труда, ибо он за последние 10 лет выдал "на гора" столько статей и книг, как ни один из критиков-современников. "Победителя", мягко говоря, не жалуют "левые". Массово — еще с "Очерков литературных нравов". "Победитель" под "подозрением" и y многих "правых": в их восприятии он или не совсем свой, или чужой. Такое отношение "своих" вызвано особенностями личности Бондаренко, человека и критика, особенностями, являющими его лицо, определяющими его особое место в литературе и жизни России последних 30 лет.
Во-первых, многих смущает идейная, эстетическая широта Владимира Бондаренко. Истоки ее в ленинградской молодости критика. Его становление как творческой личности происходило в городе, где Бондаренко, выпускник школы из Петрозаводска, начинающий поэт и студент химического факультета Лесотехнической академии, с 64 по 67 годы дружил с писателями и художниками — "авангардистами". То есть провинциал Бондаренко попал в среду денационализированной молодежи, среди которой были преимущественно евреи. Но Владимир Григорьевич, как и подавляющее число его современников, о национальности своих друзей не думал. Эта мысль вообще не приходила ему в голову.
Показательно, что самым русским среди окружения Бондаренко оказался Иосиф Бродский, который своим строгим анализом стихотворений Бондаренко "убил" его как поэта. Тем самым будущий нобелевский лауреат подтолкнул молодого человека к выбору иного пути — критика, к чему тот был уже внутренне готов.
Дружба с ленинградскими "авангардистами" закончилась тем, чем она и должна была закончиться у русского человека, который не утратил национальное "я", — разрывом. По словам самого Бондаренко, однажды он остро ощутил свою духовную, человеческую инородность в этой среде, он неожиданно понял, что шофер дядя Ваня ему интереснее, ближе (в своем отношении к жизни), чем богемные, "звездные мальчики".
Но трехлетний "авангардизм" Бондаренко не прошел бесследно, он дает о себе знать в разных проявлениях критика. От отношения к раннему Иосифу Бродскому как к русскому поэту до попыток найти здоровое, русское начало в произведениях тех авторов, на которых большинство "правых" давно и сразу поставили крест, авторов от Алины Витухновской до Владимира Сорокина. В этих попытках Бондаренко можно видеть, и видят, всеядность, а можно — проявление христианского гуманизма, который сродни гоголевскому. Если великий писатель верил в возможность духовного возрождения "черненьких" героев своей поэмы, то Владимир Бондаренко допускает не только возможность воскрешения некоторых заблудших и блудящих русскоязычных писателей, но и это воскрешение своими статьями провоцирует. Мне, как ортодоксу, такая позиция и действия критика не близки (мне по душе "выпороть", "размазать", "убить"), но я прекрасно понимаю необходимость Бондаренко именно в этом качестве, ? качестве врачевания любовью...
Итак, в 1967 году несостоявшийся поэт и начинающий критик (а первая газетная статья Владимира Григорьевича была опубликована в 1965 году) начинает "праветь". С Вадимом Кожиновым подобное происходит в 30 лет, с Юрием Селезневым — в 31 год. У них этот процесс был вызван, в первую очередь, внешними факторами, неожиданными встречами, общением. У Вадима Кожинова — с Михаилом Бахтиным, у Юрия Селезнева — с Кожиновым. У Владимира Бондаренко, как и у Михаила Лобанова, идейный и духовный перелом происходит в результате внутреннего развития. А оно у Бондаренко, вновь как у Лобанова, обусловлено атмосферой семьи.
По признанию Владимира Григорьевича, характер он унаследовал от отца. К его судьбе, судьбе украинского Макара Нагульнова (своенравного, гордого, убежденного коммуниста, отсидевшего немало лет в лагере как политзаключенный), критик возвращается неоднократно в своих воспоминаниях, новеллах, интервью. Так, в беседе с Юрием Бондаревым он замечает в скобках: "Это самое важное у человека в жизни — любовь к родителям. Как символ мужества был всегда поведением своим, поступками отец. Он был для меня примером".
Судьба отца, природный ум и независимый характер во многом определили тот факт, что Бондаренко счастливо избежал в своей жизни и творчестве серьезного увлечения, заболевания марксизмом. Только не надо здесь зацикливаться на личном: если бы не репрессированный отец, то... Неприятие критиком советского режима, как и нынешнего ? еще более страшного по силе разрушения национальных и государственных основ, ? лежит в иной плоскости, в той, которая привела его к разрыву со "звездными мальчиками" от литературы, живописи.
Бондаренко оценивает человека, явление, политический строй, литературу "глазами народа", с позиций тысячелетнего национального бытия, что собственно и делает его "правым", "контрреволюционером", "пламенным реакционером" или, по другой версии, — шовинистом, фашистом и т.д. Это качество, в первую очередь, отличает критика от "левых" и, думаю, уместно следующее сравнение его с их кумирами.
Владимир Бондаренко, во-первых, как всякий духовно здоровый русский, ненавидит интеллигенцию за ее космополитизм, за ее неприятие традиционных ценностей тысячелетней России, за ее антинациональную, антигосударственную, разрушительную деятельность... Книга критика "Крах интеллигенции" (1995), куда вошли статьи разных лет, — очередной убедительный приговор этому "племени". И в последующие десять лет Бондаренко продолжает выявлять истинную сущность интеллигенции и ее отдельных представителей. Последняя статья из этой серии "Хороним Геббельса" посвящена одному из самых мерзких и страшных интеллигентов XX века Александру Яковлеву ("Завтра", 2005, №43).
Во-вторых, если “левые” верят в коммунизм, называя его "квинтэссенцией нормального бытия", до которого Россия, как водится у "левых", не созрела, то Владимир Бондаренко одним из первых выдвигает идею департизации. Он призывает в выступлении на пленуме писателей и в своих статьях, обращаясь к патриотам и не только к ним: "Россия должна играть белыми" ("Наш современник", 1990, № 12).
В-третьих, сделав выбор в 1967 году в пользу, как скажет критик позже, "низового" народа, он остается верен этому выбору до дня сегодняшнего. Бондаренко являлся и является защитником народа, что определило его творческую судьбу.
Критик рождается тогда, когда его статьи, книги начинают замечать, читать, как-то реагировать на них. С Владимиром Бондаренко это произошло на рубеже 70-80-х годов, когда он из статьи в статью стал проводить мысль не только о существовании "московской школы", прозы "сорокалетних", "новой волны", но и говорил о В.Личутине, В.Маканине, А.Киме и других как о значительных прозаиках современности, писателях "первого ряда".
В то время критики чаще всего слушать Бондаренко не хотели или не могли. Например, даже Игорь Золотусский в статье "Оглянись с любовью", положительно оценив только "Живую воду" В.Крупина, об остальных представителях "новой волны" "оптом" сказал следующее: "Не пишут о ней, не спорят. Не слышат ее, наконец. Если б была "новая словесность", то был бы и шум вокруг нее. Не помню в литературе случая, чтоб кто-то прямо и откровенно говорил времени правду в глаза, а оно в ответ молчало. Не раздражалось, не нападало на эту правду, а заодно и на авторов ее. Авторы эти пишут и печатаются, их романы и повести появляются в журналах — но где бум? Где синяки и шишки?.. Где гонения на правду? Нет их".
А С.Чупринин в статье с говорящим названием "Каждому — своё!" ("Литературная учеба", 1981, № 1) оценивает прозу "сорокалетних" явно с жреческих высот. С безрассудной уверенностью в том, что В.Личутин, В.Крупин и другие авторы не смогут незамедлительно ответить на вопрос: "Чего недостает современной прозе? Что они хотели изменить в ней?", критик вопрошает: "Где книги великие — без оговорок — и необходимые обществу, как хлеб, как воздух, как слово правды?" Сергей Чупринин противопоставляет "сорокалетним", как образец, "исповедальную", "молодежную" прозу, представленную "сильными" — необходимыми! — книгами". Либо Сергей Чупринин не в ладу с логикой, либо он сознательно подменяет понятия. Указанные качества критика проявились и по отношению к Владимиру Бондаренко после публикации им "Очерков литературных нравов" и "Разговора с читателем", и затем — неоднократно…
Вызывает удивление и улыбку сегодня позиция некоторых молодых и немолодых авторов, которые ставят под сомнение первенство Владимира Бондаренко в открытии "сорокалетних". Им могу лишь посоветовать: читайте "Столкновение духа с материей" ("Литературная газета", 1980, №45), "Найти "голубой" остров" ("Литературная учеба", 1981, №2), "Автопортрет поколения" ("Вопросы литературы", 1985, № 11) и другие статьи критика.
(обратно)ПОЗДРАВДЕНИЯ Владимиру Григорьевичу БОНДАРЕНКО
Сейчас уже трудно представить литературную жизнь России без "Дня литературы", без его удивительно деятельного и неутомимого, вызывающего на открытую полемику с оппонентами, главного редактора Владимира Бондаренко — критика, писателя, публициста. Словами поздравления с 60-летним юбилеем, а также размышлениями о творчестве и месте Владимира Бондаренко в отечественной критике и литературе делятся известные писатели
НЕ РАЗДЕЛЯЯ НА СВОИХ И ЧУЖИХ Свое шестидесятилетие Владимир Бондаренко встречает на развалинах литературы, и на пепелищах, заросших интернетовской полынью, но не от нашествия со стороны — от хамства денег и наглого навала "массовой культуры".
Как устоять? Незаурядный и непредсказуемый литературный критик Бондаренко не разделил литературу на своих и на чужих.
Собрав в своей гостеприимной книге (а книга — это дом!) любимых авторов из разных непримиримых кланов и союзов, он проявил своё непоказное благородство.
С неподдельной искренностью и любовью Владимир Бондаренко написал о творчестве Юрия Кузнецова и Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского и Валентина Распутина, Владимира Высоцкого и Бориса Примерова…
Предпочтение — не кланам, а талантам, потому что он сам талантлив, он обладает редким даром проникновения и пишет о стихах, не о поэтах и не о сюжетах — о СТИХАХ…
Игорь Шкляревский
“МНОГАЯ ТЕБЕ ЛЕТА!” Присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые есть и которые ещё будут! Шестидесятилетний Владимир Бондаренко — это серьёзный, глубокий критик, имеющий за плечами большую школу жизни, литературной судьбы, взаимоотношений с людьми…
Если, к примеру, поэт может не вступать в противоборство, противостояние с некими персоналиями своего литературного цеха, и только в поэтическом слове отразить своё видение мира, то критик обязан всё-таки вычерчивать прямые линии, давать прямые оценки, высказываться лицеприятно или нет по поводу тех или иных явлений литературной жизни. Если он этого не делает, то очень сомнительна его перспектива занять в критике своё место. Конечно, у каждого значимого в литературе критика есть недоброжелатели, люди, не принимающие его позиций. Думаю, таковые есть и у Владимира Бондаренко.
Познакомились мы в 1982 году. В то время главный редактор "Нового мира", секретарь СП, отвечающий за работу с молодыми, Сергей Залыгин, организовал критический семинар представителей разных литературных направлений в Петрозаводске, который всё-таки нельзя отнести к глухим уголкам, т.к. там был журнал "Север" (я думаю, ещё предстоит большая работа, по выявлению роли этого журнала, редактируемого Гусаровым, в развитии нашей реалистической школы, в частности, там было впервые напечатано "Привычное дело" Василия Белова…) В то время я находился в опале, был снят с главных редакторов "Комсомольской правды". Меня сразу привлекли острые, динамичные, неординарные высказывания Бондаренко… Правда, чувствовалось, что он немного нервничает. Я задал Володе вопрос, и он рассказал мне о беседе с Ананьевым, который пригрозил Володе увольнением в случае его участия в работе этого семинара… Володя же принял однозначное решение ехать на семинар русских писателей, критиков. В то время ананьевский "Октябрь" уже был неким антиподом таких журналов как "Наш современник" и "Молодая гвардия"…
С той поры я с большим вниманием относился ко всему, что писал Бондаренко. Видел, как он "прорастал" вместе с эпохой. Вначале его характеризовало повествовательное отношение к текущему литературному процессу, потом пошло оценочное… Он стал расширять диапазон своих интересов, стал захватывать и социальные сферы, и политические, и общественные… И из критика чисто литературного вырос, я бы сказал, в общественно-политического деятеля. А отсюда и приход в газету "День"-"Завтра", где был востребован его острый взгляд на социальные проблемы, на те беды, которые обрушились на нашу страну. С другой стороны, Володя немного сторонился карьеры политической, пытаясь расширить диапазон своих встреч, представлений… Иногда он это делал успешно, иногда, на мой взгляд, переходил рамки дозволенного, с точки зрения нравственных, этических критериев, свойственных взыскательному критику…
К одной из самых значительных его заслуг я отношу серьёзную попытку проследить литературный процесс в лагере (если это можно назвать лагерем) нашей традиционной, патриотической, реалистической литературы. И его три книги, несмотря на то, что можно не соглашаться с подбором имён, с оценочными характеристиками, — это колоссальная работа, которую он провёл на литературной ниве нашего Отечества, и это наше большое общее богатство.
Очень интересна деятельность Владимира Бондаренко и как критика, и как редактора, и как издателя. Сейчас уже трудно представить нашу литературную жизнь без его газеты "День литературы". Она занимает своё особое место — по широте, по полемической остроте постановки вопросов, не боясь вызывать на себя огонь, в том числе, и справедливой критики.
От всей души благодарю тебя, Володя, за яркую, подвижническую, творческую работу. Многая тебе лета!
Валерий Ганичев
МЕЖДУ ПЕРОМ И ПТИЦЕЙ Только в момент юбилея или именно в сам юбилей, наиболее очевидно — какой скверный жанр мы, всё-таки, выбрали! Или он выбрал нас — по грехам, как говорится.
Как славно поздравляют друг друга поэты: одой, сонетом, вдохновенным посвящением: "Мой первый друг, мой друг бесценный…" Как пристойно приветствуют друг друга прозаики, глубоко и осмысленно: "Милостивый государь…" и т.д.
А критика так и подмывает даже в юбилей товарища начать с какой-нибудь каверзы, с собственно критического — таков закон жанра.
Не будучи по своей природе "школой злословия", одновременно при абсолютной противоположности нашей с Владимиром Бондаренко творческой природы, я хотела бы поздравить его не столько с очередным юбилеем, сколько с тем:
что "посетил сей мир в его минуты роковые" — и это уже не умозрение, а судьба;
что ему, Владимиру Бондаренко, достались самые уникальные друзья — учителя и герои его книг.
Я хотела бы вспомнить всё ab ovo — то трогательное, худое, как сказал бы классик Личутин, пальтецо, в котором увидела его впервые на совещании молодых критиков. Его первую статью о Николае Рубцове, которую он принёс в "Литературную учёбу", и которую я защищала от строгой критики любимого нами Александра Михайлова.
Я помню (интересно, помнит ли Володя?) его совершенно детское волнение на Съезде русской молодёжи в Натуа под Брюсселем в 1989 году — перед выступлением. Мне пришлось принести ему валокардин и посоветовать: "Начни с "Христос Воскресе!" — и всё будет хорошо".
Я помню всё хорошее, тёплое, трепетное, человеческое. И это важнее любой литературной памяти.
Видимо, потому, что критика во мне меньше, чем хотелось бы Владимиру Бондаренко. Он, кстати, время от времени забрасывает камешки (не тяжёлые, правда) в мои 6 соток — мало, мол, пишешь, подруга.
И это верно. Каждому своё.
Не всякому дано (и с этим я тоже поздравляю Владимира Бондаренко) ворочать в исследованиях поколениями — сорокалетних! Неопознанными политическими литературными группами — di pi! Не всякому дано стягивать вместе под своды русской литературы противоположные фигуры: Юрий Кузнецов — Иосиф Бродский, Станислав Куняев — Владимир Высоцкий…
А ему даётся. Удаётся ли! Конечно, не всё. Однако именно Владимир Бондаренко добивается в себе критика "без догмата".
Кажется, что даётся всё это Бондаренко легко: литературные передовицы сразу в двух газетах, книги как из рога изобилия, путевые заметки из Италии… Иногда так и хочется сказать ему как бы в духе жанра, из Поля Валери: "Нужно быть лёгким, как птица, а не как перо". Но именно в этот момент Владимир Бондаренко приготовит интервью с Юрием Кузнецовым по поводу его поэм о Христе — глубоко и тонко — глубже пока не читала.
Манифестный лозунг Володи "Живи опасно!" порадовал меня молодостью и сердечной энергией, заложенной в него.
Ну что же, дорогой друг, живи опасно, коль по-другому не можешь! Но только обязательно долго живи! Долго-долго!
Твоя малопишущая
Лариса Баранова-Гонченко
Владимир Бондаренко — один из наиболее значительных современных критиков. При этом в русской культуре конца ХХ-начала ХХI века — он наиболее противоречивое и пока еще не осмысленное нами явление. Он всегда горяч, слова его никогда не знают штиля, но в его творчестве, как в беспристрастном зеркале, отразилась вся сегодняшняя многоликая Россия. Писатели, которые никогда бы не поняли друг друга, становятся героями его литературной публицистики, одинаково для него внятными, одинаково достойными его сочувствия и понимания. Вот и я иной раз поругиваю Владимира Григорьевича за эту его, многих раздражающую, эстетическую всеядность, а иной раз, читая бондаренковские книги, вдруг принимаю созданную критиком реальность с какою-то счастливой грустью: экий же Ноев ковчег получается у него из текущей литературы! И кажется мне "золотым веком" та пора, когда "либерал" Маканин и "правый" Личутин давали мне рекомендации в Союз писателей, когда и я сам в этих писателях различал лишь одинаково для меня значительных, одинаково заражающих меня своей творческой энергией художников.
Да, мы живем в мире отражений. Литература, с одной стороны, и Белинский, Страхов, Писарев, Лобанов, Кожинов, с другой, — это лишь системы отражений. Системы национальные, личностные или политически актуализированные. Порою отражения вдруг влияют на саму реальность, вечно смутную, вечно непроницаемую, преобразовывают ее, становятся для нас её мнимо ясной или даже действительно ясной сутью. Потому-то столь часто обнаруживаем мы себя живущими в разных мирах. Сколько отражений, столько и миров внутри мира единого и, как хотелось бы надеяться, все еще мира единосущного. А Владимир Бондаренко пытается нанизать рассыпавшиеся по вселенной бусы на единую нитку. В то время как другие критики собирают только частицы, способные притягиваться одна к другой.
В чьём опыте больше не только житейской пользы, но и таинственной правоты? Что в мире никогда не повторится, если в том Ноевом ковчеге, в котором сегодня культура и литература спасаются от "всемирного потопа", кому-то места не найдется?
Я поздравляю Владимира Григорьевича с шестидесятилетием! Желаю оставаться самим собой! Желаю долго-долго украшать текущую литературу своим звучным да ярким именем!
Николай Дорошенко, гл. редактор газеты "Российский писатель"
(обратно)Эдуард Лимонов САМОВОЛЬНАЯ ОТЛУЧКА
Шел крупный снег. И тотчас таял, ибо это все же была Северная Италия, а не средняя полоса России. Мотор наш весело тарахтел, но опасно разбрызгивал масло. Я смотрел в трюме катера на мотор, когда сверху, с палубы, сообщили, что мы приблизились к островам, закрывающим лагуну. Утро уже было в разгаре. И это было опасно для нас, ибо хотя мы и прибыли в Венецию с мирными целями, однако прибыли не оттуда, откуда прибывают туристы, — мы шли с Востока, со стороны войны. Мы не хотели, чтоб об этом знали. Но мы полночи шли до хорватской Пулы, чуть отклонились, обходя ее, и вот теперь входили в Венецианскую лагуну при свете дня.
Все оказалось проще простого, как на карте. Выйдя из одного из глубоких заливов Адриатики на формально хорватском берегу, с наступлением темноты мы подошли к Венеции. Однако уже это было преступлением.
Нас было семь человек. Шесть сербов и я. Из шести сербов один был офицером военной полиции Республики Книнская Краiна, а пятеро были офицерами-"тиграми" из национальной гвардии командира Аркана; тотемным животным их подразделения был тигр. Катер у нас был старый, неизвестного происхождения, крашеный-перекрашенный, вероятнее всего, немецкого производства. Мы были одеты в гражданские бушлаты и пальто. На лицах у нас были следы попойки. Вчерашней. Мы долго решали вчера, брать или не брать с собой оружие; разумнее было бы не брать, но солдатская жадность пересилила. Три чешского производства "Скорпиона" и по пистолету на каждого все же взяли, мотивируя свою жадность тем, что можем наткнуться на хорватскую береговую охрану, которая, я не уверен, что существовала в тот год — 1992-й.
Мы просто банально напились накануне. И, как в Москве, напившись, загораются вдруг идеей: "А поехали в Питер, завтра Новый год, классно поехать в Питер!" И все вдруг задвигаются, заулыбаются, сразу появится дело. Оживление, доселе сонные проснулись и кричат: "В Питер! В Питер!.." Так и мы оживились, и все закричали: "В Венецию на Рождество! В Венецию!" Потому что было 23 декабря, а с 24-го на 25-е, как известно, католическое Рождество. Ясно, что я не католик, и сербы не католики. Если серб католик, то он уже хорват. Это единственная нация, которая, меняя религию, меняет и национальную принадлежность. Недалеко от тех мест, где мы воевали, есть Петрово Поле. В годы неурожая там стояли хорватские прелаты и в обмен на посевное зерно перекрещивали сербских крестьян в католицизм и записывали их уже хорватами. Но мы-то ехали не праздновать католическое Рождество, мы ехали победокурить, как футбольные фанаты, в чужую страну, посостязаться с итальянцами. Да и война нам надоела, честное слово. Позиции к концу 1992-го стабилизировались: Республика Книнская Краiна успешно отстояла себя тогда — островком Сербии в самом центре Хорватии. Война свелась к окопному сидению и вечернему обстрелу из минометов — там, где они были, — позиций друг друга.
Я-то что, я доброволец, да еще иностранец, но им, если прознает начальство, пришьют дезертирство. А если задержат итальянцы, тюрьмы не миновать. А мне миновать, у меня французский паспорт! Я вообще могу сказать, что в Венеции с ними познакомился... Подумав, я сообразил, что в паспорте у меня стоят венгерская и сербская визы, и многочисленные, и что они меня выдадут, эти визы. Но все равно я был в лучшем положении, чем они. А ведь это я их вчера подбил, я больше всех, и первый начал. Рассказал, как посетил Венецию зимой 1982 года, с чужим паспортом в кармане...
Но разве офицерам с войны бояться мирных итальянцев?! "Мы перестреляем всех этих карабинери", — сказал Славко Рожевич и предложил выпить. Что мы и сделали. За исключением наших капитана и механика: мы не дали им пить, ибо им еще предстояло войти в лагуну и где-нибудь пришвартоваться. Собственно, капитаном и механиком эти ребята не были, но поплавать им приходилось. Оба родились в хорватском Дубровнике, на противоположном берегу Адриатики, а в этом городе все умеют плавать — и сербы, и хорваты. Дубровник, в общем, и называют славянской Венецией.
Порта мы опасались. Потому план был такой. Просто выплыть в город и где-нибудь пришвартоваться на Гранд-канале, у какого-нибудь музея. Никто из нас не говорил по-итальянски, но в Венеции столько туристов! Вот и мы туристы, правда, со "Скорпионами", но уж как получается. По правде говоря, сербы к итальянцам ничего не имели. Итальянцы хотя и оккупировали во время войны Хорватию вместе с живущими там сербами, однако за сербов даже заступались, когда хорваты их резали. Однако у нас у всех, включая меня, русского, было некое презрение небольшое к итальянцам, потому что они потомки великой нации, но сегодня никчемные бойцы, плохие вояки. Якобы!
Там был маяк, а справа от маяка был пролив, через который мы и вышли в лагуну. Снег к этому времени стих, появилось зимнее солнце. Она, город Венеры (я предпочитал, чтобы она переводилась как "город Венеры"), низко лежала перед нами на воде: Венеция.
Проблуждав некоторое время в хмурых водах зимней Венеции, мы предпочли пристроиться на канале Делла-Джудекка. У набережной, застроенной складами и, как потом оказалось, госпиталями, мы убедились, что все же наш катер крупноват и слишком по-плебейски, по-рабочему выглядит возле дворцов и роскошных отелей на Гранд-канале. А у складов мы были уместны. Здесь и там у набережной стояли баржи, и мы тихо прилепились между ними. У остановки плавучего трамвая вапоретто мы узнали, что набережная называется Дзаттере. Так же называлась и остановка вапоретто. Мы по очереди привели себя в порядок в трюме, в каюте у зеркала. Умылись. Поулыбались друг другу, пытаясь делать это, как делают мирные люди. В великом городе-музее. Проверили карманы. Я взял свой французский паспорт. У парня из военной полиции имелся паспорт Словении — той, где столица Любляна. Остальные предпочли не брать с собой свои югославские паспорта. Над оружием долго раздумывали и наконец взяли с собой два пистолета. На случай безвыходной ситуации. Перепрыгнув с носа катера на набережную над черной водой, мы пошли, как пошла бы сошедшая на берег команда небольшого судна, молодые люди, смеясь и подталкивая друг друга, забегая вперед, и свободно трещали на незнакомом языке. Мало ли иностранцев бродит по Венеции.
Оказалось, что не так уж много. По крайней мере, в этой части города мы встречали людей, удивленно оглядывающихся на нашу речь, поэтому мы перешли на broken English, чтобы не привлекать к себе внимания. Мы вышли к мелкому каналу: канал был обложен по краю бордюрным камнем, как тротуар, и повсюду к длинным двойным шестам, торчащим из воды, были пришвартованы лодки — большая часть лодок окрашена в синий цвет. Канал этот безошибочно привел нас туда, куда мы первоначально намеревались пристать; мы вышли вдоль этой узкой полоски воды к каналу Гранде и пересекли его, дружно топоча по деревянному мосту академии. Дело в том, что я и словенский гражданин уже бывали в Венеции: я — за десять лет до этого, словен из военной полиции — неизвестно когда. Пошел снег, разноцветные дворцы на канале Гранде, выполненные в византийском, ренессансном и барочном стилях между XIII и XVIII веками, нас мало интересовали, но мы признали, что это красиво. Мы, впрочем, тоже явились не из хижин дровосеков: "тигры" занимали несколько богатых вилл на самом берегу Адриатики, да и военная полиция квартировала в захваченной вилле какого-то бывшего хорватского министра в три этажа. Там был паркет, камины, огромные окна. Как солдат, равно как матросов небольшого судна, нас интересовали траттория и девки. У нас были марки — своим солдатам командир Аркан неплохо платил в немецких марках. У меня было несколько тысяч французских франков. Мы намеревались поесть, выпить вина, поймать, если возможно, девок, либо одну девку, и сделать с ними, ну вы знаете что... Отбыть мы собирались после того, как наступит католическое Рождество, ночью. Глубокой ночью.
Я так тщательно перечислял все эти пункты, словно у нас был план. На самом деле мы шли, притворяясь матросами, останавливались выпить из фляжек сливовицы, то галдели шумно, то, вспомнив, кто мы, затихали. Пытались глядеть сквозь стекла ресторанов, которые явно были нам не по карману. Но на самом деле мы наслаждались жизнью. Так мы дошли до самой церкви Santo Stefano, пока до нас не дошло, что мы находимся в центре самого центрального района Венеции San Магсо и что, если обед мы еще сможем здесь оплатить совместно на марки Аркана и французские франки моих французских издателей, то уж на девок нам точно денег не хватит. Потому мы повернули обратно: там, в окрестностях академии и Музея Пегги Гуггенхайм, мы видели несколько заведений, которые показались нам скромнее.
Как обычно бывает на похмельный день, у нас внезапно началась коллективная депрессия, мы помрачнели, хотелось выпить много алкоголя, чтобы взбодриться, хотелось есть, фляжки опустели, стало очень холодно. Потому мы решительно вошли — словен и я впереди, а "тигры", мрачные, за нами (на самом деле серб со словенским паспортом) в заведение под названием Trattoria d`Oro. Мы выбрали эту "Золотую тратторию" потому, что оттуда вышли, покачиваясь, два типа, очень похожие на нас: в бушлатах, шарфах — впрочем, у нас было все завязано и застегнуто, а у них развязано и расстегнуто.
Внутри нас окатило горячим воздухом, пахнущим моллюсками и вином. Толстый человек с усами и замашками хозяина, в слишком узком для него черном пиджаке и черном галстуке поверх рубашки улыбнулся нам радушно и спросил, парлере ли мы итальяно? Я улыбнулся и сообщил ему, что мы французы и можем говорить еще по-английски, а вот парлере итальяно не можем.
Он повел нас к столу, круглому, за которым не было стульев. Стол стоял в углу, а рядом горел вполне скромный, но все же камин. Стулья нам немедленно принесли и тотчас стали приносить приборы, официанты, такие же как хозяин, все, кроме одного, с усами. Мы уселись и только тогда оглянулись вокруг... Зал был полон женщин, пьющих чай и кофе... Их было так много, что неудивительно, что стол нам отдали тот, который предназначался для служебных нужд официантов. Не выставлять же клиентов за дверь. Ей-богу, там были одни женщины. Молодые и старые, но все довольно чопорного вида, и нас осенило: это же вечер перед Рождеством. Они собрались здесь, должно быть, это их традиция, конгрегация одной из близлежащих церквей, — перед Рождеством зайти и откушать здесь сладостей, и чай, и кофе.
— Да! — сказали мы все почти одновременно. Точнее, мы промычали. Мы попали не к девкам, но к набожным каким-то ханжам.
— Может, у них и вина нет? — сказал старший из сербов Славко Зорич.
— Но у них пахнет спагетти с моллюсками, это точно, — отметил я и втянул носом воздух.
— Однако они все пьют чай, — сказал Мома Милютинович, "тигр", который читал все мои статьи в газете "Борба".
— Среди них есть симпатичные девочки, — сказал другой Мома, Момчило Краiшник, самый молодой из нас "тигр".
Когда мы попросили у толстого литр граппы, он не изменился в лице. Два трехлитровых кувшина "вино россо" оживили цвет его щек. Мы начали ему нравиться. Они, да, сделают нам столько спагетти с моллюсками, сколько мы сможем съесть, и, да, они принесу для двух месье осьминогов с сельдереем.
Когда нам принесли бутылки, итальянские дамы заулыбались. Когда они заулыбались, мы поняли что это либо не совсем итальянские женщины, либо совсем нет, не итальянские. Когда мы выпили граппу и стали пить вино, жадно поедая спагетти и осьминогов и потребовав после "Моллюсков Савонарола" и телятины, женщины перестали разговаривать и смотрели уже только на нас.
Потом Момчило Краiшник, самый молодой из нас, встал и пошел к ним. Сербы — это американцы Балкан, они рослые и могучие ребята. Встав, Краiшник выглядел как молодой, чуть опьяневший богатырь в темном свитере. Волосы у него были русые. Он нашел с ними общий язык — английский. И через некоторое время вернулся с одной из них.
— Это Сандра, — сказал он, — она янки. В Венеции проходит международный конгресс анестезиологов. Собрались на рождественскую трапезу.
— А где же анестезиологи-мужчины? — спросил кто-то из нас.
— У нас есть трое мужчин, — сказала Сандра. — Они вдалеке сидят, а двое уже ушли.
— Мы думали, у вас тут антиалкогольный конгресс, — сказал Мома Милютинович. И подвинул назвавшейся Сандрой бокал. И она выпила. Тут уже заулыбались мы.
Дальнейшие события в Trattoria d`Oro можно было охарактеризовать либо как шумную вечеринку, либо как шумную попойку. Потому что хозяин включил свою музыкальную установку, и те женщины, которые устояли против нашего, точнее, местного вина, не устояли против ритмов Италии. Вино называлось "просето", и в нем были пузырьки, как в шампанском, но вот как называлась музыка, то если имена исполнителей, я не помню, по-видимому, это была народная музыка Северной Италии, так как никаких знакомых мне ритмов, я теперь вспоминаю, я не слышал. И все эти анестезиологи, молодые и старые женщины, сломив свою чопорность, лихо танцевали с нами. А католическое Рождество приближалось. Сандра целовалась с Краiшником.
Хозяева ресторана вели себя сдержаннее. Все-таки Венеция — это Северная Италия, это не Неаполитанский залив. Хозяин и официанты стояли вдоль танцующего роя анестезиологов и сербских солдат (разумеется, не зная, кто мы) и хлопали в ладоши. Может быть, искренне радуясь веселью мужчин и женщин, а может быть, радуясь прибыли. Мне в тот год было 49 лет, я был старше любого из сербов и, хотя не был их командиром, все же чувствовал себя обязанным следить за обстановкой. Когда в ритме итальянского рок-н-ролла, похожего на кавказскую лезгинку, у Мирослава Йовича грохнулся на пол пистолет, я похолодел. Однако ненадолго, потому что окружающие Йовича и его партнершу танцоры одарили этот объект недолгим вниманием. Может быть, в странах, откуда они приехали, не было проблем с ношением оружия? К тому же сам Йович довольно грациозно для пьяного большого серба подхватил свое вооружение и поспешно сунул за пояс. И пляски продолжились.
Около полуночи хозяин попросил нас оставить его с Рождеством. "Синьориты" и "месье" должны понимать, что сегодня семейный праздник, ему пора домой к "бамбини", а по пути он еще должен зайти в церковь. Это же он рекомендует сделать и нам. Все-таки Рождество, и даже безбожники должны бы поприветствовать рождение Бога. К тому же рестораны в Венеции традиционно закрываются рано. Но есть некоторые, где обслуживают до двух ночи. А церквей вокруг много — он рекомендует самую близкую, Святой Агнессы, десять минут хода, а чуть дальше на восток — Святой Марии-делла-Салюте, очень большая и очень красивая, очень...
Мы вывалились из траттории. Толпа наша сразу уменьшилась на треть, ибо самые почтенные анестезиологи отправились в эту рождественскую ночь либо в отель, либо к своим венецианским знакомым. С нами остались молодые и пьяные. Вместе (женщины — кучкой прильнув к богатырским фигурам сербов, я отстал от них и подсмотрел) мы быстро нашли церковь Святой Агнессы и вошли туда, перекрестившись каждый на свой лад. По-моему, никто не заметил, что сербы крестились троеперстием, а я постарался перекреститься непонятным образом, да простит меня Господь, если его раздражают все эти человечьи тонкости. В церкви было мало людей, поскольку Венеция мало обитаема, обслуживающий персонал этого огромного музея в море живет на материке, потому в Святой Агнессе были в основном туристы.
Нам, солдатам сепаратистской Республики Книнская Краiна, очень понравилось в католической церкви. Конечно, для сербов это была чужая религия, враждебная им (так они ее воспринимают), но это скорее был музей — это Святая Агнесса, где тепло грели свечи, где не было войны. Каждый вспомнил о суровом плоскогорье над Адриатикой, царстве камней и первых христиан, и вздохнул. И я вздохнул.
Мы быстро ушли. Мы их торопили, Славко Зорич и я, самые ответственные, поскольку старше их. У Славко в старой югославской армии был чин полковника. "Пора, пора, — говорили мы. — Мы должны пройти границу ночью. Иначе попадем в тюрьму. Все. Может быть, на несколько лет". Пятеро молодых прилипли каждый к своей подружке и о чем-то вполголоса беседовали. Часто прерываясь на хохот. Неохотно, но вся наша группа, человек этак двадцать — двадцать пять, все-таки двигалась к набережной Дзаттере, где мы оставили наш катер. Как позднее выяснилось, уже тогда Мома Краiшник сказал Сандре, что он офицер из отряда "тигров" из армии сепаратистской Сербской Республики Книнская Краiна.
Когда мы вышли к складам, то ясно увидели, что рядом с нашим катером стоит полицейский катер. Мы мигом отрезвели все. Во всяком случае, я отрезвел. Что было делать? Тут Сандра сказала умную вещь, о которой мы, люди, прибывшие в мирный город с войны, и не догадывались. Она сказала: "Вам, ребята (boys, она сказала), придется заплатить штраф, потому что в Венецию частным моторным судам въезд запрещен, так как вибрация волн опасна для мраморных дворцов. Вы что, с Луны свалились?"
Я сказал, что почти с Луны, и спросил Сандру, знает ли она хоть чуть-чуть по-итальянски. Да, сказала она, чуть-чуть знает. Тогда я поделился своей идеей с Зоричем. Пойдем все вместе, как пьяная компания. Но разговаривать с полицией будут Сандра и я, у нее американский паспорт, у меня — французский. Главное — представиться очень пьяными, чтобы они не обыскивали катер и не проверяли документы у всей толпы. Зорич сказал, что маловероятно, что полиция займется проверкой документов у 20-25 пьяных субъектов, большинство из которых женщины. Если же они попытаются обыскать катер, тогда придется стрелять. Он сказал эти слова с таким чувством, что было ясно: ему хочется пострелять здесь, в Венеции. И конечно, "тигры", воюющие три года, без труда перестреляют с таким своим опытом ленивых карабинери.
Женщины снимают напряжение между вооруженными мужчинами. Когда наша толпа, галдя и шумя, бросилась на троих карабинери, стоящих возле их катера, причаленного у нашего катера, они сразу были деморализованы. Наши женщины на нескольких языках поздравляли, перебивая друг друга: "Синьори карабинери, с Мэрри-Кристмас", — и хватали их за руки. Сандра пробилась к старшему (у него был такой "старший" вид и больше всего пуговиц, лычек и полосок среди знаков отличия) и спросила: "В чем дело, в чем провинилась наша толпа американцев и французов, приехавших на праздник в Венецию?" Несколько ошалевший старший карабинери сказал то же, что уже сообщила нам Сандра, что нельзя, мрамор разрушится, нельзя моторами, только грузовые баржи и вапорино, а еще вапоретто, мотоскафи. Сандра сообщила, что мы не знали этого, что в Торчелло, откуда мы появились, ходят свободно даже двухпалубные мотонаве, и там мы арендовали наш кораблик — правда милый, синьор, настоящий морской трудящийся катерок?!
"То в Торчелло, — возразил старший
карабинери важно. — В Торчелло ничего такого, хрупкого искусства нет, а здесь — Венеция, сокровища искусства, ЮНЕСКО, мировое значение". Мы с Сандрой дружно сказали, что мы understand, understand, мы не знали, нас не предупреждали. "Куанта коста, синьор? — спросила Сандра. — Сколько? Штраф — мы готовы". Карабинери посмотрели друг на друга. Сандра полезла в сумочку. Я вынул франки. Мы сунули все это старшему карабинери. Его руки инстинктивно сжали деньги. И не разжались. "Мы уезжаем, уезжаем, — заверила Сандра. — Вот, смотрите!" — и она прыгнула на палубу нашего катера. За нею еще несколько девушек и все "тигры". Зорич и я стали прощаться с остающимися. Карабинери прыгнули на свой катер, помахав нам оттуда рукой, удалились по черной воде.
Девушки поднялись с катера на набережную и махали нам оттуда руками. Я даже не знаю, кем они нас считали в этот момент. Ну уж точно не сербскими офицерами, явившимися в самовольную отлучку с войны. Приятными, веселыми. Только глубокой ночью выяснилось, что Сандра не сошла на берег, а осталась с нами. Потом она работала в военном госпитале в городке Обровац, естественно, анестезиологом.
Это добрая история, но конец у нее (точнее, это произошло уже за временными рамками этой истории) все равно мрачный. Потому что в 1995 году хорватские войска уничтожили Сербскую Республику Книнская Краiна. Мне неизвестно, что сталось с моими товарищами "тиграми", Момой Краiшником, наконец, с безрассудной американкой Сандрой. Знаю, что она была из города Сан-Диего в Калифорнии. Небольшого роста, худенькая, темные волосы, лет 25 или 30.
(обратно)Владимир Личутин СТЕНА. глава из очерка " Путешествие в Париж"
Мне не забыть стену нашей боковушки — угловой комнаты в бабушкином доме, отделявшую от хозяйской половины…
Сам пятистенок стоял в верхнем конце города Мезени, в Окладниковой слободе, на замежке родного, свойского мезенского болота, незаметно переходящего в Малоземельскую тундру, а та перетекала, уже за Печорою, в Большеземельскую тундру, которая сливалась с полуостровом Ямалом, где в древности стояла на семи ветрах Золотая Баба-Иомала-Великая Роженица — Мать-сыра земля — и кочевали безголовые люди. Где-то не так уж и далеко (по северным меркам) от нашей избы по Ижме-реке хозяиновал в те годы злой колдун Яг-Морт, наверное, супруг известной злыдни Бабы Яги, он же насыльщик смерти, похищавший самых красивых девушек из чудских весей, пока-то храбрые юноши не забили осиновый кол в его грудь. В ту сторону в устье Оби за рухлядью в златокипящую Мангазею в прежние годы ходили мезенские мужики на утлых кочах, где вперевалку-вперетаску, где и водою средь льдов, терпя многую нужу и стужу, но интереса в тех смертельных наживах не теряя, почитай, лет двести. Господи-и-и, как давно это было! Но и будто вчера. Так странно, расплывчиво, свиваясь в спирали, ведет себя время. Все минуло, будто навсегда, но и все незабытно, всплывает однажды из омута, и сквозь верхние пласты солнечной воды, как в волшебном зеркальце, мы видим картины давней жизни, какой-то уж слишком праздничной, чарующей, словно бы лишенной житейской надсады и бесконечной драмы, вековечной борьбы за хлеб наш насущный. Это поднялась в верхние слои Живая Вода, Вода-Дух, Вода-Дуна, Вода-Богиня-Мать — Плодильница-Роженица, которую зачерпывали каповым ковшом наши дальние предки…
Зимою заснеженное болото напоминает бесконечное застывшее море: голубые переливчатые заструги до горизонта походят на уснувшие волны, под весну сахаристые, осыпанные звездной пылью, ослепительно сверкающие до рези в глазах, и только вдали едва мерещит полузасыпанный березовый кустарник-ера, куда мужики-охотники бродят по силья за белой тундровой куропаткой. Болото начинается прямо за бабушкиными окнами хозяйской половины, выходящими на южную сторону, и уже этими окнами та часть пятистенка отличается от нашей комнатушки; оттуда виден простор во все стороны света, в их комнаты уже с марта-протальника светит солнце, там живут дедушка — почтовый служащий, бабушка-почтарка и их младший сын, вернувшийся с войны с обмороженными ногами. Это совсем другой мир; там часто навещают гости, по субботам пекут пироги, и по всему жилью разносится такой густой живительный запах стряпни, который, кажется, поднимет и мертвого. Там в горнице растут под самый потолок фикусы с глянцевыми сине-зелеными листьями и чайные розы в кадцах, там пахнет кофием, который бабушка заваривает в самоваре, ванилью и корицей под праздники, когда полуслепая хозяйка стряпает торты и жарит в сковороде слоенки. В ту половину порою приходят важные женщины со строгими лицами, в салопах и темных повойниках, мужики в камашах и с папиросками, там звенят стаканы с брагою, вопятся протяжные старинные бесконечные песни.
…Но однажды бабушка совсем ослепла, дверь из нашей боковушки заколотили с той стороны, потом оклеили газетами, задвинули комодом, и уже ничто не стало напоминать прежней жизни; родственные чувства стали приутихать, пока совсем не завяли. С годами мы вроде бы и забыли, что когда-то в этой стене была дверь к бабе Нине. Теперь мы с невольной детской завистью прислушивались к победному гуду гармоники за стенкой, глухому гуденью голосов, принюхивались к душистым запахам пироженых и слоенок, ватрушек и кренделей, удивительным образом находившим невидимые проточины и норки, чтобы дразняще пробраться к нам. Победительный запах печеного-вареного никогда не обособляется в своем куту, но обязательно полоняет весь дом до самых глухих потаек и вырывается на улицу, чтобы и соседи, поведя носом, знали, что здесь заведена стряпня. А детское воображение тем временем рисовало самые восхитительные картины, которых не случается в обычной затрапезной жизни.
…Наши же три окна выходили на проезжую улицу, по зимам переметенную сугробами, а по веснам залитую жидкой грязью, по которой плелись в верховья Мезени унылые обозы с кладью, закуржавленные лошаденки с навозом, бабы верховские из ближних деревень с котомками за плечами, наглухо увязанные в серые шали… Только нос пипочкой наружу, да струя густого пара изо рта. Были в шмуточном магазине, закупили кой-чего, а теперь торопятся жонки, чтобы попасть домой засветло. Никуда бабенки не приворачивают, чаев по гостям не распивают, вестей не разносят. Да и чем в сиротской семье разживиться можно? Картохой, разве…
У нас обычно пахло вареной картошкой в мундире, иногда блинами, заведенными на воде, иль печеной кислой камбалкой печерского засола, а дух-то от нее злой, ествяный, захватишь рыбки из ладки щепотку, а полный рот нажуешь; но что-то похожее на праздник, случалось и у нас, когда приезжала летами сестра с учебы из таинственного города Архангельска, иль навещал из деревни Жердь дедушко Семен с прокуренными до рыжины, навостренными усами, и тогда печальное материно лицо оживлялось, в нем появлялось что-то девичье, особенно когда с дочерью они собирались в кино, наводили на себя марафету, завивали волосы на раскаленный гвоздь, и тогда даже запах паленой шерсти мне казался особенным и вкусным. Мы всегда чего-то ждали; то весны, с приходом которой наконец-то кончится обжорная зима, этот сплошной перевод дров, и не надо будет тащиться с санками в калтусину за обледенелым крючковатым ольховником и ивняком, то благословенного лета, жарких июльских дней, когда можно скинуть с плеч одежонку и кинуться к реке, то осени, когда обкожурится картошка и поспеет лешева еда — гриб да ягода; ждали, что вот карточки скоро отменят и хлеба наедимся досыта, потом ждали снижения цен, ждали весточки ниоткуда, с той стороны, где затерялся в войну отец. Была не жизнь, а сплошное ожидание.
…Весной тундра превращалось в пестрый мохнатый ковер, когда распускался дурман-багульник, по кочкам ползла повитель сихи с нежными крохотными сиреневыми шишечками, шелестела на ветру шелковистыми белыми кисточками пушица — гусиная трава, вставали лазоревые султаны кипрея, завязывались меж глянцевых листьев белые, твердые, как горох, ягоды, голубело и мелкое просо черники, по топким моховинам меж озер осыпалась перламутровыми лепестками морошка, так густо и бело, точно снег неожиданный выпал. Дух в округе стоял такой густой, малиновый и медвяный, что казалось, подкинь топор, и он повиснет. К концу июля каждая морошина на своем крохотном деревце наливалась соками, грудела, малиновела щеками, точно деревенская девка на выданьи, потом надевалась в янтарь, зазывала народ к себе со всей округи с корзинами и палагушками, и с той поры весь круговорот мезенской жизни как бы перемещался на болотные выпасы; мы, ребятишки, целый день шастали по ближнему кочкарнику, из-за которого виднелись надежные домашние крыши, и заполняли бутылки всякой ягодой (сихой, голубелью, черникой, морошкой), толкли оскобленным прутиком и пили из горлышка сок, вытряхивали сладкое месиво в постоянно голодный, ненасытный клювик свой, чтобы с опустевшей скляницей снова спешить на те же кочки, в те же моховины, уже обтоптанные до того, что и сыскать-то ничего вроде бы нельзя; вот так же курица в тысячный раз толчется по заулку и долбит-долбит, сердешная, неустанным клювом невидимые порошинки еды в топтун-траве, чтобы набить зоб, и ведь всякий раз находит чего-то съестного.
В даль болота ходили взрослые, туда, где маревили озера, плавали ленивые лебеди, и хлопьями рваной бумаги сполошливо метались чайки-моевки; в той стороне всегда копился сизый иль сиреневый туманец, похожий на стену, и бабы-ягодницы, навестивши морошечные палестины, толковали меж собой: "Нонеча к первой стене ухвостала за морошкой-то… Наткнулась на палестину. Как насыпано. Вся утолклась, так жалко бросать здрелую ягоду. Сок-то из короба ручьем хлыщет". А другая: "А меня ко второй стене черт унес, дуру эдакую. Едва назад домой притянулась, все жилы стянуло к ж… Пришла, да тут же пала, как пропадина, кусок в рот не полез. Надо же было так упетаться".
Вот и в Белом море, как сизая стена встанет в голомени середь бела дня, непременно жди оттуда шторминушки, непогоди, дурного ветра-полуношника. Заподувает сиротский ветер, волны запоходят из края в край — из дому не выйдешь. Значит, и земля родимая вся загорожена стенами, как огромная всечеловеческая изба, и есть в ней стены доброрадные, защитные, таежные, отеческие, а есть и лешевы, анчуткины, злосмрадные, откуда по ветру наносит всякую лихоманку…
Когда заколочена была дверь на бабушкину сторону, я не помню. Ход в другую половину дома хранился лишь в воспоминаниях, но он ведь действительно когда-то был, в ту дверь меня бабушка унесла к себе, когда я лежал в кроватке, а мама была на работе. Ей, военной вдове, было тяжело тянуть троих детей, и бабушка, видя такую невзгоду невестки, решила младшенького, меня, взять на прокорм. Мама поревела и, наверное, особенно биться не стала за меня, объяснившись со свекровью, и скоро смирилась. Я вырос у одноглазой бабушки Нины, проплакавшей свое зрение по сыну Володе (моему отцу), а в боковушку иногда прихаживал, как в гости, и дальше порога не заступал, комкая в горсти занавеску на дверях. Помню, как однажды зимою приехал из деревни дедушко Семен, веселый, захмеленный, пропахший табачиной, в просторной оленьей малице с куколем; я смотрел на него, как завороженный, на его красивое румяное от морозца лицо с усами в рыжих подпалинах, на веселые голубые глаза, на русые кудерышки по-над висками, что-то простецкое и вместе с тем сказочное было в его облике. Вот вынырнул он из просторного балахона, и принялся пообщипывать полосатый пиджачишко, весь обвалянный оленьим волосом, потом порылся под охапкой сена, добыл из саней буханку желтого соевого хлеба с зажарной крышкой, будто облитой шоколадом. И с этим гостинцем пошел в дом. Я отправился следом и, остановившись у порога, завороженно следил, глотая слюнки, как хозяйка делит кирпичик на ровные куски, отчего-то взглядывая на меня, и вдруг краюшку протягивает мне… Но я тогда не понимал, что эта курносая грустная женщина — и есть моя мать, а не та, чернявая, крикливая одноглазая скуластая старуха, неуемная в работе…
Я, наверное, был озорем и проказою, как говорится, "дыру на одном месте вертел", чем постоянно досаждал взрослым. Но однажды хозяйка боковушки погналась за мною с ремнем, а я заперся в уборной и закричал лихоматом на весь дом: "Не трогай меня!.. Не смей меня бить!" — "Как это не смей?! Я — твоя мать!" — "Врешь, все врешь… Ты не моя мать! У меня мама Нина!" — отговаривался я, подглядывая в щелку.
Мать подергала дверцу, заплакала и, горестно опустив плечи, через холодные сени поплелась в боковушку. Была зима, и крашеный пол блестел, как застывшее озерцо. Я с видом победителя прокатился на подшитых валенках к хозяйской двери, но, видимо сердце мое впервые ворохнулось как-то по-особенному, прищемилось за ребро, потому что, как сейчас вспоминаю, — я особенно зорко, придирчиво, в чем-то сомневаясь, стал рассматривать бабушку, ее густые смоляной черноты волосы, продернутые седой ниткою, черемховые глаза, уже призадернутые белесой пленкой, единственный зуб-клычок, крупный, желтоватый, что не вмещаясь, смешно, как у сказочной бабы Яги, то выкуркивал из-за верхней губы, то прятался во рту, как любопытный человечек, и по-моему, так и не сбежал оттуда до самой смерти. Дедушка Петя сидел за столом и пил чай, —сухонький, мелкий, как подросток, с удивленными птичьими глазенками, с головою, присыпанной серебряной щетью, и с детской челочкой по-над морщиноватым лбом. (Позднее такую же стрижку-полубокс носил и я, и дядюшка, вернувшийся с войны с обмороженными ногами. Бабушка других причесок не знала, "карная" нас ножницами на один манер, как и овечек в хлеву.) Я и на старенького уставился с подозрением, но ничего особенного, никаких перемен не сыскал в его лице; это был мой тихий дедушка, весь век служивший на почте, — и никто иной…
Года через три после войны дядя Валерий решил жениться, время приспело. Однажды, когда бабушка убрела в город по гостям, он собрал мое скудное бельишко в крохотный узелок, подвел к соседнему крыльцу, бросил детские пожитки на нижнюю ступеньку и сказал глухо, стыдливо пряча глаза: "Володя, теперь здесь твой дом". И сразу же ушел… Я долго стоял на мостках, прислушивался к тишине за бревенчатой стеной, дожидаясь, когда кто-то выйдет за мною, привыкая к покосившемуся крыльцу, жидкой тесовой дверце , крашеной охрой, и не решаясь войти в чужой угол, все вглядывался в заулок, откуда должна была появиться моя спасительница "мама" Нина.
Я услышал под вечер, как за стенкой кляла бабушка сына раскаленным голосом, плакала, обзывала его "идолом и каменным сердцем" за то, что выжил из дома ее любимого внука, но поделать ничего не могла и скоро сдалась; свадьба была уже на пороге и приходилось потесниться… Не в черной же бане ютиться молодым, коли настал свой черед сыну вить гнездо и надо куда-то ставить семейную кровать. Им отвели горенку. Дедушка обжил кухню, залез на русскую печь, бабушка легла в запечье. Позднее для стариков из сеней сообразили глухую комнатенку.
…Так я неожиданно вернулся в свою семью и стал снова жить по другую сторону стены, долго привыкая к матери. Но в основном-то пасся у бабушки, пока она не ослепла совсем.
К дядюшке обиды я никогда не таил, зла на него не держал, вот только у матери с деверем отношения не сложились, они часто вздорили по совершенным пустякам, и это немирие невольно легло и на мое сердце. С годами все труднее становилось переломить себя, сбросить с души тяжкий камень чуженины, наверное, и дядюшка переживал, но вида не выказывал, на сближение не шел, мостков навстречу не перекидывал, и тонкая трещина, найдя место в моей душе, позднее углубилась недомолвками в непроходимый овраг. Но и в мыслях не было сметнуться от матери в другой лагерь, как бы предать ее, одинокую, пусть хоть тысячу раз она была не права… Так человек, теснимый обидами и напраслинами, окружает себя стенами недоверия, которые со временем не только не ветшают, погружаясь косо в землю, как избяные, не осыпаются в прах и труху, как кирпичные, но становятся непробиваемыми даже для осадных пушек.
…И вот через полвека, похоронив сестру Риту, пересилив себя, я впервые вошел на хозяйскую половину дома, когда-то казавшуюся мне необыкновенной. Дядюшка, прежде дородный, деловитый, теперь весь оплешивел, скособочился, выхудал, стал вроде бы даже меньше меня, узко поставленные глазки смотрели на меня льдисто, настороженно, прицельно. Я сказал, что умерла Рита; известие он встретил равнодушно. "Слышал-слышал", — откликнулся скрипуче. "Господи, — невольно подумал я, с недоверием оглядывая старика в кацавейке и подшитых валенках, словно бы ошибся дверьми, — и неуж так обстрогало человека время?" Я смущался, старался пробудить в душе тепло, перемогал скованность, пытался навести мосты меж душами… А, собственно говоря, чего нам делить-то!? Вот и мать умерла, и бабушка давным-давно покинула землю… Обежал торопливым взглядом житье — и едва узнал его по каким-то особым приметам, что хранил в памяти. Тот же вроде бы пыльный фикус в кадке, но какой-то недорослый, рахитный, корявые чайные розы, те же закуржавленные морозом окна, в которые едва пробивается с воли сумрачный, неживой свет, и в протайки на стеклах видны серые заструги волнистых, уходящих в бесконечность снегов. Но и все другое, чужое, плохо узнаваемое, уменьшившееся в размерах, покосившееся, скукожившееся от худобы и старости, а главное — тепла не было в комнатах, домашних запахов, что невольно обволакивают гостя и дают душе чувство уюта, обжитого гнезда, благорастворения… Было стыло в доме вдовца, как в норе, зябко в этой убогой горенке с кривым ледяным полом и низким потолком, и уже ничто не напоминало ни бабушки Нины, ни дедушки Пети, ни меня сорванца. Ни-че-го… Остался лишь согбенный бледный старичонко — "почетный гражданин Мезени", еще полный земных странных хлопот, что-то оживленно повествующий о нашем роде Личутиных, с гордостью листающий толстые альбомы, где затаились от мира сотни незнакомых лиц, когда-то живших на поморье, позднее разысканных дядей — и сейчас вдруг выглянувших из "зазеркалья", чтобы посмотреть на меня… Это была навсегда уплывшая родня… Целый пароход "Титаник", набитый битком. И мне стало так прощально жаль дядю, а он поймал этот участливый взгляд, и вдруг совсем по-иному, с искрой дальнего родственного чувства посмотрел на меня и, прощаясь, задержал мои пальцы в ледяной ладони… "Умерла, говоришь, Рита-то? — взглянул зорко. — Земля ей пухом. — И, помешкав, добавил: — Ну что ж… Все там будем…"
…До Парижа лету часа три, было бы желание поехать; но до родины детства моего, "до маленького Парижа" уже никогда не добраться… Вроде бы стою в родовой избе в Мезени о край погребенного снегами нескончаемого болота, а через невидимую стену уже не пробиться, как ни стучи головою… Всё будто моё, стародавнее, но уже чужое. И все меньше с каждым днем остается на земле людей, кто жил возле меня в те прекрасные дни в неповторимом "маленьком Париже" и мог бы вспомнить мою бабушку Нину, дедушку Петра Назаровича, отца, мать, сестру Риту...
* * *
Как-то так Бог направил, что когда, сидя за машинкой в Москве, я описывал тот давний случай из юности, как встретил в Архангельске на морском вокзале сестру и мы отправились по городу устраивать мою судьбу, — вот в эту-то минуту и раздался звонок из Мезени: Рита умерла…
Она давно покряхтывала, жаловалась на нездоровье, но ведь "скрипучее дерево до веку живет". Скрипит и скрипит, пока до сердцевины не выболит, а после, сухостоиной креневой еще долго не падает, пока ветровал не случится.
От Москвы до села Дорогорского, что на Мезени-реке, сутки поездом и восемь часов машиной по зимнику через тайгу-тайболу. Прибыли впотемни, снег хрустит под ногами, с севера заподувал ледяной ветер-хиус. В осиротевшей избе все окна горят, как на вокзале. Генриетта Владимировна лежит в настуженной горнице, уже обряженная в последнюю дорогу, лицо желтое, как мандарин, полное, без грусти, только губы выкусаны до крови — значит, и в беспамятстве мучилась от боли. Дочери-двойняшки, завидев нас, завыли по-бабьи, заплакал и зятелко, по-мужски, с надрывом; внук Генка не сшевельнулся, стоит у гроба, как суворовец в почетном карауле, блестящими глазами пристально, безбоязненно, с каким-то даже любопытством вглядывается в родное лицо, словно бы понарошке замгнувшее на миг веки…
Генка появился на свет, когда бабушка в областной больнице лежала. И вот однажды середь ночи ее позвал явственный жалобный голос мужа: "Ри-та-а!" За двести верст "завопело" и донеслось. Растревожилась, сразу положила на худое, до утра не спала. А днем принесли телеграмму: муж умер. Молодой еще был, голубоглазый, белокурый богатырь, косая сажень в плечах, всё своей силой хвалился… Отпраздновал рождение внука, повалился в кровать — и не проснулся: сердце лопнуло. И вот минуло тринадцать лет, мальчишка оказался деловой, натуристый, сметливый, охотник и рыбачок; сделал зажигу (самодельный пистоль), забил огневой заряд, поджег, но выбило из ствола деревянный кляпец и рвануло в лицо. Слава Богу, что глаза не вышибло. Привезли в больницу порох выковыривать и тем же днем, покрасив волосы, причепурившись, пришла своим ходом бабушка Рита и легла в соседнюю палату…
И вот в гробу, уже ледяная.
А на улице поднялась завируха, снег крупой, сечет в окна. Кроткое, доброе существо, Рита так не хотела быть обузою для других и мечтала об одном — не помереть бы зимой. И как родным на испытание: ветер-полуночник с ног сбивает и мороз за двадцать. Горе мужикам — долбить ломами железную землю на красной горке, на самом-то буеве. Искры высекает. Надо бы во всю ночь костры палить, чтобы отогреть землю, да по заведенному обычаю ранее утра похорон ямку копать нельзя…
Дом без хозяйки сразу по-сиротски съежился, понурился и слегка поклонился на бок. Строили, как поженились. После пединститута направили в деревенскую школу учителем литературы, здесь поглянулся парень, только что вернувшийся из армии, сыграли свадебку и принялись ставить дом. Будто вчера… Жизнь отлетела в трубу, как печной дым, только и примет от нее что дочери, внучки, внук… И далее по роду. Значит, не напрасно жилось. А скольких выучила, по земле разъехались, им тоже памятна бывшая учительница своей сердечностью, мягкостью. Никогда голоса не подняла, ни на кого не озлобилась, не затаила досады, никому не мстила, не желала худа. Некрещеная была, как почти все на Советском Севере, где церковные маковки были обрушены, Бога не поминала, образам не маливалась, поклонов не била. Но ведь жизнь кроила по той мерке, по какой исстари строилась добросердная исконняя русская душа… А в деревне разве не запечатлелась в каждой избе своей услужливостью и нестяжательством? И лес безмолвно помнит ее, куда так любила ходить до последних дней по грибы, и каждая ягодная кочка помнит прикосновение ловких рук, и берег реки, и картофельники на задах избы, и тихая банька на задворках, и луга на заречье, и тинистые озерца, где после свадьбы ловила с мужем карасей…
И я её помню еще девочкой-отроковицей, у Риты тогда заболела нога, признали туберкулез кости, и мать-вдова, горько плачучи, проклиная свою разнесчастную жизнь, тащила хворую дочь на санках-чунках через весь городок в больницу, заметенную сугробами, над которою медленно, таинственно ворошил крыльями ветряк, отгребая от себя вихревые тучи, издалека приманивая к себе детский взгляд. Тот ветряк и был нам за купол церкви, соединял нас с небесами…
Помню девушкой с густыми каштановыми волосами и ясным доверчивым взглядом жалостливых серых глаз. Вот собираются с матерью в кино, на столе едва пышкает моргасик, крохотный листик огонька дрожит, едва разбавляет сумерки убогой нашей комнатушки. Будто подружки они, даже на вид словно одного возраста, накаляют в печке-столбушке большой гвоздь и накручивают волосы на висках, глядясь в зеркало на комоде, о чем-то воркуют и смеются таинственно, как могут смеяться и ворковать лишь близкие сердцем люди. Потом, набив угольем, разогревают большой паровой утюг, пыхающий горьковатым дымом, разбрасывающий искры, когда мать начинает раздувать его, раскачивая перед собою… Ходят по комнате в одних комбинашках, не стесняясь меня, а я, воровски подглядывая, отчего-то сержусь, но занятия не обрываю, а высунув язык, деловито срисовываю с книги портрет Грибоедова и не понимаю долгих сборов, этого шушуканья и сладеньких хиханек, таких лишних в обыденной затее. Ну собрался в кино — думаю я сердито — так надерни валенки, накинь пальтюшонку — и ступай. А тут столько толкотни и воркотни, будто званы в гости на пир, где подают пирогов и сладкой обманчивой браги, и может случиться за столом приглядистый вольный мужичонко… Хотя всей ходьбы минут пять темным заснеженным околотком, потом сумрачный со вспышками экранного света настуженный зал, непременные мокрые бабьи всхлипы и надсадный мужичий кашель от махорки, шарканье валенок, возня и смех на камчатке… Помню Риту голосистой миловидной студенточкой в домашнем застолье, полном горячих пышных пирогов и "картовных" шанег, настряпанных матерью; мы поем без устали, прильнувши к сестренке, заглядывая в песенник, украшенный розами, ангелочками, засушенными осенними листьями… И столько непонятного щенячьего восторга в груди, а жизнь кажется застывшей и бескрайней.
Сладко ли, путево ли сложилась ее жизнь? Никогда разговоров об этом не вели, как-то не принято было. Но не жаловалась, не перекладывала тягостей на наши плечи, не хотела казаться слабой. Страна рушилась, увядала, пропадала на ее глазах, и она, коммунистка до последнего дня, никак не могла поверить, что "этот урод Ельцин" столкнул Россию в овраг… Росла без отца, муж рано умер. Школа-дом, школа-дом. Обрядня, стирка, огород. Один свет в окне — дети. Танечка и Наташа… Металась от школы к девочкам своим, каждой хотелось помочь, мать рано захворала, а после и совсем слегла. Но ведь и в мыслях не было, чтобы сдать старенькую в богадельню, скинуть на чужие руки, как часто нынче водится, — но до последнего дня блюла, держала в опрятности, в белоснежных простынях, выхаживала, выкармливала с ложки капризную от болезни, а после и беспамятную, — и так несколько лет…
Пришла тетка Анисья. Долго глядела на покоенку, молча кивала головою, убирая с лица племянницы невидимые соринки, потом сказала сухо: "Дайте поплакать…" Села на табуретку возле гроба, сухонькая, косоплечая от старости, запричитывала в голос: "Ой да ты, Ритушка, на кого нас спокинула, да почто ты ушла во дальнюю дороженьку, не сказавшись, бросила нас в одиночестве на печаль-горе…"
Закрывая за гробом двери, понесли сестренку из дому, ящик задвинули в грузовик. Ветер кидал охапки шершавого снега, выбивал слезу, и она тут же смерзалась в ледяную накипь, жестко придавливая веки. Плотная женщина в шубе, повернувшись к горстке провожающих, сказала возвышенно-скорбно: "Торжественное собрание считаю открытым… Генриетта Владимировна была настоящим советским учителем, честным, порядошным человеком, коммунистом…" Порыв ветра смял голос администратора, забил горло… Никто не заметил промашки, что похороны — это не торжество, это обряд несколько иного свойства, это проводины, последнее провожаньице, прощание навсегда… Никогда больше не вспыхнет в избе свет, не откроется дверь, не выйдет на крыльцо рано поутру, лишь только птицы воспоют, сухонькая скуластая женщина с коробейкой в руке, никогда не выпорхнет из трубы колечко дыма, не запахнет дрожжевым тестом, стряпнею, не заполощется на заулке настиранное белье… Лишь останется жальник, погост, куда можно приходить в гости.
Уцепившись за грядку машинного кузова, упершись взглядом в крохотную, крашеную хною головенку сестры в домовине, обдуваемую жестким ветром-сиверком, с трудом задавливая слезы, я неотчетливо думал о "неумолимом торжестве души, духа и образа".
Рядом меленько семенил дядя Вася, спокойное лицо его малиновело от морозного жара, светились чистые голубенькие глазки: ему бы рыжеватые с подпалинами усы пиками, то был бы вылитый дедушко Семен. И ему вот уже за семьдесят, чистой душе, ступает по кочковатой от ледых дороге без спотычки, как плывет, а мысли где-то таинственно далеко. Но его и стариком как-то трудно назвать, язык не повернется… Ветер закидывает угол ковровой подстилки из-под гроба на лицо покоенки, перебирает крашеные хной, уже неживые волосы. Дочери наклоняются с табуреток и деловито подтыкивают жесткий покровец до нового порыва ветра. Уже наплакались-наревелись, лица опухли от слез… Груз неприкаянности и какой-то вечной вины давит мне на плечи и никак не сладить с ним. Черствы мы были при жизни, хладны чувствами, невнимательны к заботам чужого, свои страсти мешали подставить плечо в помощь сестре. Рядом идут два брата, и у них, наверное, толкутся в головах подобные горькие мысли.Как бы так перекинуть тягость со своего сердца на чужое, каменное, стожильное — так ведь такого не бывает... Твоя ноша, так вот и тащи, милый, урок до скончания дней; душе хоть и маятно, и скорбно, зато слезы вымоют лишний прах и сор. "Без стыда рожи не износишь." Знать, еще и для того последние провожаньица на красную горку, чтобы мы устыдились своей черствости хоть бы напоследях, пока душа покоенки возле зазирает.
А ветер заподувал еще пуще, не приведи Господь; с ног сбивает, не дает идти. И пока попадали до кладбища, поднимались на самое буево, то чего только не передумалось. На бугре открылись сиротский погост с серыми тычками крестов, белая равнина без конца-края и дальний лес за рекою в снежной дымке; лисьи хвосты замятели игриво мечутся по полям, торопливо погребают свежую ямку. Мое лицо разгорелось иль от зарядов крупитчатого снега, иль от давления, иль от слез, которых ну никак не унять. Невдали стоял столбушок на могиле матери, лицо на фотографии молодое, улыбчивое, ободряющее, прощающее нам все наши нажитые грехи… Когда-нибудь, дай Бог, я вспомню ее и такою… Не может же память моя так безвозвратно окоченеть…
* * *
Мы наивно полагаем, что все прошлое остается позади, в каком-то гигантском архиве, рассортированном по стеллажам в неведомой укромине небес. Да нет же, нет, все пережитое, мерно кружась, как древесная опадь, погружается в водоворот, не дожидаясь нас на каком-то глухом причале, и только сквозь пласты воды, просквоженные нездешним светом, если напрячь взволнованную воспоминаниями душу, мы можем разглядеть минувшее детство и неясные купола величественного собора из "нашего маленького Парижа". Всплывет ли он когда? Иль утянется в Потьму, заякорится в придонную пещерицу, иль за потонувшую коряжину, иль вечно будет завивать спирали в мрачных глубинах? Нам не дано того знать. И толку нет оглядываться назад, ибо ничего нет там, лишь подбивает в пяты черное непроницаемое вихревое бучило будущего времени, черное и тягучее, как вар, откуда и всплывают на свет наши еще не прожитые годы, похожие на скользких угрей, и нам не ведомо, что приготовили они.
А сколько зряшно, как полова, просеивается сквозь решета невосполнимых и неповторимых дней, и мы, несчастные, торопимся их прожить, столкнуть с плеч, как тяжкую торбу, будто боимся надорваться, выкидываем из памяти. Нет, мы конечно имеем урок перед глазами, как надо правильно прожить жизнь, как надо труждаться, "чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", но это знание, увы, не дает практического опыта, не заразительно для многих, ибо гибельное искушение сладострастием и ленью из века заложено в тлеющей, меркнущей, умирающей нашей утробе, торопящейся вкусить прелестей в мире здешнем. Но в бренной плоти скрывается не только искус душе, но и природный остерег: дескать, мил человек, вспыхнешь ярким пламенем и скоро выгоришь, как сухой хворост в костре, а шаять, едва испуская горький дымок, можно долго, пока не надоест…
Эх, да сколь и непамятны мы, грубы душою, зальдели сердцем, торопясь "поле перейти", опустив долу глаза, сколько пораструсили впечатлительного, порою и необыкновенного, не стараясь удержать в груди, пробежав пустым взглядом, не придав значения; после-то и спохватишься, тужишься припомнить, да будто ветром напрочь выдуло из головы облик родного человека, его строй мыслей, его "похмычки" и поступки. Остается лишь смутный негатив, заплесневелая, в разводах фотография с намогильной пирамидки, потускневшая от дождей, ветров и травяной пыльцы. И невольно затомишься тут и сам на себя осердишься, кляня за легкомысленность, но увы, уже не достать опрометчиво забытое из небытия, из того небесного архива, куда складывается на веки вечные всемирная история…
(обратно)Тимур Зульфикаров КНИГА ДЕТСТВА ИИСУСА ХРИСТА. Продолжение. Начало в №1(113)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Я уже знаю, что есть любовь, иму, матерь безмолвная Мария моя и абу, отец мой Иосиф с осыпчивым, тронутым, пурпурным маком в повреждённых, пурпурных, кровоточащих руках.
О, мак-текун сладко, незаметно останавливает кровь? останавливает муку жизни?
Отец, вы прибегаете к маку забвенья тайно? Вкушаете дым персидского языческого рая?..
Это персы сказали, что рай — это цветущий сад, в котором бродят девы с нагими избыточными, певучими грудями и лазоревыми сосками?
Отец мой, вы взяли мак и забрели в чужой рай?
Но вот бешеная собака — а средь тишины и безбожья, бездорожья, безвременья провинции только бешеные собаки напоминают о братстве одиноких человеков, а в Империи только в Риме ликуют, тратятся, безумствуют, соединяются во грехе человеки, а в провинции они пьют глухое вино одиночества и забвенья, и пыльно тоскуют о Риме...
Но тут бешеная собака привлекла, собрала, соединила их, и они вспомнили друг о друге в страхе своем.
Но вот бешеная собака в нашем притихшем Назарете укусила белого вола.
И вот бешеный переимчивый вол в пене обильной побежал густо, смертельно по улочкам Назарета и искал жертву от бешенства своего.
И пузырчатые ядовитые хлопья пены окропляли улицы пустынные и дома с закрытыми глухо дверьми.
И весь Назарет погрузился в бешеную пену, и пена покрыла вечную пыль назаретскую и камни несметные, хлебовидные его.
И вол искал, кого убить рогами разъярёнными.
Но не было никого на улицах Назарета, все попрятались в страхе в глухие, одинокие домы свои.
И тогда девочка Мария в алой шапочке обгоревшей вышла из дому на улицы пустынные, и вол увидел алую шапочку беззащитную её, и пошёл на неё, на алую.
Мария вся стала алая, как шапка её.
Бык в пене жемчужной еще более разъярился, увидев алую головку.
И Мария замерла близ смертельных рогов вола.
Тогда Иисус выбежал из дома своего и стал пред волом, между рогами и Марией.
Тесно Ему.
Остро Ему.
Пронзительно Ему.
Душно...
Но Он знает, что эта смерть — не его.
Тогда вол опускает голову в пене, а мальчик гладит ладонями рога его, и потом гладит ноздри горящие, трогая перстами гибко, нежно густые ресницы зверя, как струны эллинской кифары.
А потом ладони Иисуса наполняются пеной. Собирает Он пену вола.
А потом Иисус нагибается и срывает траву весеннюю редкую, и травой обтирает морду быка... Долго... Долго...
Глаза быка плачут чрез пену... Он стал смирен, и утих пожар тела его.
— Мария, я знаю, зачем ты вышла к быку...
— Иешуа, мальчик с нимбом... Я люблю Тебя... Я знала, что Ты спасёшь меня... Я хотела увидеть Тебя...
Теперь и Ты навек любишь меня, хотя Ты дрожишь, и ладони Твои полны бешеной пены...
Ты спас меня...
Но я тоже спасу Тебя, но я прокричу на весь свет, что Ты вечен! что Ты воскрес!
Я спасу Тебя, когда Твои ладони будут полны крестных гвоздей!
Воистину близ Тебя творятся вечные деянья!
Близ Тебя и я вечна!
И этот бык пенный стал вечным...
И эта быстровыгорающая пенная трава стала вечна...
Мальчик с Нимбом! Иисус, Иешуа, я и на земле, и на небесах люблю Тебя...
— Мария, откуда ты взяла эти Слова?.. Слова грядущих Дней? Слова после Креста?..
Тут прибежал Малх, и взял девочку на руки, и унёс её в дом свой.
Он сказал:
— Древние иудеи истинно говорили, что дьявол пляшет на рогах быков и на кончиках женских распущенных волос!..
А утром тайно Мария уехала в Магдалу.
— Мария, Мария, Мара, мааа, но я видел, как в утреннем хамсине, хамсине ушла, уковыляла чахлая повозка твоя, и Малх закрывал тебя спиной от моих глаз.
Хамсин, хамсин, самум, песчаный ураган всех восставших пустынь, песчаная мгла, мга, спаситель мой ты ослепил Назарет, и горы, и долы его до возлюбленной моей долины Ездрилонской и до заветного моего Генисаретского озера...
И глаза мои исполнены летучего песка, и слезы мои не от прощанья, а от секущего песка, песка, песка?
Да?
Отец, а если б хамсин был вечен, то как бы люди жили в вечной слепоте песка?..
А если Древний Закон вечен, недвижен, то зачем тогда бредут, пылят многодальные караваны, и птенцы кричат в гнёздах? А?..
И новые Пророки, как пенные быки, вопиют и алчут ножа иль Креста? А?..
Но разве засохшая хлебная лепёшка хуже свежей коровьей, дымящейся на дороге?
И разве во дни нужды ты будешь есть коровью, а не хлебную?
Но!
Отец мой, зачем Мария ушла? Я спас её от пенного быка, а она ушла.
Отец, зачем в мире есть колёса? и повозки? и бегучие кони? и верблюды-странники пустынники? и шатры "суккот" кочевые? И мука прощанья разве не превышает сласти путешествий?
Отец, а разве с нашей крыши Магдала не видна?
Отец, а вы вкушаете, вдыхаете мак пурпурный забвенья?
И яд прощаний обращаете в мёд воспоминаний?
И вот испьёшь мак, дурман-туман, и увидишь с крыши далёкую Магдалу и иные в святом хамсине забытые града, града, града?..
Абу... абу... Отец, что есть любовь между женой и мужем?
Отец, уже не знаю, не знаю я...
Мария ушла, и вот уже не знаю я...
И камень о камень биясь, высекает огонь...
А дева о мужа виясь, порождает дитя...
Отец! Отец...
И что любовь — это только совокупленье и рожденье?..
Но мало этого...
Жена рождает. Жена ближе к Богу. Жена должна проводить мужа за смерть — в Царствие Небесное.
Это любовь...
И Иисус долго бежал в хамсине за повозкой Марии, но повозка истаяла в песчаной круговерти, словно повозка сама стала песком летящим, и Мария стала песком текучим.
И Мальчик пришёл к потоку-вади Киссону, который весной превращался в реку, где тонули ослы и верблюды.
И Мальчик пошёл задумчиво по реке, по притихшим волнам, водам и замочил только босые ступни...
Вода, как пыль, как глина, как камни только дрожала, расступалась под Его ногами, но не рушилась... Не впускала Его вода.
Он долго немокренно бродил по водам в задумчивости своей, и не знал, что Он бродит по водам...
... Отец, отец, что есть любовь между мужем и женой?..
А вода весной под ногами покорная, но ледяная... Ступни в водах ледяные стали...
Тогда Мальчик ушел в горы, окунул, опустил ступни в травы Его любимой горы Фавор, где тоже был, стоял слепой хамсин, но плыли над хамсином белые весенние облака...
Он долго бродил там.
И пастухи ясно видели, как Он бродил в облаках, а потом по облакам, и там, в небесах, ласкал орлов и грифов парящих...
Он говорил: "Я люблю гладить перья летящих птиц".
И они не сторонились Его, а подставляли крылья для ласки...
А в Назарете и окрестных селеньях говорили:
— Если Он опускает перелётных птиц с небес...
Если Он укрощает пеннобешеных волов...
То что Он будет творить с человеками?
И что тетрарх Ирод Антипа в яслях Его, в истоке Его, не нашёл Его?..
Молва пахла завистью, ненавистью, смертью...
Но галилейские пастухи, которые зорко видели Его на реке и на облаках, говорили с радостью: "От любви, от великой любви ходит Он по водам и по облакам..."
И ещё пастухи говорили зачарованно:
— Великий человек, родившийся в неказистом, богозабытом городке, похож на золотого шмеля, летящего над муравейником...
Муравьи узнают о золотом шмеле только тогда, когда он, мертвый, падёт на землю, и они будут пожирать его певучее, летучее тело и хрустеть его хрустальными крыльями...
Это великий человек...
А тут есть Бог... Ещё юный... Ещё Мальчик...
Бог явился в той земле и в том народе,
Где Ему более всего молились,
Где Его более всего ждали,
Где Его более всего любили,
Где Его более всего ненавидели...
Воистину!..
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. — Отец, отец мой...Только что бешеный бык ушёл с назаретских улиц...
Но вот, по его следам, что ли, — прокажённый в язвах, струпьях гнойных живых, в которых даже волос молодой стал седым, бредёт по улочкам Назарета...
И прокажённый худ, и нет сил у него кричать о боли своей, и он только хрипит, и слюна его летит в пыль, как у пенного быка.
Но он страшней и опасней быка в заразной, перескакивающей с человека на человека, как блоха, болезни своей.
И жители боятся его более, чем быка пенного, и прячутся в домах, и даже не глядят из окон, ибо се человек, и стыдно им перед ним.
И всякий боится древней болезни, язвы живопожирающей, бросающейся на людей, как пес бешеный.
Кто-то бросает ему деньги из окон, и монеты падают у ног его...
— Отец, Отец, дайте мне деньги ваши — я отдам прокажённому. Иль раввины не учат, что подающий милостыню нищему, даёт взаймы самому Творцу?
— Сын, но раввины говорят, что нищий хуже мёртвого...
Зачем подавать мёртвому?
— Отец, отдайте деньги — те, что за крест получили...
Иосиф даёт Ему серебряную мину:
— Брось ему из окна... Не ходи к нему...
Проказа кидается на здорового человека, как шелудивый пёс...
Но Иисус берёт деньги, и нежданно выскакивает из окна, и бежит к прокажённому одинокому на пустынных улицах злых, бесчеловечных.
Он подходит к прокажённому и протягивает ему мину серебряную, рука к руке.
Назаретяне из домов бросают в пыль милостыню свою, а Он даёт в руки прокажённому.
Касается гноящихся рук, и не убирает, как от огня...
Прокаженный говорит:
— Мне не нужны деньги... Я богат... Я ищу врача от язвы моей... Галилейские, вездесущие пастухи сказали мне, что в Назарете живёт великий целитель.
Но у меня нет сил кричать и звать его...
Может, ты, отрок, позовешь его?..
Я отдам ему всё своё богатство, если он излечит меня.
Но уже тысячи лет никто не может усмирить проказу... Проказа вечна, как жизнь...
Ты видишь — я похож на дряхлого льва?
Прокажённый всегда похож на распадающегося, гниющего заживо льва...
А кто подойдёт к больному льву лечить его?..
Тогда Иисус бросает серебряную монету в пыль.
А потом Он набирает в ладони пыли и глины, и, смачивая глину и пыль обильной слюной молодой, ярой, делает брение:
— Раввины говорят, что слюна после поста целебна...
Иисус бережно обнимает прокажённого, и затхлый дух заживо распадающегося тела могильно, раздирающе бьёт в чистые ноздри Его, как дым пожарищ...
Прокажённый хрипит и отворачивается:
— Мальчик, отойди от болезни моей. Умрёшь, как я. Не трогай руки мои, язвы живые, кишащие переметнутся к тебе и пожрут тебя.
Я не хочу быть твоей смертью...
Но Мальчик цепко не отпускает прокажённого и глиняной слюной обмазывает лицо и руки его. Несколько раз.
Но мало целебной слюны, и врач мал ещё...
Но прокажённый благодарно плачет, потому что Мальчик не устрашился язв его, и прилепился к нему, а никто никогда не обнимал его.
Иисус говорит:
— Может, хоть часть болезни уйдёт ко мне...
Вот два всадника ехали на одном осле, и тяжко было всем, но вот один пересел на другого осла, и разве не легче всем?..
Но тут страшный свист несётся на улицах Назарета, и являются два гонных всадника.
Это римские легионеры в орлиных шлемах, с короткими мечами, в коротких, удобных для смертельного удара, плащах.
Они пьяны, криво сидят на ладных лошадях, и в руках у них горящие факелы.
Они кричат:
— Слава Императору! Ха-ха! Мы охотники на львов!
Вот они — два прокажённых льва! А прокажённых львов надо палить, жечь!
Риму-Орлу не нужна проказа! Вся Иудея! Весь Иерусалим — проказа!
Придет время — мы сожжём факелами весь этот кишащий, гнойный, непокорный базар народов и племён!
А пока мы подожжём этих двух прокажённых львов!..
Они меткие, но пьяные. Они гибко, яро, косо бросают горящие факелы в прокажённого и в Иисуса. Факелы летят в обречённых...
Но тут внезапно страшный ветер от весенних лесистых гор Нефоалима, и голубых бирюзовых отрогов Ермона с дубовыми рощами, и плодоносной равнины Азохис срывается, поднимается над Назаретом, и этот бешеный горный ветер останавливает летящие факелы и поворачивает их на всадников.
Горящие, смолистые, прилипчивые факелы летят на всадников.
И они в страхе поворачивают коней своих и бегут, но факелы летят за ними, как пущенные ярой дланью копья…
А Мальчик шепчет им вослед:
— Император! Император Октавиан-гриф! Рим, Рим! Твои легионеры пьяны! А пьяные легионеры полягут сонно в траву, и некому будет хоронить их. Рим, Рим! Империя легионов! И Ты сеешь факелы смерти по земле, но они вернутся к Тебе!
И Ты захлебнёшься в горящих факелах своих! И загоришься от факелов своих!
И всякая Империя, посягнувшая на Мировое Господство, на мировую власть сгорит в огне факелов своих!
Прокажённый говорит:
— Мальчик, ты повернул нашу смерть на них.
Иисус улыбается и говорит:
— Это ветер повернул...
Весной в горах от такого ветра пастухи летают над облаками и пропастями...
Но я ещё не могу изгнать болезнь твою... Позже излечу тебя... Ты подожди.
Прокажённый говорит:
— Меня звать Симон. Я живу в Вифании.
Иисус сказал:
— Я приду в твой дом, где Мария, сестра Лазаря четырёхдневного воскрешенного, разобьёт сосуд алавастровый и изольёт нард индийский на ноги и голову мою, и оботрёт власами жемчужными, как мать, ноги мои...
Симон, ты жди...
Ааааааа... Адонай! Господь мой! Дай!.. Нестерпимо от чужих язв, ран...
Дай исцелить больного! Дай... дай... дай... Аааа...
Аааа!..
... А Галилейские блаженные святые пастухи
Две тысячи лет назад говорили,
И досель говорят,
Что Он останавливал перелётных птиц,
Что Он укрощал бешеных быков,
Что Он ходил по водам и облакам,
Что Он поворачивал горящие факелы от жертв к палачам...
Галилейские пастухи досель только о Нём и говорят...
Галилейские пастухи вечны, ибо они видели и видят Вечного...
Аааааааа
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. — Отец, отец мой!..
И вот мы жарим воробьев на костре, и мальчики незнакомые, пыльные едят жареное.
И я ем жареное тельце, нищую тушку воробья, но мясо воробьев бедное, жидкое, водянистое, и оно исторгается из меня на землю и не идёт в тело моё.
И тяжко, тошно телу моему, а мальчики-отроки, которые уже старше меня, едят воробьев и смеются надо мной у костра.
Скоро в Иерусалиме Праздник Кущей, и караваны богомольцев запылённых, блаженных бредут по городу нашему, обходя более краткие дороги к Иерусалиму, ибо там гнёзда летучие разбойников.
И вот отец мой дал приют богомольцам, и двенадцать отроков сидят у костра и жарят воробьев.
И в руках у одного из отроков священный букет-"лулав", сплетённый из пальмовых, ивовых, персиковых, лимонных веток.
И отрок ловко залезает на спящие деревья во дворе нашем и сбивает, сметает "лулавом" ночные, сонные гнёзда воробьёв, и убивает умело ночных, вялых птиц, и разбивает яйца недозрелые, и яйца текут разбитые по ветвям.
У отрока лицо хищное, упоённое убийством живых, а левый глаз у него косит, как у страстных жен.
А голос узкий, знобкий, хлёсткий, как у хищных птиц. Рот узкий. Душа узкая.
Хищные птицы жалобно кричат, как саддукеи и фарисеи.
Он кричит жалобно:
— На празднике Кущей убивают жертвенных агнцев и волов, а мы, бедняки-"евионы" святые, убиваем жертвенных воробьев.
Я убил двенадцать воробьев — каждому по воробью, жалкая жертвенная еда, но другой нет у бедных...
Иисус, нищий, воробей, сын плотника старого, ешь воробьев!..
Но язык мой, и гортань, и горло моё не приемлют такой пищи... Я стою под разбитыми гнёздами, из которых расколотые яйца текут на лицо моё.
И что слёзы мои, когда текут заветные хрупкие яйца?.. Господь мой!.. В мире нет ничего страшнее разрушенного гнезда, селенья, града, народа...
А убийца воробьев ночных смеётся, но остальные отроки молчат, но едят воробьев на огне.
А утром сизым караван богомольцев уходит в Иерусалим, и я прощаюсь бессонно с ними, и со сна плохо воспоминаю прохожие, пыльные, чужие, но ставшие за ночь родными и близкими у костра их имена: Пётр, Андрей,
Иаков, Иоанн, юные вольные рыбари от вольного моря Галилейского, Филипп и Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Леввей, Симон из Каны.
А двенадцатый, который убивал воробьев, был Иуда из многоторгового, гористого ветхого Кариота.
И Иисус уже узнал его, а он ещё был слеп и не знал о грядущих днях...
— Отец, отец мой Иосиф!.. Вот караван богомольцев ушёл, убив жертвенных воробьев...
А я больше никогда не буду есть мясо. Зачем мясу мясо?
Разве агнцы поядают сосцы овечьи материнские кормильные вместе с молоком их и пиют кровь?
А я буду есть только любимую мою похлёбку-"либбан" из плодов и трав.
И плоды дерев и полей.
Хотя даже когда человек рвёт яблоко с дерева — он похож на мясника, багрового от крови животных, а я не хочу быть багровым.
А убийца овцы недалёк от убийцы человека.
Отец мой, лучше мак, чем мясо убитых, ибо тут ты убиваешь себя, а не других...
Отец мой, караван ушёл в Иерусалим на Праздник Кущей, а я не хочу идти с ним, а я не хочу убивать жертвенных животных. Ибо сам стану жертвой.
А я пойду к потоку Киссон и буду лепить из глины...
— Сын, я знаю, ты опять будешь лепить глиняные кресты.
Мальчик сказал:
— Я должен вылепить двенадцать воробьев...
Он пошёл к Киссону, который уже опал и не был бешено полноводным — таким, когда, как посуху, Он ходил по его высоким покорным волнам.
Иисус сел на сырой, речной песок и тинистую глину, и вылепил тонкостными перстами плотника двенадцать глиняных воробьёв.
Потом Он сложил воробьев на песок, и жгучее солнце просушило, прокалило их, и они стали лёгкими, невесомыми...
Тут пришёл Иосиф, и он дивился мастерству лепки десятилетнего Сына своего:
— Кто научил Тебя лепить птиц? Твоя любовь к птицам научила Тебя?..
Иисус сказал:
— Я хочу вернуть, воскресить убитых сегодняшней ночью в ночных гнёздах вместе с яйцами неповинными, сокровенными.
Иосиф изумился:
— Гляди, Иешуа!
Иль я с утра, в Праздник Кущей, вкусил мака и чудится мне?
Иль двенадцать воробьев налетели, и каждый взял в лапки своего глиняного собрата, и улетели все двенадцать?
Иль сами глиняные воробьи стали живыми и восстали с речного песка, оставив извилистые следы, похожие на египетские иероглифы накаменные?
Или Ты превратил глиняных в живых?
Истинно говорят древние раввины, что язык иудея всегда должен говорить: не знаю, не знаю, не знаю...
И я не знаю, не знаю... Но нет никого на песке, опричь птичьих следов...
Мальчик! Сын мой! А мне ведь скоро умирать, а Тебе одному оставаться...
И разве Тебе помогут глиняные и воскресшие воробьи в этом страшном мире? Средь законов древних, каменных?
Иосиф сел на песок мокрый и рыдал, и Иисус не мог утешить его...
Он шептал, но отец не слышал Его...
— Отец, отец, отсюда, от глиняных воробьев, с помощью Небесного Отца Моего, я начну воскрешать усопших, поднимать падших, исцелять хворых, утешать печальных...
А галилейские пастухи говорили и говорят уже две тысячи лет:
Когда Его распяли — над Его Крестом кружили необъятные стаи перелётных птиц...
А к Его Кресту шли все бешеные, пенные быки...
И все прокажённые, и все больные, слепые, немые и бесноватые...
И многие мёртвые шли к Его Кресту...
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Господь мой! Отец Небесный мой!
Мне девятнадцать лет, и отец мой Иосиф умер.
И мне теперь не с кем говорить на земле этой, а только с Тобой, ибо Матерь Мария моя безмолвна, и следует повсюду безмолвно, покорно за мной.
Господь мой!
Отец мой уснул на крыше под маками-текунами, и лепестки пурпурные нежно покрыли блаженное лицо его.
Маки что ли усыпили, похоронили его? не знаю, не знаю, не знаю, Господь мой...
А только Ты и это знаешь, знаешь...
Отец мой перед смертью мало читал Закон и Пророков, а более читал эллинских мудрецов и поэтов, и возлюбил земную, змеиную мудрость и мак-дурман поэзии...
Господь мой, а пред Тобой — это прах, прах, прах...
И вот мой родной отец ушёл во прах, прах, прах и стал прах... вместе с мудрецами и поэтами мака... певцами наслаждений...
Господь мой, отец мой следил за мной и не пускал меня к прохожим, сладким, чужедальным караванам и к Учителям иных народов.
А теперь он ушёл с невозвратным караваном своим, и двери дома моего открыты.
А Матерь Мария безмолвная моя не может удержать меня, и я ухожу с караваном в Индию древлей Мудрости.
В Индию Шакья Муни, в страну Будды Блаженного.
Индийский караван мой шёл чрез Персию Царей Аршакидов, откуда пришли к яслям моим волхвы Балтасар, Гаспар и Мельхиор.
Караван мой заночевал в горах Бисутуна, и тут все уснули тяжким, высокогорным сном.
Но я увидел на вершине Горы Древо Жизни Хаому, а у Древа Костёр, который доходил до звёзд, и звёзды многопадучего августа сыпались в него и не давали ему иссякнуть.
А у Костра Звёзд сидел Пророк Зороастр, а вокруг Костра на скалах густо лепились белые орлы-могильники и грифы-бородачи, и огонь Костра плясал в их жёлтых, хищных глазах...
И Пророк Зороастр, пророк Огня и загробных птиц, сказал:
— Иисус, Отрок! Я ждал Тебя и узнал Тебя!
Добро Ахурамазды уступает в мировой борьбе Злу — Ангро-Манью.
Зло везде побеждает Добро...
Но огонь моего Костра очищает, побеждает и добрых, и злых...
Тут белый орёл-могильник и гриф-бородач сошли со скалы, и цепко, когтисто утвердились на руках Пророка, и стали заживо его плоть поедать, клевать, брать, рвать.
Тогда Зороастр сказал:
— Иисус, Ты изменишь Весы — и Чаша Добра перевесит Чашу Зла, но для этого Ты отдашь себя Злу и злым человекам, как я отдаю эти руки трупоядным грифам и орлам.
Но для этого Ты окропишь, утяжелишь Крест своей кровью и покроешь Кровавым Крестом Чашу Добра. И Она перевесит Чашу Зла.
Но стоят ли грешные, заблудшие, сладострастные человеки Такой Жертвы? Такого Креста?
Я тоже погиб за Добро, за человеков — но вот они забыли меня.
У Бога нет сил любить всех человеков, которых расплодилось лютое, слепое множество.
И потому Бог возлюбил избранных Пророков.
Человечество — это тесто. Пророки — это хлебы, выпекаемые Творцом.
И что хлебы должны возвращаться в тесто?..
А мир — это перекличка Пророков.
Это я послал к Твоим яслям моих Волхвов с моей огненной Звездой...
Иисус! Брат мой! Иль не слаще войти в мой Костёр Звёзд, чем на Кровавый Крест?..
Иисус сказал:
— А Я люблю сырое тесто более печёного.
А Я люблю родниковую воду более кипячёной.
А Я люблю пастухов более, чем царей...
А Я люблю всех человеков. И более всего — слепых.
Но!
О, Отец Небесный мой!
Меня так тянет уйти в последний Костёр Звёзд! И так горят глаза орлов-могильников и грифов-бородачей... И так они алчут плоти моей, и так хочется мне усладить, умиротворить их, как я кормил перелётных птиц в Назарете моём...
Но кто-то молит, глядит на меня из-за скалы, и глаза Ея горят более, чем Два донебесных Зороастра Костра...
О, Небесный Отец мой!..
Это моя безмолвная Матерь Мария, и Она неотступно, покорно, тайно бредёт за мной по всем тропам и градам... я знаю, знаю, знаю...
И что же я отдам птицам и Костру моё тело, которое Она родила и лелеяла?
И что же Она одна вернётся вспять в пустой наш назаретский дом?
Где зачахли на землистой крыше иерихонская роза и отцовский сладкий утешитель, собеседник — мак-текун-сон-смерть-рай?
— Иму, Матерь моя, Ты спасла меня от Костра, да не убережёшь от Креста...
И вот караван наш ушёл от Костра Зороастра и пришёл в Индию, к Священному Древу Бодхи.
И там, во блаженной дрёме, в ещё земной, но уже небесной нирване, восседал Шакья-Муни, Блаженный Будда.
И Он шептал с закрытыми очами:
— Иисус! Младший брат мой!
Я не хочу глядеть на земной мир — больно очам моим и душе моей...
Я слеп для этой жизни...
Но Творец сказал мне, чтобы я вышел из нирваны, и вернулся, пришёл к Тебе, в Колесо Сансары.
Я одинок блаженно, как белый носорог, как белый слон.
И Ты одинок, как белый носорог, как белый слон...
Но Ты ещё отрок, и не знаешь, что одинок, как белый носорог.
А Ты не устал от кровавых, многострастных библейских Пророков и огненных воюющих народов?
А от многих страстей приходят многие несчастья... Творец дал Тебе мудрость уже в молодости Твоей, и зачем входить в Костёр Страстей, когда можно миновать его...
И Ты уже избранный Белый Носорог, а не стайный пахучий волк.
Твой народ гневен, твой народ хмельной от страстей человеческих. И великие муки тела и души предстоят Тебе...
Они распнут Тебя и не дадут поколебать, как ветру, сонное Древо Древнего Завета, которое кормит их и чад их.
Погляди на своё тело — оно свежо, целомудренно, как альпийский снег нетронутых гор.
И зачем отдавать Его гвоздям и копьям слепцов-безумцев?
Разве блаженное тиховеющее Древо Бодхи, Древо блаженства и нирваны, не лучше Креста Кровавого?
Разве на Древе Бодхи распинали живых, кротких человеков?
Иисус, Ты же сын плотника, Ты знаешь запахи деревьев, разве запах вечного Дерева Бодхи не слаще запаха кипариса, кедра и сосны-певг, из которых составят Крест Твой?
Все человеки предадут Тебя, и даже деревья предадут, и только глиняные воробьи не предадут Тебя...
Брат мой Иисус, разве нельзя миновать Голгофу и придти ко Творцу неусечённым, непронзённым...
Разве гвозди сотворены для тела человека?
Иисус вздрогнул, когда Будда говорил о Кресте и о том, что Он сын плотника.
Значит, Он видит прошлые дни и грядущие...
Тут Блаженный открыл один глаз, и сноп звёздных лучей едва не ослепил Иисуса... А что было бы, если бы Блаженный открыл оба глаза?
— Брат мой Иисус, одинокий белый носорог, оставайся со мной.
Всё равно мы встретимся Там, Там, Там, у подножья недвижного
Творца.
И кому Там нужны гвозди Твои и Голгофа Твоя?..
Иисус сказал:
— На миру и смерть красна,
А со Креста вся земля видна,
А со Креста ближе небеса...
Меня Отец Небесный Мой на Крест ради человеков позвал, послал...
И боле ничего не сказал.
Но тут ниспала на землю, пришла такая густая ночь, нощь, что стало казаться, что нет на земле ни Блаженного Будды, ни Блаженного Дерева Бодхи. Они растворились, стали ночью, ночью...
Ночь, нощь загустела, и стало казаться, что это ночь, нощь нашептала Блаженные Слова.
А Блаженный Будда не сходил на землю, а оставался в вечных небесах, а только Древо Бодхи шелестело...
А это ночь, нощь нирвана блаженная, вселенская, на землю сошла, сошла, сошла... аааааа...
Окутал а, опутала все камни, тропы, горы, дерева и души человеков, и тела... ааааа...
И только в кромешной, очарованной, блаженной ночи шелестели древние ветви Дерева Бодхи... Ууууууу...
Матерь, матерь, мама маа, такая чужая ночь окрест нас такие чужие деревья, горы, камни, реки, такие чужие Вечные Слова...
А Блаженный Будда — это Ночь, а ночью, в тишине, слышней, ближе Господь небесный ...
Такая ночь, нощь, что в ней затонули, померкли все Белые Носороги и все Белые Слоны... Ииииии...
Ночь колодезная, чужая черна, как спящая вселенская сова, сова, сова...
Но нет ничего чужого, всё родное...
И Зороастр мне родной брат... И Блаженный Будда мне родной брат...
Матерь, но я устал любить всё и всех...
И что один осёл несёт груз десяти ослов?..
Но ночь буддийская окрест...
Мама! Иму! И только светятся живыми звёздами, переливаются, лучатся в несметной чужой ночи Ваши глаза...
Иму! Но я люблю утреннее солнце на камышовой крыше нашего назаретского дома, когда на золотом камыше лежит хрустальная, отборная роса...
Но я люблю Синайские Скрижали Моисея...
Но я люблю Великий Ветер, шатающий Древние Деревья, сметающий дубы кедронские и кедры ливанские...
Матерь, но я уже с колыбели прозрел,
Но я уже устал ждать,
Матерь, когда Крест мой?
Когда? когда? когда?
А?..
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. А!..
А галилейские пастухи две тысячи лет говорили и говорят...
О, двухтысячелетняя горечь! о, рана! о, как ты свежа! горяча!
Когда миновал День Распятья, и задрожала, раскололась земля, и туча пришла, и низвергся ливень кромешный, а потом пришёл хамсин, хамсин, хамросин пепельно-сиреневый, хамсин, песчаный самум, круговерть песка, мга мгла, и весь Иерусалим ушёл в хамсин, и Голгофа ушла, и Крест ушёл, утонул...
Тогда в хамсине ко Кресту Матерь Мария, Мария из Магдалы, Мария из Клеопы, Марфа из Вифании, Саломея, Сусанна, Иоанна и другие жёны пришли.
И пришёл Иосиф Аримафейский, и принёс саван из тонкого "синдона", и погребальное миро, и алоэ загробное, прощальное.
И пришёл в хамсине, учуяв Крест, член Синедриона Никодим многобогатый, который слушал живого Иисуса Христа и внимал Ему благосклонно, бездонно, и один был в Синедрионе против казни Его.
О, Отец Небесный наш!..
И тут у Креста хамсин был особенно густ, непролазен, космат и забивал песком рыдающие очи жён.
И больше всего песка было в Святых Очах Марии Богородицы... Тут бы вся пустыня Син в Ея Очах поместилась, полегла...
О, Отец Небесный!..
И тут жёны и два мужа содрогнулись, ужаснулись, и жёны воскричали, потому что явно увидели в летящем песке, что на Кресте был распят Ребёнок, Дитя, Агнец в детской рубахе "кетонет".
И на ногах у Него дряхлые сандалии Его отца Иосифа — дети любят носить обувь отца и матери...
И Крест был велик Ему, и Ему бы хватило трети Креста, но у всемогущей Римской Империи и у всемудрого седого Синедриона древних иудеев не было крестов для детей.
И вот Дитя распято, течёт на Кресте для мужей.
И ещё двенадцать воробьев были приколоты гвоздями над головой Распятого.
И гвозди были больше воробьёв, но иные птицы ещё бились, ещё тлели, ещё шевелились, ещё тлились.
Но Дитя уже не двигало руками в огромных двух гвоздях, как птицы крыльями, потому что крылья долговечнее, живучее плоти человеческой.
А тут была ещё незрелая плоть детская...
Тогда Иосиф Аримафейский, который выпросил у Понтия Пилата Тело Иисуса Христа для погребения, сказал:
— Такой хамсин! Такая песчаная мгла, что муж кажется ребёнком? Но ребёнка легче пеленать, и я принёс саван погребальный, пелены последние...
И тут Иосиф умолк и вдруг яро, обрывисто зарыдал, потому что никто никогда на земле не видел Распятое Дитя, а он увидел.
Но жёны молчали.
И только Мария Магдалина, уже Святая Жена сказала:
— Никто не подошёл ко Кресту, когда Его распинали, и только прилетели двенадцать воробьёв, и принесли воду в клювах своих, и водой питали, освежали, продлевали Его, пока не дал Ему римский солдат на конце иссоповой палки "поску" — питьё римских солдат.
О, Небесный Отец! и что же — только воробьи не забыли, не предали Его?..
... Тогда Никодим сказал:
— Он был и остался Дитя, Агнец, Младенец.
Мы казнили, распяли Младенца.
Мы казнили долгое, непреходящее, лучезарное Детство.
Мы не простили Ему, что мы стареем, ветшаем, рушимся, а Он остаётся Младенцем...
И, как всякое Дитя, Он излучал великую, беззащитную любовь и льнул ко всем коленям, и упирался в подолы всех жён и в таллифы всех мужей.
Он любил и любит всех и ждал ответной любви, а мы любовью оскудели...
Он был Вечное Дитя и не стал отроком и мужем.
Он был Вечное Дитя, и потому Матерь Его и многие жены хранительницы сопровождали Его от Колыбели до Креста.
Они все были Ему матери. Ибо не могут жены матери оставить одного Дитя средь жестоковыйного, пыльного, хищного мира.
И вот мы, мужи, казнили Дитя...
И Никодим закрыл глаза руками, пахнущими несметными, погребальными ароматами.
Тогда сказал Иосиф Аримафейский:
— Рим возненавидел Его за то, что Он был иудей.
А мы, иудеи, опасались, что Он, Дитя, превыше нас, убелённых храмовых старцев, книжников, законников, первосвященников.
И вот Он уходит из иудеев и показывает дорогу в сторону от Скрижалей Моисеевых...
Первосвященник Каиафа на Синедрионе сказал: "Он "мессит", соблазнитель Народа и Храма.
Если мы не предадим Его смерти — Он подточит Храм, и Закон, и Народ, как сладкий соблазнитель подтачивает юную девственницу.
Надо казнить Его, чтобы спасти весь народ.
Надо казнить Его, чтобы Иерусалим стал Хозяином Мира... И станет!
Не Иерусалим Христа, а Иерусалим Моисея и воителя Иисуса Навина станет править миром...
А тогда пусть беззащитная Кровь Его будет на детях и потомках наших.
Но какой Хозяин не ходит с кровью рабов своих?"
Каиафа сказал на Синедрионе:
— Пусть Его казнь будет не по Закону Моисееву — чрез побитие камнями, а по-римскому — чрез распятие.
Пусть Рим, а не Иерусалим ответит за казнь Его!
Потому что Иерусалим победит Рим!
Потому что Иерусалим разрушит Империю Рима и все грядущие Империи!
Потому что Иерусалим станет Хозяином всех империй и всех Народов.
А пока надо положить этот Факел, поджигающий, подрывающий нас, в тёмные иорданские воды...
Но потом мы отдадим этот Факел, Эти смиренные Заветы беспредельной Любви в другие народы, и они смирятся и покорятся нам...
И Каиафа устало опустил обильные пурпурные рукава своего таллифа в золотую чашу с апельсиновой, лимонною, душистою водою, и испил из чаши...
И рукава его промокли от дрожи...
И ещё сказал:
— Моисей с Крестом — это грядущее Христианство... Моисей с Мечом — это грядущий Ислам...
И вот Два Сына объединятся и пойдут на Отца Своего... Но Отец мудро поссорит Их и кроваво усмирит.
Тогда Никодим сказал у Креста:
— Воистину, Древний Завет — Святой Камень с золотыми обильными жилами.
Распятый, как и все мы, иудеи, с радостью носил Камень Завета сей на блаженной шее.
Но вот Он выделил Чистое Золото из Древнего Камня и стал носить на шее Одно Золото.
И позвал всех иудеев и иных человеков носить Золото.
Но многие продолжают носить Камень с золотыми жилами и бегут распинать Того, Кто зовёт носить Чистое Золото Нового Завета.
Не тяжко ли будет во дни грядущие тем Камненосцам?..
Тогда Иосиф Аримафейский у Креста сказал:
— Воистину говорил Он, что пришёл спасти народ иудейский.
И вот мы распяли Его, но вижу, вижу я, что между собой, мы, иудеи, будем жить по Его Завету.
И будем жить и любить друг друга безбрежно по Его Новому Завету.
И будем неоглядно, животно любить друг друга, и будем любить даже лютого врага, и убийцу, и наветника, и книжника, и фарисея, если он иудей.
Воистину, будем мы любить народ свой более, чем Бога. Иль любовь к народу своему и есть высшая любовь к Богу. Ибо кто видел Бога живого, кроме Моисея и Распятого, а народ мой живой окрест меня дышит и уповает... И народ мой — Бог мой!
И вот мы, иудеи, будем жить по великому Закону Любви, открытому Распятым...
Воистину!..
А с иными народами будем мы жить по Древнему Завету, по закону "око за око" и "зуб за зуб".
А к другим народам мы повернёмся Древним Законом, что пришёл к нам из египетской Пустыни Одиночества Син...
О, Отец наш Небесный!
Но нынче, у Креста Агнца, что мы? И что нам грядущие дни наши? Что слова наши, когда такие слёзы изливаются, и они выше всех Слов Мира...
И Иосиф Аримафейский устал от пророчеств и поник у Креста. И только томительно благоухали погребальные масла-ароматы его в песке летящем.
Но тут пришёл вечерний что ли? иль уже повеял ночной ветер? но хамсин рассеялся.
И тогда Иосиф Аримафейский, и Никодим, и жёны-мироносицы увидели весь Крест и Распятого Мужа уже на всём Кресте.
Тогда Мария Магдалина воскричала:
— Раввуни! Учитель! Ты только на Кресте стал Мужем... И стал седым, как снег...
Но скоро Ты станешь навек Живым, и снег сойдёт...
О, Отец Небесный наш!..
Но!..
Уже Ангел Господень спе
шил, подлетал ко Кресту, раздвигая, разгоняя крылами хамсин, хамсин...
Он мог содвигать огромные камни-"голалы" с древних гробниц и выпускать мёртвых.
И что Ему отодвинуть хамсин?..
О, Отец Небесный наш!..
Ты Таких посылаешь...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. А галилейские пастухи две тысячи лет говорили и говорят:
— И вот мы радостно пием Вино Воскресения, и уже две тысячи лет пресветло, предивно пианы, пианы.
И вот в давильнях топчут, убивают ханаанский виноград "козьи сосцы", и он воскресает, восстаёт в блаженном свежем вине.
И вот Вино Воскресения свежо и пресветло хмельно, и две тысячи лет радостно пьянит Оно.
И вот наш Спаситель Иисус Христос Воскресший явился на горе женам-мироносицам и сказал: "Радуйтесь..."
И мы пием вечное Вино Воскресения и радуемся, радуемся...
Но!
О, Царь Небесный наш!
И в молитве сказано: "Христос — веселие вечное..."
О, на следующий день после Распятья хамсин нежданно ушёл.
И жителям Иерусалима и близких градов и селений явилось дивное Чудо, Знамение.
Чудо было в том, что открылись, явились жителям слепого Иерусалима неслыханные, невиданные дали, дали, дали.
Особенно с высоких стен Иерусалима, и с Сузских врат, и с золотых крыш Храма открылись дали неоглядные.
Открылись дальные, неслыханные страны, града, народы, океаны... Вся земля в дымке утренней, сиреневой иерусалимской плыла пред потрясёнными очами, пред очами иерусалимцев. И плыли Дни Прошлые и Дни Грядущие.
И во Днях Прошлых, и во Днях Грядущих плыли, уповали древние, ещё живые Фараоны Птолемеи, и Пирамиды только в пустыне восставали под руками феллахов...
И в иных землях восставали давно погребённые Эмиры, Ханы, Аршакиды, Династии, императоры, цари, короли, тираны...
И летели колесницы Сезостриса и копья, стрелы амаликитян, и пылили македонские фаланги и римские легионы близкие, а потом слышались утробные, надорванные, боевые, стальные крики крестоносцев...
А потом грохот повальных артиллерий Англии, Франции, Германии... А потом атомные грибы-циклопы над Японией...
И во Днях Прошлых плыли, сокрывались Финикия, Сирия, Аравия, Вавилония, Египет...
И во Днях Грядущих восставали, плыли Америка и Россия...
И русский Царь, и цесаревич, и царица, и царевны в белых, девьих, подвенечных платьях на Исполинский Русский снежный ледовый Крест восходили и скользили у кровяных наледей Креста, и народ русский необъятно восходил на Крест за ними, и слуги, бесы Каиафы и Понтия Пилата в кожаных, звериных одеждах возводили Царя и народ Его на Крест...
И поныне возводят...
И этот Крест Христа среди народов самый великий.
И поныне! Воистину Русский Крест несметен!
И всякий русский на Него взойдёт!
О, Господь! Господь.Господь!
Гляди — под ногами русскими распятыми даже кровяная наледь вопиёт, гюёт!
И поныне народ русский уже сто лет на Исполинский Крест восходит.
И нет Ему исхода, а есть бесконечная Голгофа!
Даже когда русский пианый человек бредёт в ночном поле за водкой — он бредёт на Голгофу.
И все пути на Руси, и все тропы ведут на Голгофу.
И есть ныне Время Двенадцати Иуд! Все вожди предают Русь, всё предают, всё продают...
А напротив Руси стоит на брегу океана Америка.
И там стоит несметная Золотая Богиня, и вот несметные ярые человеки рубят, пилят, режут Статую Золотую на золотые струпья и монеты и, ликуя, золото уносят в домы слепые свои.
Вот оно, золотое ликованье слепцов, которые не чуют, как океаны уже готовят пучины, потопы свои на золото их и золотые души их.
И вот жизнь твоя, утяжелённая златом, идёт на дно океанов, слепец! И кто в бушующей пучине воспомнит о золоте, брат мой заблудший? Иль злато только на дно влечёт...
И галилейские пастухи пели от пресветлого вселенского Вина Воскресения:
О, Царь Небесный наш!
Сокрой от тленных глаз наших Дни Прошлые и Дни Грядущие! Зачем человеку знать о Них? Печалиться о прошлом? Бояться будущего? Зачем нам, пастухам, эти Дали Неоглядные?
Спаситель наш сказал: "Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное..."
О, Отец Небесный!
Оставь нам, галилейским пастухам, эти Пресветлые Дни! Дни Воскресенья Бога нашего Иисуса Христа.
Вот Он грядёт по нашим галилейским долам и горам. Вот Он только что свежо воскрес, нежно, как со сна, восстал. Вот ещё гробовые пелены текут, спадают с плеч Его... Вот Он брением Своим усмиряет, умиротворяет, помазывает гвоздиные, ещё горящие, жалящие язвы Свои.
Вот Он уже является Марии Магдалине, и жёнам-мироносицам, и Петру, и шествующим в Эммаус, и Своим Ученикам-рыбарям Апостолам на брегу Галилейского озера...
Но! Но! Но!..
Отец, Пастырь Небесный наш!
Но! Одни мы, галилейские пастухи, знаем, куда Воскресший явился впервые.
А куда бредёт далеко ушедшее Дитя? Куда возвращается, стремится?
Иль не в дом родной? Иль не в Назарет свой?..
Да!..
И вот пришёл к дому родному своему...
Когда ночь пришла, и все спали.
Но Матерь Его не спала, и Она слышала тихие шаги на крыше среди одичавших, задумчивых маков, маков, маков, где любил спать отец Его.
И Она слышала, слушала, но не вышла из дому.
И только лучезарно улыбалась, и ночной дом наполнялся покоем и сияньем...
— Иму, иму...Матерь, матерь, мама, маа...
Я хочу вечно сидеть на вечной нашей крыше среди вечных птиц, среди вечной весны. И чтобы вечная Мать и вечный Отец глядели на Меня...
И свершилось!
С нами Бог!
Аминь...
ОТ АВТОРА. Я написал эту Книгу в октябре-декабре 2005 года.
Наверное, это были счастливейшие дни в моей затянувшейся жизни.
Господь являл мне Эти Картины, и я по мере слабых сил моих пытался Их запечатлеть в Слове.
Я не описывал великих событий Евангелий и Апокрифов. Кроме маленькой истории о глиняных воробьях, которая, однако, явилась мне в новом свете...
Пусть мудрый Читатель не ищет эти Картины в Апокрифах и бесконечных книгах о Спасителе. Их там нет.
Тот святой, далёкий, смолистый сиреневый, апельсиновый назаретский Ветер веял на меня...
Тот далёкий, святой, глиняный, назаретский домик с розой на крыше стоял предо мной...
Тот Вечный Отрок являлся, и мне чудилось, что Он дально, затаённо улыбался мне...
Быть может, мне смутно открылись Те Алмазные Дни, которых ещё никто не видел...
Несколько Страниц из Величайшей Книги Его Земной Жизни...
... Назаретский весенний оливковый смуглый двухтысячелетний ветер ветер
Веет в душу мою среди русских снегов
И приносит
Тоску гефсиманских блаженных маслин по Нему
И томленье хевронских дубов без Него
И янтарь кипарисовых смол словно слёзы о Нём
И дымный запах Его отроческой рубахи
Когда Он помогал своему Отцу-плотнику...
Спаси Господи...
10 декабря 2005 г.
...Лепесток снежной назаретской розы лежит на моём письменном столе. Кто обронил его?..
(обратно)Елена Сойни ВОЛОДЕ В ДЕНЬ 16 ФЕВРАЛЯ
***
Смелее начинай десятилетье,
ведь что ни год, то книга на столе.
А все, что преходяще на земле,
не страшно — друг за друга мы в ответе.
Что шестьдесят — грустить или гордиться?
Я знаю твой ответ: гордиться, да.
Твори, мой брат. И счастливы всегда,
те, кто читает книг твоих страницы.
Я вновь, Володя, тебя слушать жажду,
без слов твоих не представляю дня.
И пусть любимый мой уйдет однажды,
но только ты не покидай меня.
АНГЕЛ
Трофейный ангел на моем рояле,
подаренный мне старенькой связисткой
на память, что победно штурмовали
бойцы квартал, к рейхстагу самый близкий.
Оплаченный немыслимой ценою —
своей судьбой —
потерей горькой сына,
ей ангел был наградою одною,
другой — медаль "За взятие Берлина".
И по утрам любуюсь на него я,
на маленькое чудо фронтовое —
курчавая головка, славный носик —
красив, но только счастья не приносит.
И на душе ни радости, ни лада —
трофеи не приносят людям счастья.
И сдан Берлин, и мерзнет град за градом.
Мой ангел, тебе надо возвращаться.
Но кто ж вернет нам наших серафимов? —
Старинные иконы и оклады
я вижу всюду в антикварных лавках
но счастья нет у немцев и у финнов…
***
Я маме неподвижной
чай с медом и бисквит
несу, и что я вижу —
она сама сидит!
Не вымолвить ни слова,
не чудится ли мне?—
впрямь всадница Брюллова
на скачущем коне.
Врачи по-философски
сказали:
— Ей не встать.
А вижу стан высокий
и северную стать
Два санитара с матом
внесли её домой —
ту, что солдат когда-то
в больнице фронтовой
аж на себе носила,
не требуя оплат.
Есть подлость, но не сила
у нынешних ребят.
В такой мороз суровый,
когда на душах лёд,
ты победила снова,
как в сорок пятый год.
БЫВШИМ
У вас оскудеет словарный запас
скоро,
и вы не найдете в положенный час
слово,
и вам не откроется святость молитв
наших,
а грянет гряда ливней злых, неродных,
cтрашных.
Скорее домой, дуралеи, из стран
топких.
Спасение здесь и прощение здесь
только.
И нам одиноко без ваших сердец
трезвых,
там ваши могилы народ обойдет
резво.
***
Уезжают русские красавицы —
наши женщины — лучшие в мире,
Уезжают русские ученые —
наши мозги — лучшие в мире.
Уезжают русские художники —
наше искусство — лучшее в мире.
И только русские чиновники
никуда не уезжают —
их могут терпеть только в России.
***
Володе в Венеции
В мою душу,
замерзшую на русском Севере,
капни несколько строк о горячем солнце,
которое согревало тебя
недалеко от Венеции
и раскрашивало твои сны в цвета
итальянского неба.
Выпей за меня, вечно простуженную,
несколько глотков тосканского вина
и передай привет той, кто протянет тебе бокал
уже безразличным жестом.
***
В темно-синем окне
отражается белое облако,
блеск последнего льда
и движение первой волны.
В темно-синем окне
я не вижу любимого облика,
но открылся мне мир
с самой светлой своей стороны.
Как отрадно шагать
переулками к вещему дереву,
как легко мне дышать
у прохладной онежской воды.
Твой вернется корабль,
потому что так хочется берегу,
потому что вдвоем
мы спасаем весь мир от беды.
***
Я хочу быть твоей
окружающей средой,
быть воздухом твоим и теплом.
Я хочу, чтобы ты изучал меня,
как питьевую воду,
наслаждался моей свежестью
и берёг
от вредных промышленных загрязнений.
— Что за пара! — скажут удивленные туристы.
— Экологически чистая! — ответим.
***
Возвращаясь домой
с корзинами, полными ягод,
мы с маленькой дочкой
вышли на безлюдную дорогу.
Угловатые тучи,
нависая над лесной кромкой у горизонта
приобретали злые пророческие очертания.
Из лесу доносились тревожные крики зверей
случайные, и сливающиеся в долгий протяжный зов.
— Здесь волки, —
говорили об этих местах.
Вечернее солнце пугало близостью темноты.
И вдруг на заброшенной дороге
показалась машина, сверкнувшая
отраженным в стекле закатом.
— Это "Форд", — сказала дочь.
— Это судьба, — ответила я…
Волков бояться —
замуж не выходить.
***
Не забудь меня, солнце,
долгой-долгой зимой,
так невесел декабрь темноликий.
Только свет мне оставь,
друг забывчивый мой,
только свет из июльских реликвий.
Я живу у онежских метелей в плену,
у полуденной северной ночи.
Днем встречаю закат,
утро клонит ко сну,
колыбельные песни бормочет.
Оттого так сильна
жажда летних зарниц.
Но осилит и жажду и смуту
весть, слетевшая вдруг
с календарных страниц,
что прибавился день на минуту!
А с минутой прибавилось много надежд,
а с надеждами — новые силы…
Солнце первым лучом
в предрассветный рубеж
раньше прежнего мир осветило.
(обратно)Татьяна Реброва СТИХИ
ВСЕМИРНОСТЬ
Владимиру Бондаренко
Словно змеи на Лаокооне
Млечные Пути. Устали кони.
Ямы, как трамплин. Перепряжём!
Минареты Космоса и храмы,
Медитируют в Тибете ламы.
Кони ли хохочут? Мы ли ржём? —
Обороты чудотворной драмы!..
***
Что со мной происходит? Не сплю.
Я люблю.
А когда было так, чтобы я не любила?
Я деньжонок скоплю —
Эту пыль, эту ржу.
Но цветок Анне Керн положу.
В изголовье.
И вздрогнет могила.
***
NN
Но ни одна стальная гильотина
Так не хотела ни простолюдина,
Ни короля, ни дервиша Хивы,
Как я хотела, я — комок сатина —
Твоей посеребрённой головы.
***
Это ж сколько нужно горя
Проглотить — не поперхнуться.
И одной, в слезах, проснуться.
Чтоб сказать: ну, слава Богу,
Утро с вёдром на дорогу
Вышло. Ах! без рукавичек.
Пса с вороной познакомить
Да ещё наэкономить
Сальце — баловать синичек.
ПОДАРОК
Это мне? Это… правда, мне?
Я забыла, что значит — извне.
Что имела — шло изнутри,
Из души, из моей!
Неужели?
Нежный камушек цвета зари…
Это мне? Да хватило б и Гжели.
Сувенира! Да пусть не у шеи,
А в кармане носила б.
Ангельским светом.
И карман бы светился, как слёзы во сне.
Я забыла, что значит — извне,
Безвозвратно и нежно при этом.
***
Что там у дельфинов?
У свиней!
Лечатся и разум обретают.
…………
Полночь! жизни.
Чёрт и ангел тают.
Мелом вкруг себя сомкну черту.
Эй, Сократ!
Ну что вам та цикута?
Мне защитник нужен.
Что минута?
Каждое мгновенье на счету.
ПОЭЗИЯ/b br br Судьба и я — кресало и кремень. br Удар! Ещё удар! Судьба жестока. br Но искры сыплются не из моих очей, br А из Всевидящего Ока.
(обратно)Татьяна Смертина СТИХИ
***
Эпоха Временем сметёна —
Подвластна Времени Земля.
Пронзают эры, рвут знамёна
Зубцы державного Кремля.
Вновь в чаше лилии — малина.
Вновь бело-красен наш закат.
Летит Ивана посох в сына,
А сын толпой давно распят.
Да мы всё те же, там же, так же...
Срываем крест, возносим вновь.
И призраки царей, как стражи,
Проклятья помня и любовь,
Поочередно воскресают,
Тревожат души и умы.
А сыновья — всё умирают,
И посохи летят из тьмы...
ВАСИЛИСК
Зачем ты, лютый василиск,
Ползешь под легкий башмачок?
Ты изумрудным перстнем лёг
И ждешь мой обморок иль крик.
Ты Божьей дудки не узришь
В моих кромешных кружевах,
Лишь всё качаешься — ах, ах! —
Под каждый стих мой! и шипишь…
***
Сны сеновала, сновиденья,
Где лютые сушу коренья...
Вновь Дева Звездная во сне,
Скорбя, показывала мне
Потопы, взрывы и темницы,
Державы в дьявольских огнях,
Оскал маньяка, нож убийцы,
Обманов козлодушный прах...
... И я в воде топила плавно
Дух-зелье, крест Петров, прострел:
Влекла неведомая тайна —
Пророков горестный удел.
Сквозь крышу тёк не вихрь тумана —
Державный пепел змеевел.
В нем властелинов череда
Плыла и гасла навсегда...
Цивилизаций странный пульс —
Рожденье, гибель, вновь Иисус...
"А я?" — шепчу я Деве в хмари —
"Пятнадцать мне! Кому нужна?"
"Зря обнажённа и нежна!
Тебе — лишь гибель век подарит,
Царевна-лебедь-Мата-Хари-
Персидская-княжна!"
***
Всё, что было предательским в мире,
Потемнело до черных глубин
И зависло, как туча в эфире,
И сплотилось вдруг в образ один:
Брови — хмурые, взгляды — опасны,
Лоб — землистый и голос лукав.
На экранах всех теликов ясно
Он предстал, передачи прервав…
И попадали в обморок тыщи,
И заплакали тысячи враз.
На других он уставил глазищи,
Те — с ума посходили смеясь.
Только дети и чистые девы
Равнодушно туманили взгляд,
Просто — слышали ветра напевы,
Просто — видели белый квадрат.
(обратно)Евгений Нефёдов ВАШИМИ УСТАМИ
КАПЕЛЛА БОНДАРИСТОВ
"Но я был молодой
и наглый критик…"
Владимир БОНДАРЕНКО
Когда я входил, ребята,
В большую литературу —
Оглядывал нагловато
Я каждую в ней фигуру,
И там — в ЦДЛ, в буфете,
Таланты друзей ценя,
Пытался себе ответить:
Кем были они — до меня?
Проханов — простым лесником,
Куняев — лихим рыбаком,
Лимонов корпел закройщиком,
А Поляков — перестройщиком,
Личутин ходил помором,
А Пронин — служил майором,
Маканин был математик,
А Ким — рядовой солдатик,
Слыл дервишем Зульфикаров,
А Ганичев — комиссаром,
Был Гусев — почти доцент,
Устинов — почти студент,
Бобров начинался с песен,
Заметки печатал Есин,
Киреев балдел в Крыму,
Анисин — в табачном дыму,
Нефёдову снились макеты,
А Животову — багеты,
Султанов рос юным талантом,
Шурыгин — салагой-курсантом…
Но время недаром мчится:
Читая друзей своих,
Я им посвящал страницы
Журналов, газет и книг.
Как всякий нормальный критик
Ругал и хвалил их я,
В итоге чего — смотрите,
Кем стали мои друзья.
Проханов сегодня — классик,
Таков же Куняев Стасик,
Личутин — кудесник слова,
Лимонов — крушит оковы,
В "ЛГ" Поляков блистает,
По Пронину фильмы ставят,
Маканин давно отмечен,
Ким премиями увенчан,
Пленил Зульфикаров музу,
Стал Ганичев — босс Союза,
И Гусев давно профессор,
Боброву — эфир и пресса,
Устинов — творец академий,
А Есин — читаем всеми,
С Киреевым всё в ажуре,
Анисин — король в Домжуре,
Султанов теперь во власти,
А Животов — чудо-мастер,
Шурыгин — герой походов,
Нефедов — и есть Нефёдов!
Такая моя капелла,
Умельцы и слова и дела,
А я — юбиляр простой,
Не наглый, не молодой,
Но смею считать, что всё же,
Помимо "ДЛ" и книг,
В том славном буфете тоже
Я кое-чего достиг!
(обратно)Олег Павлов СОВЕТСКИЙ РАССКАЗ
Он вырос без отца, а узнал, где тот есть, когда уже носил чужую фамилию. Встретился с отцом — когда умер отчим, который усыновил и воспитал. Его родной отец пропал без вести в первые месяцы войны, но не воевал; немцы так быстро прошли Украину, что здоровых мужчин не успевали мобилизовать и они оказывались в оккупации. В анкетах да биографии у Петра Настенко и до войны хватало тёмных пятен. Их семью, жившую хутором, что назывался хутором Честных, раскулачили — они работали сами, но и нанимали в помощь батраков. Пётр исхитрился избежать участи родных. Прижился у добрых людей, а после даже поступил на учёбу в сельхозтехникум, скрывая, откуда был родом и своё кулацкое происхождение.
Такой же техникум дал образование в Краснодоне и девушке-казачке из разбитой несчастьем семьи, где отца, кормильца (а он, уральский безлошадный казак, искал счастья на Дону, и, завербовавшись на шахту, скоро выбился в горные мастера), ещё в старом времени, перед самой войной с германцем, завалило и заживо похоронило в забое. Когда погиб в завале горный мастер Чурин, работать на шахту должны были пойти его дети мужского пола, их было двое братьев: Николай — младший, старший — Александр. А две малолетних сестры и родительница жили на их иждивении. Братья рано повзрослели да омужичились. Николай отселился, обзавёлся семьёй и работал на угледобыче без перемен простым забойщиком. Старший брат давно вышел в мастера, но останавливаться на том не хотел, да и не мог. Его замечало начальство, он сам стремление имел начать всерьёз учиться, однако ехать надо было за судьбой своей в Москву, откуда не было б уж возврата назад. Не имея ещё своей семьи, своих детей, судьбу сестёр решал он, Александр. Он не мог оставить их, но и увезти их с собой тоже не было у него возможности. Когда сёстры достигли того возраста, что могли сами пойти учиться, то одну отдал в сельхозтехникум, другую устроил в техникум на телефонистку, а сам уж уехал на обучение в Москву, откуда высылал деньги на жизнь всё ещё своей семье, незамужним сёстрам да матери. Разрешение выйти замуж сестра спрашивала у брата. Потом, когда с ребёнком на руках Нина бежала с Украины, оказалась на Урале, в глубоком тылу — выжила заботами брата, который к тому времени уже был директором в промышленности.
И во время войны, и в мирные годы Нина разыскивала пропавшего мужа, но в конце концов устала ждать. Стала жить семьёй с новым мужчиной. Жила в Москве. Дом на проспекте — ведомственный. В него вселяли от министерства сельского хозяйства: учёных и чиновников, которые чего-то смогли добиться в министерстве более-менее значительного. Второй её муж был профессором, видным специалистом по сельскому хозяйству. Он умер в пятьдесят шестом году, осталась от него, кажется, только эта квартира, да фотографии в альбомах и портрет на стене. Отношения в семье были добротные. Он был для сына своей жены скорей хорошим дядюшкой и другом, чем отцом. Для того чтобы влиять сильней или яркую оставить о себе память, он был слишком мягким, тихим, зависимым человеком: таким, кого б и взяла в мужья сильная властная женщина. Любил поэзию Есенина, привил пасынку любовь к этому поэту и поэзии вообще. Любил рыбачить и умер по дороге на рыбалку: на Тишковское водохранилище поехал за судаком, был за рулём, плохо себя почувствовал, успел съехать на обочину — и отказало сердце. В заглохшей машине на обочине его нашли. Есть ли связь, но именно его жена обожала судака, заливное из него и в сметане. И вообще знала толк в еде и любила поесть вкусно, сытно, откуда взялась и её полнота.
Наверное, тихий скромный профессор сельхознаук, добывая для жены эту вкусную рыбку, всё же приучил её к ней, так что когда его не стало, в её жизни не утихало обожание к судаку. Эту рыбу в другие годы добывал для неё старший брат: заместитель министра, которого в одну из новых эпох сослали на пенсию за то, что был слишком добр к своей родне.
Когда Настенко объявился на свете, то вышло у них, как по молчаливому уговору: у него был интерес оформить с ней развод, так как тоже сожительствовал с женщиной и давно прижил с ней девочку, а у неё — с развода этого получать хоть два годика алименты на сына. Друг дружке, однако, не стали они людьми до конца чужими, потому что ни он, ни она не прожили прошлой своей любви, а будто б со временем неизбежно отвыкли любить. Но время, запуская снова свои ходики, заставило их чувствовать уж если не любовь, то родство. Настенко, как только способен был, заботился о прошлой жене и любовно слал что ни год на зиму посылочки с гречишным своим медком — и топлёным, и в сотах — будто б родной. А она ревновала его всю свою жизнь к новым жёнам, но глядя на них, как глядела б на невесток ревнивая сестра, если их и упрекала, то в бездушии да лени, будто б о том заботясь и к тому ревнуя, чтоб поусердней да подушевней, не жалея себя, жёны эти ему только б и служили. Когда у неё умер муж, Настенко сжалился над ней и наконец позвал неприкаянного молодого человека, сына их общего, пожить на лето к себе, о чём уж она и просила, оказавшись вдовой и теперь-то переживая, чтоб прошлый муж почувствовал свой отцовский долг перед тем молодым человеком. Молодой же человек, обретший утерянного отца, был заворожен встречей с ним и мигом впитал все его замашки да разудалые черты. В нём, в Настенко, было то заразительное неудержимое обаяние, которое бывает у блестящих прожигателей жизни. Этот человек любил в своей жизни только женщин и к тому времени женат был уже в новый раз. Но и куда сильнее, чем женщин, любил он самого себя. Потому заводя их, женщин, он вовсе не обременял себя семьёй, боялся заводить детей и вообще не любил детей, будто один их вид отнимал у него здоровье.
Те, что всё же завелись — и сын, и дочь, — были внешне точным его слепком: скуластые продолговатые лица, тонкие носы с горбинкой, узковатые серые цепкие глаза, с выражением от рождения снисходительным да насмешливым. Внешнее сходство было поразительно, но тем сильней отражало оно равнодушие отца к своему будто б и случайному потомству. Молодой человек, влюбившийся в него со всей сыновней страстью, заразившись его жаждой жизни, должен был испытать только одиночество. Настенко был радушен — ему нечего было жалеть для сына, потому что сыну нечего было взять с него; но оставался равнодушным совершенно уже к его жизни. Он был вольный ветер, отпуская, не глядя, на волю всех из своей души, и родных и чужих, обуреваемый страстью лишь по возлюбленной своей женщине, которая в пору любви этой всегда была для него одна-единственная, будто столб в голой степи, и всё время, что любил, он только и рыскал голодно в той голой безлюдной степи около своей супружницы, подозревая измены да неверность.
За изобретения свои, а изобретал он комбайны для уборки картофеля, он был щедро обласкан советским правительством — был и лауреат, и академик, но тех ласк да щедрот, что отнимали свободу, избегал, сторонился. Он не состоял в партии, но с его славой прожигателя жизни, наверное, даже опасались звать его в партию. На барские замашки тоже закрывали глаза; но и было, вероятно, известно, где надо, что он собственник двух Ленинских премий, а потому позволяли ему барскую жизнь. Этот колхоз был сельхозполигоном академии наук, и там испытывали им же изобретённую технику. В том опытном хозяйстве он завёл себе имение: приглядел местечко в оврагах, окружённое на много километров садами, и со временем исхитрился вывести земли эти из сельхозоборота. Он запрудил один овраг и развёл в нём карпов для рыбалки. Сады цвели и плодоносили нетронутые: там хозяйничали пчёлы с его пасеки. Было у него личных две легковых машины: одна для лазанья по полям, другая для выездов в Киев. Дом на колёсах: дом этот — скорее тоже изобретение, похожее на комбайн — и пасека кочевали по садам, так как на одном месте ему надоедало. Были две квартиры: в Киеве, где он не жил, а проживала последняя его законная жена с дочерью, и в Галивахе — там проходила вторая его жизнь, беспечная и полная страстей.
Молодой человек обрёл отца, но ему предстояло ещё обрести самого себя в этой жизни. Его манили моря, океаны, и он выбрал своей судьбой военно-морской флот. Поступил в Ленинградское училище подводного флота. Но через несколько лет казарменной несвободы разуверился в этом пути. В почётной курсантской вахте на крейсере Аврора он разбил себе голову об орудийный замок, якобы, когда поскользнулся. В госпитале, имея сотрясение мозга, симулировал психическое расстройство и был отчислен из училища как негодный к военной службе в мирное время.
Вернулся домой. Поступил в энергетический институт. Его близкий друг по институту снимал комнату в квартире, где жила не очень обычная семья. Сыном хозяйки было некто Алик Гинзбург. В доме собирались молодые люди, художники, поэты, просто недовольные властью. Бывая у друга, молодой человек познакомился с этими людьми. Он тоже писал стихи, хотя учился на инженера. И хоть плакал в день смерти Сталина, пробирался на похороны и чуть не погиб в той московской Ходынке, имел уже за душой запретное, вернее любовь к одному русскому поэту, что казался ему запретным: Велимиру Хлебникову. Стихотворение этого поэта он прочитал в какой-то старой книжке, заказанной наугад в Ленинской библиотеке. Потом он подражал не только его стихам, но и судьбе.
Поэтические полуподпольные вечера, московские кухни, где говорили то, за что сажали, — а по другую сторону жизни уже-то закрытое конструкторское бюро, комсомольским секретарем, вожаком которого был по вдохновению. Выпускал смелую стенную газету. Изобретал подводные аппараты, которые должны были покорить океан. Об одном — и его изобретателе, молодом советском инженере — уже писалось в газетах, а между строк в эти очерки юркали ещё и стихи. Но гордился он тем, что читал свои стихи Назыму Хикмету, Эренбургу, Крученых, Зинкевичу, получая благосклонно в ответ поэтические книжки с драгоценными для него автографами. Его не бросало из стороны в сторону, нет, ведь эти стороны жизни смеживали вино, приключения, женщины — трепетные комсомолки и богемные дивы из прокуренных кухонь, походы на плотах по убийственным горным рекам и самиздатовские прятки, беленькое и красненькое, водочка и портвешок. Жизнь была праздником, жить было весело — он не умел бояться так, чтобы брать от неё что-то одно.
Свою женщину он встретил в обычном, но и необычном московском троллейбусе, что ходил кругом по Садовому кольцу. Просто увидел женщину в троллейбусе, вышел за ней, пошёл по пятам... Они встретились. Полюбили. Подали заявление в ЗАГС.
Он привёл её в свой дом: в одной руке нёс её чемодан, а другой — вёл за ручку маленькую девочку. Его мать отказалась благословить этот брак, ведь кругом было столько прекрасных девушек, комсомолок, притом бухгалтеров, врачей, инженерш. А у этой женщины ничего не было, кроме готового ребёнка, даже своего дома: она приехала когда-то в Москву, чтобы учиться в университете, вышла замуж, родила, уехала за мужем в магаданские бараки, где даром что работала "на телевиденье", вещавшем в вечную мерзлоту, но и развелась, и вернулась не в отчий дом — а жила с девочкой в углу у бывшей своей свекрови, чужой уже и терпящей её лишь ради ребёнка. И Нина оставила свой будто б осквернённый теперь дом: отселилась куда спокойней, на свежий воздух, за город, где хлопотами брата получила своё отдельное жильё.
Когда родился ребёнок — мальчик, которого отец назвал в честь самого себя — есть в семье было нечего. Он варил девочке на ужин одну сосиску. А к жене в роддом носил каждый день по одной морковке и яблоку. Он не умел работать для денег, а ещё: единственный в мире глубоководный аппарат утопили в Тихом океане во время погружения в Марианскую впадину. Утопили по халатности, не закрепив какого-то болта перед тем, как снова опускать на дно. Строить по чертежам новый или другой остереглись. Мир уже узнал, что советский подводный аппарат покорил глубочайшую океанскую впадину. А о том, что в ней же он спустя время и затонул, в этом мире никто уж не должен был знать. Чертежи аппарата забрали в КГБ. Молодого советского инженера предупредили, о чём он должен молчать. И он послушно замолчал. Изобретал, раз проштрафился, уже чего поскромнее, под научным руководством, что присваивало идеи, изобретения как свои. Стране нужно было осваивать свои морские богатства — вот для рыбной промышленности теперь изобретал способы, как сделать так, чтобы больше советской селёдки в сети загрести, не дать уплыть.
Тогда он решил — махнуть на волю, в поэзию. Но его стихов, даже переданных по какому-то поэтическому знакомству, в "Новый мир" не взяли, а на меньшее — мурыжиться по рабкоровским сборникам, елозить — соглашаться он не желал. Он отдал свои стихи шведской журналистке, она перевела, их напечатали в чужой стране, всего два-три стишка о покорителях земного шара, о подлости памятников, "мёртвой вечности носителей", и о чём-то ещё. Наверное, эта публикация и обратила на него внимание. Его остановили на улице, попросили пройти в чёрную "Волгу". Взяли, может, случайно, по пути в одну необычную московскую квартиру, куда шёл сдавать, как в библиотеку, взятую на ночь книжку Милована Джилиса. Он даже не мог успеть её спрятать: когда нужно было снять в кабинете следователя верхнюю одежду, книжка, что пряталась под ней, оказалась у него в руках. Кто дал? Куда шёл? Советский инженер не молчал: валялась, поднял по дороге... Так-с... Хорошо... Да что вы, товарищи, я же свой, тот, который... Знаем, знаем, какой ты свой... Его отпустили. Перепуганный, он ходил теперь тише воды, ниже травы. Раз ещё вызвали на допрос. Предложили сотрудничать. Да ведь он сотрудничает, вот же, комсомольский вожак! Вожак, говоришь? Значит, не понимаешь. И правда, в закрытом конструкторском бюро не стало больше такого вожака. С работы тоже уволили, нашлась статья. На другие не брали. Но и не трогали, почему-то не дёргали, будто и забыто было о нём. Зато арестовали Алика Гинзбурга! А о нём пустили по кухням прокуренным слух — этот, комсомолец, и был стукачом.
Остались белое и красненькое, водка и портвешок. Да нет, он не переживал этого как трагедию. Выпивка давно влекла сама собой. Случайные работы в запахших научных подвалах, случайные женщины, случайные стихи, случайные дружки — жить было всё равно весело, хоть будто и по случайности, жизнь была ещё праздником, да только для него одного.
Девочка, что маленькой называла его когда-то "папой", устала от этой жизни и возненавидела — то ли саму жизнь, то ли его. Сын был мал, он ничего не смыслил, он должен был только потом всё понять — и поймёт, ведь только они, капля в каплю, одной крови, а кровь не вода, она даст себя знать! Но вдруг от него сбежала жена: совала документы, которые он не глядя, заклиная потом, что спьяну, подписывал, куда-то ходил с ней, куда звала, но сам не обращал внимания на происходящее... Подумаешь, подписал. Ну и что, куда-то ходил. Херня! И в его сознании развод с женой выглядел так, будто б она сбежала от него, подготовив всё тайком от его глаз, как воровка, будто и не было долгой их жизни уже врозь, в разных комнатках, не было его подписей, тех комнатух в коммуналках, что ходил с ней смотреть под размен. Поэтому он развода этого не признавал, считая себя обманутым. Упрямо хранил в паспорте штампик, указывающий, что он всё ещё состоит в законном браке с гражданкой такой-то, считал её женой, сына — сыном, а их дом — своим. В его же комнатухе на своих местах, перед глазами — автономный радиопередатчик, бескозырка и морской военный флаг подводной лодки... На стенах — крабы, акулы, кораллы, морские ежи, океанские глубинные рыбы, похожие на дикобразов... Люки задраены. Он скомандовал глубокое погружение. Он ушёл в одиночное плаванье. В долгий, как вечность, поход.
(обратно)Лев Аннинский НИКОЛАЙ ТРЯПКИН: "КРОВЬ ЖЕЛЕЗНАЯ…". Из цикла "Мальчики Державы"
Детство пахнет травой, сеном, древесной стружкой: отец — столяр. Железо отдается в названии тверской деревни Саблино, смягченном тихим и мирным именем речки Старинки, но подкрепленном песнями только что завершившейся Гражданской войны. Близ Катуни "мой отец зарыл родного брата, срезанного саблей Колчака". "И отцовская сабля промчалась сквозь долы и кручи — и старинную волость сменила на мой сельсовет".
Поэт, рожденный в 1918 году, навсегда зачисляет себя в ровесники Советской власти; первые воспоминания: "земелька" наделов, веселые свадьбы, заливистые гармошки, летающие качели, "Ильичевы красные значки" на куртках, железный "Серп-Молоток", укрепленный отцом на трубе дома.
"Малиновые петлицы" тоже начеку: железная власть прикрывает Орленка от бандитов. Кулаки с обрезами прячутся в лесу. Подковы военкома цокают под окнами.
Железное поле, железный и праведный час.
Железные травы звенят под ногами у нас.
Железные своды над нами гудят на весу.
Железное поле. А поле — в железном лесу.
Это написано через сорок лет после того, как "злая раскулачка" выдавила семью из тверской деревеньки, — оставшиеся пошли в колхоз "топорьем друг друга оглоушивать". Таким обернулся в памяти Великий Перелом; в реальности все обошлось чуть легче: выселение — по договоренности, и не в дикую далекую ссылку, а в ближнее Подмосковье, в село Лотошино, где после общего барака удалось семье купить кое-какой домишко и устроиться "под боком у строгих властей".
Железом мечены перемены. Железными гвоздями заколачивают оставляемое в Саблине жилье. Гремит железо фордзонов. Пахнет земля совхозной соляркой. Отзываясь полковой меди, гудят провода в соломе…
Провода в соломе! Вот и появляется первый советский поэтический ориентир: Михаил Исаковский. И общий строй проясняется, общий пляс: "Ой, ты, Русь, плясея-комсомолица, золотая моя колыбель!" Золотая?.. Есенин и Клюев до поры прячутся в рябящем золоте, но оно уже рушится под топором.
Топор — отцовский. Перед тем, как взорвать церковь, велит власть отцу ее "разгрузить", или, как тогда выражались, "раскулачить".
Сын столяра стоит на пороге обдираемой церкви, глядя, как ее курочат отец с напарником; им в глаза он не смотрит, он смотрит куда-то вверх, не понимая, что с ним…
Он поймет это полвека спустя:
И смотрел я туда, где сновало стрижиное племя,
Залетая под купол, цепляясь за каждый карниз.
И не знал я тогда, что запало горчайшее семя
В это сердце мое, что грустило у сваленных риз.
И промчатся года, и развеется сумрак незнанья,
И припомнится всё: этот храм, и топор, и стрижи, —
И про эти вот стены сложу я вот это сказанье
И высокую Песнь, что споется у этой межи.
Но прежде, чем споется Песнь, железный век протащит певца сквозь строй. Поколение смертников Державы пойдет под пули. Наган, нашаренный когда-то в соломе тачанки, сменится пистолетами, снятыми с Паулюса… Да не улыбнется читатель такому повороту стиха (сколько пистолетов носил при себе плененный гитлеровский фельдмаршал?) — судьба обошла поэта солдатским опытом: по болезни (скупо поминаемой в автобиографии) его в 1941 году комиссовали, и отъехал он из прифронтового уже Подмосковья в сольвычегодскую глушь, где "километрах в семи от Котласа" приткнулся в колхозе.
Гибель, назначенная ему, как и его сверстникам, от него отступила, оставив вечное терзание души, когда смертельное железо гудит в небе, где патрулируют самолеты с крестами, а наши солдаты проносятся по большаку к фронту, звякая трехлинейками.
"Поскольку для солдатского дела я не пригодился… добрые люди подумали, подумали — сделали меня колхозным счетоводом".
Трудовую книжку этого счетовода оставим до времени, пока она не отзовется в его первой поэтической книжке, — а заглянем в душу, где совершается невидимое действие. Деревянный Котлас, голубая Вычегда, сливающаяся с Северной Двиной. Вековые леса.
"У меня впервые открылись глаза на Россию".
Осенью 1943 года в сожженное немцами подмосковное Лотошино возвращается — поэт.
Это не значит, что до того он не писал стихов. Писал еще в Саблине, и осталось от того писания — мемуарное четверостишие: "Уходил я в пустырь в глухоту репухов и крапивы и лежал среди книг, укрываясь в блаженной тени. А потом возвращался, и все мои тайные взрывы извергались в куплетах пред носом гудящей родни". Писал и в Северодвинье, и осталась от тех трех лет (кроме веселой и наивной "Песни о казачьей дивизии 1943 года") горькая ретроспекция: "Уходила машина к востоку, уносила меня из-под пуль. А над нами высоко-высоко проплывал чернокрылый патруль… И глядели всё кверху солдаты, из-под касок прищурив глаза. А над нами — все тот же, крестатый, приспустивший свои тормоза". Писал, вернувшись в ставшее родным Лотошино: "мечтал о специальном филологическом образовании, готовился к редакторской деятельности". И после школы поступил (успел поступить до войны) в Историко-архивный институт.
То есть ни о каком посконно-нутряном самооткрытии тут говорить не приходится: талант потому и прорезался, что началась интенсивная интеллектуальная работа. Исаковский действительно оказался первым образцом для подражания, но хотелось подражать еще и Безыменскому, и Жарову, "ходовым тогдашним стихотворцам". Кольцов и Есенин вполне естественны в числе предтеч, но еще и Бернс, и Сафо, и Гесиод, не говоря уже о Ветхом и Новом Заветах… но это позже, когда дух начального атеистического воспитания осядет вместе с пылью от взорванного (отцом!) храма…
В стилевом кружеве обнаруживается не столько баешник-певун (как Прокофьев, которому отсалютовано в "песельную Ладогу"), сколько фольклорист-книгочей, у которого в записях и сузем, и лешуга, и взрои кротовые, и кручи термитные…
И к кому же в 1945 году несет двадцатисемилетний лотошинец свои опыты? К Павлу Антокольскому! Который — при всех своих библиофильских экспериментах — отнюдь не имеет вкуса к просторечной самодельщине. И однако внимательно слушает то, что позднее Тряпкин опишет как "хатулище понятий народных и державный кошель языка". Слушая, поглаживает мэтр худые заплаты на пиджачишке молодого стихотворца, постукивает ногой в такт его пению, а потом говорит:
— Все, что будешь писать, парень, вези только мне! — и, перебрав названия тогдашних толстых литературных журналов (а их в Москве три), дает записочку — в "Октябрь": — Там главным редактором Федор Панферов, он твои стихи поймет.
С записочкой этой ("Дорогой Федор Иванович, примите… пригрейте…") поэтический новобранец летит в редакцию и оглашает коридор сиротским воплем:
— Где тут находится Федор Панферов?!
И Федор Панферов появляется. И не просто печатает в журнале обширную подборку стихов дебютанта, а объявляет на будущее: "Пусть его ругают критики. А мы его печатаем и будем печатать!"
Автор "Брусков" хорошо знает реальность. Критики с неизбежностью должны на Тряпкина наброситься. Во-первых, он теперь на виду: он участник Первого Всесоюзного совещания писателей и имеет там шумный успех. И, во-вторых, есть, за что ругать.
Даже без прямого упоминания Клюева знатоки засекают, какому Николаю наследует этот Николай. "Как с мурлыкой по-свойски огнем балагурит лежанка и, работая дратвой, воркует на керженке дед". В 1948 году это вам не дед с котом, это апология старорежимной деревни. Хорошо еще, если не кулацкой.
Надо защищаться. Упреждающий ход:
"Только вывел я нашу вечорку на концерт своих первых стихов, мое имя пошло на подкормку боевых долбунов-петухов. Не горлань ты упорно, гармошка! Ты, колхозная тройка, стоп! Нам припишут клычковскую кошку, что мурлычет про Ноев потоп…"
Поразительно: прикрывая Клюева Клычковым, шутник вроде бы и не вступается за мурлыку (а кот явно клюевского помёта), то есть как бы "выдает" его, отступается, но ситуацию реализует в такой ловкой скоморошине, что сверхзадача все равно высвечивается — несоизмеримая с актуальными литературными склоками. И летит стих куда-то, оттолкнувшись от избы…
Интонационно вырабатывается стих замечательно "летучий", стих, в котором все подымается, парит, реет, смотрит куда-то вверх, не встречаясь взглядом с теми, кто курочит реальность железом.
"И стоишь ты наверху, опершися на ольху. Кабы мне такую шубу — олонецкую доху, — чтобы в качестве такого я прошелся по Москве, чтобы критика Туркова я упрятал в рукаве".
Олонецкий ведун Клюев надежно засунут в рукав, в другом рукаве обеспечивает симметрию критик Турков (между прочим, отличающийся скрупулезной честностью своих оценок), но никто не должен обижаться: дело не в них, а в самой "скоморошине", которую запускает в литературное небо поэт Николай Тряпкин.
И еще одна "скоморошина" важна, ибо в ней утверждено имя поэта. С первыми двумя строками, переиначенными из Некрасова:
Не бездарна та планета,
Не погиб еще тот край,
Если сделался поэтом
Даже Тряпкин Николай…
Тут самое время сказать о мнимой "непоэтичности" фамилии, доставшейся Тряпкину от предков. Критик Бондаренко заметил, что с такой фамилией можно не выдумывать псевдонима. А если это как раз черта великой культуры, самые славные имена в которой звучат без всякой красивости, а как-то по-домашнему. Пушкин, Шишкин… К поэту и живописцу добавлю великого архитектора Душкина…
А "Некрасов"? Если отвлечься от того, что уже привычен слуху, — не звучит ли и его фамилия пародией на "Красова" (каковой уже имелся и был весьма признан к моменту, когда появились "Мечты и звуки")?
"Первая борозда" Николая Тряпкина появилась на излете эпохи: в 1953 году. Отредактировал книгу Сергей Наровчатов. И это тоже неслучайно (взорвала ситуацию статья Наровчатова: "…наше поколение лежало под пулями, оно лежит и под жестяными звездами, оно, а теперь ему не находят места в издательских планах!" Волна дошла: после Совещания молодых в 1948 году поколение фронтовиков "легализовалось" в литературе, и именно Наровчатову было предложено (в ЦК комсомола) оздоровить издательскую программу).
Война обошла Тряпкина огнем, но по складу души он был, конечно, сыном своего поколения, поколения смертников Державы; осмыслить ему предстояло именно расплату за спасение, прочувствовать обреченность, преодолеть ее, и сверстники, вернувшиеся с фронта на костылях, его приняли.
Он и сам это почувствовал.
Первая книга — сияющая исповедь сельского счетовода. Надо понять, почему именно эта фигура, довольно несерьезная рядом с железными тружениками: комбайнерами, механизаторами и вообще пахарями послевоенной советской лирики, — оказалась окружена таким вниманием. Именно потому, что — фигура легкая, воздушная, вызывающая улыбку сочувствия. И именно потому вызывает счетовод сочувствие, что рискует быть осмеянным (в пересчете на лирику городскую в пику людям металла русская лиричная душа, склонная жалеть заведомо обиженных, взлелеяла человека бумаги: "Ах, бухгалтер, милый мой бухгалтер!").
Тяжелый труд в "Первой борозде" тоже не обойден. В полном списочном составе, причем с неизменным отсветом войны. Рукоять топора, зажатая, словно шейка гранаты. Разбитый танк в поле. Лес, иссеченный свинцом. Ночные совещания в райкоме. Посевная. Урожай. Брезент на подводах. Снижение цен. Квитанции в теплом кармане. Лаборант-почвовед, мечтающий о научном преодолении старости. Выборы в Верховный Совет. И еще:
"По деревне, по деревне теплый ветер шел с проталин. Под гармонь дробили парни, складно чубом шевеля. В эту ночь про наше утро размышлял товарищ Сталин, и в предчувствии хорошем в полночь таяли поля".
Появление товарища Сталина среди тающих полей может показаться элементарной конъюнктурщиной — если не почувствовать дыхание "летящего стиха", в ауре которого подобные фигуры появляются и исчезают как пух на ветру (вспомним критика Туркова, выглянувшего на миг из тряпкинского рукава). Там еще и Сергей Михалков имеется (стихи которого любимая читает вместо того, чтобы слушать счетовода), и товарищ Вышинский (идущий на трибуну, чтобы в Нью-Йорке вправить мозги американским поджигателям войны). Опознавательные знаки времени, летящие фоном…
Разница в том, что товарищ Вышинский, как и товарищ Михалков, из тряпкинских песенок и вылетят подобно пуху, а вот товарища Сталина из песни не выкинешь. И он в стихи вернется — в 1962 году.
На смерть его Тряпкин не отреагировал — смерть совпала с работой над первой книгой, где Сталин улыбается влюбленному счетоводу.
Но на вынос вождя из Мавзолея десятилетие спустя — раскаленная реакция!
У могил святых, могил напрасных
Что нам говорить?
Что в стране, под знаменем прекрасным,
Было трудно жить?
Только вспомним ружья конвоиров
Да в испуге мать…
Эти годы ждут своих шекспиров, —
Где нам совладать!
В 1962 году это воспринималось как яростная вариация на тему разоблачаемого Гулага. Обещана шекспировская мощь — вот пусть только правда откроется…
Мы еще не так-то много знаем —
Только счет до ста.
Мы еще почти не открываем
Робкие уста.
Ну, а если все-таки откроем
И начнем рассказ, —
Никакою славою не смоем
Этих пятен с нас!
"Шестидесятники" могли бы смело писать эти строки на своих знаменах. Если бы не вслушивались в обертона. Если же вслушивались… ну, хотя бы в тряпкинские "Стансы", в том же 1962 году появившиеся:
И где он — тот, чей край шинели
Мы целовали, преклонясь?
Пошла в назём кремлевским елям
Его развенчанная власть.
Что мог бы он теперь ответить?
Как посмотрел бы нам в глаза?
Или опять мы — только дети,
Не раскусившие аза?
Кто кому смотрит в глаза? Кто перед кем должен каяться? Сталин перед нами или мы перед Сталиным? И кто выдумал ту славу, которую мы ему кадили?
Пускай мы пели и кадили
И так мечтали жизнь прожить.
Но вы-то как — что нас учили
И петь, и славить, и кадить?
Мы не обидим вас упреком,
И так вам солоно пока:
Ученики от тех уроков
Едва созрели к сорока.
Ну, именно! "К сорока" в 1962 году подошло как раз тем детям, кто мог считать себя ровесниками Державы, как раз тем мальчикам, что пошли в огонь, ее спасая. Поколение смертников. Что делать — им, мальчикам, если их учителям нечего больше сказать?
Мы только будем чуть добрее
И дальновидней, может быть,
Чтобы под своды Мавзолея
Гробов обидных не вносить.
Чтоб стало загодя понятно —
Кому, за что, какая часть, —
И не вытаскивать обратно,
И людям в притчу не попасть…
А ведь стих уже не летит, стих юлит. Притча — не плач. Грусть от недоразумения — не рана души… Пройдет!
Но все проходит. И над Русью
За светом новый вспыхнет свет…
И только вот — морщи
нка грусти
От злого хмеля стольких лет!
Морщинка разгладится, но не так скоро. Через три десятка лет. Тогда Тряпкин еще раз вспомнит вождя:
И старый вождь, и наша муза —
Святынь своих не истребим,
И герб Советского Союза
Мы с новой страстью утвердим…
Ликуйте, звери, пойте люди!
Услышьте, пахарь и матрос:
Какую мощь из нашей груди
Исторг поруганный Христос!
Отношение к Сталину пришлось выяснять всем советским поколениям. У тех, кто успел полюбить его, это оборачивалось горьким похмельем: у Симонова, у Твардовского… Младшим братьям, мальчикам, перешла в наследство "притча", Борис Слуцкий ею душу вымотал себе и читателям. "И дал ему стол и угол".
Но так блаженно примирить Сталина со Христом… то есть коммуниста, под чьим водительством были сметены храмы в эпоху Великого Перелома, дорубаны иконы, еще уцелевшие от безумств 20-х годов… Только Тряпкин решился на это — так безнадежно, так горько, так сладко, только у него хватило души вознести неразрешимость в такую высь, где все разрешилось как бы само собой…
Надо почувствовать ту ойкумену, в которой это стало возможно.
Ойкумена — словцо греческое, но насквозь русскую лирику Тряпкина оно не минуло, потому что из эпохи Мировой Революции, Тряпкин, как и все его поколение, вынес планетарный угол зрения, космическую ширь, земшарную оглядку. Это у всех.
Следующий вопрос: у кого и чем это оборачивается?
У Тряпкина в стихотворении 1946 года, как и полагается по советской схеме, "лежит со всех сторон… громкий мир". Три с лишним десятилетия спустя этот мир воспринимается уже как "греза", несущаяся "по звездной какой-то спирали". Можно почувствовать, что предложенный эпохой земшарный охват изначально не совпадет у Тряпкина с официально принятым. Не совпадает по содержанию. Но совпадает по объему. Лирическому герою надо, чтобы что-то "охватило" его.
И охватило. Не краснозвездными рукотворными крыльями оказалось сшито мировое пространство, а полетом живой чуткой птицы.
"Летела гагара, летела гагара на вешней заре. Летела гагара с морского утеса над тундрой сырой. А там на болотах, а там на болотах брусника цвела. А там на болотах дымились туманы, олени паслись…"
Не похоже это зелено-голубое мироздание на союз пролетариев всех стран. Но это несомненно мироздание, собранное воедино и, как всякая великая поэзия, — загадочное.
"Летела гагара, кричала гагара, махала крылом. Летела гагара над мохом зеленым, над синей водой. Дымились болота, дымились болота на теплой заре. Дымились болота, туманились травы, брусника цвела…"
Магия повторов сообщает стиху колдовское очарование, неотличимое от чувства ледяного вольного простора. Куда ляжет трасса полета? Вернуться к Орленку, взмывшему когда-то выше солнца? Устремиться к голодной соловецкой чайке Жигулина? Есть притягательность именно в невесомости, в этом радостном и тревожном крике:
"Кричала гагара, кричала гагара над крышей моей. Кричала гагара, что солнце проснулось, что море поет. Что солнце проснулось, что месяц гуляет, как юный олень. Что месяц гуляет, что море сияет, что милая ждет".
Стихотворение — 1955 года. По необъяснимой логике лирического резонанса — именно оно становится поворотным пунктом — от лучезарности влюбленного счетовода к горькой любви странника, которого ждет милая, а он никак не долетит…
Планетарное сознание отбрасывается в черноту. Дыбом ставится планета… Звезды падают на дома и застывают "у нас на мезонинах". Вселенная пахнет порохом. Ревут космодромы. Космос пустынен и опасен.
"Дайте ж побыть на последней черте Ойкумены!" — к последней, смертной черте отступает герой, которому предписано было стать покорителем космоса, а он в этом космосе зябнет от одиночества. И все это пишется — в 60-е годы, под гимны Гагарину…
Нет, в "шестидесятники" лотошинского ведуна не запишешь…
В 70-е годы его муза замирает у Полярного круга. Стынут кометы. Ось мира раскаляется. Мать-Земля кружится волчком. Всемирная юдоль — вот его теперешнее мирозданье. "Вьется звездный пух над Гончим псом". То ли мертво-безлюден космос, то ли захвачен чужаками.
"Дорогая сторонка моя! Приготовься на этом рассвете. Расплюются твои сыновья, разбегутся по новой планете".
В 80-е годы звездный шатер в поэзии Тряпкина разгорается ярким, воспаленным, порочным светом. Планета крутится среди блуда. Планета, "вздыбив полушария", летит во тьму. Планета уносится в "безвестность". Гудит всемирный крематорий. "Ветер мироздания" падает на "звездные ресницы" "роковым пеплом". "Вселенская пыль оседает на дедов порог". "Вселенская лужа" — вот что остается человеку от Божьего замысла.
"Планетарное" мышление выворачивается в "гнуснейшую песню двадцатого века": все — "планетарно" и все — "лучезарно" в воплях: "Права человека!" А человек меж тем дремлет в качалке земной у подножья всего мирозданья, загадочно и грозно молчащего.
"Вселенская тишь" покрывает мир, столь "громкий" когда-то в мальчишеских "грезах".
Где спасение?
Увы! Не древние Титаны
Из бездны дыбом поднялись,
А племена твои и страны
В звериной ярости сплелись.
И расщепляются стихии,
И рвутся тверди под Ядром.
И снова ты, моя Россия,
Встаешь смирительным щитом…
Россия — щит, спасающий от всемирного безумия? Или еще: "дозорный пост", "засека". Или даже так: "стражник с плеткой"…
Допустим.
Но надо еще спасти — Россию.
Враги — как "печные тараканы": со всех сторон.
С Запада… Тут придется зафиксировать проклятья в адрес Черчилля: для середины советского века Черчилль — такая же ритуальная мишень, как для 20-х годов — Колчак. Но с 1941 года каменеет ненависть к немцам — обрушивается и на мифологического Зигфрида, и на средневековых рыцарей в музейных экспозициях Ливонского монастыря.
На Восток — взгляд неожиданно умиротворенный: "Принимаю всю грязь, что монголо-татарин месил". Такое евразийство.
На Севере еще легче: "Поднимутся финн, костромич и помор и к нашему дубу придут на сунгор". Костромич приведен явно за компанию, а финн и помор — по делу.
Самая запутанная ситуация — на Юге. Там счеты древние: "В наши глаза хазары швыряют срамную грязь". В нынешнее время неразумные хазары, засевшие "в нашем Кремле", "пускают страну в распыл". Если к этим неистребимым хазарам приложить слегка переиначенные строки из пушкинского "Памятника" и вспомнить Библию, получится следующая картина: "Пусть вопят на весь мир, что живу и люблю я, умея лишь мечами махать, помирая, водяру глушу. Но казаха, тунгуса и дикого ныне еврея к океанам-морям, словно тот Моисей, вывожу".
"Весь мир" может убедиться, что более или менее конкретно тут обрисован только русский, остальные — вполне декоративны. "Бражники-ляхи" Тряпкину куда интереснее. Общий же фронт в "Литании 1613 года" у него обрисован так:
Да не снидет боле духа здесь пришлецкого —
Ни ордынского, на панского, ни грецкого!
Упоминание духа грецкого вполне может быть истолковано как подкоп под православие. Но нельзя же к поэту подходить с такими допросами! "Ныне дикий" еврей может принять на свой счет проклятье Израилю: "Пади с Сионской кручи! Я сам тебя столкну своей пятой". И еще: "Рыдай же, Израиль! Завидуй паденью Содома! Легка его смерть: он погиб от мгновенного грома" . Еще хлеще: пусть они ответят "за наших князей, что рождались из гноя и кала, за наших детей, что плясали на стогнах Ваала!"
"Они"… То есть: и за наше бесконечное (княжье еще) междоусобие, и за то, что наши дети плясали на площадях, радуясь падению Державы, — за все это в ответе все тот же "Израиль"? Можно еще приписать Тряпкину злорадство по поводу того, что Ягве никак не исхитрится попасть "в голову Аллаха" (причем картина современного мироздания увенчивается Ассамблеей, надо думать ООНовской, и крышей из тысячи ракет, надо думать, НАТОвских).
Ясно, что вся эта вертепная жуть — типичная анафема по перечислению, что кары Господа любимому сыну, который "с железных крючьев свалился чуть живой", — парафразис плача о русских, не удержавших Божьего замысла.
Точно так же псевдонимны "Стихи о печенегах":
Это были авралы, и штурмы, и встречные планы,
Громовое "Даешь!" и такое бессменное "Есть!"
А потом лихачи уходили туда — в котлованы,
И вовсю воровали — и тачки, и цемент, и жесть…
Печенеги несомненно остолбенели бы, если бы узнали, какая история им тут приписана. Зато русские без всякого остолбенения должны узнать себя и своих гостей в тех фигурах, что "за вином твоим окосеют и рыгают тебе под стол". Они-то и должны внять воплю: "И что мы будем воровать, когда растащим все на свете?" Они и должны ужаснуться тому, что их (нас) ждет:
Не боюсь я ни смерти, ни жадных когтей Немезиды,
Не боюсь, что и в смерти не встречу удачу свою,
А боюсь я того, что подкожные черви и гниды
Источат не меня, а бессмертную душу мою.
Стихи — 1982 года. Кажется, впервые мысль о смерти так отчетливо входит в стихи. Биографы выяснят, связано ли это с личными драмами поэта (переселение из подмосковного Лотошина в столицу тоже дорого ему далось), или навеяно предчувствием распада Державы, уже обжегшейся в Афгане и теперь прислушивающейся к тому, как медленно отдает концы последний крепкий генсек, еще удерживающий страну в несокрушимом величии, в традиционном единстве, в железной стабильности, короче — в Застое.
Тема гибели уходит у Тряпкина в изначальное ощущение того, что Державе нужны жертвы. "Наши иволги сомлели в конце сороковых"… (Хочется добавить словами сверстника: сороковых-роковых). В середине 60-х — о том же: "Ты поляжешь в поле под картечью, ты истлеешь в глыбах рудников". Меж тем, отмерено жить Николаю Ивановичу еще тридцать три года. И все это время — мысль о смерти: "На каком-нибудь починке я источу последний пыл и слягу в старой веретинке у староверческих могил…" До восьмидесяти дожил. А все о том же: "Не гулять мне долго, не гостить". Не о собственной гибели мысль, а о гибели страны. "Отобрали у нас Россию…"
Кто отобрал? Грубый тевтон? Бражник-лях? Дикий еврей, вылупившийся из полумифического хазарина? Свалить бы на них, да не получается. Ужас в том, что от нас же самих порча, распад и гибель. "Из кровей же моих, из блуда…" Вот откуда распад страны. "И теперь мы — ни псы, ни кмети, — запропали среди репья. Потеряли мы все на свете. Потеряли самих себя". От этого — боль, глубокая, потаенная, смертная. "Не заморская тля-паскуда прямо в душу мою впилась, а из жил моих, вот отсюда, эта гибель моя взялась…"
Откуда же она взялась?
На Севере, когда в военную пору "вдруг стала до боли близкой" древность, Русь представилась — такая "рассякая-необузданная", что поверилось: "поплывем Лукоморьями пьяными да гульнем островами Буянами".
Трезвость наступила в зрелости, на переломе от космодромных 60-х к застойным 70-м: засветилась "Русь радарная", и послышался "в кости моей хруст". Тогда во спасение от глобальности (надо же, как слово-то угадал: Русь ты моя глобальная , знаю твою беду" — это за три десятилетия до триумфов мировой "восьмерки") — вот от такой беды и захотелось в скит, в глушь, в тишь.
Однако околеть под забором оказалось можно и в тиши-глуши. К 80-м годам проблемы стягиваются в узел: не супостаты нас сгубили — отцы передрались. Краткий очерк истории России умещен в несколько строк 1981 года:
Прогнали иродов-царей,
Разбили царских людоедов,
А после — к стенке, поскорей
Тянули собственных полпредов.
А после — хлопцы-косари
С таким усердьем размахнулись,
Что все кровавые цари
В своих гробах перевернулись.
Добавить хочется лишь строчку из стихотворения 1982 года: "И нет пока истории другой…"
"Пока"…
На герценовский вопрос: кто виноват? — имеется, как видим, почти рефлекторный ответ: "кровавые цари". Самого грозного из них, неосторожно показавшегося на современном шоссе (или это показалось поэту), он мысленно давит, размазывает под колесами.
Можно взглянуть на это дело и пошире: "Начальнички! Начальнички! Районные кусты! Да тропочки конторские. Да с нумером листы" . Может, дело и не в том, сколько крови пролил тот или иной начальничек, а в самом факте, что — начальник? Самый последний генсек крови не пролил, а его Тряпкин награждает такими гадливыми эпитетами, что я их не повторяю из элементарной корректности. Выходит, так: одного в расход за то, что был слишком крут да прям, другого — за то, что был слишком мягок да увертлив? А посредине что? Истина?
Посредине, как мы уже убедились, не истина, а проблема. И имя ей — товарищ Сталин.
Так что же нам делать с собой и страной? Как превратить "великую заплачку в золотой и гордый Песнеслов"? Как вернуть к жизни "край запустыренный мой"? "Кто ж мы такие? Заблудшие ль грешники? Или безродные псы?"
От таких вопросов можно и жизни не взвидеть.
Проклинаю себя, что не смог умереть,
Что не смог умереть за Отчизну свою.
Был я молод, здоров, а решил постареть
За игрой этих струн — и не сгинул в бою…
Сверстникам-смертникам впору позавидовать?
Внуку — не позавидуешь:
Что же делать мне, внук, если ты не живешь,
Если ты не живешь, а смердишь на корню?
За постыдную жвачку ты честь отдаешь,
А страну отдаешь на раздел воронью.
Что же делать мне внук?
На этот чернышевски-ленинский вопрос — два ответа.
Первый — государственный. Восстанавливать Державу! В какой форме — в советской? Да! — отвечает сын столяра, бежавший когда-то от злой раскулачки. Русь казалась красной, а на самом деле она голубая. "Голубая Советская Русь".
Этот мотив становится чуть ли не сквозным в стихах 90-х годов, то есть после развала СССР. (В ту пору, когда СССР существовал, Тряпкину и в голову не приходило выдавать ему славословия. И это к его чести).
Ответ второй — православный. Покаяться.
Но как каяться, если сызмала не верил, если "безбожник… да с таким еще стажем и опытом"? Кому каяться, если нынешнее командное шествие под сень храмов со свечками в руках вместо партбилетов — он воспринимает как "взятку Богу"…
Да когда ж покаяние было логичным?
Не держи Ты всевышнего зла
За срамные мои вавилоны, —
Что срывал я Твои купола,
Что кромсал я святые иконы!
Это он-то кромсал? Это он срывал? Да он глаза прятал, не знал, куда от ужаса деться, когда отец топором орудовал!
Но разве это о себе?
О Господь! Всеблагой И
исус!
Воскреси мое счастье земное.
Подними мой Советский Союз
До креста Своего аналоя…
Это сильный поворот — вот так соединить черное с белым, красное с голубым. Воззвать ко Господу, не стирая "огневой слезы", во сраме гноя и сивухи. Увидеть новую Русь "под созвездием Третьего Рима". Это ли не ответ на вопрос: что делать?
Это ответ. Причем, ожидаемый. Ответ, претендующий на закрытие вопроса. Ответ железный.
Но когда душа пытается соединить режущие края, она должна истечь слезами и кровью. Тут нужна великая поэзия. Великая поэзия должна мучиться над вопросами, на которые нет ответов.
Поэт Николай Тряпкин не дожил сорока пяти недель до Третьего тысячелетия христианской эры. Он успел выкрикнуть во тьму:
Гляжу на крест… Да сгинь ты, тьма проклятая!
Умри, змея!..
О Русь моя! Не ты ли там — распятая?
О Русь моя!..
Она молчит, воззревши к небу звездному
В страде своей.
И только сын глотает кровь железную
С ее гвоздей.
ПОСТСКРИПТУМ.
"Дикий" еврей нашелся. В Америке. Русский поэт Александр Межиров, один из ярчайших лириков военного поколения, укрывшийся на старости лет за океаном, — ответил от имени евреев:
"Вот и вышло, что некстати мне попался тот журнал, исторгающий проклятье: кто-то что-то проклинал, — и какая-то обида. Застарелая. Твоя. И взамен псалма Давида — бормотуха бытия".
За что обида? — Тоже объяснил:
"И в подвале на Урале государь со всей семьей, получилось, мной расстрелян, получилось — только мной".
Поэма "Поземка" была адресована "Коле Тряпкину, истинному поэту".
"Коля" ответил:
"Грохочут литавры, гремит барабан. У Троицкой Лавры — жидовский шалман…"
Так распалось поколение Мальчиков Державы.
Интересно, что ни в итоговый посмертный однотомник Тряпкина "Горящий водолей", ни в прощальную книгу Межирова "Поземка" эти залпы 90-х годов не вошли: стыда ради составители их убрали. А опубликовал — в книге "Последние поэты Империи" — критик Владимир Бондаренко.
(обратно)Александр Проханов ТЕПЛОХОД "ИОСИФ БРОДСКИЙ". отрывок из романа
Теплоход "Иосиф Бродский", созданный германским гением на верфях Гамбурга, с которых когда-то сходил покоритель морей линкор "Тирпиц" и ныряли в свинцовые воды Балтики подводные стаи Деница, — пятипалубный белоснежный корабль — поражал своей красотой и величием. Казался башней с зеркальными этажами. Сочетал эстетику Парфенона и марсианской ракеты. Нежность белого лебедя и тяжеловесную грациозность кита… На борту литерами из чистого золота, искусно сочетая графику готики, церковно-славянского и иврита, была выведена надпись "Иосиф Бродский". Белую трубу опоясывала алая полоса с золотым двуглавым орлом — символ президентской власти. Именно так выглядел теплоход вечером теплого августовского дня, пришвартованный к пристани Речного порта, в ожидании великосветских пассажиров.
………………….
В кают-компании постепенно собиралась публика, приглашенная на спиритический сеанс и гадания. Гости рассаживались вольными рядами вокруг стола, с благодушными, чуть насмешливыми лицами, ожидая от предстоящего действа очередной забавы, увлекательного аттракциона, милой развлекательной затеи.
…Некоторое время чародейка взирала на большой портрет Иосифа Бродского, украшавший кают-компанию. Из рамки красного дерева смотрело изнуренное, с большими глазами, лицо иудейского мученика, прозревавшего весь скорбный путь богоизбранного народа от грехопадения, египетского плена, исхода, бессчетных гонений и рассеяний, до напрасной попытки создать государство Израиль, обреченное пасть под ударами палестинских гранатометов. Есаул созерцал портрет. Тот, кто был на нем изображен, напоминал жертвенного агнца, приготовленного к сожжению. В мрачной, ожесточенной душе Есаула шевельнулось странное сострадание, таинственное влечение к мученику, который был связан с ним, Есаулом, необъяснимыми узами.
— Господа, — прервала молчание Толстова-Кац, — прежде, чем я начну спиритический сеанс и потревожу дух Иосифа Бродского, может быть, вы скажете мне, кем он был? Что вы знаете о Иосифе Бродском? — она обвела собравшихся испытующим взглядом, и сова на плече повторяла ее движения, нацеливая на гостей рыжие пронзительные глаза.
— Бродский? Език? — оживился Малютка, услышав знакомое имя. — Был такой "беспредельщик", угольный посредник, "накручивал", как хотел. Предупреждали его, упрашивали. А он — ни в какую. Пришлось пристрелить.
— Бродский, Иосиф? Как не знать! — радостно встрепенулась мадам Стеклярусова. — Это мой дантист. Рекомендую, — товар на лице! — она с готовностью обнажила вставные зубы, которые и в ржавом черепе будут сиять белизной. Позволила помимо зубов любоваться распухшим зевом и серым несвежим языком.
— Иосиф Бродский — известный специалист по залоговым аукционам, — тихонько произнес Круцификс, смущенно теребя бородку. — Вместе с господином Найтшулем они разработали метод, позволивший безболезненно отобрать собственность у некомпетентного населения и передать ее "нашим людям".
— Иосиф Бродский, насколько я помню, это вор-рецидивист из Ростова, — напрягал память прокурор Грустинов. — За ним числилось несколько убийств, он был приговорен к "пожизненному" и повесился в ростовской тюрьме при невыясненных обстоятельствах.
— В Биробиджане есть мэр — Иосиф Бродский, — отозвался спикер Грязнов. — И что интересно — антисемит. Евреев называет "жидами". И те — ничего, откликаются.
— Иосиф Бродский был директором съемочной группы, когда снимался фильм "Свой среди чужих", — хмыкнули усы Михалкова. — Конечно, приворовывал, стервец, но мужик был классный.
— Господа, — с чувством легкой иронии, прощая собравшимся их необразованность и удаленность от искусств, произнесла Луиза Кипчак, — Иосиф Бродский — это замечательный поэт, сочинивший слова известной песенки про Чебурашку. Если вы прислушаетесь к звукам, которые издает при движении наш корабль, вы чутким ухом уловите мотив знаменитой песенки. Кстати, он лауреат "Премии Ленинского комсомола".
Все умолкли, подавленные этим незлым, но чувствительным упреком, почувствовав себя невеждами рядом с просвещенной красавицей. Устремили взоры на Толстову-Кац, ожидая пояснений.
— Все вы правы, — вещунья озирала гостей проницательными очами, над которыми наведенные брови выгибались синими дугами. Сова, вторя ей, поворачивала круглую голову с ненавидящими золотыми глазами. — Видите ли, Иосиф Бродский вездесущ и столик. Он был в далеком прошлом, существует ныне во множестве воплощений и никогда не исчезнет, какие бы сюрпризы ни преподносила нам история. В некотором смысле, он сам является сюрпризом истории. Человечество, с момента зарождения, двигалось от одного Иосифа Бродского к другому, являвшемуся в самые переломные, драматические периоды и не позволявшему истории уклониться от божественного промысла. "Иосиф" на арамейском языке — "подающий знак". Иосиф Бродский — это тот, кто подает человечеству знаки, уводя за собой сбившуюся с пути историю. Таким был Иосиф, сын Иакова, проданный братьями в Египет, что предопределило появление Моисея, великий "исход", скрижали, скинию и весь иудаизм, как неизбежный путь человечества. Таким был великий историк и метафизик Иосиф Флавий, предсказавший христианство. Никто не сомневается, что Святой Иосиф, в семье которого родился Христос, был такой же путеводной звездой человечества. Можно перечислять без конца. Иосиф Волоцкий, знаменитый устроитель православной церкви. Иосиф Сталин, которого многие почитают святым. Иосиф Броз Тито — несомненный славянский герой. Наконец, Иосиф Кобзон, чьи песни, при всей их непривлекательности и ущербности, являются "музыкой сфер" — сфер обслуживания. Иосифы Бродские есть во всех народах, на всех материках. Есть у китайцев, есть у народа майя, есть у племени зулу. Антропологи, изучающие останки австралопитеков, обнаружили у некоторых скелетов признаки Иосифа Бродского. Некоторые гипотезы утверждают, что Иосиф Бродский существовал в "дочеловеческий период", являя себя в образе динозавра. Моя же мысль, подтвержденная гермефтикой, сводится к тому, что Иосиф Бродский заявил себя уже на стадии минеральной фазы земли, в период образования гор, выделения из расплавленной магмы минералов и руд — такие самоцветы, как топаз, изумруд, аквамарин, носят признаки Иосифа Бродского. Изучая академика Зельдовича, его теорию происхождения Вселенной, можно найти намек, что "первичный взрыв" в той или иной степени связан с Иосифом Бродским. Поэтому, господа, спиритический сеанс, участниками которого вы согласились стать, соединит вас не просто с духом усопшего человека, но с космическими силами невиданной мощи, что одновременно и плодотворно и смертельно опасно. Те из вас, кто отважится испросить у Иосифа Бродского прорицание о своей судьбе, должны знать, что ответ будет содержать не относительную, но абсолютную истину, пусть и изложенную в сомнамбулической форме его бессмертных стихов.
Все подавленно молчали, стараясь уразуметь грандиозную, умонепостижимую тайну, завесу над которой приоткрыла колдунья в волшебном тюрбане с древней совой на плече.
Есаул смотрел на портрет в лакированной рамке — выпуклые, печальные, переполненные тайными слезами глаза, наклоненная голая шея, словно ее побрили перед ударом топора, горько сжатые губы, познавшие тщету славословий, вкусившие полынь молчания. Он чувствовал непостижимую связь, сочетавшую его, потомственного казака Есаула, и этого печального иудея, занесенного в русскую жизнь, как заносит астероид в пространство чужой планеты. Эта связь была неявной, состояла из мучительной несовместимости и сладкой нерасторжимости. Донской казак, военный разведчик, изощренный государственный муж. И иудей, печальный изгнанник, болезненный стихотворец. Они являли собой две ветви расщепленного человечества, которые пытались срастись, и в тщетных попытках истребляли друг друга. Погибали в этом непрерывном борении, уповая на смерть, в которой снова сольются.
— Господа, — приступила к священнодействию Толстова-Кац. — Технология обращения к духу весьма проста, но требует определенного навыка и решительности. Вот книга стихов поэта, — она приподняла увесистый том в черном переплете, на котором стояло название "Перемена империи" и была изображена странно мерцающая синяя рыба. — А вот магические булавки, — она тронула ворох длинных стальных колючек, увенчанных шариками из драгоценных камней. — Желающий угадать судьбу берет книгу и под прямым углом вонзает в нее булавку. Булавка проникает в глубь книги, то есть ваш запрос проникает в астральное тело поэта, и острие останавливается на том изречении, в котором содержится неявный ответ. Встречаются ваш страстный запрос, посылаемый через сталь в глубину метафизической субстанции стиха, и оттуда, как из бездны потустороннего мира, является желанный ответ. Конечно же, он подлежит толкованию. Но в этом доверьтесь мне. Я распутаю хитросплетения слов, разовью венок сонетов, переведу бормотания дервиша на понятный людям язык, — она обвела собравшихся гипнотическими глазами, и ее вороний клюв выбирал себе добычу среди притихших, оробевших гостей.
Есаул исполнился мучительного ожидания, сладостного предчувствия. Хотелось принять участие в магическом таинстве, погрузить стальную голубоватую спицу в бездонное пространство, где витало провидение, и узнать, что сулит ему судьба, чем завершится его отчаянный "план", его рискованный, смертельно опасный "проект". Сделает ли его триумфатором в лавровом венце, въезжающим на торжественной колеснице в "вечный град". Или голову его на пике пронесут сквозь Триумфальную арку суровые легионеры на потеху вероломной толпы, на радость торжествующего соперника.
— Приступаю к погружению в бездну, — Толстова-Кац извлекла пакетик с порошком горчичного цвета. Бросила щепоть в огонь свечи. Пламя из желто-белого превратилось в ослепительно-зеленое, вспыхнуло дымно-красным, оделось нежно-лиловым, заметалось золотом, багрянцем, пурпурно-алым и черно-синим. Словно в свече рождались демоны света, сгорали космические спектры. Радуга, вмороженная в магическую пирамиду, ожила, выступила за пределы стекла, превратилась в лучистую звезду, будто в кают-компании расцвел фантастический цветок. Оторвался от хрупкого стебля и поплыл над головами собравшихся, словно перламутровая комета. В воздухе запахло озоном, альпийскими снегами, садовыми розами, благовониями востока, сквозь которые потянуло серным сквознячком преисподней, сладковатым запахом тления. Сова радостно взирала на многоцветное пламя глазами певца Леонтьева, поющего знаменитую песню о Казанове. Портрет Иосифа Бродского вдруг помутнел, наполнился туманом. Лицо поэта померкло и скрылось в "дыму всесожжения". Из книги стали истекать полупрозрачные невесомые лопасти, будто среди страниц таилась гора самоцветов.
— Кто первый? — грозно и повелительно воскликнула жрица. — Ты! — она указала перстом, затянутым в перчатку, на губернатора Русака, который трусливо сжался, попытался укрыться. Но властный колдовской взгляд поднял его из кресла, и он в трепете приблизился к столу. — Бери и пытай судьбу! — приказала колдунья, протягивая губернатору спицу, увенчанную смуглым гранатом.
Русак, топорща усы в трусливой улыбке, чуть кривляясь и делая вид, что принимает увлекательную игру, несерьезную детскую забаву, положил перед собой книгу. Приставил длинную булавку, впившись пальцами в красное ядрышко граната. Погримасничал напоказ, изображая факира, и с силой погрузил острие в плотную обложку, проталкивая узкую сталь сквозь толщу страниц. Раздался тонкий вопль, исходящий из лакированной рамки, словно там, за мутной завесой дыма, завопил подстреленный заяц. Собравшиеся вздрогнули, многие побледнели, другие растерянно улыбались. Есаул почувствовал, как узкая разящая боль пронзила его печень, и он схватился за бок, как это делает раненный шпагой. Он был пронзен одной иглой с Иосифом Бродским, висел вместе с ним в пустоте, насаженный на тонкую бесконечную спицу, уходящую в обе стороны Мирозданья. Вокруг в черном Космосе текли планеты и луны, мерцали созвездия, сонно дышали галактики, и оба они в мучительных позах вращались в разные стороны вокруг тончайшей оси, пробившей их плоть.
— Запрос послан. Теперь прочитаем ответ, — Толстая-Кац взяла книгу, в которой торчала булавка с красной каплей граната. Слегка встряхнула. Часть страниц распушилась, другая, скрепленная булавкой, оставалась слитной. Колдунья раскрыла книгу на той последней странице, где остановилось острие, удерживая кипу листов. — Булавка укажет стих, острие обозначит ответ, — Толстова-Кац склеротическим пальцем стала гладить страницу, нащупывая выступавшее жало. Нащупала, стала читать:
... И в этом пункте планы Божества
И наше ощущенье униженья
Настолько абсолютно совпадают,
Что за спиною остаются: ночь,
Смердящий зверь, ликующие толпы,
Дома, огни. И Вакх на пустыре...
Все слушали голос колдуньи, в котором завывал ветер пророчества, выдувая из каждого остаток иронии, веры в самостоятельность выбора, в бесконечное преуспевание. Русак стоял подавленный, мучительно улыбался, заискивающе смотрел на колдунью, в чей власти было истолковать сомнамбулический стих как предсказанье успеха или предупреждение о неминуемой гибели.
— Мой друг, — колдунья, воздев наведенные брови и изображая муку прозрения, переводила религиозные бормотание шамана на светский язык общения. — Несомненно, что грядущее в вашей жизни событие, связанное с некоторым дискомфортом и потерей достоинства, находится в полном согласии с божественной волей, как об этом гласит стих. Само это событие, скорее всего, случится ночью, но не где-нибудь дома или в укромном месте, а прилюдно, среди возбужденной толпы, быть может, на стадионе, в цирке, на ночном митинге. Здесь будет фигурировать некий зверь, скорее всего, крупный, разъяренный, источающий дух зловонья. Им может быть большая собака, или, положим, медведь, или даже тигр, если действие происходит в цирке. И при этом либо толпа, либо вы сами будете находиться в высокой стадии опьянения, подружитесь с Вакхом. Вот внешние признаки пророчества, коих достаточно, чтобы вы усмотрели в них перст судьбы. Готовились либо уклониться от встречи с судьбой, либо встретить ее мужественно, как гладиатор.
Русак криво ухмылялся, очень бледный, словно выслушал смертельный диагноз, и отправился на свое место, дергая колючий ус, будто проверяя, не снится ли ему все это…
Есаул, наблюдавший эту процедуру, сам испытал головокружение, как бы тоже помещенный в Мироздании на тонкой оси, пронзившей его и поэта. Это было свидетельство трагического единства и сходства. Вращаясь в разные стороны, оба двигались вокруг единого центра, придавая устойчивость шаткому миру. Так вертолетные винты, раскручиваясь в противоположных направлениях, сохраняли равновесие летящей машины. Трагедия Иосифа Бродского виделась в том, что он стремился вырвать у бесконечности еще один атом тайны. Сделать его явным, дать ему имя. Назвать неназванное. Поименовать безымянное. Изречь неизреченное. Это требовало могучего творчества, безграничного бесстрашия, беспредельного сумасшествия. Язык, которым писались стихи, был долотом, которое откалывало от толщи непознаваемого крошечные осколки познанного. Долото тупилось, ломалось, искрило. Превращало стих в гулы, скрипы и клекоты. Эта была жуткая музыка циркулярной пилы, разрезающей гранитную гору, чтобы выточить из нее тонкую плиту и начертать на ней эпитафию.
Есаул был из той же когорты безумцев. Его государственное служение, утопическая мечта, ради которой он совершал злодеяния, жертвовал собой, вовлекал в сражение и творчество соратников, — были единоборством с историей, с ее слепым дурным ходом. Стремление развернуть ее перед тем, как она сбросит Россию в пропасть. Он старался ухватить рычаги потерявшей управление машины, развернуть громаду в крутом вираже, не пуская в бездну, видя, как валятся, ударяются, ломают конечности обезумившие пассажиры.
Есаул стоял в тени гардины, наблюдая волшебное действо.
— Кто следующий? — возгласила Толстова-Кац, шевелясь в глубине белоснежного вороха восточных одежд. Сова победно взирала, словно сидела на вершине меловой горы, в которой поблескивали струйки золота. — Быть может, вы, госпожа Стеклярусова? Вы не чужды спиритического опыта?
— Отчего бы и нет, — откликнулась веселая дама. — За месяц я предсказала кончину моего незабвенного мужа. Как-то он заснул в ванной, и вода перетекла через край, затопила дорогие, инкрустированные полы нашей квартиры. Я сказала ему: "Милый, берегись большой воды. Держись подальше от Невы". Он пренебрег советом, пошел купаться на стрелку Васильевского острова, и тело его через неделю нашли в районе Кронштадта. Итак, я готова! — мадам Стеклярусова, похожая на щебечущую птичку, приблизилась к столу. Выбрала из кипы булавок ту, что была украшена драгоценной каплей аквамарина. Мило улыбалась, зная, что все любуются ее грациозными жестами, ее очаровательным молодым телом, которое она за полчаса до этого подтянула, повернув скрытый между лопаток заветный болтик. С силой вонзила булавку.
В лакированной раме, наполненной дымом, повторился крик, жалобная мольба, зов о помощи. Есаул почувствовал колющую боль, которая, как молния, проникла в ключицу, пронзила ребра, остановилась возле сердца. Слабо застонал, хватаясь за стену. Он и Иосиф Бродский трепетали, словно два жука, надетые на единую энтомологическую булавку, силясь растворить надкрылья, судорожно шевелили лапками, старались дотянуться усами до стальной иглы.
— Теперь посмотрим, — возгласила Толстая-Кац, поднимая книгу и распуская страницы. Часть листов распушилась, другая была крепко сжата булавкой. Колдунья поводила пальцем, нащупывая на странице колючий кончик, и стала читать:
...Черная лента цыганит с ветром.
Странно тебя оставлять нам в этом
Месте, под грудой цветов, в могиле,
Здесь, где люди лежат, как жили:
В вечной своей темноте, в границах;
Разница вся в тишине и в птицах.
Мадам Стеклярусова застенчиво улыбалась, желая походить на выпускницу Бестужевских курсов: то же целомудрие, та же нерастраченная свежесть, наивное желание верить, ждать от жизни только радостей, обещанных еще при рождении.
— Моя дорогая, пусть вас не смущают признаки, дающие основание полагать, что ожидающее вас потрясение произойдет на кладбище, где свищут птицы, и где в могилах царит вечная тишина. Черная лента венка со словами прощания, множество поминальных цветов — подумайте хорошенько, о какой могиле может идти речь? — Толстова-Кац была похожа на благожелательную классную даму, экзаменующую выпускницу-отличницу. Та, привыкшая быть любимой, с готовностью отвечала:
— Мне кажется, речь идет о могиле моего незабвенного мужа, куда мы отправимся все вместе по прибытии в Петербург. Конечно, я буду рыдать. Конечно, как всегда, встреча с родной могилой причинит мне сладость и боль… — мадам Стеклярусова, получив "отлично", отправилась на место, где ее молча дожидался верный телохранитель и паж тувинец Тока.
Есаул переживал странное прозрение. Иудей Иосиф Бродский и он, Есаул, донской казак, были лютые враги по крови, обильно пропитавшей грешную русскую землю. Но их астральные тела обагрили метафизической кровью одну и ту же стальную ось, создавая таинственную общность творческих душ и судеб, обреченных на поиск истины, на жертвенность, на поношение близких, на нестерпимую, непреходящую боль.
— Продолжим наше увлекательное блуждание впотьмах, где нет-нет да и сверкнет откровение, — Толстая-Кац разводила в воздухе несвежими, в драгоценностях и пигментных пятнах руками, выписывая странные иероглифы, затейливые вензеля, запутанные монограммы, будто раздвигала завесы, перемещала светила, устраняла мешающих духов, открывала полог, за которым брезжила истина…
Есаул томился, чувствуя, как из разъятой преисподней, из-под полога, приподнятого руками колдуньи, вылетают бесплотные духи. Реют в кают-компании, колеблют пламя свечи, тревожат в магической пирамиде пылающую радугу. Он, Есаул, не был Богом, не творил историю, но Бог двигал его делами и помыслами, и он, исполненный волей Божией, услышав пророчество Ангела, служил России, отводя от нее беду. Как и Иосиф Бродский, пророчески, косноязычной речью доносил до оглохших людей голос Бога, напоминал о поруганных заповедях, попранном ковчеге завета, опрокинутом жертвеннике, опустевшей скинии. Оба они были сосудами, в которых гудел голос Бога, трубами, из которых дул огненный псалом.
— Не угодно ли вам, господин Куприянов, исспросить оракула? Вы, накануне триумфа, слушаете массу советников, аналитиков и политтехнологов. Не желаете ли прибегнуть к услугам скромной чародейки, которая вас искренне любит? — Толстова-Кац кокетливо завертела вороньим носом, облизала языком густо накрашенные губы, и сова на ее плече заерзала, замотала гузкой, защелкала клювом, подражая старой куртизанке.
— Погадайте, погадайте, — милостиво согласился Куприянов, сидевший рядом с Круцификсом. — Сразу на нас двоих погадайте. — Он положил руку на плечо Круцификса, и тот сжался, как сжимается преданный пес от прикосновения хозяина: — Мы только что договорились, что господин Круцификс в будущем правительстве продолжит управлять экономикой. Погадайте, каковы перспективы экономического роста? Каков уровень инфляции? Не грозит ли нам дефолт? — Куприянов посмотрел на дорогие часы "Патек Филипп", словно его ждали на заседании Правительства. Барственно улыбаясь, прошествовал к столу, баловень и любимец, несомненный фаворит, уже вытянувший счастливый билет и теперь на разные лады получающий благословение от своей удачливой фортуны. Все любовались им — его статью, красивым лицом, дорогими часами. Верили в его звезду, сопрягали с его победой будущее благополучие.
Книга легла на стол. В сильной руке Куприянова возникла булавка, увенчанная сердоликом. Он установил острие. Сжал скулы, напряг бицепс и вогнал булавку вглубь книги. Крик из портретной рамы повторился. В клубах розоватого дыма что-то металось, пыталось вырваться, но, пришпиленное, оставалось в полированном четырехугольнике рамы.
— Ну что ж, посмотрим, что сулит Иосиф Бродский вам обоим, — милостиво улыбалась Толстова-Кац, кивая Куприянову и Круцефиксу. — Давайте прочтем начертанное:
... Один топором был встречен,
и кровь потекла по часам,
другой от разрыва сердца
умер мгновенно сам.
Убийцы тащили их в рощу
(по рукам их струилась кровь)
и бросили в пруд заросший.
И там они встретились вновь...
Куприянов стоял оша
рашенный. Еще держалась на лице надменная улыбка, но само лицо стало бескровным, словно он заглянул в гроб и увидел себя с окостенелыми веками, выцветшими губами, бледным лбом, на котором православный бумажный венчик кротко возвещал: "ныне отпущаеши раба Твоего..." Круцификс съехал с кресла и сжался в робкий комочек, заслоняясь от разящего, посланного сверху удара. Сама Толстова-Кац, казалось, была смущена:
— Не усматривайте, мои родные, дурной знак в полученном предсказании. Напротив, по закону инверсии, любое преждевременное упоминание смерти — есть заговаривание смерти, выкликание ее бессильной тени, обман смерти, отвлечение ее от субъекта, когда ее истребляющая сила направляется мимо, в пустоту, и мы слышим лишь слабое дуновение прошелестевшей мимо косы. Так что, любезный господин Куприянов, этим посланием вы обезопасили себя от козней врагов, которые, увы, все еще присутствуют среди нас и желают вам зла, — с этими словами ведьма метнула ненавидящий взгляд в сторону Есаула, и тот заметил, как задымился край гардины.
Он был в смятении. Кругом торжествовали враги. Носились кромешные духи. Искали его смерти. Но был ли второй пытаемый на его стороне? Сочувствовал ли Иосиф Бродский его непосильной борьбе? "С кем вы, Бродский?" — шептал Есаул. Обиженный государством поэт, изгнанный из суровой России, не проклял ли он негостеприимную землю? Не проклял ли империю? Империю — как плод вдохновения, поэму, пропетую тысячью уст, прославленную сонмом голосов, запечатленную тьмою народов. "Перемена империи" — есть возвращение великого царства, преображение Родины, воскрешение ненаглядной России. Это цель и его, Есаула, борьбы, заветная страсть и надежда. "Ради нее я вышел на бой, сел на теплоход, терплю унижения, молчу под пыткой. С кем вы, Иосиф Бродский?" — беззвучно вопрошал Есаул, глядя в дымящую раму, где корчился дух поэта.
— Господа, кто еще желает говорить с поэтом на языке птиц и камней? Кто рискнет распознать в гуле ветра и звоне ручья весть о грядущем? — Толстова-Кац приглашала к столу гостей, заманивая их колыханием рук, переливами золота и бриллиантов.
— Госпожа Толстова-Кац, — раздался ехидный, насмешливый голосок, напоминавший хихиканье Жванецкого. — А что бы вам самой не попытать судьбу? Духи к вам благосклонны. Ответ, который вы получите, будет произнесен не на языке птиц и камней. Мы сможем узнать, как провидит ваше будущее великий поэт.
— Я как раз хотела обратиться к духам за пророчеством, хотя волшебники знают все о себе наперед. Но чтобы вселить в вас мужество, приобщить ваши робкие души к вечному, я готова послать запрос, — надменно ответила чаровница, и сова грозно щелкнула клювом, заставляя умолкнуть насмешника.
Есаул сострадал поэту, над которым чинилось глумление. Алмазный стих, добытый в каменоломнях непознанного, извлекался на потеху толпы. Его щупали жадные руки, облизывали липкие языки. Сокровища, место которым было в ризницах великой империи, расхватывала тупая толпа, валяла в грязи и помоях. Он чувствовал страдание поэта, любил его, звал в соратники. Оба они — поэт и солдат — были нужны друг другу. Солдат своим жертвенным подвигом вдохновлял поэта на творчество. Поэт утверждал на века великие деяния солдата. Есаул звал Иосифа Бродского в великий имперский поход, обещал ему место в шатре, долю певца империи, "великий стиль", о котором мечтали Пастернак и Ахматова, Булгаков и Шолохов, Мандельштам и Фадеев. Оба они, герой и провидец, воин и сладкопевец, совершат "перемену империи".
— Итак, "что день грядущий мне готовит"? — Толстова-Кац положила перед собой книгу, исколотую в предшествующих опытах. Из вороха булавок выбрала ту, что была украшена крупным зерном аметиста. Сверкая очами, с безжалостной улыбкой вонзила сталь. Из рамы донесся вопль столь истошный, что казалось — с этим воплем душа навсегда погружается в вечную тьму. Из переплета выступили рубиновые капли. Страница, которую раскрыла ведьма, была пропитана кровью. Острие остановилось в стихе, который она стала читать нараспев:
... Ты та же, какой была.
От судьбы, от жилья
После тебя — зола,
Тусклые уголья,
Холод, рассвет, снежок,
Пляска замерзших розг.
И как сплошной ожог —-
Не удержавший мозг...
Мгновение колдунья молчала. С ней происходили преображения. Она превратилась в Венеру Милосскую с обрубленными руками, поразительной красоты и неги. Затем — в скифскую бабу с приплюснутой башкой, уродливыми бедрами и вислым каменным задом. В девушку с веслом, что когда-то украшала Парк культуры и отдыха имени Горького. В золотую буддийскую танцовщицу с трепещущими крылышками у пяток. В скульптуру Майоля с громадными ягодицам, пухлым животом, на который наваливались гипертрофированные груди с уродливыми сосками. В Статую Свободы с пылающим факелом. И наконец снова в Толстову-Кац, рыхлую, разбухшую, в намокших материях, из которых сочилась несвежая жидкость.
— Не лги, жид проклятый!.. — крикнула она, показывая кулак дымящейся раме. — Ты всегда меня ненавидел!.. Не верю твоему предсказанию!.. Явись сюда сам и разъясни, от каких таких розг я должна умереть? Кто засечет меня насмерть? Почему мое тело бросят гореть на угли, и от них останется черный пепел?.. Выходи сюда, мерзкий жид!..
Ее сквернословия были ужасны. Гостей обуял страх. Шляпа Боярского вместе с принадлежащей ей головой оказалась под креслом. Усы Михалкова подметали пыль в дальнем углу кают-компании. Лысинка Жванецкого, покрытая испариной, силилась спрятаться под подолом Луизы Кипчак. Кутюрье Словозайцев нервно хохотал, хотя ни одна из манекенщиц не рискнула в эту ужасную минуту щекотать его ребра. Все ждали, чем кончится приступ бешенства, обуявший Толстову-Кац.
Колдунья, между тем, принялась ворожить. Извлекла табакерку, где хранился порошок растертой в труху саламандры. Кинула на стол колоду игральных карт, рассыпав ворох валетов, тузов и дам. Пересадила сову на другое плечо, отчего недовольная птица зашипела и выпустила из-под хвоста ядовитый шмоток.
— Явись тотчас пред моими очами, мерзкий клеветник и обманщик!.. Заклинаю тебя духом Астарты и именем Гекаты!.. Понуждаю тебя кровью жертв, что приносили в Вавилоне богам Евфрата и Тигра!.. Изыди из дыма на свет! — метнула в свечу прах саламандры, наполнивший кают-компанию бенгальским блеском.
Из дымной рамы вдруг просунулся молодой иудей, с черной бородой, жгучими очами, облаченный в дорогие одежды, с золотым амулетом на шее в виде рогатого овна.
— Не ты, не ты!.. — замахала на него Толстова-Кац, прогоняя обратно в раму. Показавшийся по пояс Иосиф был не Бродский, а сын Иакова, проданный братьями в Египет.
Колдунья метнула в свечу новую горсть трухи, отчего комната наполнилась слепящим мерцаньем, словно от вспышки салюта. Из рамы просунулся лысый старец с морщинистым лбом, в линялой тунике, в завитках седой бороды.
— Иосиф Флавий, ты-то зачем мне нужен!.. Ступай, откуда пришел!.. — накричала на философа рассерженная ворожея, загоняя пришельца обратно в раму.
Она кидала в свечу магический порошок саламандры, вызывая Иосифа Бродского. Но что-то не складывалось в магическом заговоре. Вместо выкликаемого поэта один за другим по пояс появлялись Иосиф Волоцкий в монашеском облачении, с драгоценной панагией, черно-седой бородой. Иосиф Сталин в маршальском кителе с бриллиантовой Звездой Победы. Иосиф Кобзон в парике из черного каракуля, беззвучно разевавший рот, из которого вылетали тучи мошки. Все они держались за перекладину рамы, высовываясь наружу и что-то силясь сказать. Но рассерженная Толстова-Кац махала на них, загоняла обратно в мир иной.
Наконец, выведенная из себя, она приподнялась из кресла, огромная, гневная, хлюпающая водой Мертвого моря, пропитанная месопотамской влагой:
— Явись, лжец!.. Иначе книгу твою буду сечь лозой, пороть розгой, кину на уголья, превращу в мертвый пепел! — она швырнула в свечу последнюю щепоть порошка. Комната озарилась фиолетовым светом. Ударил гром. Из рамы, неловко, как перелезают через забор, вылез тощий, угловатый, болезненный человек, дико вращая глазами, затравленно поворачивая шею. На нем была длинная, расстегнутая на груди рубаха, белые кальсоны с тесемками, стоптанные туфли на босу ногу. Так одевают пациентов в сумасшедших домах. Загнанно глядя на мучительницу, путаясь в тесемках, бочком протиснулся меж рядов, добрался до двери, вышел на палубу. Переступил через борт и мягко опустился на воду. Не утонул, а лишь слегка разбередил поверхность. Сутуля плечи, прижимая руки к груди, пошел по водам, удаляясь, переставляя неловкие ноги, тощий, одинокий, в сторону берега, оставляя на воде след, подобный росчерку ветра. Следом, покинув плечо колдуньи, полетела сова, уменьшаясь, переваливаясь с крыла на крыло.
Все, обомлев, смотрели, как уходит по водам Иосиф Бродский…
июль 2005 — январь 2006
(обратно)



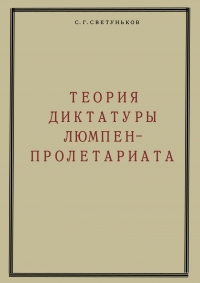

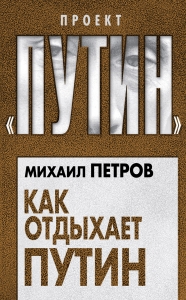
Комментарии к книге «День Литературы, 2006 № 02 (114)», Газета «День литературы»
Всего 0 комментариев