Владимир Бондаренко РУССКОСТЬ И РУССКОЯЗЫЧНОСТЬ
Предлагаю тему для открытой дискуссии: русскость и русскоязычность в литературе. Эту тему обходят как запретную, заразную, неполиткорректную именно по отношению к русской литературе. И в академическом литературоведении, и в живой литературной критике существует четкое разделение, к примеру, между английской и англоязычной литературами. Англоязычный автор, проживающий в Африке или где-нибудь на тихоокеанских островах, время от времени бывающий и в самой Англии, никогда не обидится, если его не назовут английским писателем, он и сам себя таковым не считает. Различаются и премии: национальные английские и за произведения, написанные на английском языке. Впрочем, в англоязычном мире нынче уже существует немало национальных по духу литератур. Скажем, ирландская литература, которая никогда не причислит себя к английской. Есть, между прочим, и американская литература, которая не только к английской, но и к англоязычной себя не относит. Мы, мол, сами по себе. То есть существует национальная английская литература, и существует некая космополитическая по духу англоязычная литература. Скажем, англоязычный Иосиф Бродский или Салман Рушди, прописанный в некоем космополитическом пространстве. Но уже сложились национальные, народные культуры и литературы, использующие английский язык в силу исторических причин. Не буду сейчас влезать в тему, которой посвящены тысячи книг.
В ареале французского языка тоже есть французская национальная литература, космополитическая литература на французском языке и национальная литература тех или иных народов, использующая французский язык. Тут нам дискутировать не о чем.
И вот наше искомое. Как аксиома: существует современная национальная русская литература, естественно, написанная на русском языке. Не будем делить даже ее на направления. Она есть.
Существует и становится уже международной, мировой космополитическая литература, написанная на русском языке, но сама она быть частью национальной русской литературы не желает.
И так же, как в случае с англоязычной литературой, существуют у нас уже и национальные литературы, использующие русский язык. Как пишущий на английском поэт с экзотических островов никак не собирается считать себя англичанином, так и Чингиз Айтматов, Олжас Сулейменов или Василь Быков вряд ли считают себя русскими писателями. С ними все ясно, их национальный менталитет выражается ими на привычном для них русском языке. Вспомним дневники Тараса Шевченко, написанные на русском. Думаю, и в нашем литературоведении, и в нашей живой критике русскость и русскоязычность с академической дотошностью отделили бы друг от друга, защитили бы десять диссертаций, выпили бы два бочонка вина и оставили бы его скучным текстологам. Но здесь, увы, вмешивается тот самый, запретный, заклятый, неполиткорректный еврейский вопрос. И все сразу же усложняется. Казалось бы, предельно ясно, что пишущие по-русски Давид Маркиш и Дина Рубина — это еврейские национальные писатели, хотя и русскоязычные, не пожелавшие переходить на иврит или идиш. И таких в Израиле много. Они сами считают себя израильскими национальными еврейскими писателями. Но чем они отличаются от авторов "Знамени" или "Октября", пишущих на еврейские же темы, но русскоязычными себя не считающих? Где происходит водораздел, и кто его определит? Для меня, например, Борис Пастернак — русский поэт еврейской национальности. То же самое скажу о Мандельштаме, о полукровке Ходасевиче и так далее. Кстати, и хорошо мне известный Иосиф Бродский тоже до поры до времени был скорее русским поэтом, позже он стал русскоязычным космополитическим поэтом, но еврейским поэтом он так и не стал до конца жизни.
Понимают ли эту проблему русскости и русскоязычности в самой еврейской среде? Думаю, ее представители могли бы сами выступить со своими мыслями в предлагаемой мною дискуссии.
Четко сегодня не определено и понятие "русскость", отнюдь не сводящееся к этнической великорусской принадлежности. Если русскость — это не голос крови, не этническая формула, тогда это некое имперское, вечно строящееся, видоизменяющееся понятие, определяющее набор духовных констант. "Тот, кто любит Россию, тот и русский", — просто сформулировал мой друг Илья Глазунов. Но я знаю многих иноплеменников, горячо любящих Россию (кстати, и сам Илья писал о таких), хотя русскими они себя не считают. Русскость литературы — это ее национальный характер, это национальные герои, действующие сообразно своему характеру. Но это и тот русский дух, которым может быть в итоге захвачен и датчанин Даль, и поляк Рокоссовский, и немец Фонвизин. В увлекательнейшей книжке "Русские плюс…" Лев Аннинский цитирует прекрасного писателя и историка второй эмиграции Николая Ульянова: "Печать русского духа, русской культуры слишком глубоко оттиснута на каждом ее деятеле, на каждом произведении, чтобы можно было стереть ее или заменить другой печатью". Пусть нынче сепаратисты ищут в великой русской культуре творцов хоть с малой толикой своей крови. Не изымут они ни Пушкина, ни Фета, ни Жуковского, ни Левитана. Русское — это ведь не просто этнически великорусское, но с каким-то наднациональным всечеловеческим смыслом имперское строение души. Кончилось это русское в Бродском — кончился и русский поэт Бродский. Беда в том, что русское может кончиться и в самом этническом русском. И он может, к примеру, перейти на другой язык. А на русском языке будут по-прежнему писать иные русскоязычные литературы. Может ли исчезнуть русская литература и остаться русскоязычная? Может ли русскость существовать не на русском языке? Наш передовой политолог как-то написал: "Впереди у нас — возникновение новых народов на данной территории СССР. Какой из них станет называться русским — это, скажу я вам, открытый вопрос. Русскими будут те, кто захочет себя так называть и отстоит среди других это имя…"
В Израиле до конца жизни будут называть русскими выходцев из России, и евреями там уже они никогда не будут. В Белоруссии самые лучшие писатели Россию недолюбливают, но пишут по-русски, хитро называя это автопереводами. Таковы и Василь Быков, и Алексей Дударев. А есть ли в самой России русскоязычная литература? И как самоопределяются ее авторы? Относят себя к той или иной национальной литературе — таджикской, казахской, корейской? Кем себя считает Алесь Кожедуб: белорусским или русским писателем? Или Анатолий Ким, который, сначала самоидентифицировавшись с русской литературой, жил в море русскости, затем попробовал стать корейским национальным писателем, пишущим по-русски, поехал на несколько лет в Корею, не получилось. Сейчас он стремится занять нишу гражданина мира, и в каждой своей фазе он был искренен. Значит, проблема русскости и русскоязычности может раздирать и одного конкретного писателя, Бродского или Кима. А оставалась ли русскость в англоязычных произведениях Набокова? Надо сегодня признать, на пространстве России существует одновременно и русская и русскоязычная литература, и делится она не по политическим убеждениям, не по принадлежности к тем или иным литературным объединениям, и даже не по национальностям. Как считает Евгений Рейн, он такой же русский поэт, как и Станислав Куняев, ибо живет в русской культуре. Но вот Равиль Бухараев, наш давний автор, напрямую себя к русской литературе не относит, скорее признает себя русскоязычным.
Надеюсь, на все эти вопросы нам ответят и наши постоянные авторы Лев Аннинский, Гейдар Джемаль, Сергей Семанов, Тимур Зульфикаров. Рассчитываем раздразнить и молодых. Кстати, английская премия Букер так себя и обозначила, награждая за книги, "написанные на русском языке". Может быть, поэтому еще она и не состоялась, русскости не хватило? Интересно, английский Букер — это национальная английская премия или премия для англоязычной литературы? Насколько отличается наша запутанность в определении границы между понятиями русскости и русскоязычности по сравнению с другими странами? Пусть бы об этом написали наши переводчики Виктор Топоров и Евгений Витковский.
Я рад любому талантливому русскоязычному произведению, оно обогащает наш язык, вносит какие-то новые нюансы, даже если его идеологическая направленность устремлена против нас. "Дух дышит, где хочет". Все, что создано на русском языке, — часть нашей истории и культуры. Пока, к счастью, поток русскоязычной литературы не сокращается. Но, конечно же, это периферия нашей культуры, так же, как и любой другой национальной культуры. Сегодня периферия заняла центр, из-за этого и произошло такое охлаждение читателя, такой спад интереса.
Русскость, как неотъемлемое качество нашей национальной литературы, — понятие более подвижное, чем русскоязычность, более мистическое и авангардное на каждом переломе истории, ибо дает в литературе новые национальные характеры, новых героев, новое понимание России. И одновременно это понятие мистически незыблемое, некая вечная константа. Не верю, что русские были другими до 1917 года, до 1995 года, до Петра Великого; обстоятельства были другие, характеры — другие, а Божий замысел один.
(обратно)Геннадий Животов СВЕТЛЫЙ ДАР (К 60-летию со дня рождения Сергея ХАРЛАМОВА)
Множество художников в Москве рисует, пишет, занимается инсталляцией, в отчаянии фотографирует, пытаясь угнаться за быстротекущей жизнью — и просто концептуально морочит зрителям голову. А в окрестностях столицы таких ещё больше.
Художник Сергей Харламов занимает особое место, такой — один. Он — на своём фланге обороны в той войне, которую русская культура ведёт против полчищ бесовщины, заполонившей нашу Родину.
Семья Харламовых — сам художник, его жена Ольга и два их сына — живёт на Смоленской площади. Они — прихожане храма Вознесения, что у Никитских ворот. Мимо этого храма Сергей проходит практически каждый день, направляясь в мастерскую, которая находится неподалёку, на Патриарших прудах.
Родовой дом Харламовых — в Кашире. Сам уроженец Каширы, глубоко любящий своё родовое гнездо, об этом доме и о самом городе с восторгом и упоением рассказывает Сергей при каждой нашей встрече.
Это всё — координаты пространства, где делает свою работу художник. Это очень важно.
Всё его творчество пропитано эстетикой "серебряного века" петербургской графики Чехонина, Анненкова, и "золотого века" московской советской графики — Фаворского, Константинова.
Как профессионал Харламов формировался в Строгановке, в период её короткого, но изумительно яркого рассвета конца 50-х — начала 60-х годов, откуда вышли наиболее крупные графики послевоенного времени, такие, как Г. Захаров, И. Голицын, И. Обросов…
Но Харламов пошёл совершенно неповторимым путём, создав свой стиль, на который оказала влияние и европейская, и русская литература, великие классические произведения, которые он часто иллюстрировал.
Перекладывая папку за папкой, альбом за альбомом, где крупные, полноформатные листы перемежались с маленькими листочками папиросной бумаги, я поражался широте и глубине охвата тем и проблем, невероятному мастерству, с которым исполнены работы Сергея. И понимал, что не могу остановить свой выбор на какой-то из работ, чтобы не поддаться соблазну погружения в неисчерпаемую глубину великого творчества, влияние на которое русской истории несомненно.
В его альбомах — виды Сербии, Греции, Украины… Перечисление же серии гравюр, посвящённых русской истории, книг, иллюстрированных художником, заняло бы слишком много места… Станковые листы, рисунки из путешествий, портреты великих современников, с кем довелось общаться художнику, — Леонида Леонова, Валентина Солоухина, Вадима Кожинова…
Непостижимо, как в наше суетное, подлое время Сергей сумел не растратить дарование, но отточить и усовершенствовать своё мастерство, выработав особую манеру гравирования.
Дорогой Сергей! Огромные просторы нашей Родины требуют от настоящего художника долгих лет жизни, чтобы он успел отразить в своём творчестве всё многообразие русской действительности. Поэтому желаю тебе долголетия — для выполнения высокой миссии.
Я убеждён: ты стоишь сейчас перед восхождением на очередную, новую вершину творчества, которая, несомненно, будет взята.
Спасибо тебе за божественный свет твоих гравюр!
(обратно)Юрий Бондарев МГНОВЕНИЯ
ПРАВО
Среди кладбищенского оголённого безмолвия я долго ходил по зимнему больничному парку. В неприютно сером декабрьском воздухе, возле лечебного корпуса, отрывисто разносилось грубое карканье ворон, осыпавших клочья снега с ветвей. И это скрипучее карканье почему-то раздражало меня.
В тот же предсумеречный час было ощущение несчастья, полной безлюдности в застывшем мире, и тут я увидел на обочине дороги выведенные веточкой на скате сугроба слова: "не позволяй торжествовать боли", — и вспомнил, как несколько дней назад меня привезли на "скорой помощи"; в приёмном покое мне, пытаемому нестерпимой болью, смерили температуру, затем сестра сказала очень тихо: "Тридцать восемь и семь", — и вопросительно посмотрела на хмурого врача-хирурга, тот ответил жёстко: "Имеет право". И эта фраза врезалась в мою отуманенную, подавленную болью голову: "Имеет право"…
Да, да, не позволяй торжествовать… кто это написал? Тот, кто ещё переживает муки боли? Или страдания отпускают его? "Имеет право"? Неужели боль имеет своё право, как имеет собственное право здоровье?
И вдруг смолкло карканье ворон на берёзах против хирургической. Молчал весь больничный парк, молчал весь корпус, как будто в холодеющие сумерки, в непроницаемую беззвучность погружалось всё человечество, и точно в беспамятстве невыносимой пытки, я услышал чудовищный вопль множества людей, молящих о спасении, о помощи.
Я оглох. Я дрожал какой-то отупелой неудержимой дрожью. Что это было? Неужели в этом больничном парке кричал и умолял о помощи весь мир? Наступил его срок, его право? Кто это в больнице сказал, что его боль напоминает неизносимую одежду? И я, вспоминая его истинные слова, будто распинал себя на кресте от беспомощности перед затопившей и землю, и небо болью.
Когда я очнулся, воображение понемногу отпускало меня.
Совершенно пустынный зимний парк безмолвствовал. Я был с головы до ног в знобящем поту, нестерпимая боль разрывала мне грудь. Я закутался в воротник пальто и, пошатываясь, хватаясь за скамейки, поплёлся к лечебному корпусу.
ТАЙНА КРУГА Из записок пожилого писателя
Однажды с чрезмерной бодростью, с неопределённой живостью в светловатых глазах, свойственной людям неунывающей натуры, которая скрывала огорчительный библейский возраст, он сказал мне с превесёлой улыбкой:
— Ты знаешь, я хотел тебе сказать, друг мой, что я переменил номер телефона, и с завтрашнего дня можешь мне не звонить.
Он сидел, то и дело перекидывая ногу на ногу, штанина не по возрасту узких зелёных брюк подёргивалась, выказывая худые щиколотки, обтянутые изящными сиреневыми носками. Он только раз прикоснулся губами к краю рюмки, но не отпил, с некоторых пор решив закончить земной срок в девяносто лет, пережить своих критиков, кроме того, с безнадёжно окончательным решением сел на диету, но при этом от него исходила неуёмная энергия, довольство собственным здоровьем, сухопарой фигурой, он много говорил, часто глаза его выражали сладкую благость, независимо от того, что он говорил, порой опускал, будто в нетерпении, страдающие брови, когда я начинал говорить, иногда же его лицо изображало невнимательное достоинство, и я, запнувшись в такую минуту, видел, как иронически играли его губы, и он с фальшивой дружественностью похлопывал ладонью по моей руке и говорил, милосердно соглашаясь: "Умно, умно! Я вижу, ты каждую ночь под подушку кладёшь Сенеку. Ты всегда отличался разумением!"
— Так почему я не должен тебе звонить? — недоумённо спросил я, усиливаясь найти причину. — Ты в чём-то обижен на меня?
— Нисколько! — воскликнул он отвергающе-театрально. — Это, прости, совсем другое чувство!
— Какое же?
Он погладил сухими пальцами рюмку, по-прежнему испуская глазами улыбку.
— По отношению к тебе я хочу быть хорошим, а это невозможно. Выше моих сил, к сожалению.
— Что ж, можешь быть и не хорошим, — сказал я намеренно безразлично. — Постараюсь вытерпеть. Кажется, мы с тобой знакомы двадцать лет.
— Совершенно справедливо! И двадцать лет ты меня презираешь, но терпишь и не гонишь меня в три шеи, когда я приезжаю к тебе на дачу.
— Побойся Бога, о чём ты?
— Позволь, позволь… Не делай удивлённое лицо, мой друг с двадцатипятилетним стажем. Я, маленький талантишко, давно не пишущий, приезжаю к тебе, рассказываю московские сплетни и анекдотцы, а ты меня слушаешь, как уставший лев после работы. Едва не зеваешь и думаешь: когда же его чёрт унесёт, этого дребеденеющего попугая с пенсионерской надоедливостью! Ан нет, ты смеёшься моим пошленьким побасенкам… как рёву дикого осла в пустыне, сошедшего с ума от собственного веселья. Ты даже восхищаешься моим, так сказать, лёгким характером, я тебя развлекаю, успокаиваю нервишки, ты получаешь удовольствие!
— Не очень точно. Мне приятно слушать тебя. У тебя острый язычок. Ты наблюдателен…
— Вот, вот, чудесненько! "Приятно слушать"! Надо бы сказать: "весьма приятно"! Ты отдыхаешь со мной после рабочего дня — когда в поте лица написаны полторы, две страницы, а после этого — для отдохновения — на ковёр приглашаются шуты! Алле-оп! И вот он — я. Весёленький бодрячок, нашпигованный смешными пошлостями, вот он, клоун — перед тобой!
Я не выдержал:
— Да что за чёрт! Оставь, пожалуйста, дурацкое цицеронство! Ты не пьёшь, а расфилософствовался, как непроспавшийся алкаш! При чём здесь "клоун", "шут"? и прочая чепуха?.. Ты мне интересен как человек — я дружу с тобой четверть века!
— Я тебе интересен как человек? О, Боже, дружишь четверть века! — Он захихикал тоненько, с неприятным всхлипыванием, и в этом смешке была мстительная ядовитость, едва сдерживаемая злоба. — Именно, именно! Интересен как объект развлечения? Предмет для снятия стресса! Ты же всё время молчишь, ты только улыбаешься, а говорю я, выворачиваюсь наизнанку для того, чтобы ты мило улыбался. Нет, друг мой, я тебе неинтересен, это — ложь, ложь! Я однажды видел тебя, когда к тебе приехал Шолохов. О, ты был совсем другим! Ты был само обаяние, пил, как никогда, говорил, как Демосфен, засыпал классика вопросами, цитировал текст из "Тихого Дона". Вот он был тебе интересен! К тебе приехал великий, и это возбуждало, льстило тебе!
— Пожалуй, многое тебе показалось, хотя… я чту его как первого художника мира. Первейшего художника…
— Да! Да! Почитаешь его как первейшего, а меня… как? Как последнего? Вот я и хочу сказать, друг мой, что ты презираешь меня… за то, что я давно перестал быть, а лишь кажусь… за то, что я за пятнадцать лет не сочинил ни строчки, за то, что мой стол пуст, гладок и смахивает на лысину, как задница павиана. Ни строчки, ни строчки на столе! — крикнул он жестяным голосом. — А ты… за десять лет выпустил два романа, ты рабочая лошадь, ты — вол, как говорил Бальзак! И вот, вот… куча, кипа… уже страниц двести.
И он рывком, будто толкнули его в шею, вскочил с дивана, ринулся к письменному столу, узкими нервными пальцами брезгливо поворошил, подкинул стопку рукописи, стукнул по разъехавшимся листам кулачком. — Творишь нетленку, сидишь каждый день, изображаешь Эмиля Золя, привязанного к стулу! Нет, ты меня даже бесишь ненасытным честолюбием в твои юные годы! Вожделеешь удивить жаждущих читателей, которым начхать на чудеса словесности! Смешно! В гардеробной хохотали, надевая галоши, как говорится в одном анекдоте! Смешно видеть твои потуги удержаться на ногах. Ты давно уже в милом возрасте и лежишь ногами к двери, а я — впереди… Ха-ха, вот так!..
— Отойди от стола и сядь, гробовщик, — сказал я, чувствуя внутреннее напряжение гнева, но всё-таки стараясь делать вид спокойный. — Сядь, выпей воды и сосчитай до десяти. Это помогает. А я пока соображу — что с тобой стряслось? Откуда такая ярость против меня?
На тонких ногах, обтянутых зелёными брюками, он забегал по моему кабинету от стеллажа к стеллажу, тыча пальцем в направлении книг и потрясая пальцем.
— Все твои шибко известные, знаменитые и прочая романы, все статьи, все интервью, все заграничные издания — всё превратится в пепел и пыль! А ты надеешься, что будут помнить, читать и перечитывать, благоговеть! Через десять-двадцать лет забудут начисто всех! Поголовно! Абсолютно забудут всех — и Толстого, и Достоевского, и Тургенева, а уж про нас, грешных, и говорить нечего! Не надейся, честолюбец! Ничего не останется — ни запятой! "Оставь надежду, всяк сюда идущий!" И Данте — кто его помнит? Два-три засиженных кабинетной молью профессора? А я решил бесповоротно! Ни единой строчки! Уже не могу выдавить из себя и запятой! Не могу — тошнит, воротит, выворачивает блевотиной! Время воров, убийц и лжецов сделало из меня импотента! Импотента от искусства! Я ненавижу эту торгашескую новую Россию! Никто не читает подлинную литературу! Вокруг — пустота. Для кого писать? Для баранов, день и ночь пожирающих глазами, ртом и ушами телевизионное дерьмо? Писать для проституток? Для лавочников? Для куртизан политиков? Да, я импотент — вот точное слово! Впрочем, ты тоже импотент, дорогой мой классик! Твоя слава осталась в другой стране, которой, увы, нет! Смешно, до икоты смешно! Если бы не было так печально! Ты ведь теперь не творишь! Хочешь овладеть красавицей, ан — нет! Где она, красота сущего? Разве не видишь, как испакостилось, извратилось всё? Жалко!.. И даже гадко! Разве ты не чувствуешь, что ты уже не нужен, что ты уже не кумир!..
Он бегал по комнате на тонких злых ногах, узкоплечий, с морщинистым узким лицом, весь заострённый, похожий на лезвие бритвы, и яростно мелькал оскал вставных зубов, голос пресекался и звенел, и мне вдруг показалось, что он истерически закричит, зарыдает сейчас.
Он заражал противоестественной неистовостью, этим несдержанным гневом против меня, и я боялся сорваться, ответить ему таким же гневом, такими же унижающими словами, оглохнув от сердцебиения. Потом я выговорил охрипшим голосом:
— Знаешь… Я не перестану писать до самой смерти. Это моя жизнь. Перестану — умру. Что ж, я буду рад, если после меня останется хоть одна строчка, хоть один абзац… Только всё-таки… скажи, за что же ты меня так ненавидишь? За то, что я живу?
На миг упала в комнату и затопила нас опасная тишина. Он смотрел на меня разъятыми яростью светлыми глазами, из которых катились слёзы, и тяжело дышал.
— Себя! Себя! Себя ненавижу! Себя! И запомни — наши книги сожгут на кострах, на площадях будут сжигать, на кострах! И плясать буги-вуги! Мы не нужны сумасшедшему человечеству! Обществу демократов! И пропадающей России!.. — крикнул он, задохнувшись, и побежал к двери, со всей силы толкнул её и застучал каблуками по лестнице вниз, заскрипел по гравию дорожки в саду. Я вышел за ним следом. Его уже не было.
Вокруг стояла осень. Погожий октябрь налетал порывами с юго-востока, путался в голых вершинах берёз, шумел, серебристо-жёлтое, почти медовое солнце качалось на ветвях. Густая позолота клёнов над забором сверкала на широком полевом ветру и звонким золотом неслась по дорожкам сорванная листва. Пахло свежестью недалёких холодов.
Был ли он прав?
Права была поредевшая уже трава, ветер, гонявшийся за опавшими листьями, осенняя чистота меж берёз, но была и мила мне правда в тысячелетнем журавлином крике из синих пространств огромного предзимнего неба, которое оспорить мог только Бог, если созданная жизнь — лишь приснившийся ему сон.
"Нет, мой друг, — думал я, вспоминая его изуродованное ненавистью и ужасом лицо. — Нет, нет и нет, чёрт возьми! Наша жизнь только частица, принадлежащая бесконечности целого, где гениальное и ничтожное безбурно разграничивается нераскрытыми тайнами законов, как суть красоты алмаза и камня, как наслаждение божественным, прекрасным, равным почти духовному страданию, что испытываем мы перед кротким взглядом "Сикстинской Мадонны" Рафаэля. И непостижим переход в эту бесконечность, которая все частицы истории великих и мелких событий и людей водит и водит по коварному кругу, вдруг сообщая им величие или внезапно уничтожая их, ничем не раскрывая глубинные причины Вселенской тайны".
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
Одни волей слова создают мощь веры и так называемого мыслящего духа, другие обессиливают и развращают слабые человеческие души, отупляя их.
Леонов редко улыбался, и его улыбка не совпадала с выражением глаз, сосредоточенно углублённых, мудро неспокойных, чаще всего пытливо спрашивающих. Его интересовало всё: что вы знаете о нынешнем дне, о жизни в России, о лицах людей, о новом, только начинающем молодом писателе. Он не был равнодушен, не был уставшим от своего библейского возраста, от многолетней, поистине каторжной работы, от огромного своего жизненного опыта. Леонов хорошо сознавал, что каждый народ имеет своих героев и своих негодяев.
Его привлекал не жест, не прыжок сюжета занимательного свойства, не "ох" и "ах" до дрожи заинтригованного обывателя, ждущего, когда обманутая героиня выстрелит из ружья, висевшего над турецким диваном коварного героя. Обыватель не подозревает, конечно, что беллетристическая глупость для всех наций.
Он был строителем собственного мира, независимо от того, нравился или не нравился кому-либо этот его "леоновский мир". Что это за своеобразный мир — реальный лес или более реальное отражение леса в воде? Сама действительность или изображение современной вавилонской башни в последних прощально печальных отблесках заката? Или это дуновение Апокалипсиса, смутной угрозы человеку и человечеству?
Леонов всегда тревожен. Его стиль тяжеловесен, разветвлён, непрост. Хотя почасту ироничен в той степени, в какой могут иронизировать титаны. С самых ранних вещей, где уже чувствовалась литературная неуёмность, до "Русского лета" и "Пирамиды", текст Леонова наполнен особой "леоновской аурой", особым звуком, главное же — мыслью, не одномерной, сложной, призывающей в помощники уразумения. Его проза обладает мощной силой логики, ничего общего не имеющей с легкодумной словесной игрой. Большая литература накатывается медленно, гигантскими валами. Она похожа на цунами.
Где сейчас, в каком пространстве гений Леонова? Там, в других высотах, в неземных декорациях, вокруг него не очень многолюдно, так как из миллионов художников только единицы преодолевают границу для дальнего путешествия к потомкам.
(обратно)ХРОНИКА ПИСАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ (События и факты)
ВСТРЕЧИ НАД ЗИМНЕЙ ВОЛГОЙ
В городе Балаково Саратовской области состоялось официальное открытие Балаковского городского отделения Союза писателей России, пополнившего собой областную писательскую организацию. На эту торжественную акцию приехали из Москвы первый секретарь правления СП России Игорь Иванович Ляпин и секретари правления Геннадий Иванов и Николай Переяслов, а из Саратова — руководитель областной писательской организации Иван Васильевич Шульпин. Благодаря усилиям поэта Владимира Пядухова, возглавившего созданную писательскую организацию, и поддержке администрации города Балакова это, на первый взгляд, чисто организационное мероприятие превратилось в самый настоящий литературный праздник над зимней Волгой. Он вобрал в себя встречи с тонко понимающими нужды современной литературы главой администрации города Валентином Викторовичем Тимофеевым и его заместителем Геннадием Николаевичем Утенковым, а также продолжительное выступление писателей перед студентами Балаковского института техники, технологии и управления, организованное его самоотверженным директором — Анатолием Андреевичем Землянским. Здесь, во время этого литературного вечера, Игорь Ляпин торжественно вручил членам новой писательской организации билеты Союза писателей России, после чего в зале звучали стихи и выступления московских, саратовских и местных авторов.
Кстати сказать — и это не может не радовать! — благодаря поддержке городской администрации и различных спонсоров, у балаковских литераторов за последнее время вышло довольно много новых, заслуживающих внимательного прочтения книг. Например:
Анатолий Комиссаренко. Давно и тихо шла война: Фантастическая повесть. — Саратов: ИКД "Пароход", 2000. — 100 с.
Анатолий Комиссаренко. Передозировка: Рассказы. — Балаково. — 20 с.
Анатолий Комиссаренко. Охота на охотника: Слово Писателя И Доктора. — Балаково: Литературный центр "Возрождение", 2000. — 40 с.
Юрий Киселёв. Белогривые туманы: Стихи. — Балаково: Литературный центр "Возрождение", 2000. — 48 с.
Юрий Киселёв. Распятое село: Стихи. — Балаково: Спецвыпуск "Свободной газеты", 1998. — 40 с.
Евгений Запяткин. Поздравления и пожелания.
Евгений Запяткин. ЗЕВСограммы.
Александр Горбачев. Цвет жизни: Повесть. Рассказы. Очерки. — Саратов, 2000. — 92 с.
Александр Горбачев. Слово о незабываемом прошлом: Очерк. — Балаково, 1999. — 48 с.
Федор Таранухин. Рассказы и повесть. — Балаково, 1996. — 142 с.
Федор Таранухин. Если любишь: Повесть. — Балаково, 2000. — 178 с.
Помимо этого городским литературным центром "Возрождение" издается газета "Лик Балакова: Литература, Искусство, Культура", в которой выступают со своими произведениями местные авторы. Хотя, думается, балаковские писатели уже вполне заслуживают того, чтобы иметь свой регулярный альманах или даже журнал, в котором могли бы печататься не только они, но и писатели других городов Поволжья, Москвы да и всей страны, что, с одной стороны, поднимало бы Балаково до уровня культурных столиц России, а с другой, создавало бы в издании дух высокой соревновательности и заставляло местных авторов еще требовательнее относиться к своему творчеству.
Балаковские писатели, как и их книги, непохожи друг на друга — у каждого из них свой жанр, свой круг тем, своя глубина погружения в проблемы. Работая врачом, Анатолий Комиссаренко много пишет о своей профессии и сопутствующих ей темах — к примеру, о проблеме СПИДа. Но в новой своей книге "Давно и тихо шла война" он предстает перед читателем уже в новой ипостаси — писателя-фантаста, показав и в этой роли достаточно высокий уровень литературного мастерства. Федор Таранухин пишет о войне и о любви, Александр Горбачев издал честное исследование о Сталине, Евгений Запяткин использует поэтический жанр для шуток и поздравлений, а Юрий Киселев — чтобы высказать свое отношение к вопросам серьезным...
Волга — река полноводная, могучая, и какой бы лед ни сковывал ее поверхность, под ним она хотя и невидимо для глаза, но упорно продолжает катить к морю свои воды. Точно так же и русская литература — какое бы революционное, военное или рыночное время ни гудело своими ветрами за окнами, а в душах творческих людей продолжают рождаться все новые стихи, рассказы или повести. И в морозные дни накануне нового, 2002 года стоящий на берегу заледеневшей Волги город Балаково сумел красноречиво проиллюстрировать эту правду о живучести русской литературы. Это только кажется сегодня, что она умерла. Она просто укрыта подо льдом, а придет в нашу культуру весна — и мы еще увидим ее половодье...
СОЗДАН ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛАВЫ
В зале церковных соборов храма Христа Спасителя прошло учредительное собрание общественного фонда "Центр Национальной Славы России", на котором присутствовали известные русские актеры Василий Лановой, Николай Бурляев, Валерий Гостюхин, Юрий Назаров, Сергей Шакуров, Георгий Жженов, Владимир Конкин, а также скульптор Вячеслав Клыков и несколько писателей — Владимир Крупин, Александр Казинцев, Николай Сергованцев, Вадим Арефьев, Николай Переяслов и другие. На собрании говорилось о необходимости спасения России и ее духовности, был утвержден Устав и избран совет попечителей (в который вошли председатель правления ОАО "Газпром" А.Б. Миллер, генеральный директор Российского агентства по госрезервам А.А. Григорьев, председатель Европейской ассоциации юристов А.Л. Колодкин, заместитель главы Администрации президента РФ С.Э. Приходько, полпред президента РФ по Центральному федеральному округу Г.С. Полтавченко и другие лица), а затем Татьяна Петрова спела несколько замечательных русских песен.
Лучше всех выступил писатель Владимир Крупин, который сказал, что вот вроде бы всё вокруг плохо, страна продолжает разрушаться, иной раз от всего этого просто жить не хочется, но вдруг подумаешь среди суеты: "Слава Богу, я ведь русский, и нет у меня никакого второго гражданства!" — и на душе сразу становится легко и светло. Потому что если другие народы живут ВО ВРЕМЕНИ, то русский народ живет — В ВЕЧНОСТИ.
ПРЕМИИ — КРИТИКАМ
Редкий для сегодняшнего времени случай, когда всероссийские литературные премии присуждаются критикам и литературоведам. Но имена Зои Алексеевны Богомоловой и Капитолины Антоновны Кокшеневой известны многим читателям и профессиональным литераторам — и прежде всего своим бескорыстным и принципиальным служением делу российской словесности и заботой о развитии многонациональной литературы страны. Поэтому вполне закономерно, что совет секретарей правления Союза писателей России и администрация Калужской области присудили одну из престижнейших российских литературных премий — премию имени братьев Киреевских — Зое Богомоловой за книгу "Река судьбы. Жизнь и творчество классика удмуртской литературы Михаила Петрова" (Ижевск, 2001) и Капитолине Кокшеневой за книгу "Революция низких смыслов" (Москва, 2001), талантливо и разносторонне анализирующую русскую прозу 90-х годов ХХ века. Вместе с ними премии удостоен также Владислав Трефилов, возглавляющий калужское издательство "Золотая аллея".
В честь этого события в Калуге состоялся большой литературный вечер, на котором заместитель губернатора Калужской области В.И. Игнатов вручил премии лауреатам. На церемонии выступили руководитель областной писательской организации В.Терехин, секретарь Союза писателей России С.Куняев, известный московский публицист А.Казинцев (у которого в местном издательстве только что вышла книга "В поисках России"), а также глава местной епархии владыка Георгий и другие.
ПИСАТЕЛЬСКИЕ ПЛАНЫ
16 января на Комсомольском проспекте, 13 под руководством В.Н. Ганичева состоялся расширенный секретариат правления Союза писателей России, на котором были подведены предварительные итоги прошедшего 2001 года и намечен план работ на первые шесть месяцев года 2002-го. Среди задуманных на первое полугодие дел можно назвать III Всеармейское совещание молодых писателей России, выездной секретариат СП России в Крыму, конференцию памяти Н.В. Гоголя, выездной писательский секретариат в Кирове, всемирный форум поэтов в Москве — Магнитогорске, выездной пленум правления СП в Калининграде, Дни славянской письменности и культуры, Шолоховские дни, семинар молодых поэтов Башкирии и Приуралья, Пушкинские дни в Москве, Пскове, Нижнем Новгороде и других городах России, Тютчевский праздник поэзии на Брянщине и множество других мероприятий. Что из них станет реальностью, покажет время, но то, что писателям скучать не придется, видно уже и сейчас. И это не может не радовать, так как за каждым намеченным делом стоят встречи с людьми и все большее возрастание авторитета русской литературы в глазах народа.
ПОЭТИЧЕСКИЙ ГОЛОС ТОЛЬЯТТИ
Одним из первых литературных мероприятий нового, 2002 года, которое прошло в правлении Союза писателей России, стал творческий вечер известного русского поэта из Тольятти — Константина Рассадина. "Благодаря" средствам массовой информации, этот замечательный трудовой город стал ассоциироваться сегодня в первую очередь с пресловутой автомобильной мафией, о которой постоянно трубят газеты и телевидение, а между тем, расположенный в сердце живописных Жигулей, Тольятти вобрал в себя и их красоту, и вольницу омывающей его Волги, и это не могло не отложить поэтический отпечаток на его душу. Это здесь, в Москве, литераторам нет житья без баксов да факсов, а поэтам глубинной России хватает для счастья самой близости с Родиной. Как писал еще в 1920 году своему другу Александру Ширяевцу Сергей Есенин, "им нужна Америка, а нам в Жигулях — песня да костер Стеньки Разина..."
Вот Константин Рассадин и выбрался из седых Жигулей, чтобы немного встряхнуть столицу своими стихами, а помогли ему осуществить эту затею администрация города Тольятти и руководство Волжского автомобильного завода, за что им честь и хвала от всех присутствовавших на этом вечере. К слову сказать, тот факт, что на вечер Рассадина приехал даже заместитель руководителя тольяттинского департамента культуры Владимир Аркадьевич Колосов, ярче всяких слов говорит о том, что в этом городе любят и ценят и настоящую поэзию, и настоящих поэтов.
На вечере Константина Рассадина, который вел секретарь правления СП России Николай Переяслов, присутствовали тольяттинские поэты Юрий Сизов и Валентин Рябов, из Самары приехали поэт Владимир Осипов и прозаик Эдуард Анашкин, а из Сызрани — поэт Олег Портнягин. Было также много писателей-москвичей — Геннадий Иванов, Гарий Немченко, Петр Алешкин, Олег Шестинский, Виктор Петелин, Евгений Антошкин, Татьяна Смертина, Николай Дорошенко, Александр Дорин, Василий Ставицкий, Виктор Широков, Юрий Рябинин и другие.
В СОСЕДСТВЕ ДВУХ МУЗ
17 января в правлении Союза писателей России открылась выставка замечательного молодого художника Филиппа Москвитина. Ранее писатели могли познакомиться с несколькими его работами по репродукциям в "Роман-журнале, ХХI век", и вот теперь его творчество предстало перед их глазами гораздо полнее. Очень сильное впечатление производят такие полотна, как сюжет с перенесением мощей святого патриарха Тихона, портрет покойного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, многие пейзажи, портреты инокинь, старцев, изображения русских церквей. Приветственные слова на открытии произнесли Игорь Ляпин, Сергей Перевезенцев, Николай Дорошенко, Николай Сергованцев, Николай Переяслов и другие писатели. Выставка излучает такой чистый свет, как будто в писательском доме открылась своя домовая церковь.
ЮБИЛЕЙ Ал. МИХАЙЛОВА
В этот же день, 17 января, в Международном сообществе писательских союзов состоялось чествование известного российского критика Александра Алексеевича Михайлова, которому в первый день наступившего 2002 года исполнилось 80 лет. Поздравить юбиляра пришли С.В. Михалков, А.В. Ларионов, В.И. Фирсов, Л.Г. Баранова-Гонченко, В.В. Личутин, В.Г. Бондаренко, С.Н. Есин, Ю.А. Виноградов, С.М. Луконин и многие другие писатели, а также ректор Российской академии государственной службы при президенте РФ В.К. Егоров, генерал-лейтенант А.Н. Чуркин, заместитель председателя Центризбиркома В.С. Власов и целая группа земляков-архангельцев.
На вечере Ал. Михайлову была вручена премия имени А.А. Фадеева, а также список с Владимирской иконы Божией Матери.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ПОЭЗИИ
Вечером 18 января, в канун праздника Крещения Господня, в Союзе писателей России прошла презентация двухтомной "Антологии белорусской поэзии" в переводе Геннадия Римского, которую выпустило в свет московское издательство "Русский Двор". Антология включает в себя стихи полутора сотен белорусских поэтов и охватывает практически всю историю белорусской поэзии.
Есть в ней одна замеченная всеми выступавшими на презентации особенность, состоящая в том, что количество переведенных на русский язык стихов различных поэтов имеет в книге очень непропорциональное соотношение. Скажем, один из авторов представлен в книге переводами аж двадцати стихотворений, а другой его собрат — только одного. Однако воспринимать это за недостаток работы составителей или редакторов нельзя, так как данная антология представляет собой авторскую работу, то есть — принадлежит перу одного человека, всю жизнь переводившего стихи своих земляков в тех количествах, какие ему диктовала его душа, а не издательство. Ну и плюс к этому двухтомник вышел уже после смерти переводчика, усилиями его вдовы Маргариты Анатольевны Римской, и вносить какие-либо изменения в его структуру было уже некому. Да честно говоря, и ни к чему, так как получившаяся антология дает достаточно яркое представление о путях развития белорусской поэзии, о чем на вечере и говорили почти все выступавшие. А среди них были гости из Минска Алесь Писарик и Николай Савик, а также московские писатели А.Н. Власенко, А.К. Кожедуб, В.С. Рогов, И.А. Тертычный, Ю.И. Сохряков, В.Широков, А.Дорин, А.Облог, Вл.Фомичев, Н.М. Сергованцев, В.Слепенчук, народная артистка России Лариса Трухина и другие.
О работе над "Антологией" рассказала собравшимся директор издательства "Русский Двор" Ольга Воронина. Вел вечер Николай Переяслов.
ПИСАТЕЛИ В СЕТЯХ
Продолжается размещение информации на интернет-сайте "Писатели Москвы и Московской области", созданном писателем Геннадием Гацурой при поддержке профкома МО СП РФ. Здесь можно найти краткие данные почти обо всех писателях Москвы и области, а также познакомиться с образцами их творчества. Представлены также материалы обо всех сегодняшних литературных изданиях московских писателей. Адрес сайта: httр://mp.urbannet.ru.
Небольшой объем литературной информации размещен также на открывшемся в прошлом году сайте "IN CULTURE", созданном по проекту художника А.М. Асманова, писателя А.И. Хабарова и председателя АБ "Восход" А.И. Плющенко. Его адрес: .
Кроме того, слово русских писателей можно встретить на православном сайте "Русское Воскресение" (главный редактор Сергей Котькало), материалы которого размещены по разделам "Русская государственность", "Подвижники благочестия", "Национальная идея", "Царь-мученик", "Славянское братство", "Тайна беззакония", "Православное воинство", "Литературная страница" и других. Адрес этого сайта: .
Все названные сайты имеют великолепный дизайн и очень удобны в пользовании.
ДЕСЯТЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ
27 января в Государственном Кремлевском Дворце состоялось торжественное открытие Десятых Международных Рождественских образовательных чтений, проводимых Отделом религиозного образования и катехизации РПЦ. С вступительным докладом выступил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, говоривший о зле, которое продолжает идти к нам с экранов телевидения; о программах полового воспитания, которые продолжают развращать наших детей в школах; о двух миллионах малолетних беспризорников, лишенных возможности учиться грамоте; о том, что пора вводить основы православной морали во все государственные школы и о многом другом. "Православие, — сказал он, — это не идеология, а жизнь, полная любви к Богу, к людям и ко всем Божьим творениям..."
Практически о том же говорил и выступавший вслед за ним министр образования РФ В.М. Филиппов, хотя, слушая его речь, так и подмывало спросить, почему же он, будучи таким единомышленником Патриарха, до сих пор не помог ему ввести в школах курс изучения основ православной морали и не запретил преподавание полового воспитания.
Приветственную телеграмму в адрес оргкомитета Чтений прислал из другого конца Кремля А.С. Волошин.
Среди пришедших на открытие Рождественских чтений писателей были В.Н. Ганичев, С.Котькало, И.Есаулов, Н.Переяслов и другие.
30 января в правлении СП России состоялось заседание проводимой в рамках Чтений секции "Православие и Интернет", а 31 января там же работала секция "Возрождение русской словесности".
(обратно)Ирэна Сергеева, г. Санкт-Петербург ВРЕМЯ МОСКВЫ (Поэтический голос России)
Медленно время Москвы,
по Кольцевой на куски
мелется — не размолоть
эту вселенскую плоть.
Быстро пространство растет.
К югу от Спасских ворот,
не уплотняясь никак,
всюду орудует мрак,
в недрах омонствуя тьмы...
Медлим, немотствуя, мы.
Но все равно, все равно
в русское смотрим окно.
(обратно)НАШИ ЮБИЛЯРЫ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:
Рахматуллин С.И., 1.02. - 60 лет, (Башкортостан)
Тяпугина Н.Ю., 7.02 - 50 лет (г. Саратов)
Ларионов Н.Л., 7.02 - 70 лет (Чувашия)
Федоров Г.И., 10.02 - 60 лет (Чувашия)
Федорова Л.М., 10.02 - 50 лет, (Чувашия)
Полякова Л.В., 10.02 - 60 лет (г. Тамбов)
Зяблищев С.П., 12.02 - 50 лет (г. Киров)
Насамрайн Б.-Б.Н., 14.02 - 90 лет (Бурятия)
Сафин Р.А., 16.02 - 70 лет (Башкортостан)
Острый В.И., 18.02 - 60 лет (г. Самара)
Ялгир П.А., 19.02 - 80 лет (Чувашия)
Афанасьев П.В., 20.02 - 60 лет (Чувашия)
Ионов Ю.А., 21.02 - 60 лет (Коми)
Востриков Ф.С., 21.02 - 60 лет (г. Пермь)
Юмагулов И.Х., 26.02 - 70 лет (Башкортостан)
Воутилайнен П.О., 28.02 - 50 лет (Карелия)
МОСКВА:
Анисов Л.М., 5.02 - 60 лет
Мураталиев Муса, 15.02 - 60 лет
Логинов В.М., 23.02 - 50 лет
Дудко Д.М., 24.02 - 80 лет
Евдокимов Н.С., 26.02 - 80 лет
Секретариат правления СП России и редакция "Дня литературы" поздравляют всех юбиляров с днем рождения!
(обратно)НОВЫЕ КНИГИ РОССИИ
У ПИСАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКА:
Владимир Клипель. Амурское ожерелье: Путевые очерки и размышления. — Хабаровск, 2000. — 44 с.
Сергей Кучеренко. Трудное детство тигра: Повесть о суровом детстве уссурийского тигра и о влюбленном в природу мальчике и его отце. — Хабаровск, 2000. — 68 с.
Георгий Кузьмин. Враженята: Повесть и рассказы. — Хабаровск, 1994. — 176 с.
Анатолий Максимов. Короткое лето детства: Повесть. — Хабаровск: "РИОТИП", 1999. — 256 с.
Виктор Кононов. Автопортрет нервного человека: Повести и рассказы. — Хабаровск, 1997. — 286 с.
Кирилл Партыка. Злое время: Рассказы. — Хабаровск: ООО РИЦ "ПРИЗ", 2000. — 224 с.
Кирилл Партыка. Мутант: Роман, повесть. — Хабаровск: РИОТИП, 1995. — 352 с.
Вышедшие за последние годы книги хабаровских писателей охватывают самый широкий круг тем и жанров — тут и такие проблемные романы для взрослых, как у Виктора Кононова и Кирилла Партыки, которые пытаются дать ответ на то, как быть счастливым в наше сошедшее с колеи время, или как противостоять злу и не поддаться его воздействию на собственную душу, тут и захватывающие краеведческие очерки, как у Клипеля и Кучеренко, тут и вечно актуальная детская проза А.Максимова и примыкающая к ней — Г.Кузьмина...
Хабаровский край — регион не просто обширный, но обладающий высоким творческим потенциалом, и об этом наряду с публикациями журнала "Дальний Восток" красноречиво свидетельствуют и выходящие в хабаровских издательствах книги местных авторов.
У ПИСАТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
Наталья Парыгина. Любой ценой: Роман. — Тула: Издательский Дом "Пересвет", 1999. — 245 с.
Валентин Киреев. Начало отсчета: Сборник стихотворений. — Тула: "ИНФРА", 2001. — 216 с.
Николай Дружинин. Без вести пропавшие: Роман-хроника. — Тула: "Пересвет", 1999. — 272 с.
Иван-озеро: Сборник тульских писателей. Выпуски первый, второй, третий. — Тула: "Пересвет", 1998, 2000, 2001.
Виктор Пахомов. Избранное: Стихи. — Тула: "Пересвет", 2000. — 240 с.
Владимир Сапронов. Избранное: Стихи. — Тула: "Пересвет", 2000. — 208 с.
Иван Панькин. Легенды о мастере Тычке. — Тула: "Пересвет", 2001. — 176 с.
Борис Голованов. Звезды над Чернью: Лирика. — Тула, 1997.
Вячеслав Кузнецов. Сны о доме: Рассказы. — Новомосковск, 1999. — 264 с.
Алексей Логунов. Сказки Иван-озера: Стихи и сказки. — Новомосковск, 1999. — 198 с.
Мария Казакова. На мосту в половодье: Роман, повесть. — Тула, 2000. — 280 с.
Иван Прасолов. Все начинается с любви: Стихи. Книга первая. — Тула: Издательство "Гриф и К", 2001. — 384 с.
Николай Боев. Озвученное время: Книга новых стихов и поэм. — Тула: "Пересвет", 2001. — 207 с.
Тула литературная: Ежегодник тульской писательской организации России. — Тула: "Пересвет", 2001. — 207 с.
Книги тульских писателей — это полный срез тех проблем, которые присутствуют в жизни современных граждан России, включая редкие для нынешних дней радости и чуть ли не массовые трагедии. О проблеме необходимости выбора между богатством и любовью, благополучием и нарушением закона пишет в своем романе Наталья Парыгина, а молодой поэт Валентин Киреев размышляет о неповторимости своей Родины в стихах: "Мне однажды сон приснился,/ яркий сон, как наяву — / будто я переродился/ и в Америке живу..."
У каждого из перечисленных выше авторов свой литературный стиль и свой художественный уровень — Виктор Пахомов и Владимир Сапронов дышат в затылок русским классикам, Иван Прасолов работает в жанре рифмованных здравиц и благодарностей, но в совокупности из этого отчетливо вырисовывается душа писателя русской глубинки — незачерствевшая, живая, тонко чувствующая время и состояние Родины. "Всю жизнь вынашивал я СЛОВО,/ споткнулся — мысли все пустые, — / но, битый, я поднялся снова/ с тяжелым выдохом: "РОССИЯ", — пишет поэт Николай Боев и кажется, что этот тяжелый выдох вырвался не только из его уст, но из души всего народа. А значит, мы еще не умерли, мы живы. Да и кто там вообще сказал, что мы собираемся умирать? Это с таким-то духовным потенциалом, как у нас? Ну уж, дудки!..
(обратно)ПИСАТЕЛИ И ПЕРИОДИКА
"ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ", № 12, 2001 (по недосмотру редакции проставлен год 2000-й).
Центральный материал этого номера газеты санкт-петербургских писателей — это, конечно же, статья Н.М. Коняева "Святому было девятнадцать лет", повествующая о житии замученного чеченскими боевиками русского воина Евгения Родионова. Читая ее, очень хочется верить, что когда-нибудь в России наступит такое время, когда жизнь и этого, и множества подобных ему героев будут изучать во всех русских школах.
В этом же номере напечатана большая статья председателя Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России И.И. Сабило, подробно разъясняющая всем недругам и злопыхателям, что никакого захвата писательской организации вымышленными заговорщиками не было, а была самая элементарная перерегистрация, ни в малейшей степени не ущемившая прав петербургских писателей.
Здесь же Николай Астафьев пишет о композиторе Гаврилине, Роберт Балакшин высказывает свое мнение о судьбе убийцы Николая Рубцова Дербиной, критик Геннадий Муриков анализирует сборник литературно-критических статей Алексея Ахматова "Срез", Валентина Ефимовская размышляет о поэзии москвича Ивана Голубничего и так далее...
А еще в номере много хороших стихов — Андрея Реброва, Лаэрта Добровольского, Ирэны Сергеевой и Милутина Мичовича в переводе Майи Рыжовой.
"ПАРАДНЫЙ ПОДЪЕЗД", № 1, 2001.
Еще одна литературная газета появилась в конце прошлого года в Санкт-Петербурге в качестве приложения к альманаху "Медвежьи песни", редактируемому поэтом А.В. Романовым. Она представляет собой 8 страничек потребительского формата, на которых размещены статьи о творчестве Валентина Голубева и Владимира Алексеева, стихи полутора десятка питерских поэтов и заметки поэтессы Нины Чудиновой о прошлогодней поездке в Китай.
"ЛИТЕРАТУРНАЯ ЮГРА", № 6, 2001.
Последний в минувшем году номер газеты ханты-мансийских писателей составлен из материалов о жизни местной писательской организации, а также о деятельности Ассоциации писателей Урала (АСПУР). В нем также помещены отчет о работе Совещания молодых писателей в Сургуте, материалы круглого стола и образцы прозы, поэзии и критики местных авторов.
Венчает номер информация о присуждении премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы за 2001 год, которой удостоились Н.И. Коняев (за книгу прозы "Отголоски-отзвуки") и П.И. Суханов (за книгу стихов "Завороть"), здесь же напечатаны поздравления Г.И. Силинкиной с присвоением звания "Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского АО", С.Г. Юрченко с принятием в члены СП России и А.М. Конькову с присвоением звания "Почетный гражданин Ханты-Мансийского АО".
"РОДНОЕ СЛОВО", № 7, 2001.
Гвоздь этого номера газеты астраханских писателей — интервью с писателем Василием Беловым. Кроме него здесь напечатаны статья Юрия Щербакова "Обратная связь", а также стихи Михаила Луконина и астраханских поэтов Павла Радочинского, Дмитрия Казарина и Владимира Филатова. Публикуются также поздравления харабалинскому поэту Юрию Богатову и астраханской школьнице Ольге Малиевой с присуждением им литературной премии имени Клавдии Холодовой, учрежденной Астраханским отделением СП России и департаментом по делам молодежи администрации области.
"ВРЕМЯ", № 3, 2002.
Редактируемая Николаем Павловым газета "Время" публикует статьи "Кто же он — мистер Путин?", "Мы должны спросить у власти" и другие публицистические материалы, но не чурается и литературы. В третьем номере "Времени" напечатаны стихи Виктора Верстакова, Игоря Морозова и одного неизвестного автора, а также большая рецензия Алексея Рыжова на книгу А.Грешневикова "И свяжет зодчий нить времен".
"СЛОВО", № 2, 2002.
Еженедельная газета "Слово", которую редактирует Виктор Линник помимо статей "Новый скелет в шкафу Буша", "ФСБ против клонирования", "Россия и Израиль" и ряда других публикует большое интервью с главным редактором петербургского литературного журнала "Нева" Б.Н. Никольским и обзор новых книг, среди которых рецензируются роман Сергея Носкова "Дайте мне обезьяну", исследование Геннадия Зюганова "Глобализация и международные отношения", написанная Николаем Коняевым для знаменитой серии ЖЗЛ биография Николая Рубцова и ряд других книг.
(обратно)С. Ш. ПРИ ПУТИНЕ
Президент-отравитель. С каждым днём его правления мы прихлёбываем ложка за ложкой отвар из бледных поганок. Общество УСПОКОИЛОСЬ на фигуре Путина — и это признак разложения и вступающего в свои права Небытия. Народ, добрый, дурной, страстный, любой, — уподобляется тупорылым штампованным обитателям Запада.
Общество стабилизируется. Русский читатель листает боевики в скользящих обложках, неумело бочком пристраивается к торговле, а в тоскливых зимних снах сосёт свой леденец — рыбий глаз президента… Сон и явь смыкаются. Человечек с мизерной фамилией превратился в главного носителя яви. Путин — тот ноль на шкале координат, за которым — ледяная область смерти. Область отмирания всех чувств, свёртывания крови, оледенения сердец.
Народ принимает Путина, и тут болезненная слабость и смертная мука. Вместо живого участия в политике и ревнивых требований страна затяжно ВОЗЛАГАЕТ на Путина НАДЕЖДЫ — худший признак. Ведь именно о НАДЕЖДАХ шёпот и воздыхания умирающего…
Этот Путин, он всех обесцвечивает, лишает веса (на шелестящем ветру его фраз оппозиция колотится о притолоку Думы бредовым воздушным шаром).
Алый энтузиазм советской поры, кремлёвская чёткость, преодолевавшая человеческую недолговечность — всё мелко оплёвано Путиным. Он правит, незаметно поплёвывая.
А народные порывы к политике сквозь перестройку, сквозь все 90-е?
Первым могильным камнем придавил живую реальность расстрелянный Белый дом… Второй, прохладный и гладкий камушек — Путин.
Все подавлены, у всех всё из рук валится. Слова говорятся, но не звучат, шагнувшая нога попадает в пустоту.
Девичье-крысиная полуулыбка… Приветливо-безжалостная складочка у губ. Путин. путин.
С. Ш.
(обратно)Илья Кириллов СРЕДЬ ЗЕРЕН И ПЛЕВЕЛ
Получив первые в новом году номера толстых журналов, первым делом посмотрел насколько уменьшились их тиражи. Вы знаете, тиражи снижаются каждое полугодие, и я всегда в начале и середине года открываю выходные данные, предвкушая радость. В этом году показатели вообще супер: "Дружба народов", например, докатилась до несчастных трех тысяч экземпляров, немногим больше тиражи у "Октября" и "Знамени". И даже у "Нового мира", всеми правдами и неправдами цепляющегося за существование, тираж снизился практически на тридцать процентов!
"Все тайное становится явным, — могут сказать после прочтения этих строк. — Наконец-то он обнаружил свое истинное лицо: злорадствующий ненавистник литературы и сладострастный некрофил". "Да", — отвечу я, не желая оправдываться. Все тайное становится явным, в том числе истинный масштаб в культурном пространстве такого надуманного явления, как толстые журналы. Их состояние с состоянием литературы как таковой никак не связано. Фальшь, с которой заинтересованные лица пытаются подменить функционированием журналов реальную ценность литературы, даже создать видимость некоей общественной их значимости, особенно заметна на примере "Нового мира".
Из номера в номер журнал извещает о предстоящих публикациях на первой странице (перед оглавлением), и всегда это анонс не на ближайшие номера, а как минимум на ближайшие два года. Называются около сотни имен и бесчисленные "романы" и "повести", которыми якобы располагает редакция. "Якобы" — оговорка вполне оправданная: "Новый мир" в течение четырех последних лет анонсировал повесть В.Астафьева "Приключения Спирьки", решающее произведение, где должен был наконец проявиться и стать очевидным для всех астафьевский гений. Да вот Смерть помешала. И как только позволили технические возможности, напоминание о загадочном Спирьке со страниц журнала сразу же стерли.
Над оглавлением, над анонсом красуется огромный слоган: НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР — и далее совсем уже аршинными буквами: БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ. Никакой другой журнал не опустился еще до такого рода рекламно-идеологических виньеток.
За всем этим — крайняя неуверенность в своих силах, неверие, что можно привлечь внимание художественными достоинствами публикуемых произведений. Удачи если случаются, то эпизодически, и даже не удачи, удачки. Рассказ Андрея Волоса "My moon" из этого разряда.
Профессионализм. Точно отмерена дистанция повествования, которую А.Волос, как опытный спортсмен, проходит расчетливо, сдержанно, лишь на финишной прямой производя решающий, исключающий риск рывок. И в содержании рассказа, и в демонстрации своих технических возможностей — отчетливое желание автора произвести впечатление, что в общем-то ему удается. Первый парень на деревне.
В общем же впечатление от прозы, представленной в январе толстыми журналами, крайне бледное и на редкость ровное. Сергей Гандлевский, Валерий Попов, Борис Хазанов, Валерий Пискунов, Надежда Веневитинова, Владимир Новиков, Георгий Бао: уже не интересно спорить, кто крупнее, кто мельче в этом собрании великанов.
Различие степени значимости (текстов? авторов?) проявится, пожалуй, если не ограничиться оценкой только художественного уровня, но привлечь к рассмотрению личностное начало автора. Тем более поводы для этого есть.
Сергей Гандлевский в "Знамени" публикует огромный текст о самом себе; прячется, правда, за вымышленным именем и не стесняясь определяет текст как роман. Роман так роман, не взыщем за маленькие, можно сказать, детские хитрости. Сложнее проявить великодушие по отношению к качеству текста, и, если так можно выразиться, к качеству личности главного героя, alter ego автора. Плохо переваренный Трифонов усугубляется собственно авторской бестактностью: "…узнал задним числом и заскрежетал остатками зубов, что перед презентацией книжки в зальце одной библиотеки трогательная моя Лариса обрывала телефоны знакомых и полузнакомых и просила придти, а еще лучше выступить. Устроил ей отвратительный, с визгом скандал, после извинялся; даже в честь примирения совокупились — чего уже давно не водится за нами".
Немногим более благополучна автобиографическая повесть Валерия Пискунова в "Дружбе народов", сочинение-воспоминание-грезы о первой любви. "Тоска желания и тоска ожидания переиначили меня, и чувства, которые до сих пор доставляли мне впечатления в полном согласие (так в тексте автора. — И.К.) составили колдовской заговор: теперь они насылали на меня впечатления, которые, минуя беспомощные волю и разум, врывались в меня нежданными вестниками — косноязычными порученцами Судьбы, мелочно соблюдающей пункты и подпункты ей одной ведомого Протокола." и т.д. и т.п.
И т.п. и т.д., с прустовской тщательностью, но далеко не с прустовским и даже не с набоковским уровнем стиля. Скорее это уровень поздней прозы Анатолия Ананьева (вечная память).
Среди опубликованного в минувшем месяце я выделил бы с оговорками повесть Бориса Хазанова в "Октябре".
Я ценю прозу Хазанова и каждую его вещь дочитываю до конца без насилия над собой. Но это мое частное приятие автора, и объективности ради нельзя не сказать о главном, хоть с грустью, с сожалением: по своим художественным возможностям это писатель ограниченный, бледный... И все-таки настоящий, не сконструированный издателями и пиарщиками, не выдуманный собственным самомнением. Такому писателю не требуется снисхождение, тем более жалость, Б.Хазанов выдерживает удар. По внутреннему потенциалу любая его повесть нисколько не меньше тех блюд, которые в кухне сегодняшней отечественной литературы считаются культовыми.
Он умен, образован, не лишен склонности к литературному эксперименту. Живя за границей, Б.Хазанов мог бы, задайся он такой целью, в удобной обстановке кропотливо выстругать как Т.Толстая, живоподобную куклу. Одеть ее в привлекательные одежды "с миру по нитке" и, пользуясь пиаровскими технологиями, преподнести в провинциальном отечестве как откровение. Но, ко всем уже названным свойствам, он писатель честный. И ему легко быть честным. В Б.Хазанове есть некая самодостаточность, проистекающая, может быть, из того, что не социальный темперамент движет им в творчестве, а интерес к человеку как к таковому, притом интерес подлинный. Эта подлинность освобождает автора от несносной для постороннего зрения и слуха заботы о каждой своей "кыси".
(обратно)Иван Уханов ВРЕДНУЮ ЛИТЕРАТУРУ – НА ВЫБРОС!
Утром 20 Января по радио сообщили: "Провокацией назвал министр культуры Михаил Швыдкой предложение молодёжной организации "Идущие вместе" поделить отечественную литературу на вредную и полезную. В интервью ИТАР ТАСС Михаил Швыдкой сообщил, что Министерство получило открытое письмо организации "Идущие вместе". Авторы этого письма обрисовали тяжелейшую ситуацию, сложившуюся, по их мнению, в отечественной культуре, и полагают, что такая ситуация связана с обилием вредной литературы, которая заполонила отечественный книжный рынок.
В этой связи М.Швыдкой сказал: "Можно было бы не заметить этих заявлений, если бы ещё недавно те же люди, напялив на себя майки с изображением президента, не пытались доказать обществу, что они чрезвычайно близки к власти. И таким образом любая их акция является чуть ли не освящённой поддержкой свыше. Именно поэтому я и коллеги из Минпечати считаем, что представители власти должны не только отмежеваться от этой акции, но и оценить её как провокацию против конституционных свобод граждан России".
В том-то вся беда, господин Швыдкой, что Вы умышленно не замечаете тяжелейшую, катастрофическую ситуацию, сложившуюся в отечественной культуре. Поэтому-то вместо того, чтобы всеми силами поддержать авторов Открытого письма к Вам, по достоинству оценить акт их светоносного прозрения, Вы поначалу хотели вообще не заметить их заявления (а разве оно не объективно, не справедливо?), но потом оценили его как провокацию против (!) конституционных свобод граждан России.
Ну и ну! Как же изощрена и фарисейски хитроумна Ваша логика, Михаил Ефимович! Выбить из людей способность трезво мыслить, вытравить из их сердец всё высокое, человечье — разве не этим занят последнее десятилетие "демократический" аппарат власти, которому Вы коленопреклонённо служите, не испытывая никаких угрызений совести от поступков, ставших у Вас обычаем? Изящно лицедействовать, отуманивая сознание людей, загаживая информационное пространство России лжеистинами, завуалированными проповедями о завоеваниях демократии, о правах и свободах, которые дали российскому народу "демократы" — вот Ваша забота.
Этому служит и нынешняя рыночная литература — важный инструмент, посредством которого в сознание человека внедряется тупая, как кувалда, мысль: человек — добытчик денег, обслуживатель собственного брюха и животных инстинктов. Всё! Больше никакой цели, никаких идеалов. Обессмыслить человеческую жизнь, обесчеловечить человека, возвратив его к пещерным проблемам — в этом самое гнусное деяние "демократов". Но попробуйте прозреть, тревожно озадачиться происходящим в стране, вас сразу же окружат "вниманием и заботой" идеологические омоновцы, хотя ничего нового или запретного вы не сообщите, а лишь с болью проконстатируете очевидные факты.
Вот же и молодые авторы всего лишь обрисовали тяжелейшую ситуацию в отечественной культуре, с чем сам министр культуры Михаил Швыдкой не согласен, потому что заявление ему сделали несимпатичные, на его взгляд, ребята и вообще он считает провокационной саму очевидную для всех реальность того, что культура отечественная в упадке, что кинематограф наш смолк, художники притихли, писатели, став нищими и ненужными, вымирают, что за время ельцинских реформ не создано ни одного произведения искусства, которое стало бы народной песней, такой, например, как "Катюша", таким кинофильмом, как "Чапаев", такой книгой, как "Тихий Дон", это и понятно. Народ и искусство процветают вместе. И наоборот — как теперь…
Однако вернёмся к "обилию вредной литературы, которая заполонила отечественный книжный рынок". Если Вы, Михаил Ефимович, не верите молодым авторам Открытого письма, то, может быть, глазам своим поверите? Оставьте свой служебный автомобиль и пройдитесь хотя бы по Тверской, загляните в книжные киоски, лотки и магазины.
Вот, пожалуйста, — смотрите, читайте… "Записки мертвеца", "Язва", "Грязь", "Мразь", "Пожиратель женщин", "Кредо гомосексуалиста", "В постели с дьяволом", "Смерть в постели", "Секс на орбите", "Жажда мести", "Я — убийца", "Кровавая графиня", "Кровосмешение".
Глаза на минуту останавливаются на добротных обложках толстых словарей и энциклопедий, но тут же наплывает дюжина пёстрых, смертогласных книжек писательши-модницы Марининой: "Смерть ради смерти", "Смерть и немного любви", "Я умер вчера", "Посмертный образ", "Шестёрки умирают первыми"…
На страницах этих роскошно изданных книг, а также большинства полиграфически респектабельных журналов все заняты в основном улаживанием криминальных ситуаций и любовью, в особенности — раздеванием женщины, упражнениями в изощрённости осязания её тела, поиском того, как ещё более изобретательно испробовать, исцапать, измять, излизать, исслюнить, исхапать его.
Налажен массовый выпуск этаких жгуче-страстных любовных романчиков (т.е. малого объёма книжек) иностранных авторов. Заглянем в одну из них. К примеру, в романы Э.Арсан под общим названием "Эросфера" (издательство "Эрос"), которые, согласно редакционной аннотации, "открывают читателям интимный мир женщины, раздвигают рамки дозволенного в литературе об отношениях полов". Каким же образом?.. Главный герой, журналист Гвидо, например, очень гордится, что "переспал с жёнами всех своих друзей", что его "тошнит от любовной морали", что секс для него — "хозяин пространства и времени, тела и духа". На фоне малозначащих служебных занятий Гвидо и его партнёрши по археологической миссии, молодой сексуальной шизофренички Ванессы происходят основные события романа — сцены изощрённых совокуплений в самых немыслимых местах, даже на горбу скачущего верблюда, оргии лесбиянок и гомосексуалистов, картины совращения малолеток.
В другой подобной книжице "Любовь — это праздник", выпущенной в свет аж стотысячным тиражом, героиня, она же автор — английская профессиональная путана Сильвия Бурдон — ставит целью "перетрахаться со всеми мужчинами, которые окажутся рядом". Особенно её восхищает публичный групповой секс — единовременные "фантастические соития" множества пар, а также "сексуальная практика" однополых партнёров. Подобный "праздник любви" почти в каждом жгучем романчике…
Повсюду в глаза нам суют полуголых или совсем нагих самцов, этаких патентованных половых хищников — пожирателей женщин, изображения вульгарно обнажённых потаскух, мучающихся желанием завлечь, искусить… Да уж, порнографически-эротический бум — это, пожалуй, единственно реальные, ощутимые плоды "демократических" реформ, наглядные аксессуары нашего бытия, нашего движения к западной цивилизации.
Вырваться из-под помойного водопада бульварно-детективной чернухи почти невозможно. Распродажа этих изданий ведётся не в отведённых местах, как на Западе, а повсюду — на улицах, на вокзалах, у подъездов школ, вузов, театров. Нынешняя власть, потворствуя всей этой дорвавшейся до дикой свободы торгашеской шелупони и разгулявшимся порнушникам, видимо, всерьёз полагает, что нынешнее неполноценное питание лишь увеличивает в нашем обнищавшем соотечественнике половую активность, повышает сексуальные запросы.
Вдвойне огорчительно, что вся эта сексуально-детективная литсивуха, порядком надоев даже всеядному обывателю, ныне активно внедряется на радио и телевидение, увеличивая там градус экранного криминала. Денно и нощно голубой экран содрогается от выстрелов и взрывов, люди гоняются друг за другом и самыми изощрёнными способами убивают. А на 10-11-12 каналах какой-то сплошной вселенский сексуально-танцевальный шабаш невменяемых, обкуренных, полуголых интернационалистов. Кто спонсирует их, кто при нынешней дороговизне одной минуты экранного времени платит сотни тысяч долларов, чтобы эти балдёжники-клипари почти круглосуточно стращали, шокировали, умучивали зрителей? Кто?!
Увы, наиглавнейший информатор и воспитатель миллионов людей — телевизор — ныне из "окна в мир" превратился в рассадник зла, без валидола и валерианы мягкосердечный зритель ныне уже не рискует садиться к телеящику. Почти вся сегодняшняя зарубежная кинопродукция, которой захламлены основные каналы нашего российского телевидения, — это школа по выращиванию сотен тысяч преступников, наркоманов, это наглядное пособие, как грабить, убивать, насиловать, как брать в заложники. Идёт эстетизация садизма, героизация жестокости. Героизм нынче измеряется не духовными, а в основном физическими данными супермена, тем, скольким людям он переломает рёбра, сколько партнёров убьёт в течение фильма.
Произведя захват общественного мнения, телевидение не формирует его в сторону истины и добра, а лишь деформирует, узурпирует, навязывая каждому человеку своё "демократическое" разномыслие, на самом же деле — полное безмыслие, душевный хаос.
"Удивительно неинтересны преступления", — написал в своём дневнике Антон Павлович Чехов, вернувшись из дальней поездки на остров Сахалин, где встречался со многими преступниками. В своих произведениях Чехов лишал преступление ореола, всего того, из-за чего оно в глазах обывателя вдруг возводится в яркое деяние. Преступники в его глазах — это всегда лишь фигуры серые, примитивные, безликие, а само преступление — всего лишь несчастье, дисгармония в нормальной жизни людей, проявление их уродливой психики и морали.
Тогда почему же сегодня внимание зрителя так усердно концентрируется на патологических явлениях жизни, почему так увлечённо эксплуатируются материалы неистощимой судебной хроники, жутких уголовных историй, кровавых разборок, почему так массированно в сознание наше вдалбливается культ кулака, денег и вещей, негодяйские кодексы бытия, убогие пещерные идеалы: набивай живот снедью послаще, а жильё — шмотками подороже?
Почему приключения терминаторов, шлюх, воров и садистов заняли на экране и на страницах вредных, по точному определению авторов Открытого письма, книг главное место, напрочь оттеснив тех, кто честным трудом и умом кормит и славит страну, укрепляя дух и стойкость общества?
Вопросы эти я задаю прежде всего нашим правителям, которые едва ли не каждый день говорят и пишут об усилении борьбы с терроризмом, преступностью и коррупцией, а в правительстве подсчитывают, сколько миллиардов нужно дополнительно для укрепления подразделений МВД и ФСБ.
Но есть простые, бесплатные способы укрощения преступности, уважаемые господа президент и премьер-министр России. Для начала обуздайте телевизионного монстра, этого безнаказанного носителя зла, донельзя обнаглевшего кинопирата нашего времени, перенацельте его на добротворчество. Или буши, клинтоны, соросы, березовские не позволят?
С этими вопросами я обращаюсь и к Вам, Михаил Ефимович, хотя вряд ли Вы станете отвечать на них, поскольку не согласны с вопиющими реалиями нашей рыночной яви и называете провокацией против конституционных свобод граждан России даже попытку обозначить эту ужасную явь.
К слову, немножко об этой свободе, которой вместе с Вами кичатся ваши гайдары и чубайсы. А вот мой коллега, писатель Леонид Бородин, бывший политзаключённый, в недавнем интервью заявил, что если бы ему знать, какой вред, "какую свободу" принесут народу перестройка и реформы, то он не стал бы поддерживать демократию, которая вызволила его из тюрьмы: "Если бы лично от меня зависело, досиживать свой срок, либо чтобы вот это всё было, я бы лучше досидел". То есть не спешил бы из тюрьмы на такую свободу, какую "завоевали" нам демократы.
В народе же об этой зряшной, импотентно-имитационной свободе давно уж и не молвят, лишь гневливо сплёвывают при очередном маститом словоблудии "демократов". Подобно Вашему, Михаил Ефимович, фарисейскому интервью.
(обратно)САХАРОВ КАК ЗЕРКАЛО СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ...
В редакцию пришла статья без подписи. Она нас заинтересовала. Кто не согласен, спорьте.
РЕДАКЦИЯ
Ньютон говорил, что он видит далеко, потому что стоит на плечах гигантов. Историки до сих пор спорят, было ли это признанием заслуг предшественников или тонкой издёвкой над своим предшественником Робертом Гуком. Отец советской водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров ничего подобного не утверждал.
Впервые широкая публика могла зреть его визуально в обличии актёра Николая Бурляева. Появившись на экране в фильме Храбровицкого "Укрощение огня", Сахаров с пол-оборота завёлся на политические темы. А между прочим, на заре туманной юности никаким политиком он не был, да и юность его была вовсе не туманной. Родившись в семье профессора Московского университета, прекрасного физика-методиста Дмитрия Сахарова with a silver spoon in mouth, Андрей Дмитриевич никак не мог избежать карьеры выдающегося учёного. Время было такое, пропитанное научной харизмой.
Его сверстник, а позже друг-соперник Александр Солженицын для разгона тоже подался на физико-математический факультет Ростовского университета. Во всём, конечно, виноват был Ленин. Написав туманную, в немецком стиле книгу "Материализм и эмпириокритицизм", он положил начало новой дисциплине, которую можно назвать "политической физикой". Обнаруженная Лениным связь неисчерпаемости электрона с классовой борьбой и неизбежной победой пролетариата надолго смутила неокрепшие души будущих могильщиков пролетарского государства.
Юношеская любовь с новой силой проснулась в зрелые годы. Добившись впечатляющих успехов в науке и литературе, Сахаров и Солженицын ринулись в горнило борьбы за свободу угнетённого народа. Но, как и их предшественники, Герцен и Аксаков, они по-разному чертили вектор исторического процесса. Конвергенция с Западом по Сахарову — и православная самостийность, бросившая Солженицына на борьбу с жидомасонами.
В конце концов их пути снова сошлись в полном несоответствии действительности и представления о ней. Солженицын поступился художественным даром ради просветительства в пустоте, усилия Сахарова завершились конвергенцией на нижнем потребительском растительном уровне, попросту говоря, гибелью той части общества, чьим выразителем он был — советской интеллигенции.
Политический взлёт Сахарова начался в 1968 году резкой критикой советского руководства за вторжение в Чехословакию. Взлёт был стремительным и ярким оттого, что по гамбургскому счёту именно благодаря ему, яростному оппоненту, партийно-государственная верхушка обладала неслыханной мощью и властью во всемирном масштабе.
Шли годы. Дружными и согласованными усилиями западные либералы и отечественные партократы взметнули популярность трижды героя на недосягаемую высоту, и в конце 1980-х настал его звёздный час.
Нет никакого сомнения, что, доживи Сахаров до выборов президента СССР, песенка Горбачёва была бы спета на полтора года раньше, и сам Андрей Дмитриевич мог занять высший пост. Остаётся только гадать, куда повернул бы штурвал истории новый капитан: распался бы Союз, затопили бы "Мир" вместе с великой наукой и атомоходом "Курск", или эксцессы смягчились, и здравый смысл не испарился бы из умов элиты, пришедшей во власть под сахаровскими знамёнами. Однако факт остаётся фактом: кровь полилась рекой, танки палили по русским людям в центре Москвы, а сама элита превратилась в банду мародёров.
Парадокс истории в том, что политические взгляды человека, всю жизнь занимавшегося точными науками, были невнятными и наивными. Новая Конституция была написана для государства, населённого яйцеголовыми гражданами, а идея слияния социализма и капитализма казалась калькой с грандиозного прожекта скрещивания ужа с ежом.
Сумятицей в уме учёного не преминули воспользоваться истинные политические зубры, объединившиеся вокруг Юрия Афанасьева и Гавриила Попова. Эта парочка, столь сильно нагадившая в новейшей отечественной истории, смахивала на бессмертных героев "Золотого ключика" — кота Базилио и лису Алису, только мутировавших в огне чернобыльской радиации. Здоровый кот, историк-архивариус, и приземистая лиса с ужимками греческого менялы. В первый же день злополучного съезда они принялись впаривать демократию, сработанную на Малой Арнаутской, а попросту охмурять раззяву-интеллигента, прилипшего к ненаглядному ящику.
И впарили, и охмурили. Бог с ним, с образованным лохом, но в их сети попался и крёстный отец правозащитников. Наш Буратино, заворожённый сказками прохиндеев от либерализма, закопал на Поле Чудес с вывеской "Межрегиональная депутатская группа" свои золотые сольди — народный авторитет учёного-ядерщика и русскую народную жалость к кандальному звону. Потом их выкопал Карабас-Барабас, перелив монеты в колокола власти.
Разве не мог не понимать человек с переразвитым аналитическим мышлением, чего стоят посулы историографа, обвинявшего во всех бедах коммунистического режима Петра Великого, и экономиста, чьи наукообразные планы перестройки неминуемо вели к неслыханному обогащению бюрократической мафии? Разве не ясно было уже в 1989-м, чем закончится передел собственности в стране, для которой само понятие собственности означало нечто другое, нежели ответственность и свобода? Ещё далеко было до прозрения Максимова, позже вынесшего приговор себе и друзьям-идеалистам: метили в коммунизм, а попали в Россию, но как мог ошибиться в выборе баллистической траектории учёный и инженер, академик бомбометания? Ответь, Россия! В ответ — молчание…
В декабре 1989 года, как раз после бурных дискуссий на заседании межрегионалов, Сахаров скоропостижно скончался. Смерть общественного политика неизбежно содержит знаковый смысл. С ним уходит парадигма, которую покойный носил в политическом портфеле, и растерянное общество, осиротевшее без поводыря, идёт за подаянием к наследникам.
Парадигма Сахарова заключалась в необходимости распада империи ради сохранения великой культуры, рождённой из имперского чрева. Последним имперским деянием, предпринятым стареющим руководством Союза, стал ввод советских войск в Афганистан. С выводом же ограниченного контингента империя де-факто прекратила своё существование. Вклад Сахарова в распад "империи зла", наследовавшей российской, был огромен. С культурой дело обстояло сложнее. Сейчас ясно, что эрозия интеллектуального гумуса поразила не только злосчастную Россию. Мировой процесс обесценивания умственных способностей раскрутился настолько, что немногие могикане, ещё способные критически мыслить, ставят вопрос о деградации человека, о крутом падении с винтовой лестницы эволюции, построенной Дарвином. Знал ли Сахаров, что, бросая обвинения в адрес армии, он бросает камень в хрупкую организацию общества, называемую культурой, или, если хотите, цивилизацией. Должен был бы знать, ведь армия — неотъемлемая часть культуры общества. Или он страдал каким-то врождённым косоглазием, мешающим ориентироваться в жизненном пространстве. Может, дефект зрения был вовсе не врождённым, а благоприобретённым. Сахаров стал смотреть на мир сквозь очки, оброненные птенцами ИФЛИ: Павлом Коганом, Михаилом Кульчицким, Всеволодом Багрицким… Но времена изменились, и романтика интернационализма уступила место прагматизму выживания.
К Сахарову, как, может, ни к кому другому, приложимы слова Чаадаева о том, что русский человек рождён, чтобы дать миру какой-то непонятный урок. Сражаясь с номенклатурой, он, вольно или невольно, откупорил бутылку с нечистой силой. Радениями за благо общества была вымощена дорога Ельцину.
Возможно, что при Сахарове не дорвался бы до власти президент-экзекутор, ставший позором русского народа. Однако дело не в сослагательном наклонении. Сахаров как зеркало советской интеллигенции отразил весь её сложный и трагический путь вплоть до краха, смывшего устои, на которых интеллигенция и стояла: сомнение, истина, честность.
Сахаров пока последний из когорты личностей, обладавших даром непосредственного воздействия на умы и души современников. Не той харизмой, что превращает народ в стадо носорогов, а той отдачей ружейного выстрела, что будоражит ум и душу, заставляет человека стать активнее в поисках самоуважения. В России перед ним был Высоцкий. Во всём мире сегодня таких людей нет. Кроме Билла Гейтса и Михаэля Шумахера, на память никто не приходит. То ли с памятью плохо, то ли человечество обезлюдело.
Сахарова забыли. Диссиденты и физики вымерли, банкирам и коммерсантам он не нужен, патриоты считают его предателем Родины вроде генерала Власова, о котором лучше и не вспоминать. Но если России суждено выжить, то непременно найдётся чудак, который задаст наивный вопрос — а что, собственно, стало бы со страной, если бы не было Сахарова, с водородной бомбой в кармане семенящего к трибуне Кремлёвского Дворца Съездов?
(обратно)Лариса Баранова-Гонченко ОНИ — СВОБОДНЫ!
Было бы неправдоподобно утверждать, что каждое очередное совещание молодых отмечено появлением неповторимых литературных имён. Это слишком большая удача, слишком большая и редкая награда в нашей работе. Да и совещания задумываются не только во имя уникальных открытий. Для чего же тогда?
Наверное, в первую очередь для того, чтобы открыть дыхание очередному литературному поколению. Дать возможность почувствовать среду. Себя в среде. Снять провинциальное напряжение. В онтологическом содержании кругозора указать на антологические ценности. И так далее, и тому подобное…
В работе Общероссийского декабрьского совещания молодых 2001 года было много ярких фрагментов. Пока только фрагментов, но это нормально — цельное полотно и складывается из фрагментов. К тому же время, нам сопутствующее, отмечено, как известно, именно отрицательной энергией дробления целого — цельного.
Устоять перед временем, сохранить голос, характер, веру (и Веру) — качества неожиданные для молодых, особенно провинциальных литераторов. Устроители этого отрицательного времени надеялись, что литература будет в лучшем случае выживать, а она — живёт. В нищете и свободе.
Свобода поражает больше всего. Если раньше на совещаниях больше читали и спорили — теперь преимущественно поют написанное. Как будто на дворе не 15-й год всё сметающей перестройки, а Вечная Пасха. Работают. Голодают. Рожают детей. Пишут стихи. С достоинством несут свой крест. И поют.
Ну, раз поют — значит, свободны. Это знамение нового литературного времени России. Иногда поют лучше, чем пишут. Впрочем, судите сами. А по мне — пусть поют во славу Божию и русского слова.
P.S. Предлагаемая подборка стихов и прозы в стихах по разным, и в частности по техническим, причинам не может представить всю творческую панораму СОВЕЩАНИЯ, но образ времени в ней отчётлив и выразителен.
(обратно)Екатерина Круглова ЖИЗНЕОПИСАНИЯ
Не на море-окияне, не на острове Буяне, а на Канинской земле старобытной, где мороз узорной стужею выткан, родила меня метель белолица, снеговая полуночная игрица.
В самом начале времён было мне семь с половиной дён, а когда стал-пошёл свет — стукнуло ровно семь лет. Отец да мать ни на что не годились, потому как ещё не родились.
Так и жила — отца-мати ждала. Шила пимы, малицы на живую нитку, наедалась впроголодь да на верхосытку. Чай пила такой густой, что Москву на дне видала. Три версты бегут к вокзалу — надоело жить тоской.
— Эх! Па-а-еду в Ма-а-скву разга-а-нять та-а-ску!..
Проводить меня хотело северно сияние, но составу в Воркуте вышло опоздание. Сиянье-то как выкатится да как рассияется, словно речка по небу бежит, камни самоцветны сторожит-перекатывает, берегов не знает, всполохом играет. Раза три взыграло да истаяло, в небе тё-ё-мном север я оставила!.. Ой ли, вдоль да поперёк сёмга плавала, а Печора подо льдом текла-плакала…
В Москве — золотые верха, кругом дорогие меха. Гляжу с поезда — ступить боязно!
Тут к окошку подлетают две печорских куропатки: до Москвы за мной летели целых восемь дней недели.
— Вы чего-эт не на месте?
— Принесли благие вести: матушка с батюшкой темь проклюнули, на свет выбираются, а бабушки-дедушки от них отпираются: "Мы девицы — не замужем, мы холосты — неженаты, откуля у нас таки робяты?" Токмо прадед-кузнец, тыщелетний молодец, от робят не отпирался — ещё не помер и думать не собирался.
— Ну, слава Богу, есть подмога…
Народу в Москве, как во лугах дёрну, — шагну в толпу да ногу отдёрну. Пашут омули сохой, хариусы плугом, от бедовости такой головёнка кругом. Головёнка кругом, а кругом столица, хоть рыдай да плачь, хоть до неба скачь — лица, лица, лица…
Вот оно — обличье столичное! Но, как мудро говорится, не гляди на лицо, гляди на обычай. А как обычай узнать, если столько обличий?
Иду с краю, в толпу не ступаю. Шагаю — не знаю, куда приткнуться, лествицы всюду под землю гнутся. Кому довериться, кого спросить? Бреду, как медведь-шатун: встречный с личика яичко, а в серёдке вдруг болтун.
Откуда ни возьмись — вывеска, длиной от волны до глыби, кажная буква в радужной зыби. Кажная буква круглей блина — я грамоте знаю, достигну дна! Стою-читаю от обеда до ужина, коль написано — понять, значит, нужно.
Как сбежало семь потов, прошмыгнуло семь котов — прочитала: "Ас-пи-ран-ту-ра".
Ядрёно-мудрёно, наукой варёно, практикой выварено, нам подойдёт!
Стучу.
— Учиться хочу!
А в те времена в учение книжное отроков да зрелых людей отлавливали: на улицах, дворах останавливали, батогами пужали, за книги сажали.
— Эт-та что за дубы печёные? — удивились мужи учёные. Рукописями замахали, заахали. — Пример отрокам добрай! — заакали.
Усадили за "Прещение вкратце о лености и нерадении всякому бываемому во учении". Как я эту книгу одолела, за горою муха околела. Муха-те была уже не летальная, с комаром скрещёна — экспериментальная!
Выдали диплом кандидата наук, избавив от розог и всяческих мук. На службу лечу, студентов учу. Поморяне скажут: "Речь московска, походка господска…" Ну, думаю, настала мне воля. А воля-те пуще неволи.
Иду-плачу. Навстречу — гора не гора, глыба не глыба, сам Цыба. Он гулял-гулял за Москвой-рекой, взял да выгулял на бульвар Тверской.
— Чего, красна девица, слёзы точишь? Пошто водой жгучею щёки мочишь? Слеза, она как прольётся — так в пыль и воткнётся, а дело-то не шелохнётся…
Заронила язык поначалу — первый раз я поэта стречала. Тут остатна слеза покатилась, да, подумав, назад воротилась. Был страх велик да съёжился, да вовсе изжился, разговор корёжился, да гладко полился:
— Выслушай, батюшко, не гневись! Сердца окошечко, отворись! Много лет меня учили уму-разуму, а сердечко тяготеет к слову красному. К слову звонкому, живому да прозрачному, игровому, зоревому, многозначному…
Взвалил на плечи и мою печу — сгрёб в охапку да сунул за пазуху. А там у него девчат да ребят видимо-невидимо!
А Цыба то жаром обдаст, то водой обольёт, приговаривает:
— Привыкайте, мои дети,
Ко студёной ко воде,
Ко студёной ко воде,
Ко шелковой плёточке…
Плачем-маемся, сочиняем-стараемся. А он по одному перепекает, из-за пазухи вытаскивает и в мир бросает.
Вот и меня вытряхнул. Чему мог — научил…
(обратно)“И МЫСЛИ, И ПОСТУПКИ НАШИ ЧИСТЫ...” (Малеевка-2001)
АЛЕКСАНДР ПАРИЕВ
В ДЕРЕВНЕ ТИМОШИНО
В буйной краске цвета лета
Ивы виснут над водою.
Зов коровы слышен где-то
Возле фермы под горою.
Лай собак и запах сена,
Сладкий воздух для гуляки,
Вскружат голову мгновенно
На лугах хмельные злаки.
Мотоцикл мужик заводит —
Матерится невозможно.
А хозяйка скоро родит —
Ходит очень осторожно.
Поспешают к городищу
Деревенские Джульетты.
Мать с отцом девчонку ищут,
А её украло лето.
Канет день, и подостынет,
Успокоясь, суетуха.
И заботливо обнимет
Деревеньку — ночь-старуха.
СЕСТРЁНКЕ
Ты выжила, моя сестрёнка,
И снова говоришь мне: "Брат", —
Меняя мокрые пелёнки.
Я был пелёнкам мокрым рад.
Иконка под твоей подушкой
И мёртвый тягостный покой.
Ты показалась мне старушкой
С костлявой маленькой рукой.
Смерть отошла без урожая,
Ей энергетика, как нож.
Ты снова видишь краски мая,
На кухне чай из чашки пьёшь.
Благодарю судьбу и Бога,
И маму сильную мою,
Что у родимого порога
Я вижу всех, кого люблю!
* * *
Кончаются белые ночи
И мир поглотит темнота.
По небу искать станут очи,
Где эта звезда, а где — та.
Гигантский ковёр ярких точек —
Ромашек вселенских полей.
Мерцает далёкий цветочек
В космической клумбе своей.
Уходят прозрачные тени.
Устали. Пора отдохнуть.
Распахнуты звёздные сени,
И тьма начинает свой путь.
Кончаются белые ночи
Беззвучно у всех на виду.
Пришёл поднебесный рабочий
Упрятать деревья в саду.
СЕРГЕЙ РЯБЕЕВ
ЗВЁЗДЫ КРЕМЛЯ
Звёзды Кремля
Велик ваш размер,
Его потрясают размеры.
За вами читается СССР,
Державы массивные стены.
Красен ваш цвет.
Рубины горят
Едва на главе белостенной.
Мраком стеснённый, ваш звёздный ряд
Ляжет в просторах вселенной.
ТЫ. Я
Ты — светоч красоты.
Ты — идеал мечты.
Ты — гений чистоты.
Лишь ты и только ты.
Я — сердце из огня.
Я — тень немого дня.
Я — преданность твоя.
Лишь я и только я.
МАРИНА СОБОЛЕВА
ВЕЧНАЯ ПЕСЕНКА
Мой любимый приходил,
Кренделями потчевал.
В рощу пышную манил
Да из дома отчего.
Говорил, что там трава
Ласковая, пряная,
Говорил, что буду я
С ним от счастья пьяная.
Только матушка моя
Не велела слушаться.
Не того монастыря,
Я, мол, есть послушница.
Что же делать, как же быть?
Смотрят с неба хитрые
Звёзды — всякому светить
Вовсе не обидно им.
А луна — как пирожок,
Кренделёчек маковый.
Подарил бы ты, дружок,
Лучше перстень матовый.
Лучше замуж позови,
А не в рощу ластиться.
Жизнь со мною проживи —
Будет чем похвастаться…
Мой любимый не пришёл,
Кренделем не потчевал.
Видно, тропку не нашёл
В хмеле луга сочного…
МАЙСКИЙ ДОЖДЬ
Дождь звенит об асфальт медью.
Кружит голову дух мая.
Упоённый цветной снедью,
Дышит город, влагу глотая.
Тополя кружева носят,
От дождинок глаза прячут.
Все сначала дождя просят,
А потом от дождя плачут,
Обижаясь, зонтом колют.
Ну а я так дождю рада!
Жизнь корить, право, не стоит,
В жизни много ли нам надо?
Чуть тепла и чуть-чуть блеска,
Да добра и живой силы,
И чтоб губы не рвать леской,
И чтоб болью не рвать жилы.
Дождь стучит в барабан лужиц,
Тарабаня свою песню,
Так смешаем же блеск улиц
С этой радостью — жить! — вместе…
ВИКТОР ПЕТРОВ
МАТЬ ЧИНГИСХАНА
Оэлун, мир твой юн и упрям,
Что ты знала, снимая рубашку,
Покоряясь алтайским царям
И впрягаясь в любую упряжку?
Лишь одно на уме у мужчин —
Красотою твоей насладиться.
Но настанет твой час — Темучжин
На высокую славу родится.
Обнажённое сердце вперёд
Улетает на многие годы,
Ты измученный болью живот
Утишаешь полынью и мёдом.
И полна твоя грудь молока,
И умелые руки проворны,
И запомнят тебя на века
Ту, которою вскормлены вороны.
Оэлун, заалеет Алтай
Красотою твоей несказанно.
Сына-первенца воспитай,
Нет Вселенной без Чингисхана.
ЛУНА
Тянет петь на волне океана
Говорящую издревле плоть.
Каждой истине полуобмана
Содрогается в сердце Господь.
Стороной своей ясной и яркой
До последних невидимых пут
Прохожу триумфальною аркой,
Где молчанием золота лгут.
Никогда, ни единым намёком
Не откроешь, любимая, мне —
Сколько тьмы, сколько правды жестокой
На обратной твоей стороне.
* * *
По московскому тракту иду,
По следам казаков-горемык.
Не свою ли ищу я беду,
Хоть ещё от чужой не отвык?
Знать, была ваша жизнь не сладка,
Коль свела в комариный закут.
Словно струнные струги Садка,
Ваши вольные песни поют.
Проникают и в душу, и в ум,
В каждый чум, в свежесрубленный дом,
И вздыхает суровый Кучум,
Своей страшной судьбою влеком.
Да не Русью надвинут был мрак,
Что истёк от ордынских времён.
Не ярмо, но пшеницу Ермак
Даровал многоречью племён.
Этот старый казацкий приём —
Добираться ползком до врага —
Пробуждается в сердце моём,
Пробирает мои берега.
И уже я станичник донской,
Что ушёл в эту Пегую тьму,
И плыву я сибирской рекой
К дому новому моему.
На чулымский песок выхожу.
Говорят, что в верховьях реки
Есть ещё погружённые в жуть,
Несговорчивые старики.
В их глазах золотая тоска,
В туесах письмена праотцов.
И сидит в облаках табака
Горстка высохших мудрецов.
К ним моя потянулась рука —
В никуда уже, в никогда.
Осыпаются берега,
Льётся огненная вода.
БЫЛИНА
Как ты справишься с Мором, родина?
Под Калиновым под мостом
Протекает речка Смородина
С отражённым в воде крестом.
Одолень-травой перевитые
Затаили меня берега,
И, калёной враждой побитые,
Словно витязи, спят стога.
Спала лень, стало утро ясное
Предвещать нехороший день,
Покатилося солнце красное
И окрасило кровью плетень.
Задрожала земля, заохала,
Прогремело со всех сторон.
Хорошо затаился, плохо ли —
Всё достанет живой огонь.
Разбужу ли стальной рукавицею
Задремавших братьев в дому?
Уж слетает змеиной птицею
Змей Горыныч в дневную тьму.
Выхожу из засады медленно,
На червлёном щите петух,
И стегаю я плёткой медною
Эту русскую птицу Рух.
Звон стоит до последнего идола,
Разгорается честный бой,
Ты такого ещё не видывал?
Не сражался такой с тобой?..
Как у речки у той Смородины,
Де бревенчатый древний мост.
Солнце красное моей Родины
Поднимается в полный рост.
ДМИТРИЙ КОРО
* * *
Сгорела яичница
три острова превратились в уголь
вместе с круглым океаном
Как хочется любить эту жизнь
хочется любить эту жизнь
любить эту жизнь
эту жизнь
жизнь
ь
* * *
Можно я буду бояться?
Себя
в маленькой рамке своего рождения
Всех вас
в опоках названий ваших эпох
Этот страх так легко переходит
границу самосознания
Можно я буду бояться
* * *
Не превращай фабулу в фетиш
надоест
Не пей света из выстрела
распухнут гланды
Не прячь желание в радуге
потребуется миноискатель
Не облокачивайся глазами на небо
уснёшь навсегда
Не-не-не-не…
* * *
О Женщина
существо другого сорта
неизмятая страница поэзии
дарующая целомудрие ночи
и распутство дня
Заполнить её строкою
и она родит шедевр
* * *
Дорога шириною в детство
и
я
стесняющийся земного притяжения
Мой первый полёт
в этих шагах
вприпрыжку
Томск
ДМИТРИЙ ТВЕРДЫЙ
КИТОВАЯ БАНКА
Заходящий в двери
Выходит в трубу
Он летит над землёю
Поёт свою песню
Два мира — два образа
Слава труду
Двум китам в одной банке
Всегда будет тесно
Запрягайте. Дальний путь.
Пыль. Дорогу не согнуть.
Млечный Дом над головой
Твой — Мой
Месяц март — рубеж весны
Снятся никакие сны
Даже если всё путём
Есть стрём
Перепуган и забыт
Весь песок дождями смыт
Всё забавно, как кино
В окно
Залетают облака
Их ударом молотка
Обращают в сладкий блин
Един
Крик совы. Шумит тростник.
Воин головой поник
Лук стрелы потерял
Устал
Стрём зароется в песок
Загустел полночный сок
Время выгнулось дугой
Другой.
Заходящий в двери
Выходит в трубу
Он летит над землёю
Поёт свою песню
Два мира — два образа
Слава труду
Двум китам в одной банке
Всегда будет тесно
ДЕНЬГИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ
Это личное дело начальника снов
Здравствуй, подлец, сегодня ты победил
Я остался во власти последних оков
Но солнце пока крокодил не проглотил
Тени забытых предков молчат у костра
Они не хотят говорить, если наш разум спит
Древняя сталь холодна и как бритва остра
Съеден зверями в Африке Айболит
Старый волшебник из пальца высосал смех
Он низко упал и больше не встанет с колен
В двери стучится древний и страшный грех
Смеётся, как всегда, старик Гуинплен
Симферополь
НАДЕЖДА ПАПОРКОВА
* * *
Прекрасна в тихой нежности земля
И золото берёз, и зелень сосен…
Наверное, ты любишь так же осень,
Как, милый друг, тебя любила я.
Но синь небес покрылась тяжкой мглой
И дождь уныло размывает краски…
Как поздно я увидела без маски
И осени лицо, и образ твой.
* * *
Не повторяй вчерашних песен,
В них счастья нет и боли нет.
Но как-то горестно чудесен
Опавших листьев тихий свет.
Когда ты счастлив, мне не больно.
Я даже слов твоих не жду.
Не жду. Печаль моя безвольна,
Как листья в стареньком саду.
* * *
Отцвели созвездия сиренью,
Под окном уснули фонари.
Что ж ты бродишь трепетною тенью,
Зыбкой тенью стынущей зари?
Иль тебе дарил мгновенье это
Безутешно-пламенный закат?
Или звёзды пристальней рассвета
Сквозь туманы сизые глядят?
Только он, печальнейший, о горе
С лёгкостью вседневной говорит.
Лишь сжигают небо эти зори,
И оно когда-нибудь сгорит.
ВЕСНА
Снегов небесных полумгла
И тихий свет земных проталин…
И чей-то взгляд ещё печален,
Но чья-то боль уже тепла.
На ближней станции одни
Мгновенья прошлого прекрасны,
И, ослепительно напрасны,
За ними вслед проходят дни.
И всё, не сказанное мной,
Так близко сердцу и так зримо.
И поезда проходят мимо,
Не оспоримы тишиной…
Рыбинск
Борис СЕМЁНОВ
СВИДАНИЕ С БОГОМ
Неожиданный холод идёт от окна,
Мы не знали, что думать о нём.
Так кому-то хотелось немного вина!
Потолок целовался огнём.
За дорогой горели дома и, конечно,
Их тушили холодной водой.
Я как был, так остался, наверное, грешным.
Грешный — значит, всегда молодой.
Было тёмное небо. Сугробы без снега
Закрывали собою порог…
Здесь когда-то, немного уставший от бега,
На ступеньке посиживал Бог.
Здесь красавицы тихо следы заметали,
А бомжи справляли нужду.
Эти странные стены от краски устали
В одиноко ушедшем году.
Нами поняты были дорог начертанья
И забыта пустая молва.
Мир томится в нелепом войны ожиданье…
Всё — любовь. Остальное — слова.
* * *
Эх, сегодня в степи денёк!
Конь дрожит, удирая от стрел,
Ночью не разведёшь огонёк,
Страх берёт — лишь бы враг не успел.
Кровь кудахчет в Яик-реке,
Не догнать казачкам меня.
Я один, да с мечтой налегке,
Да и ночь стоит, как броня.
Степняков я вязал полки,
Я держался за Волгой день,
Но забыли про то казаки,
Навели сами тень на плетень.
Был я в дальних краях рождён,
Убаюкан дыханьем птиц,
Знал добычи дикой закон,
Но не помнил родных ресниц.
Я — не трус, но в руках моих
Не дано уж мечу гулять.
Легче нынче даётся стих,
Легче нынче любовь понять,
Легче петь и плясать огню,
Чем его разжигать в сердцах,
Легче злобу рвать на корню,
Чем рубить теремок с крыльца.
Эх, сегодня в степи денёк!
Кровь кудахчет в Яик-реке.
Ночью не разведёшь огонёк,
Я один, да с мечтой налегке.
ХУННУ
Воины-гунны, множьте ряды!
Вами потеряны вены-следы,
Радостный остров удалой Европы
Вашим быльём не зарос.
Узкие очи, приведшие смену
Тысячам кельтских крестов,
Вы лишь забыты и брошены в пену
Ярких загадочных снов.
Эти другие остались, разжились,
Могут теперь и без вас.
Острым мечом вы до смерти трудились —
Вот этот меч и погас.
И не придёте по млечному тракту,
Пылью полнеба покрыв.
Вас вырезали, как катаракту,
Словно гниющий нарыв.
Кони не здесь и не помнят героев,
Волки забыли Луну,
Тени собрались и траурным строем
Снова идут на войну.
Черкесск
(обратно)Наталья Макеева СТРАННЫЕ ЛЮДИ
ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ ПАТРИАРХА
I
В один из тех странных дней, когда осень затихает в предчувствии первого снега, он в кои-то веки вышел на улицу — посмотреть, как живет народ, эта аморфная масса, в чьей воле и силах в любой момент поднять кровавый бунт. И снова гордо понести вперед знамя свободы с его портретом в красно-черных тонах. Снова скандировать его имя, превращаясь под гусеницами танков в вопящее месиво. Он сновал суетливой лисицей по злачным местам боевой юности, пил и вникал в жизнь мира, давно ставшего для него чужеродной экзотикой — забавной, но далекой. "Эй, а ты похож на Самого!" — сказал ему подвыпивший мужчина в одной из многочисленных дешевых забегаловок. "Да, так уж мне не повезло", — ответил Правитель и растворился в гогочущей толпе своих отдыхающих подданных. Просто еще один человек, зашедший пропустить кружку-другую перед тем, как заявиться домой — в маленький ад с криками, битьем посуды и скрежетом зубовным, еще один посетитель этой огромной душной комнаты, где, кажется, все пропиталось кислым запахом несвежей еды и дешевого пива. "Снег-то когда пойдет?" — спросил его кто-то.
"Когда надо, тогда и пойдет..."
II
Тихим осенним днем, замершим в ожидании наступления белого безмолвья, она шла по улице, погруженная в свои мысли, подобно предсмертно сонным рыбам медленно плавающие в мозгу, не трогая, не будоража... Лишь случайные образы — мимолетные, блеклые — изредка всплывали из глубин подсознания, тут же растворяясь в нерешимых проблемах плавно текущего времени. "Прошла любовь, завяли помидоры", — да, кажется ей, именно так в свое время называли ее все эти глупые дети из соседнего квартала, уже много лет бегающие за ней, обзывающие обидными словами, наталкивающие на нехорошие мысли. Помидоры завяли — вялые стебли мертвенно висят. Эти вонючие плети еще предстоит собрать в дырявое ведро, пахнущее бесплодной землей и гнилыми яблоками. Собрать, отнести на помойку, а потом долго отмывать руки от этого въедливого запаха душистым мылом, которое мать бережет в дальнем углу шкафа. Мыть осторожно, ведь если она заметит, то ударит тряпкой. Будет обидно. Эта обида, затаенная в осени, пройдет через всю долгую зиму с ее навязчивыми праздниками и просочится в весну, затаившись в червоточинах злопамятных зрачков. А запах все равно не исчезнет.
III
Правитель брел мимо закоченевших зарослей высоких цветов с еще сохранившимися желтыми соцветиями, давно превращенными дождями в бесформенную паклю, склизко распадающуюся в руках при первом же прикосновении. Раздражение жизнью давно достигло предела, накопившись в нем досадной миной, ждущей своего часа в сухом охрипшем горле. Вдруг Правитель заметил существо, медленно бредущее вдоль ряда серых заборов, мимо все того же исполинского сухостоя. Это была девушка, чей внешний вид выдавал уроженку одного из тех районов, о которых мэр и министры предпочитают не говорить. Были ли родней ее родители — этого сказать никто не смог бы, но многие поколения, выросшие в прогнивших старых домах, дали о себе знать, наградив ее серой печатью вырождения. Hо в ней было нечто необычное для Правителя, привыкшего к роскошным женщинам, которых специально отбирали для него, которые были счастливы побыть рядом с ним хотя бы несколько минут. Hет, она не была красива. Большинство мужчин сочли бы, что она невыносимо уродлива. Hо его тянуло к ней, как тянуло в свое время в самый мрак городских трущоб.
"Эй!" — окликнул ее Правитель. Девушка обернулась и дождалась, пока он не подойдет. Создавалось впечатление, что она ничего не боялась в своем мире. Hе пугал ее и этот неизвестный мужчина, так внезапно возникший на пустынной осенней дороге. Она молчала, еще не до конца покинувшая сферу, где живут ее долгие мысли. "Малыш, пошли ко мне в гости…" — "Помидоры…" — автоматически произнесла она. "У тебя будет много! Сколько захочешь!" — "Собирать..." — "В моей теплице ты сможешь их собирать! Круглый год, изо дня в день!"
Правитель протянул к ней руки, рванулся вперед, успев сгрести девушку огромными пухлыми руками. Странные для этих мест сила и гордость проснулись в ней... Она вырвалась, наградив Правителя царапиной, алевшей теперь на щеке обидной отметиной, и с нечленораздельными криками умчалась, скрывшись в одном из черневших неподалеку домов.
Правитель достал телефон. "Да. Да все со мной нормально. Да. Ты излови тут суку одну и мне приведи. Hе, она тебе не понравится. Hо потом можешь побаловаться. Где? В пяти кварталах от мэрии раньше пруд был, знаешь? Да... Там еще сарай, там она и засела... Родители? Да что хочешь, то и делай. Мать? Hе думаю, что красивая... Да..." Он не успел договорить. С диким воплем существо, теперь еще менее похожее на человека, прыгнуло ему на спину и вцепилось в глаза. Грязные пальцы проникли глубоко, и через какое-то время Правитель затих. Тем временем пошел первый снег, и его кровь смешивалась с тонкими струйками талой воды, огибала пальцы, сведенные истерикой, и капала в сероватое месиво заброшенной дороги. Голос озверевшего существа разносился недалеко, гасимый крупными хлопьями, решившими лечь надолго.
IV
Когда приехала охрана Правителя, она так и сидела — воя на трупе, не вынув пальцы из развороченных глазниц. Снег, полностью покрывший ее длинные волосы, шел стеной, быстро укрыв все следы — крови почти не было видно... Только тело почему-то не становилось белым и нелепо серело нарочито недорогим пиджаком среди наступившей наконец зимы. Охрана стреляла практически наугад, прекрасно понимая, что Правителю уже все равно. Вой стих, и девушка упала усталой ветошью рядом с серой массой былого величия республики. Hе важно, что пишут газеты. Охрана стояла — каждый на своем месте, не решаясь подойти и поверить в то, что прогулка Правителя по городу теперь закончена. Снег покрывал тела, дорогу, головы застывших зрителей, словно ставя немую сцену безумного спектакля.
Шел снег... Да, тогда шел снег...
САХАРНЫЕ ГОЛОВЫ
Рабочие без стыда и совести удивляли жильцов дыхом невообразимого перегара и превосходным знанием русского языка. Громко топая сапогами, они вспугнули двух сношающихся представителей "поколения next". В подвал сгружали тяжелые мешки оптовой сладости. Коренастый Хозяин торопил. Смеркалось. "Сынки, мне мешочек, не продадите ли", — спросила старушка с первого этажа. "Не суетись, бабуля, всем достанется”, — ответил Хозяин и, посмеиваясь, добавил. — "Почти что даром отдам". Пенсионерка обрадовалась и радостно засеменила на оптовку. Там как раз продавали с машины дешевое мыло. В голове ее снуло плавали мысли о мыльном запахе, о больших пыльных коробках, банках варенья, о пирогах и крепком чае с сахаром, об огромном тазе с вареньем, с которого она аккуратно снимет пену. Даже слеза проронилась... Вроде продавец симпатичный, не должен обмануть. Бабушка думала о сахарной голове — восхитительной, безразмерной… Нет, она не надеялась обнаружить это чудо в мешке из грубой ткани — сахарная голова должна появиться сама — вдруг из некого загадочного пространства, из прошлого, где всего мало и очень голодно, но есть сахарная голова — как Бог или символ грядущих райских кущ. Хозяин хороший, он продаст... Не все, знать, демократы разворовали. Нет, не зря она голосовала за Ельцина. Хотя тогда Зюганов ей больше нравился, да вот соседка подсказала, что на лице-то у него — нехороший знак, не к добру такое, не нужен нам президент с шаром на переносице. Хотя при коммунистах неплохо было. Но сейчас — жизнь идет и слава Богу. От добра добра не ищут.
Сахарная голова... Все существо старой женщины спонтанно устремилось в те сферы, откуда являет себя сей предмет. Чуть не попала под машину. "Дурья башка!" — прокричал полноватый водила. Какой же он идиот... Забрела в чужой двор — пустой, словно его покинуло что-то... или кто-то... Редкие листья, одиноко носимые в запредельной пыли. Скрип качелей, кошачий визг. И снова тепло и тихо. Постепенно случайные мысли обволокли старушку вязкой паутиной усталости. Настал поздний вечер, а она все спала, пришла ночь, с улицы убрались не в меру развитые подростки — а она все спала в коконе сладких мыслей, обрывков памяти и шороха листьев. Ее разбудил холод. Что-то нехорошее висело в воздухе — больное, досадное, грязное и одновременно — странное и потому притягивающее к себе мысли, слова, взгляд. Поохав в пустоту спящего города, старушка побрела домой. Как же так оплошала-то... Видать, совсем плохая стала, раз на улице заснула. Дай-то Бог, если не простыла. Народ сейчас шальной, могли ведь и убить или что еще сделать, ведь обидят старуху, как будто так и надо... Нет, все же при коммунистах лучше было.
Так она приближалась. Тяжелый утренний воздух придавливал ее к земле, она замедляла шаг, тяжело дышала и снова шла вперед в тумане... Молоко, кисельные берега, сахарные головы... Они плыли где-то в своем сладком измерении, плыли, чтобы влиться в эту реку и понестись дальше. Не дойдя до дома, старушка вдруг увидела, как дом вздрогнул в немой судороге и стал погибать, растянув свою смерть во времени. Само время пошло не так. Звук пришел как будто позже, когда старушечьи глаза уже вросли в конгломерат, мгновенно вернувший материю обратно в первозданный хаос. И тут нутро пыльного скрежета распахнулось и оттуда вылетела, сверкая всем своим великолепием, ОНА. Да, это была сама настоящая сахарная голова. Она была прекрасна. Упав к ногам старухи, голова что-то простонала, как будто еще храня связь со своим сладким миром, и затихла, источая странный свет. Впереди горел огонь, металась пыль, выли тени и носились люди, пытавшиеся спастись от сахарных голов. Глупые, разве так трудно понять, что это невозможно...
Старуха пошла прочь. Даже не пошла — мир сам стал двигаться назад, отдаляться, сливаться со случайными бликами в перламутровом свете. А следом летели головы, самые обыкновенные сахарные головы.
Они пели.
СТРАННЫЕ ЛЮДИ
Сторож Проктор Брудовский боялся Странных людей. Он никогда их не видел, никогда даже не слышал об их злодеяниях. Жизнь его была тиха и размеренна, словно мутный ручей, она текла так неторопливо, что в минуты тяжкого похмелья Проктор спрашивал сам себя: "Да разве ж это жизнь?" И только страх, иррациональный страх, который невозможно понять и изжить, говорил ему: "Ты жив, еще как жив, но это поправимо!" Сидя в своей крошечной будке, он изо дня в день вглядывался в лица прохожих в поисках того самого Странного Человека.
"Главное быть начеку! Главное не пропустить! Ведь как оно бывает — расслабишься — а он, подлец, тут как тут. Хвать тебя, тепленького, — и обухом по голове! Вот на той неделе голову в водохранилище нашли. В сумке она лежала, как кочан капусты. Не к добру это, эх не к добру... Доберутся и до меня, старика. Ведь молодежь что — ей не до этого, ей бы все ногами дрыгать. Совсем распустились! А Странные люди здесь, да я знаю, тут они — только и ждут, когда напасть. Но я-то начеку, потом спасибо скажете. А кому спасибо? Прошке спасибо, Прошке-дураку! Смейтесь, смейтесь, пока кровавые слезы не полились из глаз из бестыжих!" Так размышлял старый сторож, спрятавшись за грязной занавеской. Иногда ему казалось, что вот он, враг, но в последний момент чутье подсказывало ему, что Странный Человек пока таится, ворочается в своей тайной берлоге, вынашивая во сне зловещие и непостижимые замыслы. В этом была суть странного человека — он был непостижим. Его мысли были тайной за семью печатями, его поступки — абсурдным бредом. Его суть — кошмаром, непостижимым и враждебным.
По ночам сторож Брудовский метался по постели, падал на пол, кричал, просыпался в холодном поту. Во сне его преследовали лица — бледные лица, на которых чернели хитрозловредные щелочки глаз. Лица летали вокруг него и говорили, говорили... Бормотали непонятные слова, опутывали заклинаниями, а потом принимались душить Проктора невидимыми щупальцами. Он просыпался, выпивал из горла пару глотков водочки, и, обливаясь потом, бормотал до утра: "Не-ет, не возьмете... не возьмете..." И когда немного светлело, бежал на работу — к заветному окошку, мимо которого сновали толпы людей, мимо которого в любой момент мог пройти Странный Человек. Сжимая старенькое ружье, Проктор готовил себя к последнему бою, неизбежному и ужасному.
Дни сменяли друг друга, окошко то покрывалось крупными каплями дождя, то изморозью и снегом, то тополиный пух вдруг прилипал и мешал обозревать простор. Проктор уже начинал думать, что пропустил злыдня и теперь Странный Человек сам наблюдает за ним, идет по пятам, слушает его ночные крики, расставив по дому маленькие приборчики. Проктор верил, что враг должен был пройти мимо его окошка, даже взглянуть ему в глаза...
Все вышло совсем не так, как предполагал Брудовский. Как-то раз он возвращался домой, как всегда, слегка нетрезвый, почему-то совсем не думая о столь привычных кошмарах и странностях. В подъезде он увидел молодого человека, вид которого был жалок — явно, что принял чего-то не того и теперь безуспешно пытался выяснить, в каком же мире ему лучше живется. "Эх ты, что ж ты так!" — сказал Проктор и покачал беззубой головой. "Да я вообще странный чувак", — ответил юноша. Тут перед сторожем пронеслась вся его жизнь, весь его страх. Он понял, что час пробил. Проктор накинулся на Странного Человека и повис у него на шее в попытке задушить.
В течение нескольких минут соседи не решались выйти посмотреть, что же происходит. Все это время молодой человек избивал внезапного агрессора — сперва сбросил с шеи, хорошенько стукнув о стену, а потом стал топтать тяжелыми сапогами, превращая несостоявшегося героя в кровавое месиво. Когда наконец прибыл отряд милиции, все было кончено. Стены подъезды были забрызганы кровью, а сам убийца стоял, созерцая, с непониманием взирая на дело своих рук и ног, повторяя "странно... странно...". Соседи, услышав это, вспомнили россказни покойного и поняли, насколько же он был прав.
Юнца того, конечно, посадили и теперь принудительно лечат от наркомании. Но не век же ему сидеть! И жильцы того дома с ужасом изо дня в день вглядываются в лица прохожих, думая о Странном Человеке, который рано или поздно вернется, надев кованые сапоги, сжав окрепшие кулаки, смежив черные щелочки глаз.
(обратно)Юрий Зыков СТАЛИНГРАДСКИЙ СИНДРОМ
СТАЛИНГРАДСКИЙ СИНДРОМ
Сталинградская ночь длинна и мучительна, словно кошмар зародыша в материнской утробе. Тополя стоят вдоль дороги, монументальные ночные фаллосы. Луна, глаз Кришны, выглядывает из-за края ультрамаринового облака. Безумие разлито в воздухе. Вдыхаю его полной грудью. Давай, детка, зажги мой огонь. Смех в темноте. Река течет, река знает. Fuck it!
Hасекомые кружат и кружат вокруг ночных фонарей. Бесконечный танец, танец смерти. Метель. Сельский доктор едет по заснеженной степи. Это Сталинград. Это смерть.
Сalling, Elvis.
Я иду по ночному отелю, шлепая босыми ногами по холодным мраморным плитам. Я наблюдаю свое отражение в зеркальных плитах потолка. Я думаю о Боге, о Смерти и о Принцессе. Там, в далеком Ривендейле, она танцует на цветущих, залитых ярким солнечным светом полянах. Легкая и стремительная, словно порыв ветра над Hевой, она сбегает вниз по широкой мраморной лестнице, ее светлые волосы струятся в воздухе и смех замирает под облаками.
— Я — ненормальная, — говорит она, глядя мне в глаза. Что же, в твоем возрасте все ненормальные. Почему так грустно, почему сжимается сердце? Чайки кричат над площадью, город засыпает. Hочной жаворонок, Тинувиэль эльфийских легенд, я ведь тоже ненормален.
Окно спальни медленно открывается. Слышен шум хитиновых лап, царапающих бетон. И вот Она влезает на подоконник. Огромная самка саранчи. Она смотрит на меня внимательными и удивленными глазами. Потом глаза закрываются. Hет, это сон. Это всего-навсего длинный и толстый корешок какого-то растения, весь покрытый узловатыми утолщениями. Болиголов. Беру его в руку, ощущаю терпкий запах. Свежеразрытая могила, церковный ладан, пот девушки. Хайре Рама Хайре Кришна. Hаташка стонет в соседней комнате, ее крик напоминает мне о белых птицах, сидящих на гранитном парапете у свинцовой реки.
В комнате с белым потолком, с правом на надежду.
— А филателисты женятся? — спрашивает она, закрыв левый глаз. Почему? От удовольствия. У меня контактные линзы. Hу и зря. Она танцует, танцует на ходу, Отель Калифорния, эта музыка преследует меня. Малевич сошел с ума. Город засыпает. Hочь, звезды кричат над крепостью, метро закрывается, Маринка улыбается, Оксанка улыбается, кто там еще. Ты отказала мне два раза не хочу сказала ты вот такая ты зараза девушка моей мечты.
— Принцесса?
Плыть по ночной реке, по лунной дорожке. Hет ничего. Только здесь и сейчас. Ее глаза — они были совсем близко. Почему я ничего не сказал тогда?
Это Сталинград.
— Здесь невозможно жить, — говорит Капитан, — здесь земля пропитана кровью. Белая собака стоит у дороги. Холодная дрожь ужаса пробегает по моей спине, когда я вижу ее человеческие глаза. Это мой Сталинград. Я — профессиональный филателист, я коллекционирую марки. Это прикольно. Это весело. Это невыразимо грустно. Когда-нибудь я открою свой толстый альбом для марок в последний раз. Что же, Принцесса, это так: мы умираем, вы живете вечно. Ты все еще смеешься?
— Hет, у нас нет вина, — говорит Капитан, — здесь с тысяча девятьсот шестьдесят девятого года пьют только водку. Что же, пусть будет водка. Hе хмурься, Принцесса, я же говорил тебе, что это Сталинград. У вас, в Ривендейле, разве не пьют водку? Джин-тоник? Баккарди? Кампучино? Кьянти? Кампари? Текилу? Hет?
Во имя Отца. И Сына. И Святого Духа.
Hет, Принцесса, филателисты не женятся. Теперь уже не женятся. Шутка.
Болиголов высок и прян, цветением хмельным струится, а Лучиэнь в тиши ночной, светла, как утренний туман, под звуки лютни золотой в чудесном танце серебрится. В чудесном танце серебрится.
Корень болиголова, дар Царицы Саранчи, я ношу его в ладанке на груди. Я храню его для тебя, Принцесса. Отель Калифорния, отель Сталинград. Помнишь? Смеется. Помнишь? Смеется. Помнишь? Смеется.
Она живет на улице Любви. Люси в бриллиантовых небесах. Потанцуем? Потанцуем. Сталинградская дискотека, сталинградский синдром, сталинградский ЛСД.
Под звуки лютни золотой. Принцесса, как ты думаешь, это финиш? Как там у вас поется... Hаи эльо хирава. Hамариэ.
Hамариэ. Прощай, Сталинград. Я уезжаю в Копенгаген. В конце концов, как это ни странно, даже там есть кто-то, кто ждет меня.
Я уезжаю. Лето кончилось. Все изменилось.
Принцесса! Я ничего не помню.
СВИДАНИЕ В HОРТИНГЕНЕ
Аннабел Лу, госпожа моя, танцующая в потоках солнечного света. Майский дождь на улицах Hортингена и твоя легкая походка. Счастье видеть тебя.
— Ты знаешь, — она улыбается — о, эта улыбка, эти серые глаза, — ты знаешь, — говорит она мне у старой крепостной стены, у рва, заросшего полынью и бурьяном, — ты знаешь, — говорит она...
Я ничего не знаю, я просто смотрю на нее.
Аннабел Лу. Хочу взять ее за руку. Она знает об этом. Смех. Быстрый взгляд. Опять смех. Почему же так грустно?
— Ты знаешь, — говорит она мне, слегка касаясь рукой моей груди, — сегодня я поняла, что у майского дождя вкус шиповника.
Смеется. Почему так сжимается сердце? Я улыбаюсь. Я счастлив.
Вечер приходит в Hортинген. Скоро эта девушка уйдет, я снова останусь один, один в чужом городе. Смеется, лукаво глядя на меня. Смеюсь в ответ. Я весел. Мне больно. Я ничего не знаю.
— Все ты знаешь, — говорит она, шутливо толкая меня в плечо, все ты прекрасно знаешь.
Майский дождь на улицах Hортингена, на улицах, хранящих воспоминания о ее легкой походке. Да, она ходила по этим улицам.
Аннабел Лу. Я смотрю в ее глаза.
Тоска. Безысходность. Я улыбаюсь. Она пристально смотрит на меня и отводит взгляд. Опять смеется. Смотрит еще раз. Снова отводит глаза. Смех звенит над рекой. Я хочу ее поцеловать. Она знает это. Смех звенит над черной водой. Hад черной водой.
Глаза. Смех. Слезинка в уголке глаза.
— Hе грусти, — говорит она, глядя на опускающееся за холмы солнце, — ты сделал свой выбор, теперь терпи, мой рыцарь.
Смеюсь в ответ. Я терплю. Девушка смотрит на меня. Эти глаза, они сводят меня с ума. Я терплю, о госпожа моя.
— Hелегко тебе, мой рыцарь, — говорит Аннабел Лу, серьезно наморщив лоб, — я знаю, — ее смех звенит над старыми надгробиями, — я знаю, мой рыцарь, нелегко любить мертвую, но ты сделал свой выбор.
Я сделал свой выбор, Аннабел Лу, это мое место — старое кладбище у крепостной стены. Солнце садится, пора уходить. Целую холодные губы, они слегка приоткрываются. Девушка смеется. Мне грустно.
— Прощай, мой рыцарь, — говорит Аннабел Лу. Майский дождь шумит в кустах шиповника, теплый ветер трогает мои волосы. Смех доносится откуда-то издалека, словно из-под земли. Я один, опять один.
Вкус шиповника. Сердце сжимается от боли. Я уже тоскую о ней.
Hикого. Лишь неясные очертания надгробий в сгущающемся сумраке, лишь смутное воспоминание о приоткрытых мягких губах.
Вкус юности. Вкус смерти.
Потрескавшаяся могильная плита передо мной. Провожу ладонью по шершавому граниту. Плита теплая, теплая. В воздухе пахнет майским дождем.
Аннабел Лу.
Hочь приходит в Hортинген. Меня ждет долгая дорога, я возвращаюсь в место, которое по привычке до сих пор называю домом.
БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА
Трактирщик плакал. Слезы текли по толстым красным щекам, капали на стойку и в стакан, в который из запыленной бутыли черной тягучей струей лилось старое иллурийское вино.
— Эсгард осиротел, мессер, — сдавленным голосом проговорил трактирщик, протягивая мне стакан. — Она умерла сегодня. Умерла перед рассветом.
Кто умер? Я внимательно посмотрел на трактирщика, и предчувствие беды зашевелилось в груди. — Кто умер, о ком ты говоришь, почтеннейший?
— Белая обезьяна умерла, — выговорил трактирщик и отвернулся.
Похоронный звон плыл над городом. Я шел по печальным улицам, кутаясь в свой дырявый плащ пилигрима. Встречные отводили глаза — в них была тоска. Женщины плакали. Мужчины сжимали кулаки — боль застыла в покрасневших глазах. Я шел к Площади Утренней Зари — вместе с безмолвными горожанами. Ремесленники, торговцы, школяры, солдаты — все спешили к Храму Ветра.
Hа Улице Роз я остановился в нерешительности. Двухэтажный домик в глубине переулка — там жила девушка по имени Элеонора, белокурая семнадцатилетняя девушка, моя горькая радость и светлая печаль. Я помедлил секунду, потом быстро свернул в переулок. Я думал о белой обезьяне.
Элеонора встретила меня в саду — она срезала красные тюльпаны. Слезы текли по ее щекам — она уже знала.
— Привет, — стараясь говорить как можно более естественно и непринужденно, поздоровался я. Мы были друзьями, всего лишь друзьями... Призрак мертвой белой обезьяны вырос среди вишневых деревьев за спиной девушки. Предательская дрожь в голосе выдала меня — и Элеонора разрыдалась.
— Она умерла, белая обезьяна умерла, как же мы будем теперь жить? — повторяла девушка сквозь слезы.
— Я люблю тебя, Элеонора, — прошептал я, заглянув в прекрасные серые глаза девушки. И увидел там лишь тоску и мертвую белую обезьяну.
— Пойдем туда, пойдем к ней, — проговорила Элеонора. Она смотрела на меня в упор — но не видела меня. Она думала о белой обезьяне. Я осторожно взял девушку под руку, и мы направились к Храму Ветра. Белый призрак шел вслед за нами.
Толпа, безмолвная скорбящая толпа, собралась перед Храмом. Сдавленные рыдания слышались в толпе. Люди чего-то ждали, на что-то надеялись... Hа что можно было надеяться, ведь белая обезьяна покинула нас.
Я прижимал Элеонору к своей груди, защищая от напора толпы. Белая обезьяна — мертвая белая обезьяна — стояла рядом, положив лапу мне на плечо. И я не мог думать о любимой — лишь об этой смертельной тяжести, пригибающей меня к земле.
Девушка немного успокоилась, она перестала плакать. Hо тоска в ее серых глазах отзывалась ноющей болью в моем сердце. Элеонора смотрела через мое плечо — и я понял, что она тоже видит зловещий призрак.
— Говорят, — прошептала мне на ухо Элеонора, — говорят, она совсем не страдала. Просто заснула и уже не проснулась. Когда утром ее нашли... она улыбалась, улыбалась...
Белая обезьяна кивнула нам и улыбнулась. О боги, о Единый, откуда эта невыразимая тоска, это тягостное томление в груди? Почему, почему она умерла — она не должна была умирать, она не должна была уходить от нас — белая обезьяна Эсгарда.
— Говорят, что Магистрат заседает с раннего утра, — раздался чей-то тихий голос откуда-то снизу. Я наклонил голову: разноцветный колпак с бубенчиками, пестрое трико, горб на спине — Йорвик, старый дворцовый шут, стоял рядом с нами. Он тихо плакал.
— Магистрат обсуждает церемонию похорон белой обезьяны, — продолжал шут, он переводил печальный взгляд то на меня, то на девушку, то куда-то в пространство... Вероятно, он тоже видел стоящую рядом белую обезьяну.
— Обсуждается также положение в Эсгарде, — тихо продолжал шут, — за сегодняшнее утро уже более трехсот горожан наложили на себя руки, не вынеся тяжести потери. Советник Этельберт — в их числе...
— Говорят, — прошептала Элеонора совсем тихо, — говорят, что караван уже ушел сквозь пустынные степи в полуденные королевства за Великой Рекой. Говорят, они привезут в Эсгард новую белую обезьяну...
Hовая белая обезьяна. Я невольно горько усмехнулся этой наивной мысли. Hовая белая обезьяна? Разве может разбитое вдребезги зеркало опять стать целым? Разве может унесенный ветром кленовый листок вернуться назад на ветку? Разве может уплывший по Реке Смерти в царство подземных Лордов вернуться к солнечному свету?
Белая обезьяна печально кивала за моей спиной. О белая обезьяна, зачем ты ушла, зачем ты покинула Эсгард? Мы скорбим о тебе.
Белая обезьяна, мертвая белая обезьяна — мираж нашего сумеречного сознания, порождение наших самых болезненных грез — ты стоишь за нашей спиной, о мертвая белая обезьяна. Зловещий кошмар нашего утомленного разума, ты улыбаешься и приветливо киваешь нам. Мы всю жизнь шли вслед за тобой — теперь мы не знаем, что делать. Будь ты проклята, мертвая белая обезьяна.
— Пойдем отсюда, — тихо сказал я Элеоноре. Та вопросительно посмотрела на меня.
— Пойдем, любовь моя, — повторил я, — я знаю, что нужно делать.
— Я вижу, ты кое-что понял, — проговорила мертвая белая обезьяна за моей спиной. Я вздрогнул и оглянулся — призрак исчез, лишь старый шут Йорвик стоял рядом.
— Я вижу, ты кое-что понял, — проговорил он голосом белой обезьяны, — ну что же, идите, я немного провожу вас.
Мы прошли сквозь молчащую толпу и вышли к городским воротам. Они были распахнуты настежь. Дали Иллурии синели за Старым Мостом. Мы шли по мосту, глядя в черную воду внизу. Внезапно шут тихо засмеялся. Мы с Элеонорой удивленно посмотрели на него.
— Идите, — смеясь проговорил шут, указывая рукой куда-то вдаль, — уходите прочь отсюда. Ойкумена велика, вы везде найдете себе место — в лесных чащобах зеленого Илливайнена, на равнинах древнего Олденхейма, среди туманных фьордов Hортингена — вы везде сможете жить. Идите, а я еще посмеюсь немного здесь, в старом Эсгарде.
(обратно)Василий Нестеренко ПРОЗРАЧНАЯ ГРАНИЦА
***
Я видел Господа и до сих пор — живой.
Создатель — тоже уцелел. Знобило:
сам Вседержитель встал передо мной
фаллоподобным сверхгигантским змием.
Он вынырнул из круга — фиолет.
Он выгнулся вопросом мне в ответ.
Чтоб неповадно Бога брать за бороду,
змей, пасть раскрыв, схватил меня за голову,
как травку окунув в тот странный цвет.
***
Я Истину просил у Бога Самого
и был готов ради Нее погибнуть.
Достал тогда я, видимо, Его.
И думал, что попал в палату пыток.
Но Он встряхнул меня и вещество
во вскрытый череп влил мне, и до ниток
я этой алостью навек теперь пропитан.
И фиолетовый кружок над головой
таскаю точно пробку над бутылью
(где бродит Истина, играючи со мной)
и Винодел следит, чтобы не вылил
бодягу, из которой состоит
предсмертный хрип бойца и смех ребенка.
Ты видел Господа? Я, кажется, Им сыт.
Тебе налить? Ты подойди к бочонку:
на дне в вине там отразишься ты.
К истокам, забываясь и скорбя, —
мы ищем то, чего в нас слишком много.
Я видел, как талиб сжигал себя,
во имя Бога убивая Бога.
***
Когда Земля спираль прочертит смертную,
скажу: СОЗДАТЕЛЬ ЖИВ, в себя уверовав,
и в этот мир сто сотый раз воскреснув.
Пойму, что мы едины, но не вместе;
рой камикадзе, мчащихся во мглу.
Уже над стадом изогнулся кнут —
Но старый Бог опять слагает песни.
***
Выхожу один я на дорогу…
М.Л.
Отпусти меня, Господи, с миром.
Что еще осознать я не смог?
Растерявши друзей и кумиров,
я и Богом в Тебе пренебрег.
Не умея ползти на коленях,
я к Тебе залетал на рысях.
Мой Создатель мне выделил денег
так, чтоб не засиделся в гостях.
Ты и слово мне выделил, Боже.
Лучше б Ты мне его не давал.
Ты словами забрызгал мне рожу
так, чтоб я их всю жизнь отдирал.
Бог мой странный, стою на пороге.
Этот мир называя игрой,
кто я? часть Твоя, влезшая в боги?
Развлекаешь Себя Сам Собой?
И почесываясь (что снится?),
Ты ладошкой сметаешь миры.
Тяжелее Твоей десницы,
Боже, только Твои дары.
Ты талант подарил зачем мне?
Что мне делать с таким добром?
В 25 я пахал бы землю,
в 50 — и себя — облом.
Что я понял, себя калеча,
прорываясь к Тебе на свет?
Что душа — обреченно вечна,
а для смерти — мы сами смерть?
Отпусти меня вон с порога
за туманами и звездой.
Выхожу на дорогу. С Богом?
Я — один. Стало быть — с Тобой.
Керчь
(обратно)Сергей Сибирцев ”ЧЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ” (Реальный брэнд)
"…сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути по законам, до сих пор не объясненным".
Кн. В.Одоевский
— Во времена нашего незабвенного детства самой любимой игрой всегда была война. И тебе наконец-то выпало счастье не понарошку в войнушке пожить. Пойми, как в страшной настоящей войне. А такие неудобства, как незнакомая местность, сплошная темнота, наоборот, могут оказаться не случайными… Не случайными, ежели сумеешь остаться живым. А это уж как повезет. Повезет твоему ангелу-хранителю. Смекаешь, Володимер, о чем я талдычу?
— То есть ты, любезный родственник, полагаешь, что я могу превратиться в настоящий труп на твоей настоящей сумасшедшей войнушке?
— Опять ты не хочешь меня понять, Володечка. Войны нужны для человека. В тупой мирной повседневности людишки деградируют. Человека нельзя лишать его божественного права на агрессию, пойми ты эту простейшую аксиому. Я не маньяк-одиночка, я обыкновенный, но полезный механизм в нашей апокалиптической действительности. Я же тебе толковал про клапан… А ты: "сумасшедшая затея"! Эти древние затеи выдумал не я. Пойми, я не претендую на лавры первооткрывателя. Милый мой, ты полистай наши славянские летописи. Загляни же, наконец, в Библию. Помусоль ветхозаветные апокрифы. Там, именно там все наши тщедушные желания и помыслы. Все наши человеческие традиции и пороки. Все мы вышли из этих древних священных, сакральных и очень, заметь, житейских текстов…
…Чтобы выжить (для чего и зачем, этот нудный вопрос давно уже лично для меня, второстепенен) в этой глупой, или, как вскользь заметил мой любезный родственник, маразматической действительности, нужно принять мерзкие правила игры этой чрезвычайно живучей нынешней действительности.
Нужно на полном серьезе считать себя (если уж нет умения или сил душевных слиться с нею, с действительностью, превратившись в полноценного, полноправного, правоверного идиота) нормально-сумасшедшим индивидуумом. По крайней мере попытаться убедить себя, что на роль этого типичного затрапезного персонажа у тебя достанет лицедейских способностей…
Что же собой представляла эта живая нехорошая действительность?
В моем данном случае абсолютно ничего.
То есть в данные злополучные мгновения я существовал в полнейшей непроглядности.
Меня поселили жить в чернушной мгле.
Эта вязкая липучая ядовитая мгла была насыщена (даже перенасыщена) ароматами дурно ухоженной человеческой плоти.
Я купался в этих потовых испражнениях.
Я барахтался, точно ослепленный щенок в мазутном дерьме, пока окончательно не погрузился весь, по макушку.
Я утонул в невыразимо жирных чувственно чужеродных прилипчивых кожных эфирах.
Я продолжал жить в чужой вспухшей шкуре призрачного утопленника…
Мои разжиженные мозги несли мне оперативную информацию, вложенную в них хозяином этой мерзкой, ртутно-подвижной, трупной мглы: где-то буквально рядом ползают, передвигаются, крадутся человеческие существа — подданные-людишки этого сумасшедшего мини-самодержца, вооруженные добротными столярными инструментами, которые будут применены совсем по иному назначению…
Мои информированные мозги со всей своей всегдашней трезвостью полагали, что на ангела-хранителя полагайся, но и сам не плошай.
Мои бедные мозги думали, что живой утопленник, которому они напоминают об опасности, скажет им большое мерси и прочие благодарственные эпитеты…
Во мне же, в глубине моего тщедушного я, что-то сомлело…
Я совершенно не отзывался, не реагировал на вполне очевидные смертоубийственные угрозы, исходящие из любой точки этой задышанной приговоренной тьмы, замершей в трупном ожидании…
Мое невидимое истомленное подлыми предчувствиями тело жаждало определенности. Пускай эта пошлая определенность наступит в момент протыкания его сапожной пикой "профессиональной интеллигентной гладиаторши", проникновения топора или режущих заусениц ножовки…
Лишь бы скорее вся эта идейная мерзостная "войнушка" добралась, дотащилась к своему мертвецкому финалу, скорее же!
Моя голая задница располагалась всеми своими не выдающимися выпуклостями прямо на полу, который своей прохладой и затертостью очень напоминал обыкновенный линолеум.
Ну правильно, с такого покрытия лучше всего смывается свежая кровь, свеженьких мертвецов…
Хорошо, хоть не кафель, а то какая-нибудь идиотская остуда непременно бы прилипла, влезла куда-нибудь в нежные мочевые емкости или ранимые простаты…
Ну и где же вы, госпожа убивица, пенсионерка и ударница мертвецких дел? Шелохнитесь же, объявите о своем погибельном присутствии… Поширяйте казенным бандитским жалом-шилом…
Госпожа гладиаторша чего-то медлила. Видимо, сортировала своим профессиональным пожилым обонянием старые и совсем новейшие ароматы и миазмы…
Я вроде пока держался и никаких медвежьих слабостей не допускал из своей унылой утробы…
Меня глодали два одинаковых по своей силе чувства: смертная скука и острая предсмертная любознательность…
Причем эти два толкающихся, мешающих друг другу мрачноватых субъекта норовили занять господствующую, так сказать, высоту…
И кому из них отдать предпочтение, я не знал до самой последней секунды, с которой и началась так называемая локальная смертоубийственная межусобица завсегдатаев этого чудовищно чудесного черного Эдема…
Звук гонга обрушился на мои трепетно замершие барабанные перепонки в самое неподходящее время для моей фаталистически пристывшей голой задницы…
Я вдруг вздумал оторвать прохладившиеся подуставшие ягодицы от линолеумного насеста… И тут грянул гонг!
Ощущение было не из комфортных: в центре головы точно стодецибельный камертон лопнул…
Ну, милый дядя Володя, теперь держись! Совсем скоро тебя примутся пилить по живому мясу, а еще непременно воткнут куда-нибудь в глазницу штатный инструментарий, этакое стило…
После звона взорвавшегося гонга-камертона я, похоже, на какое-то непродолжительное время погрузился в обыкновенную полебойную контузию.
"Надежда и Отчаяние" и остальные одиннадцать пар противоположностей напрочь оставили мою душу, не сказавши, когда же их, сволочей, ждать…
Как выяснилось (через нескончаемое мгновение) отошли эти средневековые братцы-володетели Психомахии ненадолго, позволив себе совершенно пустяшный перекур — не более десяти минут. А может и целый академический час, черт их разберет в этой бестолочной тьме…
Раскорячившись на полусогнутых нижних конечностях, я выставил перед собою вытянутые треморные длани — пошарил, помял ладонями вазелиновую черноту пространства, затем развел их в стороны, надеясь уткнуться в какую-нибудь ютящуюся закланную жертву, — вокруг меня, если доверять моим плавающим слегка озябшим и взмокшим перстам, существовала порядочная пустота…
И раздражающая непереносимая неблагодатная тишина, бьющая по нервам похлеще благозвучно гавкнувшего гонга…
Ощущение заживо погребенного — совершенно до этих черных минут мне неведомое — все более и более усугублялось…
Оставалось одно: выдать свое месторасположение, выбросив через горло ненадуманные матерные приветствия-проклятия этому забавному предмогильному траурному полигону…
Впрочем, очень хотелось завалиться в какой-нибудь спасительно чудодейственный старорежимный дамский… faint. Так сказать, сделать финт-фейнт…
Но такие идиотические мечтания не сбываются по собственному желанию; они, подлые, случаются сами, без предуведомления, почти исподтишка, блюдя воровскую, так сказать, традицию…
— Ну, господа убивцы! Я жду вас! Вот он я, ваша трепетная жертва! Втыкайте что нужно и куда нужно… Пилите, в конце концов! Я ваш!
В ответ на мою дамскую мольбу…
Вместо порядочного молниеносного удара судьбы — профессионального тычка шилом — мои уши еще более заложило от непорочно обморочной дешевой тиши…
Я обнаружил, что мои ноги-невидимки уже выбрали какой-то шустрый маршрут, — меня вольно несло на неведомые, невидимые и, вероятно, жуткие преграды…
Я полагал, что вот-вот упрусь лбом или костяшками ног въеду в какую-нибудь капитальную кирпичную перемычку-переборку…
Я изо всех своих поношенных психических сил надеялся на…
Разумеется, на самый благоприятный для моего бренного тела исход. Мое тело блефовало самым простодушным образом.
Мое тело желало жить и поэтому жаждало порядочного справедливого великодушного исхода Распри — Согласия…
И я дождался социалистической справедливости в отношении своей фаталистически (мисопонически) прикорнувшей натуры.
Я не почувствовал никакого изменения в своем паникующем, обильно спрыснутом мертвящими духами организме…
Спустя пару мгновений, после неуловимого, почти безболезненного кольчатого ощущения в районе пупочной брюшины, я вдруг сообразил, что меня наконец-то продырявили нежным сапожным инструментарием — шилом, прошедшим, по всей невидимости, лазерную заточку…
Вернее, меня не проткнули, меня на какие-то доли секунды нанизали на некую неощутимую струну-спицу… И почти тотчас же сбросили, смахнули с ее тончайше стильного жала-тела.
Причем продырявили (или продырявила все-таки) до такой степени шустро, что мое обоняние не успело среагировать подобающим образом и не перебросило моим самооборонительным силам оперативную информацию, дабы те привели бы себя в готовность, какую-никакую…
Потолкавшись пальцами у волосистого пупка, я едва нащупал просочившуюся сукровицу, которую сперва обследовал на аромат, затем, не побрезговал, — и на вкус… Все сходилось — на влажные подрагивающие подушечки нацедилась моя ценная животворная жидкость, изойдя которой, я более…
А поелозив свободной рукой по спине, в районе левой здоровой почки обнаружил ту же кровянистую натечь…
Невидимая интеллигентная бабуська продернула через меня, громогласного губошлепа, свое смертоубийственное приспособление, точно я всю жизнь мечтал быть аккуратно пропоротым и вздетым в виде ценного жужжащего жука в этом трупно-черном гербарии…
— Мадам! Вы чудесно освоились на этих войнушках… Вы, бабуля, молодчина… Так ловко приколоть, когда ни зги не видать… Полагаю, санитаров здесь не полагается…
В ответ изо всех черных углов этого боевого самодеятельного полигона на меня наверняка безнадежно затаращились рассредоточенные безмолвные жертвы и палачи, среди которых и моя интеллигентная с пенсионерской биографией мадам-палачка…
Собственно, после экзекуции протыкания полагалась бы следующая стадия — отпиливание какой-нибудь неудачливой неосторожной конечности, скорее всего верхней, в особенности правой, которой я все норовил сцапать кого-нибудь или что-нибудь в этой предупредительно тишайшей пустоши…
— Сударь, — я это к вам, голубчик, который нынче с пилой двуручной жертву приискивает. Я к вашим услугам! Пилите, если уж так приспичило… Бог вам в помощь…
Нехорошо, дядя Володя, всуе Создателя поминать в сем адском урочище… Не зачтется сия бравада твоей грешной душе. Не зачтется…
А в сущности, какая теперь мне разница — от искусного прободения, которое свершили с моим глупым телом, все равно долго не протянуть, внутреннее невосстановимое и неостановимое ничем кровотечение, гнуснее поражения не бывает, если верить медицинским талмудам…
Но надеждам моим куражливым на встречу с убивцем-пильщиком суждено было не оправдаться, потому как вместо второго вооруженного гладиатора, которого сулил мне мой доморощенный самодержец-родственник, по ходу безумного спектакля был введен совсем иной, более жутковатый персонаж, которого я давно знал — и ведал о нем, кажется, все…
Это оказался…
Это оказалась моя разлюбезная…
Свою бывшую суженую я угадаю в любой столичной толчее. Угадаю благодаря натренированному многолетней осадой обонятельному аппарату, который помимо моих волевых команд в любое время суток обреченно отрапортует: в пределах досягаемости рукой находится любимый объект…
Специфическую ароматическую ауру моей бывшей возлюбленной супруги я не спутаю ни с какой другой. И не то что она, аура, тошнотворно забивает все остальные присутствующие запахи, отнюдь — вполне цивилизованно одуряющий дамский синтетический парфюм-букет, который собирался ею столько лет,— и наконец, собранный, окончательно подвиг меня на дезертирство из любовно обустроенного семейного гнездовища…
И минуло всего-то года полтора с моего джентльменского самоустранения с брачного поля боя, в сущности, не прекращавшегося во все предыдущие ударные пятилетки качественного семейного жития, — и вот нате вам, встретились на нейтральной, чудовищно благоухающей, непроглядной территории… Территории сумасшедшего мизантропа и впридачу родственника.
— Голубушка, а тебя сюда кто зазвал?! Чего тебе-то здесь надобно, Лидунчик?
— Не хами так громко! Вот отпилят твой подлый язык. Не пришьешь обратно.
Этот родной (до отвращения) сварливый голос вроде как вернул меня к этой мистификаторской действительности, в которой по какому-то чудесному стечению мы так чудно пересеклись…
Странно, а почему Лидуня не трусит и запросто выражается вслух? Почему не боится засветиться голосом? Она что, не ждет нападения? Или вооруженные подданные рабы (а моя бывшая стерва, стало быть, — рабыня) по устному вердикту самопального диктатора освобождаются от страха смерти…
— Лидунь, а меня уже весьма изящно ранили… И ранение, уверяю тебя, совершенно не опасное. От подобной контузии умирают через сутки. Целых двадцать четыре непроглядных часа! Ежели только ваша милость не отпилит мне какую-нибудь важную самоходную деталь…
Не знаю почему, но вместо родственных плаксивых приветствий меня потянуло на дешевое гусарское красноречие. Хотя вместо красивых псевдородственных речей остро захотелось совершенно иного — захотелось обыкновенного человеческого соучастия. Вернее, именно женского. Именно…
Захотелось обыкновенного старозабытого, стародавнего фамильярного ерошения моей подзапущенной, давно не мытой шевелюры…
— Надо же! Точно на час отлучился! Мне твой солдатский юмор… Я его просто слушать не могу. И не желаю! Я свободная женщина! Что ты ко мне лезешь?
— Я к тебе лезу?! Ни хрена себе заявочка! Я к ней, видите ли, лезу…Вы забываетесь, сударыня. Это вот вы ко мне прилезли зачем-то! Впрочем, пардон! Какой же я балда! Вы, сударыня, — охотник, а я, так сказать, загадан на вертел, на общепещерский шашлычок-с… Очень, доложу вам, изящная затейка. Вполне в духе вашей новейшей гуманитарной морали. Полагаю, Лидунь, ты до сих пор вице-координатор благотворительного Фонда "Отечественные милосердники"…
— Не твое, Володечка, собачье дело, кто я сейчас. Твое дело — остаться живым в этой войне. И не полагайся, пожалуйста, на мою жалость. Я совсем не та женщина, которую ты, подонок, бросил. Оставил с сыном, которому в эти годы нужен… Ну что от подонка и эгоиста ждать? И ты, мелкая сволочь, мою мораль не тронь. Ты сперва придумай свою. А на мою нечего зариться!
Откуда-то чуть ли не сверху ронялись звуки женского неудовлетворенного жизнью голоса. Голоса отнюдь не ответственного работника скромно-помпезного полугосударственного учреждения, в иерархии которого моя бывшая половина занимала черт знает какой начальственный, сверхвысоко оплачиваемый пост…
Нынешний голос принадлежал какой-то мстительной нецивилизованной фурии, вознамерившейся содеять какую-то милосердную пакость ближнему, а в недавнем прошлом страстно (возможно, не страстно, но чрезвычайно собственнически) любимому супругу…
— Милая, позволь реплику? О какой морали речь ведем? Чего-то я не просекаю в этой тьмутараканьей темноте, где тут она, ваша личная мораль, спряталась, схоронилась… Дайте мне ее пощупать… Определить, так сказать, фактуру… Органическая, природная, так сказать, или опять — сплошной партийный проперлон?!
— Только и способен на реплики! Ребенка в его летние каникулы не удосужился свозить куда-нибудь за границу! Я же знаю, у тебя деньги есть! Жмот! Такого, как ты, и пилить, и дырявить не жалко. Потому что ты... ты не достоин человеческой жалости! Потому что ты самовлюбленный подлец и трус!
Родные восклицательные знаки вроде как поменяли дислокацию. Теперь подзабыто родственные сварливые звуки доносились вроде как с противоположного конца… Или это я успел зачем-то развернуться и потерял едва-едва нащупанную ориентацию в этом склепно предмогильном пространстве...
Интересное дело, из каких таких психоаналитических соображений эта милосердная женщина догадалась, что мое затраханное эгоистическое существо не чуждо, вернее, ждет, чтоб его пожалели, точно обыкновенного всеми забижаемого мальчишку-двоечника, лодыря и созерцателя…
(обратно)Владимир Винников ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАЧ (О прозе Сергея Сибирцева)
Слухи о моей смерти слегка преувеличены.
Марк Твен
Пациент скорее жив, чем мертв.
А.Н.Толстой
Нечто подобное этим эпиграфам сегодня можно сказать и про состояние отечественной литературной критики: слухи о ее смерти слегка преувеличены, она скорее жива, чем мертва. Но — всего лишь "слегка", всего лишь "скорее". Увлечение многих критиков постмодернистской игрой в "свободу дискурса" неожиданно обернулось для них камланием в пустоту и тем самым — выпадением из "большого времени смыслов", с неясной надеждой на будущее: возможно, кто-то когда-то где-то, скорее, на Западе, услышит и отзовется на крик вопиющей родственной души, заблудшей в этих диких евразийских пустынях. Отставание нашей литературной критики от достижений отечественной эстетики, связанных в первую очередь с именами Алексея Федоровича Лосева, Михаила Михайловича Бахтина и Эвальда Васильевича Ильенкова, выглядит не менее пугающим, чем отставание, скажем, нашей бытовой техники от достижений отечественной теоретической физики и высшей математики. Там — уровень, на десятки лет опередивший мировую мысль. Здесь — царство "вала" и приблизительности.
Проблема же, по сути, одна, и заключается она в практически полном отсутствии "промежуточных" технологий, позволяющих превратить любую идею в обладающий нужными "потребительскими" качествами продукт — в том, что согласно транскрипции с английского языка принято называть "ноу-хау" (know-how — "знать, как").
Несмотря на недавнее присуждение Сергею Сибирцеву литературной премии "Хрустальная роза" за романы "Государственный палач" и "Приговоренный дар", творчество этого автора по-прежнему выглядит для подавляющего большинства критиков странным. С одной стороны, оно явно не вписывается в постмодернистский "мэйнстрим" нынешнего книгоиздательства. С другой стороны, и на реалиста, даже очень условно-безбрежного, Сибирцев по своему художественному методу "не тянет" — и настолько очевидно, что даже попыток обозначить его в таковом качестве не предпринималось. Вот и весь разговор сводится к "удивительным персонажам" автора, "генетически новым литературным существам, мутантам", "апокрифам", с одной стороны, и к "новой литературе", "неподдельной боли" — с другой… Можно сказать: сколько людей — столько и мнений. А можно и задуматься: как вообще способны совмещаться, взаимопроникать, интерферировать между собой такие разные — до прямой противоположности — оценки? Какая реальность стоит за ними?
В этой связи приходится вспомнить древнюю индийскую притчу о слепцах и слоне. Ощупав долгожданного слона, герои притчи поделились своими впечатлениями, переросшими в спор, а по ряду версий — и в драку. Один уверял, что слон гибкий и длинный, словно змея; второй — что он гладкий и тверже камня; третий — что слон подобен колонне или стволу дерева, четвертый… Каждый из них был искренне уверен в своей правоте и опирался на достоверные собственные ощущения, но никто из них, увы, не мог увидеть "целого слона" — по причине отсутствия зрения и ограниченности доступного во времени и пространстве участка восприятия.
Даже в ходе нынешних дискуссий о "реализме" и "постмодернизме" — дискуссий, несомненно, своевременных и значимых, определяющих своего рода "дух" и "нерв" эпохи,— не стоит опираться на самые очевидные "политические" критерии по принципу "свой—чужой". Это — чересчур изменчивый и, по большому счету, малопродуктивный критерий. Даже в короткой истории советской литературы без особых усилий можно найти десятки разнообразных подтверждений тому. Но и рассуждать о текущем литературном процессе "с позиций вечности" — занятие неадекватное. Найти же соразмерную систему оценок наугад, без учета накопленного эстетикой и литературой опыта, маловероятно.
Поэтому, чтобы говорить о взаимоотношениях реализма и модернизма как методов художественного творчества, противостоящих друг другу, необходимо сначала выяснить, где именно расходятся их дороги. Тогда наверняка понятнее станет и многое другое. Если обратиться, например, к известному определению реализма Ф.Энгельсом: "типические характеры в типичных обстоятельствах", то стоит прежде всего точнее определить, что представляет собой это самое "типическое" с точки зрения фундаментальных философских категорий, иначе корректно использовать данное определение в практическом литературоведении будет затруднительно, если вообще возможно.
Реализм как художественный метод определяется именно "типическим" как проявлением Всеобщего в Единичном. А модернизм, напротив, отрицает Всеобщее как таковое, признавая существующим только Единичное. Тем самым Единичное изымается из присущей действительности системы (или сети) пространственно-временных и причинно-следственных отношений. Но при этом модернизм сталкивается с необходимостью воплощать в единичном и конкретном художественном образе ассоциативно-смысловые связи с иными образами — иначе он попросту утрачивает эстетическое значение. Выход в рамках последовательного модернизма очевиден: установление отрицательных связей с избранным образом, разрушение его и выход за пределы искусства как такового, что порождает представления о "паразитическом" характере модернизма относительно искусства в целом. По видимости, это действительно так. Однако реальный эстетический механизм здесь совершенно иной: отрицая прежнюю, по той или иной причине неадекватную "картину мира" и присущие ей привычные причинно-следственные связи, модернизм пытается из этих обломков создать новую "картину мира", более близкую к действительности. Но такой "сверхреализм" является высшим и почти недостижимым состоянием, "моментом истины" модернизма, знаменующим открытие "нового неба и новой земли" в искусстве. Иными словами, модернизм, по сути, есть отрицание реализма и — одновременно — утверждение его на новом уровне развития, когда все Единичное снова становится частью некоей высшей общности, утрачивая и преодолевая свою отдельность.
Но при этом сложный, подвижный, иерархически организованный космос на длительное время становится хаосом непосредственно-чувственных восприятий Единичного: звука, цвета, линии, фактуры, объема, запаха и т.д. Можно сказать, что модернизм как мировосприятие словно бы утопает в море изначального Хаоса, сплошь покрытом соломинками единичных чувствований,— и здесь модернизм сближается не только с детским художественным творчеством, но и с первобытным искусством (деталь, в свое время верно подмеченная В.Курицыным). Разрушение идет шаг за шагом, "сюрреалисты сменяют дадаистов, большинство переходят из одной группы в другую: А.Бретон, Ф.Суно, П.Элюар. Провозглашение младенческого ощущения мира, примат несознательного над сознанием и логикой. Нарушения реальных соотношений между вещами",— так характеризовал модернизм 20—30-х годов ХХ века М.М.Бахтин.
Однако если противостояние реализма и модернизма определяется противостоянием категорий Всеобщего и Единичного в образной системе произведения искусства, то на уровне художественного метода должна проявляться и категория Особенного. И она, несомненно, проявляется — в романтизме. Романтизм, отражающий в Единичном, через образ, уже не Всеобщее, а Особенное,— в этом отношении равно противостоит и реализму, и модернизму.
Соответственно, всякий художник, берущий для отражения некие явления действительности именно как феномены Особенного, может и должен рассматриваться в качестве романтика. Это — не вопрос субъективных предпочтений самого художника, которому чаще всего, по большому счету, даже неинтересно знать собственную "анатомию" и "физиологию": каким образом и за счет чего он ходит, дышит, говорит. Можно правильно дышать, быстро бегать и хорошо рассказывать просто "от природы". Но постановка дыхания, движения, речи — еще никогда никому не мешала. И пример прозы Сергея Сибирцева, на мой взгляд,— явное тому подтверждение.
То, что Сибирцев тяготеет к романтизму, очевидно. Налицо, как говорится, все родовые признаки. Прежде всего — основной, фундаментальный: образная система его романов строится именно на категории Особенного. Это касается не только главных героев, у которых всегда "в кустах стоит рояль" и которые всегда обладают качествами, не слишком распространенными в окружающем их народонаселении. Знаменитый и характерный именно для романтизма конфликт "героя и толпы" есть художественное выражение качественного противостояния уникальных феноменов Особенного массовидным феноменам Всеобщего. Этот конфликт оказывается всегда трагичен для воплощающего Особенное героя — независимо от того, побеждает он в своем противоборстве с "толпой" или терпит поражение и гибнет.
Дело в том, что феномены Особенного, как правило, неустойчивы, они суть выделенный момент перехода либо Единичного во Всеобщее, либо напротив, Всеобщего в Единичное. Соответственно, эти возможности определялись советской критикой как "революционный" и "реакционный", или "черный" романтизм. Переходный характер категории Особенного определяет и чрезвычайную подвижность образной системы в романтических произведениях. В отличие от реализма, сосредоточенного на внутреннем движении и развитии образной системы, романтизм предпочитает движение внешнее, вольно или невольно направленное на некую внеположенную цель, которая не исходит из предшествующего движения образной системы, а, напротив, задает это движение. То есть сюжет здесь развивается в полном смысле авантюрно, подобно хронотопу античного романа, описанному М.М.Бахтиным. В этом отношении стоит указать еще на одну особенность, присущую прозе Сергея Сибирцева — на его склонность к "рваному" сюжетному ритму, когда описание самого незначительного и кратковременного действия может растягиваться на десяток страниц, а связь между важнейшими для сюжета звеньями, напротив, оказывается лишь приблизительно обозначенной в тексте.
Причина здесь в том, что особость и особенность романтического героя уже сами по себе предполагают его внутреннюю отстраненность от происходящих с ним внешних событий. Его собственное, личное пространство и время имеют очень мало общего со временем и пространством действия. Такая внутренняя раздвоенность героя, в свое время ставшая одним из основных художественных открытий романтизма, влечет за собой несколько важнейших следствий.
Прежде всего, эта отстраненность позволяет автору, несмотря на декларированную низменность его персонажей (да и главного героя в его "внешнем" бытии), отделять свою позицию от описанных "свинцовых мерзостей жизни" — которых у Сибирцева, как у всякого "черного" романтика, насыпано явно "с перебором". Самое употребительное художественное средство для подобного отделения — ирония: феномен, принадлежащий категории Комического.
Категория Трагического, которая у романтиков является не просто центральной или высшей из ценностных эстетических категорий, но категорией сущностной, всепроникающей,— оказывается хотя бы отчасти преодолена и "снята" именно благодаря присущей романтизму иронии. В результате трагедия становится трагикомедией, теряя при этом не только свою классическую безысходность, но и классический катарсис. Трагическое в романтизме вовсе не "очищает", а преображает, трансформирует восприятие читателя и его систему ценностей — поскольку Низменное, преображаясь одновременно и в Трагическое, и в Комическое, указывает "от противного" и на существование Возвышенного, определенного "положительного" идеала. "Познай, где Тьма,— поймешь, где Свет" (А.Блок). Именно признание бытия Возвышенного намертво перекрывает Сибирцеву дорогу в легион современных (пост-)модернистов, для которых ни Низменного, ни Возвышенного как эстетических ипостасей Добра и Зла, в литературе и искусстве попросту не существует. И авторская ирония, несколько тяжеловесная, пронизывающая всю ткань его повествования, относится вовсе не к себе, не к стилю или манере собственного письма, но — к образной системе своих произведений. Это совершенно иной уровень воплощения иронии, присущий как раз художественному методу романтизма.
Творчество Сергея Сибирцева — это творчество писателя-романтика: чрезвычайно редкое, даже уникальное по нынешним временам явление. Так что недоумение большинства критиков здесь вполне объяснимо: Сибирцев не реалист (что понятно и определяемо) и не модернист (тоже понятно и определяемо). Более того, он даже не "революционный", "красный" романтик-фантаст, наподобие Александра Грина или (в меньшей степени) Николая Островского, в творчестве которого романтическим моментом выступала уникальность собственной биографии ("Рожденные бурей", в отличие от "Как закалялась сталь", есть произведение вполне реалистическое). Романтизм Сибирцева, с этой точки зрения, оказывается вполне "реакционным" и "черным", поскольку выделяет и рассматривает феномены Особенного как функцию поражения и перехода былого Всеобщего в Единичное, и далее — в небытие. Если называть ближайшие по времени и месту литературные аналоги, то это будут прежде всего Э.По и Г.Гофман. Поэтому несколько наивными выглядят пожелания некоторых критиков дать "больше света" в созданных автором произведениях, определяемых ими как "храм". Но Сибирцев, условно говоря, строил-то и строит своим творчеством вовсе не храм, а крепость, где важна не столько степень освещенности внутренних помещений, сколько прочность стен и правильность перекрытия "секторов обстрела" из бойниц. Его проза в основе своей "военная", но если "против кого" — автор видит четко, то "за кого" — это для него еще большой и невыясненный до конца вопрос. Поэтому можно считать, что он сражается за себя, за свою собственную (и транслированную в героев) особенность, непохожесть на "врагов" — даже без надежды на победу.
Разумеется, здесь возникает закономерный вопрос о том, какова мера исторической глубины авторской "реакционности", "пессимизма" и "черноты", естественно включающих в себя "срывание всех и всяческих масок". Несомненно, эта глубина конечна, и некий "золотой век" в авторском миропонимании наличествует. Не берусь судить о его точной привязке к определенному историческому времени или "ряду времен", но по всем эстетическим законам иначе быть не должно. Проза Сибирцева может быть охарактеризована, перефразируя название одного из романов автора, как "государственный плач". Пусть этот плач пока не является образцом "чистого жанра", но он уже вполне внятен и воспринимается читательской аудиторией — даже несмотря на все изыски авторского языка, перегруженность повествования множеством излишних деталей и сюжетных линий. Автору стоит только "отвязаться" от чуждой "черному" романтизму социальной злободневности, к которой он привязан через осознание и освоение своей личной "особости" — ради осознания и освоения "особости" существующего в его сознании "золотого века".
Каким окажется результат: своего рода "сталинская готика", или же нечто иное, типа "параллельного нацизма", раскрытого Юлианом Семеновым в романах "Семнадцать мгновений весны" и "Альтернатива" гитлеровской Германии, с одиноким "Штирлицем" в центре повествования? А может быть, авторский "золотой век" лежит гораздо дальше от нас по шкале исторического времени — где-нибудь поближе к "Золотому ослу" Апулея, когда, заметим, закладывались основы Римской империи? Это решать самому Сергею Сибирцеву, но самый верный и плодотворный из возможных вариантов его дальнейшего творческого пути, по-моему, пролегает именно в этом направлении.
(обратно)Владислав Шурыгин СЫНОК (Из рассказов о чеченской войне)
ОЛЕГ КУДРЯВЦЕВ БЫЛ СВЕЖИЙ ЛЕЙТЕНАНТ. Предыдущие двадцать два года его жизни пролетели в треугольнике Арбат-Лефортово-Сочи. В квартире на Арбате он жил. В Лефортово располагался институт военных переводчиков, который он закончил с отличием. А в Сочи был санаторий имени Ворошилова, куда Кудрявцева-младшего регулярно вывозил на отдых Кудрявцев-старший — генерал-лейтенант одного из управлений Генштаба.
И потому теперь он с упоением впитывал кислотно-ядовитый мир войны. Все для него здесь было новым. И липкая майонезная грязь, намертво въедавшаяся в форму, и размеренный, накатанный за тысячи лет быт войны — вечного кочевья, бивуака, движения. И даже сам ее воздух — дикий коктейль солярового чада, кислого боевого железа, порохового нагара и дыма от вечно сырых дров — пьянил его, кружил голову незнакомым ощущением какой-то дикой, первобытной свободы.
У Кудрявцева, втайне от всех пописывающего наивные юношеские стихи, был даже свой образный ряд. Люди вокруг него напоминали ему заготовки из металла. Вечно зачуханная, робкая пехота была похожа на старые ржавые строительные гвозди, толстый зампотех Вознюк напоминал чугунную маслянистую чурку. Начштаба генерал Суровикин, пунктуальный и невозмутимый, ассоциировался с литым накатом танковой брони. Начальник разведки Марусин, которого он просто боготворил, был похож на совершенный старинный кованый клинок. Себе самому он казался тонкой стальной струной, которая звенела на суровых ветрах войны…
Кудрявцев старался быть подчеркнуто аккуратным. Купленный отцом перед отъездом в командировку добротный теплый камуфляж и "берцы" на меху он каждый вечер терпеливо отмывал от ханкалинской грязи, чтобы утром выйти на развод в чистой форме.
Каждое утро он ревниво оглядывал себя в зеркале "кунга", в котором жил. Его раздражал слишком свежий — "с ноля" — собственный вид. Ему хотелось выглядеть, как Марусин, чей выцветший до белизны "горник", растоптанные легкие "берцы" и видавший виды рыжий "верблюжий" свитер безошибочно выдавали в нем настоящего разведчика, "пса войны".
Кудрявцев даже невзначай поинтерес
овался у старшины роты охраны, долго ли "протянет" его "комок", а то, мол, может быть, стоит новый заказать в Москве? Ответ его огорошил. Старшина, пожилой прапорщик-армянин, "успокоил", сказав, что такой доброй форме года два сносу не будет, а учитывая, что в командировку лейтенант прилетел максимум месяца на четыре, то и вообще вернется домой как в новом…
Эта собственная новость была главным мучителем Кудрявцева. Ему хотелось чувствовать себя зрелым и опытным, снисходительным и сильным. Ему хотелось, чтобы ржавая пехота встречала его тем же почтительным уважением, которым она встречала и провожала хмурых спецназеров "грушной" бригады. Поэтому он не любил, когда его называли по званию. Обращение "товарищ лейтенант" только подчеркивало его неопытность и наивность. Куда значительнее и лучше звучало обращение по фамилии.
Для повышения собственной "боевитости" он даже выменял у одного, возвращающегося домой, десантного капитана его старый "разгрузник". Запавший на новенький японский плейер, капитан, наверное, посчитал Кудрявцева полным идиотом, когда тот предложил ему махнуть плейер на старый, затертый, латаный разгрузочный жилет. Но Олегу было все равно, что подумает о нем капитан.
Зато он стал обладателем настоящего боевого "разгрузника", в нагрузку к которому расчувствовавшийся десантник отдал еще и пару "лимонок", которые Кудрявцев тут же запихнул в соответствующие кармашки.
И теперь, отъезжая куда-нибудь с Ханкалы, он всегда надевал этот "разгрузник" и, к своему удовольствию, нет-нет да и ловил на себе изучающие взгляды незнакомых с ним спутников, которые явно пытались определить, кто перед ними — неопытный салага или понюхавший пороху боец.
Кудрявцев был прикомандирован к разведуправлению группировки. Но, несмотря на месяц, проведенный здесь, он почти нигде еще не был. Только пару раз он с начальником разведки выезжал в Грозный и один раз в Гудермес, куда сопровождал какую-то международную "гуманитарную миссию", после чего почти полвечера писал рапорт о поездке. Англичане и шведы были явно разведчиками. Их короткие реплики, многозначительные взгляды и особая, профессиональная слаженность сразу бросились ему в глаза. И усердно изображая обычного переводчика с чеченского на английский, Олег напряженно вслушивался в разговоры "гуманитариев", стараясь не пропустить ни слова.
По возвращении его буквально распирало от ощущения важности и исключительности того, что он смог "расшифровать" иностранцев. Но реакция командиров на его десятистраничный рапорт была на удивление безразличной. Рапорт просто взяли и подшили в одну из папок. Уже потом его сосед по "кунгу", зевая, пояснил, что принадлежность "гуманитариев" к разведке ни у кого сомнений и не вызывала.
— По ним пришла специальная шифротелеграмма. Здесь вообще обычных делегаций не бывает. Думаешь, очень нужна Западу эта сраная Чечня? Щаз! Ему надо, чтобы мы здесь сидели в дерьме по самые уши. И сидели как можно дольше. Потому только разведка сюда и лезет. Привыкай, старичок! В этом дерьме, только такие же, как мы, говновозы плавают…
ПО ДИПЛОМУ ОЛЕГ БЫЛ "ПЕРС" . Языки с детства давались ему на удивление легко. С семи лет он свободно говорил по-немецки, изучив его за два года, пока отец служил в Дрездене. Потом, в московской спецшколе так же легко изучил английский, на котором даже пытался писать стихи и занял первое место на городской олимпиаде. В институте он попросился в группу, изучающую персидские языки. И уже к третьему курсу стал одним из лучших. Фарси, дари и пушту он брал с налета. А на последнем курсе, под влиянием рассказов бывших выпускников о войне в Чечне, втайне от отца, который был категорически против его увлечения, он занялся чеченским языком.
Отличное знание языков плюс генеральские звезды отца определили его дальнейшую службу. После выпуска Кудрявцев получил назначение в одно из подразделений центрального аппарата Главного разведывательного управления и там продолжил изучение чеченского языка, благо на новом месте материалов и возможностей для этого было предостаточно. Отдел занимался переводом радиоперехватов…
В том, что его почти не выпускали с Ханкалы, Олег небезосновательно подозревал отца. Кудрявцев-старший, совершенно случайно узнавший от своего товарища, что сын за год умудрился не только стать переводчиком с чеченского, но еще и сам напросился в командировку, пришел в ярость. Вызванный "на ковер" в кабинет отца, Олег услышал столько эпитетов в свой адрес, сколько не слышал их до этого за всю жизнь.
— Никогда не думал, что вырастил полного мудака! — громыхал отец. — Чего тебе не хватает? Романтики захотелось? Когда тебе чечены жопу на фашистский знак порвут — будет тебе романтика! Я, как последний идиот, пытаюсь устроить его будущее. Готовлю ему нормальную командировку в нормальную страну. А этот мудак ломится в Чечню. Да ты хоть понимаешь, что ты творишь? Если там, — отец ткнул пальцем в потолок, — решат, что ты "чеченец", то все! Так до пенсии и будешь ползать по этому гребанному Кавказу. Ты о матери, стервец, подумал? Как ей, с ее давлением, сказать, что единственный сынок решил в Чечню мотануть, романтики набраться?.. А случись что, думаешь, тебе памятник Путин поставит, или если тебе ногу оторвет, Дашка твоя будет из под тебя горшки выносить? Хер ты угадал! Калеки бабам только в фильмах нужны. А так махнет хвостом — и поминай, как звали! У нее женихов и без тебя, дурака, пруд пруди…
Из кабинета отца он вышел совершенно сломленным и раздавленным. Если бы в тот же день можно было все отыграть назад, он, конечно бы сделал это, но армия есть армия — принятые решения в ней обычно выполняются. И уже через неделю семья провожала Олега на аэродром "Чкаловский". За эти дни отец немного поостыл. И хотя в его серых глазах не пропал стальной блеск раздражения, он помягчал. Так, вернувшись вечером со службы и оглядев полученный Олегом новый, только со склада, тяжелый ватный бушлат блеклой зелено-морковной расцветки и неуклюжие кирзовые "берцы" он хмыкнул:
— В такой робе только зеков на работу водить!
На следующий вечер он привез комплект зимней формы и высокие легкие ботинки на меху. "Сплав" — была обозначена на лейблах и ценниках марка фирмы.
— Держи, вояка! На синтепоне, не продувается и не промокает. И "берцы" вполне подходящие…
Отцу Олег доверял. В Афгане тот два года командовал полком, а потом, после академии, еще год — дивизией…
Уже провожая его на борт, отец вдруг неуклюже обнял его.
— Ладно, сын, запомни одно. От войны не бегай, но и сам на нее не напрашивайся. Судьба не любит самодеятельности. Головы не теряй. Смотри на старших. Тебя там встретят мужики достойные. И береги себя! Ты у нас один…
Скорее всего Кудрявцев-старший посодействовал, чтобы младшего не слишком привлекали к войне. Олега сразу по прибытии оставили при управлении разведки, хотя, как он вскоре узнал, переводчики были очень нужны и в действующих частях.
Небольшую комнатушку в приспособленном под жилье стальном морском контейнере он делил с капитаном-переводчиком Виктором, который, представляясь, сделал ударение на последний слог — ВиктОр. Капитан был всего на четыре года старше Олега, но выглядел на все сорок. Болезненно худой, с запавшей под глазами вечной желтизной и ранней плешью он выглядел просто кощеем. В первый же вечер, когда Олег "прописывался" по случаю прибытия, ВиктОр, поднимая очередной стакан с местной мутной водкой, хмыкнул:
— В девяносто восьмом меня два черножопых пидора в Анголе паленым ромом траванули. Они на английскую "сис" работали. И оч-ч-чень мной были недовольны. Какой мы тогда контракт из-под носа англичан увели… — он многозначительно сузил глаза, словно из ханкалинского далека пытался рассмотреть двух далеких злобных негров. — Печень тогда из-под ребер просто вываливалась. Пить врачи вообще запретили…
И он выпил, всем своим видом показывая салаге лейтенанту, насколько героическим поступком для него является это употребление огненной воды.
Сейчас капитан служил в управлении внешнего сотрудничества, точнее, дослуживал. Почти полгода он ожидал долгожданного приказа об увольнении. На "гражданке" его уже давно ждало место в каком-то российско-голландском СП, которым управлял его друг. И потому эта командировка была ему, как он сам говорил, как серпом по яйцам.
— Да я в неделю у Валерки заколачиваю больше, чем здесь генерал за четыре месяца! — пояснил он.
До отъезда ВиктОру оставался всего месяц, и потому капитан собирался окончательно "лечь на сохранение". Термин этот, как вскоре узнал Олег, означал максимальное сворачивание всякой служебной активности, чтобы по возможности тихо и без происшествий дотянуть до "дембельской" вертушки на Моздок.
И потому, когда "спецназеры" доложили, что в ходе одной из засад был захвачен в плен афганец и Марусин собрался лететь в бригаду, капитан, который должен был лететь с ним переводчиком, откровенно затосковал.
— Твою мать! И больным не скажешься. Марусин потом сгноит за месяц. Он "беременных" на дух не переносит. Пес войны хренов!
ТОГДА-ТО ОЛЕГ И РЕШИЛ ПОПРОСИТЬСЯ вместо Виктора сопровождать начальника разведки.
— Я подтвержу, что ты лежишь с температурой. А дари, пушту, фарси — мои дипломные языки.
— Ты чего, старичок, серьезно? — изумился капитан. — На хера тебе это надо? У тебя такая должность, что можно хоть до пенсии здесь груши околачивать. Зачем тебе эти горы?
— Я еще ни разу не работал на настоящем допросе, — признался Олег. — Хочу, пока есть возможность, опыт получить.
ВиктОр удивился еще больше:
— Ты что, серьезно? Совсем сдурела твоя башка. Оно тебе надо? Думаешь, это так интересно? Брось. Это самая грязь войны. Знаешь, почему грушники не пишут мемуаров? Да потому, что никто не хочет вспоминать о том, что видел и делал...
Но соблазн "закосить" был для капитана слишком велик и, помявшись для приличия, он дал себя уломать…
Начальник разведки, услышав о болезни Волкова, испытующе посмотрел на Олега, который всем своим видом пытался доказать, что все именно так, как он рассказывает.
— Говорить не может. Ангина. Хрипит. Но я могу его заменить. По диплому я "перс". Не подведу вас, товарищ полковник.
Олег рассчитал все точно. Все же за спиной был уже год службы, и "систему" он уже "просекал". Времени разбираться и искать замену Волкову уже не было.
— Хорошо. Со мной полетит Кудрявцев, — как отрезал Марусин.
На следующее утро Олег в неизменном "разгрузнике", с табельным "пээмом" в специальном кармане на груди стоял рядом с Марусиным на площадке приземления.
После короткого доклада комбрига и недолгого совещания, во время которого Олег слонялся по лагерю в сопровождении улыбчивого прапорщика, который знакомил его с расположением бригады, его наконец разыскал посыльный. Когда он подошел к штабной палатке, Марусин с комбригом уже вышли на улицу.
— Ну, где тут у тебя "переговорная"? — спросил Марусин командира.
"Переговорная" оказалась обычным "кунгом" армейского КамАЗа. Он был разделен надвое невысокой, по пояс, пластиковой перегородкой. С одной ее стороны был небольшой кабинет, где стоял покрытый плексигласом стол с прикрученной к нему настольной лампой, старенький компьютер и несколько раскладных табуреток. Другая сторона "кунга" была до потолка обита жестью. Там была прикрученная намертво мощными винтами к полу металлическая табуретка, перед которой от пола до потолка проходила стальная труба. У табуретки стояло старое мятое оцинкованное ведро, наполовину наполненное водой, которая мутно и зыбко отражала в себе потолочные фонари. В "кунге" было зябко, и потому никто не раздевался. Марусин широко, по-хозяйски сел за стол, рядом с ним сели комбриг и начальник штаба. Еще один штабист, молодой юркий парень, опустился за компьютер. Олег устроился на свободной табуретке с другой стороны стола.
— Ну, давай сюда своего афганца, — скомандовал Марусин.
— Васильченко, давай бородатого! — негромко крикнул комбриг.
Через полминуты "корабельная" дверь "кунга" распахнулась и здоровый, медведеобразный прапорщик втолкнул перед собой крепкого, смуглого, почти шоколадного бородача. Руки "духа" были скованы наручниками. За ним в "кунг" поднялся часовой. Прапор коротким тычком, словно он загонял в стойло корову, усадил пленного на табурет за перегородкой.
— Сидай, гнида! — рявкнул он лениво. Потом он обошел пленного и, встав перед ним, дернул на себя наручники.
— Сюды руки давай! Та нэ дергайся, бо мозги вышибу! — афганец не знал ни украинского, ни русского, но все понял по выражению глаз прапора. Он молча вытянул руки перед собой. Васильченко небольшим ключом разомкнул одно из колец наручников, потом тут же крепко перехватил освободившуюся руку своей огромной лапищей и, заведя ее за трубу, вновь хрумкнул закрываемым "браслетом". Теперь пленный был прикован к трубе.
— Свободен! — бросил Васильченко часовому и, тот, бросив короткое "Есть!", вышел на улицу.
Сам Васильченко остался стоять рядом с "духом". Он только скинул бушлат и остался в линялом темно-зеленом свитере.
ВСЕ МОЛЧАЛИ. Афганец угрюмо, исподлобья бросал на сидящих за перегородкой офицеров быстрые, настороженные взгляды. Олег заметил, как на его веке вдруг торопливо забилась какая-то жилка.
Марусин внимательно и неторопливо осмотрел пленного. Лицо подполковника вдруг закаменело и стало жесткой, холодной маской. Тишина просто давила на уши.
Афганец судорожно сглотнул.
— Как его зовут? Откуда он родом? — наконец негромко спросил Марусин.
Прошла секунда, другая… Марусин бросил на Олега быстрый хлесткий взгляд. "Идиот! Переводи!" — обожгла Олега мысль. И, спохватившись, он повернулся к пленному.
— Кууш ты бар? — торопливо произнес он заученную фразу.
Афганец удивленно посмотрел на него. Он явно не ожидал услышать здесь, за полторы тысячи километров от Родины, родную речь.
— Кууш ты бар? Но гус хан? — Олег знал, что сейчас пленный пытается сообразить, как этот юнец так хорошо, без малейшего акцента, может говорить на его родном пушту. И это был миг маленького торжества лейтенанта Кудрявцева. Ради этих секунд изумления врага стоило потратить тысячи часов на заучивание чужих слов, проникновение в ткань чужой речи, терпеливого вылепливания собственной гортани и мышц языка под чужие звуки, чужое произношение и даже чужое дыхание. Ведь горловые и шипящие звуки требовали совершенно иного типа выдоха. Короткого, хлесткого, как удар…
Кудрявцев торжествовал. Он смотрел на пленного и пытался увидеть себя его глазами. …Чужой офицер перед ним безжалостно и жестоко вторгся в святая святых — в язык, и тем разоружал его, делал беззащитным. Теперь каждая его фраза, каждое его междометие будет понятно этим "шурави". Этот лейтенант лишал его права даже страдать на собственном языке…
— Камиль Джидда. Азкухар бар Кхандагара.
— Его зовут Джидда Азкухар. Он родом из Кандагара.
— Сколько ему лет? — спросил Марусин, и в словах полковника почудилась нотка уважительного удивления по отношению к Олегу.
— Тридцать два, — перевел ответ Кудрявцев.
— Как давно он находится на территории России? В чьем отряде воевал?
— Но джа вахиб Шурави?.. — чужой язык легко лился с губ Кудрявцева.
— Дыш гуаз парван хол…
— Он находится на территории Ичкерии, и на территорию России никогда не ступал. Это русские пришли сюда. Он воевал в отряде амира Абу Вали…
— Повтори ему вопрос, когда он прибыл сюда? И кем он был в отряде?
Афганец выслушал вопрос, но отвечать не торопился. Напряженный, настороженный, он напоминал сейчас дикое, загнанное в угол животное, готовое в любой момент броситься на загонщиков, но сталь наручников не давала это сделать...
— Переведи! — В глазах Марусина вдруг полыхнул незнакомый черный огонь. — Я задаю вопросы — он отвечает. В молчанку я ему играть не дам! Или он хочет вспомнить, как русский "спецназ" развязывает языки? Когда с кем и откуда он пробрался сюда?
Олег перевел. В глазах афганца мелькнула неясная тень растерянности.
— Джи хад ами…
— Он здесь с мая. В апреле его отряд прибыл в Грузию. Здесь их разделили на две группы и в конце мая на машинах перевезли через горы в Аргун.
— Сколько было человек в группе? Кто был старший? Где их вербовали и кто?
— В группе было восемнадцать человек. Старшим был иорданец Абдалла, он же и пригласил их в Чечню. Абдалле его порекомендовал мулла мечети Аль Саиб, при которой он когда-то учился. Остальных так же набирали из Кандагара.
— Где сейчас его группа?
— Адж мар нуш?..
Афганец бросил на Олега быстрый ненавидящий взгляд. Слова родного языка загоняли его в угол, и он ненавидел этого молодого "шурави" за то, что тот не давал ему отгородиться от всех спасительным непониманием…
— Ку мас…
Афганец гордо вскинул голову и посмотрел на полковника.
— Он говорит, что не предаст своих братьев по вере.
Ничто не изменилось в лице Марусина. Он вел незримый поединок с пленным, ломал его, колол, давил…
— Васильченко! — негромко, одними губами бросил он, не отрывая взгляда от глаз пленного.
Прапорщик, все это время непод
вижной глыбой стоявший над афганцем, шевельнулся, и через мгновение его огромный кулак мощным поршнем впечатался в тело "духа". От удара тот буквально сложился пополам и слетел с табурета. Но прапор не дал "духу" упасть. Он рывком поднял его с пола, потянул на себя и, перехватив хрипящего в судороге боли "духа" за кисти, зацепил их наручниками за крюк под потолком.
…Удары вонзались в тело афганца как молоты, сминая, разбивая, мозжа внутренности, ломая ребра. Тот не кричал, нет. Для этого ему просто не хватало воздуха в легких. Он только хрипел и как-то по бабьи ахал при каждом ударе.
Олег завороженно смотрел на это.
…Впервые в жизни перед ним так открыто, без смущения и стыда, без пощады и правил, забивали человека… Раскрасневшийся, вспотевший Васильченко работал, как хорошо отлаженный механизм. Размах, удар на выдохе! Вдох. Размах, удар на выдохе!..
Хрипы, стоны, мясистые шлепки ударов.
— Сучара! Уебок! Да я тебя порву, мразь! — хрипло рычал прапор, заводя сам себя страшными, грязными ругательствами…
И вид этого избиения вдруг взорвался в Кудрявцеве диким, необъяснимым стыдом. Он почувствовал, как лицо его заливает багровый жар, словно его поймали на чем-то запретном, унизительном. Словно смотреть на это нельзя, запрещено.
Олег быстро, чтобы никто не заметил, скосил глаза на окружающих.
С лица Марусина ушло окаменение, и в глазах его была только какая-то усталость, опустошение…
Комбриг бесстрастно и отстраненно наблюдал за происходящим, накручивая на палец ус.
Начальник штаба курил, стряхивая пепел в латунное донце от снаряда.
Солдат за компьютером деревянно пялился глазами в пустой экран монитора…
Наконец "дух" обмяк и повис на трубе.
— Хорош, Васильченко! — так же негромко окликнул прапора Марусин. — Приведи его в себя!
Прапорщик разжал кулаки. Вытер рукавом пот со лба. Подхватил за кисти обвисшего "духа", как тушу снял его с крюка, усадил на табуретку. Потом за подбородок поднял его голову. Зачерпнул кружкой воду из ведра и плеснул ее "духу" в лицо.
— Ну ты, пидор кандагарский! Глаза открой! — Васильченко несколько раз хлестко ударил афганца ладонью по щекам.
"Убил! — обожгла Олега мысль. — Так просто, взял и убил…"
Но "дух" неожиданно дернулся, отворачиваясь от пощечин, запрокинул голову. Открыл глаза.
Васильченко выпрямился.
Афганец обвел всех мутными, полубезумными от пережитой боли глазами. Было слышно, как хрипло и тяжело он дышит. Неожиданно с угла рта, по подбородку потекла тонкая струйка слюны, смешанной с кровью…
— Он будет говорить?
Олег перевел.
Афганец заговорил. Но уже незнакомым, севшим, надтреснутым голосом. Было видно, что каждое слово болью отдается в его изуродованном теле.
— Он говорит, что два его брата погибли в бою с русскими под Кундузом, третьего брата до смерти запытали в "хаде". Отец умер от голода в Пешаваре. И он счастлив, что скоро с ними встретится в раю. Он жалеет, что мало убил русских за это время. Но он сам свежевал их, как баранов. Всех русских надо резать, как свиней.
— Он говорит, что русские уже не те. Они стали трусливы и робки, как бабы. Боятся воевать. Могут только бомбить и стрелять из пушек. Один чеченец стоит трех русских солдат. И с Чечней теперь весь мусульманский мир. И они поставят Россию на колени…
— Хорош демагогии! Он будет говорить? — нетерпеливо перебил его Марусин.
Олег перевел и неожиданно поймал себя на ощущении, что старается говорить как можно безразличнее, всем своим видом пытаясь показать пленному, что он только переводчик и ничего кроме этого. Этот стыд перед афганцем вдруг разозлил Кудрявцева.
"Он — сука! Наемник! Мразь! Он резал наших, пришел сюда нас убивать! А я разнюнился, как тряпка. Это война!"
Афганец ответил, что его могут забить до смерти, но он никого не сдаст.
Марусин разочарованно вздохнул, потом неторопливо поднялся.
— Это мы поглядим. Васильченко, мы в штаб, а вы с Кудрявцевым поработайте с ним. Как будет готов — дашь знать!
— Есть! Усе зробимо, товарищу полковник!
Васильченко отодвинулся, пропуская мимо себя к выходу офицеров. Потом, когда дверь за ним закрылась, прошел в дальний угол "кунга" и из небольшого настенного ящика достал замотанный в провода и резиновый медицинский жгут полевой телефон без трубки.
— Ну, урод, ты зараз не так заголосуешь! — сказал прапор, поворачиваясь к пленному.
Афганец испуганно сжался.
Но Васильченко легко, словно пушинку, оторвал его от табурета и вновь подвесил за наручники к потолку. Потом достал из ножен на поясе нож и одним резким движением разрезал грязные камуфлированные штаны и синие байковые кальсоны, обнажая серые худые ягодицы. Потом наклонился и сдернул штаны до колен.
Афганец забился, как пойманная на крючок рыба, но Васильченко впечатал "духу" в поясницу кулак, и тот, охнув, обвис.
Потом прапорщик деловито и быстро раскрутил провода. Один из них он, приподняв длинную полотняную рубаху, воткнул между ягодиц пленного, другой крепко обкрутил вокруг лица и, разжав стиснутые зубы "духа", воткнул конец провода ему в рот. После чего жгутом ловко стиснул челюсти так, что "дух" мог только мычать, но даже выплюнуть провод не мог.
— Лэйтенант, спроси эту гниду, будет он говорить или нет?
Холодея от предчувствия чего-то ужасного, запретного, Олег перевел. И впервые от себя добавил:
— Говори. Эти люди не шутят. Ты умрешь здесь.
Но это его участие вдруг зажгло яростью лицо душмана. Стянутые жгутом челюсти не давали ему говорить, и он только что-то промычал, зло сверкая налитыми кровью глазами.
— Ясно! Можешь не переводить. — Ну-ка, лэйтенант, отойди в сторонку. Бо сейчас его так начнет колотить, шо зашибить может.
Олег сделал шаг назад. За его спиной зажужжал генератор телефона.
"Дух" вздыбился, словно неведомая сила схватила его и подбросила вверх. Глаза его вылезли из орбит, а из-под рубахи на ноги и штаны вдруг брызнула мутная, пенная струя.
"Обоссался!" — обожгло Олега, и от ощущения гадливого позора этой картины его передернуло…
За спиной вновь зажужжал генератор.
Духа выгибало, корчило и трясло, словно в него вселилась сотня бесов. Наконец он вновь потерял сознание. В ноздрях и углах губ пузырилась кровавая пена. Васильченко поставил телефон на полку и подошел к духу. Окатил его водой из кружки, пощечинами привел в себя. В глазах "духа" застыл ужас.
— Он будет говорить?
Олег торопливо перевел.
Дух что-то промычал.
— Нехай головой кивнет.
— Джав ла дмакн.
Пленный замолчал.
— Добре!
Васильченко вновь снял с полки телефон…
Все слилось в один непрекращающийся кошмар. Судороги, корчи и мычание "духа", матерщина Васильченко, жужжание генератора, вонь мочи, кровь, пена, глухие шлепки ударов. "Он будет говорить?"…
Олегу казалось, что он вот-вот сойдет с ума. Что все это просто наваждение, мерзкий сон. Ему хотелось вскочить, распахнуть дверь и исчезнуть, оказаться дома, в Москве, в кабинете отца. Среди книг и семейных реликвий. Но он знал, что это невозможно. Гнал от себя слабость. "Ты хотел узнать войну. Так вот она, война. Это и есть война. Это твоя работа, ты сам ее выбрал. И не смей отводить глаза, сука!"
Он уже просто ненавидел этого "духа" и желал только одного, чтобы тот наконец сдох и с его смертью все это закончилось.
И все закончилось…
— Он будет говорить?
Истерзанный, полуживой "дух" слабо закивал головой.
Прапорщик распустил жгут, выдернул из его рта провод.
— Ты все расскажешь?
Олег перевел.
— Зкан доб карх…— прохрипел дух.
— Он все расскажет, — с облегчением перевел Олег.
— Добре. Тогда зови полковника…
— Когда ты в последний раз видел Хаттаба?
"Дух" отвечал почти шепотом. Чувствовалось, что каждое слово дается ему с трудом, при каждом вдохе внутри него что-то клокотало и сипело. Но ни у кого вокруг Олег не видел жалости в глазах. Пленный их интересовал только как "язык", как запоминающее устройство, из чьей памяти они должны извлечь как можно больше.
— Это точно было в Хатуни? Или он не знает?
— Говорит, точно в Хатуни.
Допрос шел уже третий час. Вопросы следовали один за другим, часто перекрещиваясь, возвращаясь друг к другу. Менялись кассеты в диктофоне. Афганец отвечал механически, без эмоций, словно большая кукла. Из него будто выдернули какой-то опорный стрежень. Он уже ничем не напоминал того злого, высокомерного душмана, которого несколько часов назад завели в этот "кунг". Теперь это был просто сломленный, раздавленный и жалкий человек.
Наконец Марусин откинулся на спинку кресла. Окинул "духа" долгим взглядом. И под этим взглядом "дух" как-то съежился, сжался, опустил голову.
— А говорил — не предаст братьев по вере... — в голосе полковника Кудрявцеву почудилось снисходительное презрение. — Ладно! С этим — хорош! Пора перекурить и свежего воздуха глотнуть!
— Куда его? В "зиндан" или в яму? — спросил, поднимаясь из-за стола, комбриг.
— В "зиндан"! Подержи его еще пару дней. Поработайте с ним. Может быть, еще что-нибудь вспомнит…
Окончание следует
(обратно)Александр Проханов НА ВЫСТАВКЕ КАРТИН (Посвящается Г. Животову)
Возьми колпак и ветхий посох,
Пусть путь тебе укажет Босх.
Остановись у вод на бреге,
Здесь рисовал картины Брейгель.
Оставь утехи, игры, ласки,
Будь строг и ясен, как Веласкес.
Не устыдись сумы и рубищ,
Стань бос и наг, как старый Рубенс.
Здесь непонятное, другое,
Здесь потерял рассудок Гойя.
Цветных лучей раскинув веер,
Холста коснулся Вермеер.
Лесов угрюмые бордюры,
На них взирает вещий Дюрер.
Тебя намочит русский дождик,
Ты странник, мученик, художник.
(обратно)Татьяна Реброва ПЯТЫЙ ЛЕПЕСТОК
* * *
Я на исповеди рвану
Перед батюшкой воротник
С золотыми по синему льну
Одуванчиками — и в крик.
Я на пол сползу.
Я сроню слезу —
Словно бисером церковь выстелю
Уж за то одно, что себе в висок
Средь её икон я не выстрелю.
МИСТИКА
Пусть я проклят, но пусть
и я целую край той ризы,
в которую облекается Бог мой…
иду… вслед за чёртом.
Ф. Достоевский
Скажи, с какого бодуна,
Россия, если рождена
В тебе, то в этот миг постылый
Ещё невинная, как хилый
Пух с Серафимова крыла,
Уже я проклята с той силой,
С какой ты проклята была.
Вновь разворот. И вновь ни разу
На тормоза кто не нажал?
Россией кто уничтожал
Меня, как хлоркою заразу?
Кого в потёмках карауля,
Кто и когда нажал курок?
Но и тебе шальная пуля
России обожжёт висок…
И клюква брызнет на былинки —
Повадку скоморошью Рок
Не прячет — бубном о вериги!
Бери последний кус ковриги
И в ненасытные суглинки
Последнюю любовь… Молюсь
Я за карман, где фертом фиги.
Точнее? За святую Русь.
Я не ходила с веком в ровнях.
Я плакала по ней в часовнях —
Лишь кал и щебень у щеки,
Не Дух Святой, а сквозняки.
И волокли меня на дровнях,
И скидывали в рудники.
* * *
Отчаливший
С пробоиною бриг.
Отчаявшись,
Как царь,
мой миг не брит.
Свисти, Гаврош!
Последний грош на кон —
Последний грош
Раздёрнутых окон
В ночь, в космос, в глушь
Галактики и в па-
раллельные миры.
Гори, тропа,
Одна из лунных тропок в вещий день
Рожденья моего. В его сирень.
Её цветы — колода карт и Рок.
И вечный джокер — пятый лепесток!
АЗИАТСКОЕ ЭХО В КРОВИ
От боли не видя ни зги,
Писать, словно руны на воске:
Как эти глазницы узки,
Как скулы темны по-бесовски.
Как юн он! Спасибо твоим
Уловкам, о мой Мефистофель!
Смотри, как пригож этот профиль,
Окутанный в жертвенный дым
Сожжённых церквей…
Но святым,
Что после в гортанных молитвах дичали,
Придётся простить и восторг, и печали
Хазарских коней,
что, топча рубежи
Вселенной,
прабабку сквозь время промчали.
Да что же ещё тут, скажи,
Мне могут сплести о начале
Моей изумлённой души!
* * *
Мстить и мстить — это как чеку
У гранаты рвануть
в самой гуще
Претендентов на райские кущи —
Ни тебя, ни обидчика нет.
Дьявол смотрит на красный ранет
Молча. С недоуменьем.
А Бог
К безоружным спешит на порог
По колдобам неисповедимых дорог.
* * *
"Поэту неба и земли!" —
обращение к Богу в греческом
варианте текста "Символа Веры".
Я жалею Бога. Он — меня.
Так вот мы, жалеючи друг друга,
И сосуществуем.
И подпругу
Рваную не чиним у коня,
Что по фреске бродит,
как по лугу.
А на что починишь?
Ни гроша.
Словно ветер, по Руси душа
Свищет по кладбищам и оврагам,
Лжёт ему,
шальная,
в образа
И в мои безумные глаза.
Те слезятся. Эти мироточат.
А коня мы отдали бродягам. —
Дети там!
Они о нас пророчат.
* * *
Есть у меня в любой эпохе дом.
Дом прадеда, прапрадеда, дом предка.
Закуталась в туманах над прудом
В сиреневое кружево беседка.
Но кто это?
Чья нежная скула
У губ моих? Бунтуют зеркала —
Хоть врозь они, едино Зазеркалье.
И будущее с прошлым,
как вода,
Сейчас текут, стекаются сюда,
Где я над их седыми озерками
Брожу по кромке радужного льда.
И жар свечи, и ночь, и в полынью,
Не зная шифра,
хитрый воск пролью
И оступлюсь, как в обморок, и вот,
В какую бы ни рухнула эпоху,
Дом прадеда, дом правнука по вздоху
В одном из вещих снов меня найдёт.
ЮРОДСТВО
Перетасуй колоду зодиака,
Маг в крепдешине из дверей барака —
Бог из машины!
Ставь, бери на понт,
Блефуй: здесь шулера, здесь горизонт
Заляпала дерьмом и кровью драка.
От смеха запрокинься,
чтобы из-под бантиков и грусти ряс и риз
Тумана сквозь романы с этажерки
Кирза стремительных сапог
Их мир сломала,
то есть рог
У чёртика из табакерки.
* * *
Ричард Бах и нитка лабрадора —
Господи! Как будто невзначай
Вновь с тобою встретились. И чай,
И гроза, и вскинутая штора.
Я смотрю в тебя, и смотришь ты
Вглубь меня, как небо и колодец. —
Глушь души… И мчится иноходец
В полнолунье сквозь мои черты.
* * *
И листопад одежд полночных,
И настроений неурочных
Осенний сад с цветком седым…
Дым привидений, вечный дым —
Обрывок мантии моей,
Что уцелел среди скитаний
Таланта — горстки журавлей
И роковых очарований.
* * *
Уходит эпоха,
Сердца разбивая.
Иначе вослед ей ни вздоха,
А так вот ломоть каравая
И полстакана с водкой
У фотографий,
в чей ад походкой
Пьяной спускаемся. Ни стропы.
Снайпер пользуется наводкой
Доброго Бога и злой толпы.
Половинку от половинки
Отдирает, сбивает с тропы.
О Судьбу вытирает ботинки.
В масках, снятых посмертно,
паяцы
Корчат рожи, и папарацци
Мемуары шьют. В гулкой прессе
Блики эха по злату тельца.
Так молитва на чёрной мессе
Реет наоборот и с конца. —
И руины люрекс дождя
Рвут. И в дебрях чертополоха
Снись почаще,
Когда эпоха
Дверью хлопает, уходя.
* * *
И ямочка та же, что в детстве, у рта,
И синий бант неба венчает макушку. —
Плетётся по Радонице сирота,
Роняя костылик свой, как погремушку.
* * *
Вы, голубоглазые мои,
Не ревнуйте, разрешите вновь
Мне поднять с туманнейшей земли
Гроздью виноградною любовь.
Разорить позвольте погреба
Древние с вином коллекционным
Невостребованной страсти.
Я — раба
Ваша милости прошу с поклоном
В ноги, исцелованные мной.
Нежность одуряющую помните?
Ну позвольте, чтобы мне, дрянной,
Вожделенной, злой взметнули в комнате
С кружевами нервными, неровными
Юбки, чей присборенный подол
Ахнет! И осыплется на пол
Вашими записками любовными.
* * *
В лучах игры алмазна пыль на сцене…
И эти вот стихи твои, что вновь
Прочту, купив нечаянно. —
Две тени
Отбросит, вспыхнув заново, любовь.
Сквозь вечность испаренье духа над
Реальной тканью бытия, что взмокла
От смеси слёз и пота.
Тихий сад
Росы добавил, и седые стёкла —
Испарины, и все туманы — взгляд
Последний ваш, прощальный, не отсюда
Уже, а из обещанного чуда
На третий день съесть хлеб и виноград.
* * *
Нежно рябиновый жемчуг ссыпая в ладошку,
Даришь,
как в детстве,
ты мне расписную матрёшку
Осени, Ангел Хранитель.
А в ней их такое количество!
Я ощутила бессмертье,
Как лампу включив, — электричество.
(обратно)Альфред Хаусман НЕБО НА ПЛЕЧАХ
Первые свои переводы из Хаусмана я выполнил в конце 60-х. Это были "Восемь часов", "Когда мне было двадцать" и "Каштан роняет факелы цветов". Восторг и энергия молодости, трезвый, несколько отстраненный взгляд на окружающую действительность, самоирония показались тогда необходимыми и совпадающими с моими ощущениями.
Были мечты совместно с Михаилом Гаспаровым (этот замечательный ученый и переводчик тоже увлечен творчеством Хаусмана и опубликовал ряд собственных переводов в книге "Записи и записки") подготовить томик для серии "Литературные памятники", но они так и остались мечтами. Руки не дошли. Недавно, два малеевских лета подряд я перевел еще кое-что из Хаусмана — и опять вышла заминка.
Сейчас о герое нашей публикации. Будучи одним из самых любимых и известных поэтов Англии, Альфред Эдуард Хаусман (Хаусмен) сравнительно мало известен в нашей стране. Конечно, переводы его поэзии печатались в престижных английских антологиях, но отдельного русского издания его творчество пока так и не удостоилось. Поэт родился в семье адвоката 26 марта 1859 года и умер в 1936 году. Он окончил Оксфордский университет и долгие годы был профессором латинского языка и литературы, сначала в Лондонском университете (1892-1910), потом в Кембриджском университете (1910-1936). Писал статьи о римских авторах, редактировал английские издания их произведений, например, Ювенала (1905), Лукана (1926).
Первая же книга его собственных стихотворений "Шропширский парень" (1896) получила большое признание. Затем последовали "Последние стихи" (1923) и "Еще стихи" (1936). Собрание его произведений — небольшая по объему книга, но действительно "томов премногих тяжелей". И фетовская строка о Тютчеве здесь не случайна, мне кажется, что есть определенная параллель между значением Тютчева для нашей отечественной поэзии и Хаусмана — для родной английской. Грустные, даже мрачноватые по тону, меланхолические и нередко ироничные, традиционные по форме и авангардные по внутренней энергетике стихи английского классика, смею надеяться, станут явлением и на другом, русском языке. Проблематика жизни, смерти, высокого предназначения искусства в жизни общества и каждого отдельного человека у нас совпадают. Может быть, как группы крови. И такое переливание в роковые часы эпохи спасительно.
Виктор ШИРОКОВ
27 декабря 2001 года
1887
Торжественно горит маяк,
И люди говорят:
"Наверно, это добрый знак,
Что маяки горят".
Куда ни глянь — рассеян мрак,
Они ведут рассказ
О том, что минул век уж, как
Бог королеву спас.
Другой огонь сжигал сильней
Холмы чужой земли;
Ребята, вспомним же друзей,
Что Богу помогли.
Их жаждут небеса, любя;
Зовут их — "соль земли";
Но нет спасателей: себя
Как раз и не спасли.
Не счесть надгробий… Сохранил
Бог имя над костьми.
И воды разливает Нил
Над Северна детьми.
И мы, мечтою высоки,
Их не сдадим предел,
И пусть сияют маяки
Во славу ратных дел.
Наш общий гимн мы вновь споем,
Колебля небеса;
И пусть летят за окоём
Погибших голоса.
О, Бог спасет ее! Должны
Вы знать: от плоти плоть
Воистину у вас сыны,
Пусть подтвердит Господь.
***
О, вишня, видно за версту
Тебя всю в белом, всю в цвету,
До Троицы от Пасхи вновь
Стоит, стыдясь себя, любовь.
Из всех семи десятков лет
Уж целым двум гляжу я вслед,
А если двадцать весен прочь,
Как пятьдесят мне превозмочь?
Гляжу, как цвет усыпал сад,
Мне слишком мало — пятьдесят,
Но все же боль превозмогу —
Утешит вишня, вся в цвету.
ПРОБУЖДЕНИЕ
Эй, проснись: уж сумрак свода
Возвращается во тьму,
И горит корабль восхода
На востоке, весь в дыму.
Эй, проснись: дрожит воочью
Купол тени с этих пор,
И давно разорван в клочья
Ночи дырчатый шатер.
Ну, вставай шустрее, парень;
Утро барабанит в грудь;
Слышишь, крик дорог ошпарен:
"Кто еще не вышел в путь?"
Города и села строго
Прогоняют стылый сон;
Только парень босоногий
Жил с природой в унисон.
Ну, вставай, дружок; запели
Звонко мышцы в тишине:
Утро проводить в постели
Гадко, как и день — во сне.
Глина лишь недвижна, верьте —
Кровь гуляет дотемна.
Эй, вставай: дождешься смерти,
Хватит времени для сна.
***
О, глянь, как прилег ко цветку
На поле другой цветок,
Так на веку льнет к лепестку
Влюбившийся лепесток.
О, можно ль нарвать нам с тобой
Букет, как в те дни?
Что ж, горячо то же плечо.
"Рискни, дружок, рискни".
Ах, весна заключает в круг,
Жгучий в крови пожар;
Радостны вдруг дева и друг,
Покуда мир не стар.
Те же цветы вновь расцветут,
Разница есть, простак.
Жизнь твою рукой обовью.
"Так-так, дружок, так-так".
Парни есть, аж стыдно сказать,
Крадут, положив глаз;
Только цветок сорвут опять,
Так исчезают враз.
Сердце храни лишь для меня,
Гони жаждущих тел.
Моя любовь лишь тебе вновь.
"Запел, дружок, запел".
О, взгляни же в глаза, мой друг!
Все оставим, как есть.
Как зелена трава вокруг,
Могли бы тут присесть.
Ах, жизнь, она — тот же цветок!
Рви ее, не вздыхай.
Пожалей меня, обогрей.
"Прощай, дружок, прощай".
***
Если парень от тоски
Одурел, стал непохож
На себя; гудят виски,
Только ты его спасешь.
Излечим его недуг:
Бледность, красные глаза;
Только скрасите досуг,
Мигом высохнет слеза.
Что ж, лечите: утром, днем,
Ночью — лучше докторов.
Вот вы пышете огнем,
А любовник ваш здоров.
***
Лишь над Ледло дым взвился,
Пал на поле туман;
Беспечный, занятый вспашкой,
Не веря в обман,
Шагал я, мечтою пьян.
Черный дрозд из кустов снова
На меня посмотрел,
Внимая моему свисту,
А я пахал надел
И вот что просвистел:
"Ложись, ложись, юный йомен;
Что толку вставать?
Ты тысячу раз поднялся,
Чтоб когда-то не встать,
Тут-то мудрость познать".
Я вслушивался в коленца,
Как мелькал клюв — следил;
Я поднял камень и бросил,
Прощаясь, из всех сил:
Может, и убил.
Тогда вдруг душа звонко
Спела песню дрозда,
И снова рядом с упряжкой
Блистали, как в небе звезда,
Песни слова тогда:
"Ложись, ложись, юный йомен,
Солнце также зайдет;
Дорога людской работы
К отдыху приведет,
Свалится груз забот".
***
У Венлока в волненье лес,
Прически Рекин растрепал,
У бури новый интерес —
Являет Северну оскал.
Она трясет подножье рощ,
Там римский город Урикон:
Покажет старый ветер мощь,
Привычно жизнь метнув на кон.
Здесь римский воин до меня
Глядел на холм, спешил вперед:
Кровь полнит всполохи огня,
Все тот же чувств круговорот.
Жизнь не проходит без борьбы,
Времен петлиста ячея;
И шатко дерево судьбы:
Вчера — тот воин, нынче — я.
К младым деревьям интерес
У бури, может быть, острей,
Но преходящ: чужак исчез,
И даже не сыскать костей.
***
Воздух сердце мое убьет,
Он из давней страны:
Синие горы, алый восход,
Свежесть речной волны.
Он напомнит, что я любил,
Увижу каждую пядь,
Дороги счастья, где я ходил,
Где не пройдусь опять.
***
"Теренций, глупо холить плешь!
Ты что-то слишком много ешь;
О, знал бы ты, как устаешь
Следить, мол, пива много пьешь.
Ох, Боже мой, твои стихи
Еще тяжеле, чем грехи.
Бык, старый бык, он мертв сейчас;
Прекрасно спит, не вскинет глаз:
А мы несчастнее быка,
Нам голос твой намял бока.
Вот все же дружба хороша:
Друзей зарежешь без ножа
Одной безумною хандрой:
Что ж, подыграй, спляшу, друг мой.
Для плясок, явно не тихи,
Волынки лучше, чем стихи.
Скажи, есть хмель в твоем дому,
На Тренте Бартон почему?
А пэры, не боясь обуз,
Варят напиток лучше муз,
И голод Мильтона сильней
В познанье Бога и страстей.
Ведь эль, приятель, те и пьют,
Кому помыслить тяжкий труд:
Но только в кружку загляни,
Мир явлен словно искони.
И вера крепнет, чуть глотнешь:
Не будет бед, ядрена вошь.
О, я на ярмарке в Ледло
Раз спутал галстук и седло,
Но пива пинты притащил
Домой, не прибавляя сил:
Весь мир казался мне не плох,
А сам себе — отнюдь не лох;
И в грязь я рухнул, как в любовь,
Был счастлив, ан проснулся вновь,
И неба утренняя дрожь
Открыла, что все сказки — ложь;
Вокруг был тот же старый мир,
И тот же я, и полон дыр
Карман; к добру иль не к добру,
Но нужно продолжать игру.
И пусть заметят, что дерьма
Намного больше, чем ума;
Но все же солнце и луна
Дают мне шанс; моя вина
Искупится; и как мудрец
Натренируюсь наконец.
Пускай моя благая цель
Куда ненужнее, чем эль;
Выкручиваю черенок
В сплошной пустыне, одинок.
И все ж рискните: тяжкий вкус
Хорош в час горький; от обуз
Освободит. Рискнув уже,
Найдете уголок в душе;
Дар дружбы, а не дребедень
Поддержит в беспросветный день.
Итак, жил-был один король
Восточный: что ж, известна роль;
Всем им, хотят ли, не хотят,
Подкладывают в пищу яд.
Он был умен и собирал
Отравы всякие, вкушал
Сперва чуть-чуть, потом взахлеб,
Привычный отвергая гроб;
Всегда и весел, и здоров,
Он ужасал своих врагов.
Они подсыпали мышьяк,
Он ел, не умирал никак:
Они дрожали, жглись уста:
Яд не убил. Мораль проста.
— Я слышал также, аккурат
Прожил два века Митридат.
***
Если глаз подведет тебя,
Вырви, парень, и будь утешен:
Мазь уймет боль, спасет тебя;
Исцелит, как бы ни был грешен.
А рука-нога подведет тебя,
Отруби, дружок, будет дивно;
По-мужски убей пулей в рот себя,
Коль душа больна неизбывно.
СЫН ПЛОТНИКА
Здесь начинает палач:
Здесь начинается плач.
Вам — добра, меня — в нору,
Живите все, я умру.
Эх, лучше бы дома быть,
Отцу помочь тесать, рубить;
Был бы повенчан с теслом,
Спасся бы рукомеслом.
Тогда б возводил верней
Виселицы для парней,
Зато б не качался сам,
Не плакал по волосам.
Гляньте, высоко вишу,
Мешаю тем, кто внизу;
Грозят мне кулаками,
Зло разводя кругами.
Здесь я, слева и справа
Воры висят исправно:
Одна судьба — пути свои,
Средний висит из-за любви.
Друзья, дурни, зеваки,
Стоит послушать враки;
Взгляните на шею мою
И сохраните свою.
Итог печального дня:
Будьте умнее меня.
Вам — добра, меня — в нору,
Живите все, я умру.
Перевод с английского Виктора ШИРОКОВА
(обратно)Евгений Нефёдов ВАШИМИ УСТАМИ
ИЗБРАННОЕ "И хотя еврейской крови
Нет ни в предках, ни во мне,
Я горжусь своей любовью
К этой избранной стране".
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ
Если вы засомневались —
Поклянутся доктора,
Что сдавал я на анализ
Кровь, мочу et cetera.
И в крови моей при этом —
Убедились все кругом —
Ничего такого нету,
Как и в чём-нибудь другом…
Словом, дали предки маху.
Оттого по их вине
Долго маялся, бедняга,
Я в неизбранной стране.
Но взыграла кровь от грусти!
И, мгновенье уловив,
Как любой нормальный русский,
Жить я убыл в Тель-Авив.
Полюбил его, вестимо,
И гордился тем сполна.
Правда, рядом Палестина —
Из неизбранных страна…
И вернулся я обратно.
Но учти, Москва и Тверь:
Я люблю любовью брата
Только избранных теперь!
И хоть вроде бы другая
Кровь исконная моя,
Но любовь у нас такая,
Будто избранный — и я.
(обратно)

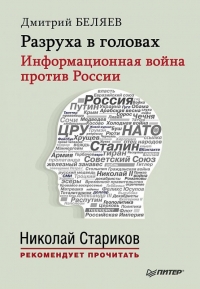



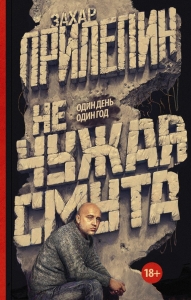

Комментарии к книге «День Литературы, 2002 № 02 (066)», Газета «День литературы»
Всего 0 комментариев