К 90-летию Энди Уорхола
Self-Portrait 1986
Энди Уорхол вырос в Питтсбурге, городе, знаменитом сталелитейной промышленностью. Теперь Питтсбург, в котором не осталось ни одной домны, известен благодаря Уорхолу. Его огромный музей — главная городская достопримечательность.
Еще школьником болезненный, похожий на девочку Уорхол открыл власть образов над реальностью — они помогали ему от нее сбежать. Однако, попав в Нью-Йорк, который с его помощью стал столицей мирового искусства, Уорхол остановился в растерянности перед выбором. «Пиши только то, что любишь», — посоветовал ему приятель. Уорхол нарисовал портрет доллара…
Впрочем, настоящую славу ему принесла банка с супом «Кэмпбелл», которым он двадцать лет обедал. Фокус этого полотна в том, что художник изобразил не суп, а лишь консервную банку. «В центре нашего мира, — молча говорит его одиозная икона, — не продукт, а упаковка, не сущность, а образ». С тех пор всю свою недолгую — 58-летнюю — жизнь Уорхол занимался одним: жизнью образов, оторвавшихся от прототипа, чтобы вести пугающе самостоятельное существование.
До Уорхола считалось, что художник выражал свой внутренний мир через образы мира внешнего. Но наше искусство уже ничего не выражает, оно только отражает окружающее, каким бы оно ни было. Поняв это, Уорхол стал королем банального.
Начав свою жизнь гадким утенком, он закончил ее, как хотел: прекрасным лебедем, вроде тех, которые в пору моего детства украшали самодельные базарные коврики. Уорхолу они бы наверняка понравились.
Александр Генис
04.08.2008
Эндшпиль
Выборы действительно соединяют спорт с искусством примерно в той пропорции, которая отличает шахматы
Америка полюбила Маккейна, как Дездемона Отелло — за муки
Смесь рас и религий, обладатель эксцентрического опыта и экстравагантного имени, Барак Хуссейн (sic!) Обама — лакмусовая бумажка терпимости
У Байдена на выборах одна роль — оттенять Обаму
Прежде всего Сара Пэйлин, несмотря на кличку Барракуда, — красавица
Следить за американскими выборами я начал задолго до того, как оказался в Америке. Поскольку в прежней жизни мы могли выбирать (да и то не очень) между сортами плодово-ягодного, заокеанская политика считалась неотразимой. Выборы с неведомым исходом тогда — и сейчас — казались экзотикой.
Попав в Америку и с трудом дождавшись права выбирать себе президента, я пользовался им каждый раз, когда этого требовала демократия. Не могу сказать, что мне часто доводилось склонить ее на свою сторону, но я старался. Даже тогда, когда знаменитому Рейгану противостоял совсем уж малозаметный и скоро забытый кандидат
— Генис за Дукакиса? — говорили друзья, — уже смешно.
— Зато не идиот, — огрызался я, объясняя, что древние греки называли этим словом каждого, кто не голосует.
В Америке таких примерно половина. Но и они не устают от политики, несмотря на то, что выборы тянутся уже полтора года. Демократия (помимо всего остального) — любимое развлечение Америки, успешно соперничающее со спортом. Это — тоже эмоциональная драма с ненаписанным финалом.
В ожидании его страна делает ставки, считает шансы и следит за главными игроками, не переводя дыхания и не отрываясь от телевизора. Речь Обамы на съезде демократов собрала больше телезрителей, чем открытие пекинских Олимпийских игр и последняя церемония раздачи «Оскаров».
Выборы действительно соединяют спорт с искусством примерно в той пропорции, которая отличает шахматы. Сейчас 18-месячная партия подошла к концу. На расчищенной от фигур и пешек доске наконец остались две главные пары. В этом составе им предстоит разыграть эндшпиль, который может закончиться чем угодно, кроме пата. Накануне решающей схватки — дебатов, — стоя посреди опустошенной предварительными выборами доски, герои позволяют себя рассмотреть анфас и в профиль.
Начнем с белых. В сознании среднего и незадачливого американца республиканец Маккейн занимает то же место, что положительный секретарь райкома в соцреалистических романах. И у того, и другого один — простительный — недостаток: вспыльчивость. Историю жизни Маккейна знает каждый. В Ханое он был не столько военнопленным, сколько политическим заключенным. Что-то среднее между Василием Сталиным и Владимиром Буковским. Америка полюбила Маккейна, как Дездемона Отелло — за муки, и только потом обнаружила, что у него есть не только чувство долга, но и чувство юмора. Когда 72-летнего кандидата спросили о возрасте, он пожаловался, что его мать недавно оштрафовали за превышение скорости. Больше всего Маккейн боится, что на выборах ему станет помогать другой, очень непопулярный республиканец — нынешний президент. Однако каждый раз, как, говорят, положено во флоте, Маккейн встает со стула, когда разговаривает с Бушем по телефону.
Если Маккейна знают все, любят многие и уважают остальные, то в ферзях у него — темная лошадка. Прежде всего Сара Пэйлин, несмотря на кличку Барракуда, — красавица. Она специально носит очки в уродливой оправе школьного завуча, чтобы ее принимали всерьез проголосовавшие за своего губернатора избиратели. Всех их — около 100 000 — можно собрать на одном стадионе, но на Аляске такого нет и не нужно. В этом штате людей меньше, чем карибу, зато все с характером, что мы с детства знаем из Джека Лондона. В своем губернаторском офисе Сара Пэйлин держит шкуру медведя-гризли, которого убил ее отец. Сама она стреляет не хуже. Муж ее наполовину эскимос, чемпион по гонкам на мотосанях. Детей — пять штук, да и старшая, 17-летняя, — уже беременная. Все это значит одно: чем бы ни кончились выборы, в Голливуде уже распределяют роли. Самая печальная — у гризли.
Фигуры другого цвета представляют Байден и Обама. Про первого сказать нечего. Он уже дважды сам был кандидатом в президенты, но все равно не запомнился. В Вашингтоне таких — полный сенат, и это — самое важное. У Байдена на выборах одна роль — оттенять Обаму.
Лучшее, что можно сказать о кандидате демократов, сводится к тому, что он — дитя планетарной цивилизации, ее гимн и воплощение. Смесь рас и религий, обладатель эксцентрического опыта и экстравагантного имени, Барак Хуссейн (sic!) Обама — лакмусовая бумажка терпимости. В том числе моей. Мне в нем все нравится, кроме цвета кожи. В стране политической корректности она представляется не заработанной, как крестьянское происхождение в Политбюро, привилегией: был бы Обама кандидатом в президенты, если бы он был не черным, а белым?
У меня есть еще два месяца, чтобы выяснить для себя ответ на этот вопрос. А пока я говорю о выборах со всеми, кто соглашается.
Дело в том, что обычные американцы политику, как зарплату и веру, с посторонними не обсуждают, но интеллигентные — не могут, как и я, сдержаться. На днях одна такая дама либерально-профессорской складки завела со мной беседу:
— За кого, — вежливо спросила она меня, — будут голосовать русские американцы?
— В большинстве своем, — осторожно ответил я, — наши соотечественники будут голосовать не за, а против.
— Кого?
— Обамы.
— Потому что республиканцы?
— Скорее — расисты.
— Как странно, — смутилась за нас она, — но ведь в России никогда не было афроамериканцев.
— Афроамериканцев — нет, но негры были.
— Кто?
— Пушкин.
— А, — обиделась она, — это вы так шутите.
Александр Генис
Нью-Йорк
04.09.2008
Тайна клубничного йогурта
Продолжаем публиковать заметки американского избирателя — нашего обозревателя Александра Гениса
Американские психологи поставили бесчеловечный эксперимент над ничего не подозревающими потребителями. Собрав в лабораторию 32 человека, ученые предложили им попробовать новый клубничный йогурт и поделиться своими ощущениями.
— По высшим, и потому непостижимым для непосвященных, техническим соображениям, — добавили садисты в белых халатах, — дегустация будет проходить в полной темноте.
Подлость выходки заключалась в том, что вместо клубничного подали шоколадный йогурт. Больше половины — 19 из 32 — не заметили подмены. Один любитель клубники даже поклялся всегда покупать только этот сорт. Участники эксперимента не были идиотами, но они так хорошо знали, чего ждать, что сумели переубедить себя, язык и разум.
В сезон выборов это происходит со всей разделенной на две партии Америкой. Каждая из ее половин способна услышать только то, что она уже знает. Поэтому дорогостоящая кампания, в сущности, обращена лишь к тем немногим, кто еще не принял решения. Остальные безнадежны, ибо партийная принадлежность переходит по наследству, определяется климатом, доходом, историей и, конечно, адресом. Сторонники разных партий не только не живут вместе, но даже не живут в одном месте. В Техасе, скажем, не голосуют за демократов, в Нью-Йорке — за республиканцев. В этих штатах можно и на выборы не ходить — все заранее известно.
С эмигрантами сложнее. Лишенные семейных политических традиций, они свободно выбирают себе партию по вкусу. Обычно — республиканскую. Нашим она кажется более мускулистой, более авторитетной, более патриархальной. Это — партия отца, а не брата.
Демократы — другие, поэтому в Америке за них голосуют все остальные. Профессора и рабочие, молодые и одинокие, женщины, «зеленые», звезды, интеллектуалы, члены профсоюзов, национальные и прочие меньшинства. Другими словами — либо богатые, либо бедные.
Различие между партиями должно определяться платформами, но, честно говоря, оно — в крови. Каждый в мире является демократом или республиканцем, даже если он и слов таких не слышал.
Чтобы узнать, кто вы, ответьте на вопрос: как вы относитесь к норковой шубе для пятилетней девочки? Республиканец порадуется — и за нее, и за ее преуспевающих родителей, и за рыночную экономику. Демократу будет жалко ободранную норку и чужих денег, которые можно было бы потратить на пользу обществу. Так во всем. Если республиканец хочет помочь бедным, он даст ему 1000 долларов. Демократ наймет чиновника, который проследит, чтобы бедный эту тысячу не пропил. Республиканцы хотят, чтобы правительства было меньше, демократы, чтобы оно было лучше, но те и другие всеми силами стремятся в Белый дом, говоря по пути избирателям все, что нам хочется услышать.
Приятнее всего избирателю узнать, что понизят налоги. Обама обещает это всем, кроме самых богатых, Маккейн собирается с них, богатых, и начать. Мне, как практически всей стране, это вряд ли поможет. Судите сами. Маккейн мне сэкономит 1400 долларов в год, Обама — 2200. Разница — 800 долларов, 15 — в неделю, цена одной пиццы. (В неметрической Америке площадь измеряют футбольными полями, скандалы — отставками, расходы — пиццами.)
Дело в том, что обычно президенты вообще мало что могут сделать с экономикой. Одним президентам, как Клинтону, повезло править страной в эпоху бума, другим, как Картеру, в период кризиса. Они тут ни при чем. Собственно, в этом — смысл Америки, не позволяющей государству вмешиваться в бизнес за пределами строжайшей необходимости. Об этих пределах в предвыборной кампании ведут долгие речи, но хлеб от них дешевле не станет, бензин — тем более.
Кеннеди говорил, что президент существует не для внутренней, а для внешней политики.
— Мне казалось, — признался он друзьям, — что первый раз я отработал жалование во время Карибского кризиса.
С международной политикой, однако, жить еще труднее, чем с внутренней. Беда и счастье американских выборов в их непредсказуемости. Мало того что никто не знает, чем они кончатся. Неизвестно даже, чему они посвящены. Считается, что у каждых выборов есть своя тема. Но когда борьба идет так долго, как в этот раз, сюжеты успевают состариться и смениться. Начиналось все хорошо, то есть просто — с ненавистной большинству войны в Ираке. Потом появился Иран. Затем бешено подорожал бензин. Наконец на поле боя вернулась Россия. А до выборов все еще семь недель.
Неудивительно, что кандидаты, не в силах следовать одной магистральной линии, говорят обо всем — много и сразу. Вокруг команды каждого претендента образуется семантическое поле, которое поддается статистическому анализу. Сравнив частотный словарь, мы можем обойти риторику и докопаться до подсознания каждой партии. (Примерно так работают рифмы, выдающие подноготную поэта. Данте следил, чтобы в его поэме высокое не рифмовалась с низким.) В получившейся таблице немного сюрпризов: демократы чаще упоминают медицинскую страховку, республиканцы — Бога. Первые клянут Буша, вторые не говорят о нем вовсе. Но самое частое у тех и других слово, казалось бы, не имеет смысла вовсе. Это — «перемены».
И Маккейн, и Обама с истерической настойчивостью повторяют, что следующие четыре года Америка будем жить не так, как предыдущие. Как именно — никто не знает, но точно, что иначе. И в этом заключается подспудное содержание выборов — любых, а не только этих.
Со стороны американская демократия кажется архаической и неэффективной, вблизи — смешной. Но третье столетие она справляется с главным: обеспечивает беспрестанный и неостановимый, грозный и грузный ход перемен. Эта машина позволяет скорректировать всякий курс, не давая злу стать вечным, добру — случайным, ошибке — неисправимой.
До тех пор, пока йогуртов два, не столь важно, чем они отличаются друг от друга.
Александр Генис
Нью-Йорк
15.09.2008
Бог, ружье и помада
Сара Пэйлин охотится на лосей по старинке — с ружьем
Я никогда не был на Аляске, но не раз рыбачил в Северной Канаде и поэтому знаю, что такое лось. Лось — могучее и даже опасное животное, если встретиться с ним на пустой дороге, как это случилось со мной, когда, разогнавшись от безнаказанности, я вдруг увидел его в ветровом стекле. Но Сара Пэйлин охотится на лосей по старинке — с ружьем. Впрочем, убить такого зверя куда труднее, чем справиться с его 800-килограммовым трупом. Самое сложное — так стремительно разделать тело, чтобы обогнать черных мух, торопящихся отложить яйца в парное мясо и превратить его в гниющую отраву. Ободрать шкуру, выпотрошить тушу, разрубить ее на части, довезти до холодильника и наделать котлет на всю семью и целую зиму — Сара Пэйлин все это умеет. Вопрос в том, достаточно ли этих навыков, чтобы оказаться в Белом доме и заменить при нужде президента.
Изрядная часть избирателей считает, что достаточно. И их можно понять, уже потому, что никто не знает, где и как учатся на президента. Герберт Гувер был горным инженером, Теодор Рузвельт — ковбоем, Авраам Линкольн — почтмейстером. Его наследник Эндрю Джонсон в юности работал портным. Казалось бы, ремесло должно было научить 17-го президента семь раз отмерить, прежде чем отрезать, но не научило, как выяснилось во время первых в истории США сенатских слушаний об импичменте. Даже сам основатель республики Джордж Вашингтон считал себя рядовым помещиком, которого обстоятельства вынудили стать военным. Правда, шесть следующих президентов были ведущими интеллектуалами своего времени. Но на деньгах оказываются портреты не самых образованных, вроде Вудро Вильсона, который был президентом не только Америки, но и Принстонского университета, а самые дерзкие, вроде генерала Эндрю Джексона, предпочитавшего книгам дуэли.
Америка охотно доверяет страну офицерам, потому что армия пользуется большим авторитетом, чем все остальные государственные институты. В нынешней президентской кампании это дает преимущество Маккейну. Как сказал один из его бывших сослуживцев, нужно обладать незамутненным чувством реальности, чтобы посадить свой самолет на палубу авианосца, особенно ночью.
Но это никак не помогает Саре Пэйлин, чей опыт в международной политике исчерпывается тем, что она видела Россию с одного из прибрежных островков Аляски. Всего два года назад она была мэром городка с населением семь тысяч человек. Я сам живу в таком, и мэр наш — тоже леди. В свободное от работы время она учит добровольцев йоге и, несмотря на свои семьдесят лет, может простоять на голове от одних выборов до других. Чем меньше город, тем труднее им управлять: мэр у всех на виду, каждая копейка на счету и всякое лыко в строку. Даже в родной Василле Сару Пэйлин не все любят. Либералы не могут забыть, как она пыталась выгнать библиотекаршу, отказавшуюся убрать с полки книгу о гомосексуалистах. Консерваторы как раз этому и рады. Сара Пэйлин твердо верит в Бога и считает, что американцы имеют право на оружие, а американки не имеют права на аборты. Эти убеждения позволяют ей возглавлять республиканское крыло феминисток, выступающих под новым девизом «Бог, ружье и помада».
Мужчин это возбуждает, женщин — не очень. Их оскорбляет, что республиканцы решили, будто дамы будут голосовать за любого кандидата в юбке. Только антисемиты думают, что евреи всегда выбирают евреев. Всякое ущемленное меньшинство не любит, когда его выделяют по одному признаку, тем более половому: выборы — не баня.
Впрочем, у Сары Пэйлин кроме женских есть и политические достоинства: она управляет Аляской. Хотя губернатором Пэйлин стала меньше двух лет назад, ее опыт все равно богаче, чем у сенатора-новичка Барака Обамы. Его послужной список еще короче. Главное в нем — участие в президентской кампании. Он втянул в политику и тех, кто ее презирал — по молодости, глупости или из принципа.
Слушая его речи, я не могу отделаться от впечатления, что попал на проповедь. Мерный синтаксис, тягучая мелодичность, нарастающее, как волны, приближающиеся к берегу, волнение, разрядка экстаза и легкое пробуждение от пережитого морока. Лучший оратор своего поколения, Обама вернул американской демократии красноречие: его риторика усыпляет бдительность и поднимает толпу. Обама — блестящий кандидат в президенты, но это еще не значит, что из него получится хороший президент. За Маккейна голосует опыт, за Обаму — надежда. Другими словами, на этих выборах будущее соревнуется с прошлым — чего бы это ни стоило настоящему.
Александр Генис
21.09.2008
Все, что Обама знает, Маккейн уже забыл
Теледебаты скажут о кандидатах больше, чем они сами о себе
Маккейн реагирует на соперника всеми фибрами души и мышцами тела
Экономика не является точной наукой.Это ясно уже потому, что экономисты грубо и резко противоречатдруг другу. С арифметикой такого небывает. Но если в ученом мире споры решают цифры и доказательства, то в экономическом - слухи, власть и психология.
Деньги, как утверждал в своей натурфило-софии Бродский, - пятая стихия. И управлять ею так же сложно, как остальными четырьмя, только еще труднее. Ведь тут мы имеем дело с нервной фантазией, опасным предрассудком, бестелесной абстракцией. Разве может нормальный человек представить себе те полтора триллиона долларов, которые потеряла американская биржа в этот понедельник? Или тем более внятно объяснить, куда они делись, откуда взялись, а главное - когда вернутся. Все, кто пытался мне это объяснить, так кричали друг на друга, что я выключил звук в телевизоре. Именно так - внемую - знатоки советуют следить за президентскими дебатами. Всю по-настоящему важную информацию человек выдает нам невольно, не открывая рта. Язык пытается отвлечь нас от правды, но жест, поза, гримаса выдают подноготную. Во всяком случае, с тех пор, как появился телевизор. Если бы его придумали раньше, чем радио, утверждал Маршалл Мак-Люэн, мир бы не знал Ленина и Гитлера. Дело в том, что, по его терминологии, телевизор -холодная медия, он не терпит идеологических скандалов. Опытный политик ведет себя в студии, как труп в морге. Он не позволяет себе впадать в раж, зная, что экран предательски преувеличивает эмоции, выдавая темперамент за истерику и шепот - за крик.
С физиогномической точки зрения на дебатах Маккейн проигрывает в сдержанности.Обама невозмутим и спокоен, может быть - чересчур. Он бесстрастно пережидает атаки и слишком педантично на них отвечает - не торопясь, сухо, вдаваясь в подробности, будто с кафедры.
Зато Маккейн реагирует на соперника всеми фибрами души и мышцами тела. Слушая Обаму, он недоверчиво ухмыляется, возводит глаза к потолку, разводит руками от удивления и передергивает плечами от неудовольствия. Пританцовывая от нетерпения, Маккейн ждет своей очереди врезаться в склоку с таким азартом, что посторонним становится неловко следить за этой пляской гнева и пристрастия. Хуже, что Маккейн, что уже все заметили, никак не может себя заставить посмотреть в глаза Обаме. Из этого следует, что Маккейну больше бы подошел взрослый противник - сверстник и ветеран, вроде Джона Керри.
Вынужденный терпеть того соперника,которого ему выбрали демократы, Маккейн каждую фразу начинает, как наш эмигрант в разговоре с американцами, - словами: «You don't understand». Обама, говорит Маккейн, не понимает, как и кем делается политика, что такое мир и зачем война, чего хочет средний американец и кого ему нужно слушаться. В ответ Барак Обама говорит что положено. Приводит цифры, цитаты, прогнозы. Но диалог не получается, турнир выходит вымученным, как дуэль, в которой противникам вручили заведомо разное оружие. Маккейну стыдно спорить с Обамой, как учителю с бывшим учеником, пусть и ставшим теперь профессором. Все, что Обама знает, Маккейн уже забыл. Один живет заемным умом, другой - своим прошлым. У них нет ничего общего, включая страну, за право управлять которой они бьются на глазах публики.
Америка Маккейна бесспорно лучше уже потому, что она напоминает ту, что я видел в Диснейленде: в ней чисто и светло. Зло - частный случай, недоразумение. Оно - всегда снаружи. Чтобы победить его, добру нужно объединиться. Буш придумал «ось зла»,Маккейн - клуб стран-джентльменов, вроде Франции и Англии. Сообщество развитых и либеральных демократий, обещает он, разделит с Америкой груз тех полицейских обязанностей, который Розанов с полным основанием называл священными.
Этот проект кажется нарядным, будто подкрашенная от руки олеография. И понятно почему. Провал ХХ века позволяет XXI столетию вернуться в XIX. Примерно так - после падения Берлинской стены - представлял себе будущее нынешний советник Маккейна Генри Киссинджер: мудрый раздел сил, тихий концерт наций, неторопливый прогресс в рамках разумного и границах возможного. В таком мире хочет жить каждый, но не может никто, ибо его нет. Буш, правда, сказал, что это и не важно: сильные президенты творят свою реальность. Другое дело, что она не нравится Америке. 80% ее населения считает, что страна идет не туда, куда нужно или хотелось бы. В этой статистике - вся надежда Обамы. В сущности, ему не нужно ничего обещать и ничего доказывать. Достаточно одного: убедить избирателей, что завтрашний Маккейн - это вчерашний Буш.
В дебатах, однако, редко побеждают нокаутом, обычно - по очкам. При этом, поскольку никто не знает, какой удар окажется решающим, в истории остаются одни курьезы. Так, считается, что на самых первых теледебатах Никсон проиграл Кеннеди, потому что был плохо выбрит. Рейган сразил Мондейла одной шуткой. Гор проиграл Бушу, допустив сарказм. Керри в споре с тем же Бушем погубили элитарные замашки. Нынешний сезон дебатов только начался, и избиратель вправе ждать крови. Пока карикатурно непохожие Маккейн и Обама идут ноздря в ноздрю - хорошо еще, что в одну сторону.
Александр Генис
01.10.2008
Зашить карманы
В надежде успокоить истеричку-биржу кандидаты ведут себя так, как будто они уже попали в Белый дом
91 год он держался прямо, шел твердо и говорил громко, потому что сам ничего не слышал. Показывая свои немереные владения, занимающие лакомую часть дорогого штата Коннектикут, он вел меня через сад и лес к холму с мраморным амфитеатром.
- В 30-е, - объяснил он, - я решил помочь пораженной безработицей стране и построить ей античный театр по образцу афинского. Мрамор пришлось выписать из Италии, рабочих - тоже, и до спектаклей дело не дошло. Но остались руины красивого замысла и - еще один курьезный анекдот про Великую депрессию.
Она в Америке не обошла ни богатых, ни бедных. Став семейным преданием всей страны, она оставила шрам на душе и вошла в состав национальной памяти. Американцы вспоминают о Великой депрессии, как в России - о сталинском терроре: непонятный и незаслуженный катаклизм, природу которого не объяснишь постороннему, да и себе - не очень.
О том, как и почему экономика гигантской страны в одночасье сократилась на треть, написаны библиотеки. И это пугает, потому что собранные там книги противоречат друг другу. Сходятся они, пожалуй, только в психологических причинах кризиса.
Зная по прежнему опыту, что в больную пору рынок больше всего пугает бездействие, власти сейчас принимают решительные меры, суть которых не в мерах, а в решительности. Финансы держатся на честном слове, и нам должен его дать тот, кому мы поверим.
К этому, собственно, стремительно и неожиданно и свелась вся президентская кампания. Если бы кандидаты были нормальными людьми, крах Уолл-стрита показался бы им нечестным выпадом судьбы. Но нормальные люди не рвутся в президенты, а те, кто этого добивается, втайне жаждут кризисов, ибо, лишь разрешив их, они добиваются места в истории.
Эта незатейливая, но убедительная мысль озарила меня, когда я услышал, как горячо и искренне Билл Клинтон жаловался на то, что 11 сентября Буш, а не он сидел в Белом доме. Другой бы радовался…
У Маккейна с Обамой, впрочем, нет выбора: от них хотят одного - чтобы это кончилось. Кандидаты говорят о разном, но обещают одно: спасти страну - не дать, как это было в Великую депрессию, финансовому кризису превратиться в экономический. Ирак и Иран, бензин и Россия, климат и медицина - все отошло в сторону ради новостей с биржи. Мало кто их понимает по-настоящему, но все умеют если не считать, то читать: беда особенно впечатляет, когда она выражена цифрами. Реагируя на кризис, претенденты в надежде успокоить истеричку-биржу ведут себя так, как будто они уже попали в Белый дом: оба предупреждают об опасности, оба уверяют, что она не смертельная, но только в том случае, если мы сделаем правильный выбор. Это не так просто, ибо в сенате претенденты голосуют одинаково, избирателям обещают одно и то же, друг друга обвиняют в одних и тех же грехах, и оба не говорят главного: не что делать, а кто виноват.
Проще всего валить на банкиров. В Америке их ненавидят, как и всюду. Наверное, поделом. Но ни один банк в целом мире не может заставить вас взять в нем заем. Для этого, как в танго, нужна пара. Одержимые алчностью банки виноваты в излишней доверчивости: они слишком охотно одалживали деньги тем, кто не мог расплатиться. Но если кандидаты в президенты охотно говорят о том, кто давал, то о том, кто брал, они также охотно молчат. И понятно почему. Совет, который кандидаты должны были бы дать своим избирателям - зашить карманы и жить по средствам, - не понравится народу. А в американской политике народ, как в советском учебнике, всегда прав. Избиратель - тот же покупатель, поэтому с ним не спорят - ему льстят, его утешают, от него утаивают его же слабости.
Одна из них - безудержный оптимизм, который создал Америку и вовлек ее в нынешний кризис. Американцы свято верят, что завтра будет лучше, чем сегодня, поэтому уже сейчас можно жить лучше, чем вчера. Говорят, что на каждый заработанный доллар средний американец тратит доллар и двадцать центов. Этим все объясняется: Америка живет в долг - давно, обстоятельно и со вкусом.
На эту вакханалию кредита я смотрю со стороны и с восхищением. На то, чтобы приобщиться к их вере, у меня ушло 15 лет. Только собрав четверть стоимости дома, мы купили его, взяв недостающее в банке. Сперва долг приводил меня в ужас - сумма требовала двух строчек прописью и напоминала государственный бюджет небольшой постсоветской республики.
Американцы, однако, в отличие от нас непуганая раса. В Старом Свете мы привыкли ждать худшего и редко ошибались в прогнозах. Но в Америке прогресс - не гипотеза, а религия. Здесь все всегда рослотерритория, население, заработки. Мы копим на будущее, они занимают в счет его. Кредит расширяет экономику, которая кормит кредит. Попав в это колесо, американцы в нем вертятся - с удовольствием и с благословения правительства. Сразу после 11 сентября Буш предложил настоящим патриотам отправиться за покупками. Что все и сделали, за исключением моего това-рища-технофоба.
- Для Америки, - говорит он, - мы с женой - страшнее Бен Ладена: у нас холодильник 52-го года, телефон с вертящимся циферблатом, а компьютера нет вовсе.
Александр Генис
13.10.2008
Черным по белому
Обама заставил Америку забыть о цвете своей кожи
В «Записных книжках» Довлатова есть фраза, которую он услышал на боксерском матче: «Чернокожего спортсмена можно узнать по голубой каемке на трусах». Эта цитата вертелась у меня в голове во время всех президентских дебатов, потому что Обама и впрямь заставил Америку забыть о цвете своей кожи. За 20 месяцев кампании он так примелькался на экране, что мы перестали обращать внимание: кандидат не хуже других, разве что уши смешные.
На самом деле за этим стоит историческое достижение. Обама — не первый чернокожий претендент на пост президента, он — первый, кто не делает из этого проблемы. Отказавшись представлять угнетенное меньшинство, Обама вынес расу за скобки дискурса: раз он не говорит о неграх, и нам не положено. Но мы все-таки поговорим.
За проведенную в Америке треть века лицемерие стало моей второй натурой — необходимой и естественной. Пожалуй, это лучшее, что можно сказать о политической корректности. Не умея дельно отвечать на все больные вопросы взаимного бытия, она убирает их с поверхности, надеясь, что раз с глаз долой, так и из сердца вон.
Это не совсем ложь, но и не вся правда. С тех пор как негры стали афроамерикан-цами, многое изменилось. Гарлем перестал считаться трущобами (Билл Клинтон снял там себе офис). Постепенно сравнялись средние доходы белых и черных семей (другое дело, что процент последних куда меньше, чем первых). Тем не менее мне довелось бывать в церквах и школах, где белого лица не видели поколениями. Черные и белые живут в Америке похоже, но по-разному. Работают, скажем, вместе, а отдыхают врозь.
Обо всем этом, однако, вы не узнаете из газет, которые исповедуют бескомпромиссный расовый дальтонизм — как все приличные люди. Встречаются, конечно, и неприличные. Со мной такое было однажды, много лет назад и в Северной Каролине. Местная тетка, узнав, что мы из Нью-Йорка, с ужасом спросила у сына: «Как же ты в одну школу с ниггерами ходишь?»
Я так испугался, что до сих пор никому не рассказывал, ибо даже чужой расизм оставляет пятно на репутации размером с Аляску. Ляпнуть про негров в Америке очень стыдно. Просто не знаю, с чем сравнить. Разве что напиться в гостях у невесты или отобедать с Жириновским. Скрывая свои худшие чувства даже от себя, американцы не скажут, что думают, — никогда и никому, начиная, конечно, с социологов. Стараясь казаться лучше, им все врут с особым азартом. Согласно опросам общественного мнения, четыре пятых американцев говорят, что пьют диетическое пиво, но только 20 процентов покупают его на самом деле.
В этом главное препятствие Барака Обамы на пути к Белому дому. В политике оно называется «Фактор Брэдли», по имени первого чернокожего мэра Чикаго. Опережая белого соперника на шесть процентов, он все равно проиграл ему, потому что избиратели обещали одно, а сделали другое.
За две недели до выборов Обама тоже лидирует во всех опросах общественного мнения — и тоже процентов на шесть. Ситуация на его стороне: девять из десяти американцев считают, что страна под управлением республиканского Белого дома идет не туда, куда им бы хотелось. Рейтинг Буша лишь чуть выше, чем был у Никсона перед тем, как его собрались подвергнуть импичменту. Казалось бы, кандидат Демократической партии, к тому же победивший на всех дебатах, уже не может проиграть. Обама не только обещает, но и перечисляет перемены, он выглядит как президент и ведет себя не хуже. И все же дотошный и искусный анализ Стэнфордского университета показывает, что, будь Обама белым, за него проголосовали бы больше избирателей — на все те же шесть процентов.
Речь не идет об идейных расистах, которые ни при каких условиях не поддержат чернокожего кандидата. Таких всего 10 процентов, и они уже полвека не голосуют за демократов. Зато 50 процентов остальных американцев (и черных, и белых) подвержены расизму бессознательному, неуправляемому, бескорыстному, оставляющему вместо чувства вины легкий привкус недоверия.
Я знаю, потому что сам такой. Меня не смущает раса Обамы до тех пор, пока он ею не пользуется. А такое бывало. Красивая и умная Мишель Обама за 300 тысяч в год следила за тем, чтобы выгодные контракты доставались обойденным в других отношениях меньшинствам. Сам Обама вел университетский семинар, объясняя юристам-аспирантам, как обнаружить дискриминацию и побороть ее. В том, что будущая президентская чета сражалась за восстановление исторической справедливости, еще нет греха, но сомнения остаются.
Меня смущает, когда профессией становится раса, происхождение, вера, национальность или сексуальная ориентация. Возможно, потому, что в жизни мне нередко доводилось встречать профессиональных евреев, профессиональных русских, профессиональных христиан, а также гомосексуальных поэтов, писавших всегда об одном и том же. Поскольку я вырос в стране, где классовое сознание заменяло человеческое, мне не нравится, когда личность выражает себя с помощью любой группы…
«Вот так, — перебивает меня политически корректный внутренний голос, — и работает подсознательный расизм. Ты рационализируешь предрассудки, чтобы найти повод проголосовать за кандидата одного с тобой цвета».
В этом, впрочем, я тоже не уверен. Особенно после того, как на недавнем митинге сторонников Маккейна к нему подошла немолодая дама в красном (цвет республиканцев) платье и, доверительно склонившись к своему герою, сказала:
— Сенатор, ну как я могу доверять Обаме? Он же — араб!
— Нет, мэм, — светясь от благородства, ответил Маккейн. — Обама — не араб, а приличный, семейный человек.
«Господи, что он несет», — подумал я и отложил окончательный выбор до первого вторника после первого понедельника.
Александр Генис
23.10.2008
Логос водки
К 70-летию Венедикта Ерофеева
У поэмы «Москва — Петушки» — гениальная судьба: ее все знают. Фольклорный характер придает столь условные черты автору, что все, но особенно — незнакомые, называют Венедикта Ерофеева именем персонажа: Веничка. Нам трудно поверить, что за ним стоял настоящий, а не вымышленный, вроде Козьмы Пруткова, писатель. Веничка будто бы соткался из пропитанного парами алкоголя советского воздуха, материализовался из той фантасмагорической атмосферы, в которой вольно дышала лишь его проза. Но я знаю, что это не так, потому что видел Ерофеева, правда, только в гробу.
В пятницу, 11 мая 1990-го, впервые после 13 американских лет, мы с Вайлем прилетели в Москву, договорившись, наконец, познакомиться с любимым писателем, но успели лишь к похоронам. Даже мертвый, Ерофеев поражал внешностью: славянский витязь. Его отпевали в церкви, вокруг которой толпился столичный бомонд вперемежку с друзьями, алкашами, нищими. Сцена отдавала передвижниками, но в книгах Ерофеева архаики было еще больше. Его стилю был свойствен средневековый синкретизм. Высокое и низкое тут еще не разделено, а среднего нет вовсе. Поэтому и ерофеевские герои — всегда люмпены, юродивые, безумцы. Их социальная убогость — отправная точка: отречение от мира — условие проникновения в суть вещей. В пьесе «Вальпургиева ночь» автор вывел целую галерею таких персонажей. Им, отрезанным от действительности стенами сумасшедшего дома, отданы все значащие слова в пьесе. Врачи и санитары суть призраки, мнимые хозяева жизни. В их руках сосредоточена мирская власть, но они не способны к духовному экстазу, которым живут пациенты, называющие себя «високосными людьми».
Ерофеев — сам такой. Автор глубокий и темный, он обрушивает на читателя громаду хаоса, загадочного, как все живое. У Ерофеева нет здравого смысла, логики, закона и порядка. Пренебрегая злобой дня, Веничка всегда смотрел в корень: человек как место встречи всех планов бытия.
Ерофеев никогда не был за границей, чего не скажешь о его поэме. В Америке я впервые столкнулся с ней в 1979-м. В Новой Англии тогда проходил фестиваль советского нонконформистского искусства. Его гвоздем была инсценировка «Петушков». Если не брать в расчет не упомянутую в тексте «Смирновскую», постановку можно было назвать адекватной. Удалась даже Женщина трудной судьбы со стальными зубами — а ведь такой персонаж нечасто встречается в Массачусетсе. Объяснить это можно было только тем, что консультантом университетского театра выступил Алексей Хвостенко. Богемный художник, драматург, певец и поэт, он лучше других мог объяснить симпатичным американским студентам, что такое «Слеза комсомолки», как и зачем закусывать выменем херес, а главное — почему в этой книге столько пьют.
Водка — ось ерофеевского творчества. Поэтому ее не надо оправдывать — она сама оправдывает текст. Алкоголь — стержень, на который нанизан сюжет. Герой проходит все ступени опьянения — от первого спасительного глотка до мучительного отсутствия последнего, от утренней закрытости магазина до вечерней, от похмельного возрождения до трезвой смерти. В строгом соответствии этому пути выстраивается и композиционная канва. По мере продвижения к Петушкам наращиваются элементы бреда, абсурда. Мир вокруг клубится, реальность замыкается на болезненном сознании героя. Но эта клинически достоверная картина описывает лишь внешнюю сторону опьянения. Есть и другая.
Венедикт Ерофеев — исследователь метафизики пьянства. Алкоголь у него — концентрат инобытия. Опьянение — способ вырваться на свободу, стать — буквально — не от мира сего. Каждый глоток расплавляет заржавевшие структуры нашего мира, возвращая его к аморфности, к той плодотворной протоплазме, где вещи и явления существуют лишь в потенции. Омытый водкой мир рождается заново — и автор зовет нас на крестины. Отсюда — то ощущение полноты и свежести жизни, которое заряжает читателя.
В этом экстатическом восторге заключена самая сокровенная из множества тайн этой книги — ее противоречащий сюжету оптимизм. Как бы трагична ни была поэма Ерофеева, она наполняет нас радостью. Рождение нового мира происходит в каждой строке, каждом слове поэмы. Главное — бесконечный, неостановимый поток истинно вольной речи, освобожденной от причинно-следственных связей, от ответственности за смысл и последовательность.
Ерофеев вызывает из небытия случайные, как непредсказуемая икота, совпадения. Здесь все со всем рифмуется. В каждой строчке — кипит и роится зачатая водкой небывалая словесная материя. Например, так: «Мне как феномену присущ самовозрастающий логос». «Логос» — это одновременно слово и смысл слова, органическое, цельное знание, включающее в себя анализ и интуицию, разум и чувство. У Венички логос «самовозрастает», то есть Ерофеев сеет слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы. Он только сеятель, собирать жатву читателям. И каков будет урожай, зависит от нас — толкователей, послушников, адептов, переводящих существующую в потенциальном поле поэму на обычный язык.
Перевод неизбежно обедняет текст. Вкладывая смысл в Веничкино словоблудие, мы возвращаемся из его протеичного, еще неостывшего мира в наш — уже холодный и однозначный. В момент перевода теряются чудесные свойства ерофеевской речи, способной преображать трезвый мир в пьяный. Зато такого — переведенного — Веничку легче приобщить к лику святых русской литературы. В ее святцах он занял место рядом с Есениным, Высоцким. Щедро растративший себя гений, невоплощенный и непонятый, — таким Ерофеев входит в мартиролог отечественной словесности.
Беда в том, что, обнаруживая в «Петушках» трагедию, мы теряем комедию. Причем — какую! Не хуже «Горе от ума», которая тоже разошлась на пословицы.
Александр Генис
24.10.2008
очему я за Обаму
Заметки американского избирателя. Финал
Сегодня кандидаты молчат: агитировать уже поздно, голосовать еще рано. Первая пауза в двухлетней кампании позволяет вместо них поговорить о себе. Ведь по-настоящему я знаю, что творится в голове лишь одного избирателя. Чтобы разобраться с ним, мне придется начать сначала.
В Англии, где среднего американца часто считают мускулистым братом-второгодником, все американские выборы называют «абортными». Это объясняется тем, что вопрос об искусственном прекращении беременности рано или поздно оказывается в центре полемики кандидатов даже тогда, когда среди них нет женщин. Такой – отвлекающий – маневр применял еще Ганнибал, но республиканская партия довела эту стратегию до совершенства. Ее драматургия предвыборной кампании строится на побочном сюжете, который постепенно вымещает главный со сцены. Этим американские выборы напоминают авангардный театр. Если главным героем в «Гамлете» оказывается Лаэрт, то это – инверсия трагедии, если Розенкранц – ее перверсия. В американской политике, как и в пьесе Тома Стоппарда, смена перспективы позволяет говорить о своем, не меняя обстоятельств места и времени.
За 30 американских лет я уже привык к тому, что каждый четвертый год страна оказывается на краю пропасти, которой вчера не было, а завтра не будет. В разгар предвыборной борьбы внезапно, как Хоттабыч из кувшина, выползает проблема, из-за которой избиратели бросаются друг на друга, хрипя и давясь от ярости. Эмоциональный заряд всегда обратно пропорционален важности темы. Больными всегда оказываются вопросы эзотерические, схоластические, экзотические и не имеющие никакого отношения к реальной жизни. Ну, скажем, можно ли сжигать американские флаги? Следует ли обсуждать интимные вопросы с теми гомосексуалистами, которые служат в армии? Правда ли, что человек произошел от обезьяны? Разрешено ли однополым жениться? Ну и, конечно, всегда актуальными остаются аборты, о которых подробно высказаться обязан каждый политик.
Ни одна президентская кампания не решила ни одну из этих проблем (кроме флагов, которые научились делать несгораемыми), что и неважно. В сущности, это – искусство для искусства, вопросы без ответов, предвыборные коаны. Их задача – занять нас отвлеченными силлогизмами. На них можно было бы не обращать внимания вовсе, если бы на них не обращали внимания избиратели, определяющие не только свою, но и мою судьбу.
Другими словами, моя долгая распря с республиканцами началась с мелочей, ибо исторический фундамент у нас общий: нам не нравится манера государства вмешиваться в не свои дела.
– Если правительство тебе все дает, – говорят республиканцы, – то оно может все и отнять.
Зная это на собственном опыте, мой отец вступил в республиканскую партию, как только добрался до Америки. Он слишком долго жил в стране, где государство граничило, с кем хотело, решало, сколько стоит масло, и назначало Исаева главным, а Бродского – местечковым поэтом. Неудивительно, что отец прельстился партией, которая ему торжественно обещала, что государства будет меньше.
Я понимал его правоту не только умом, но и бумажником. Считается, что власть республиканцев выгодна среднему классу, который получает от Вашингтона меньше, чем ему дает. Остальные американцы, впрочем, тоже не любят своего правительства, ибо оно, как всякое другое, мешает им жить, как хочется, – без налогов и чиновников. Подогревая эту врожденную антипатию, республиканцы говорят, что рвутся к власти, чтобы свести ее на нет. Демократы просто рвутся к власти. Однако различий между двумя позициями меньше, чем кажется, потому что, добравшись до Белого дома, каждая партия поступает не как обещала, а как получится – затевает войну и тратит чужие деньги.
Другое дело, что последние восемь лет республиканцы делают это с особым азартом. К тому же они выдают свои партийные приоритеты – от той же войны до тех же абортов – за американские. Такая подмена кажется мне рискованной, потому что патриотический аргумент нужен только неумелой власти. Всякий раз, когда я вижу американский флаг на лацкане кандидата, мне хочется проверить оценки в его дипломе. Конечно, риторической возбудимостью страдают и их соперники. Но они хотя бы не учат меня жить и молиться.
Это еще не причина, для того чтобы голосовать за Обаму, но завтра я это все же сделаю.
Я пойду голосовать за Обаму не потому, что его план действий кажется мне намного лучше. Я не верю ни одному кандидату, твердо зная, что никто из них не сможет сделать все, что обещал. Политика нужна не для того, чтобы решать проблемы, а для того, чтобы жить с нерешенными.
Я пойду голосовать за Обаму даже не потому, что он сам мне больше нравится. Маккейн – идеалист, патриций, американская знать в лучшем смысле этого слова, вроде Сципионов. Ему бы я доверил прошлое, но не будущее. Маккейн лучше знает, каким он хочет видеть мир. Зато Обама лучше знает, каким мир хочет видеть Америку, и это значит, что у них больше шансов договориться.
Александр Генис
«Бог из машины»
Америка разъярена кризисом и мечтает найти виновных. Сегодня это — три короля автомобилестроения, возглавляющих «Дженерал Моторс», «Форд» и «Крайслер». Священных коров индустрии разжаловали в простых козлов отпущения…
В 1991 году, готовя первую книгу, вышедшую сперва в Москве, а не в Нью-Йорке, где Петр Вайль и я тогда жили, мы долго искали название своему сборнику эссе про Америку. Оказалось, что лучше всего подходило слово, которого не было в русском языке. Решив его туда ввести, мы назвали книгу «Американа», присовокупив объяснение из толкового словаря Вебстера: «Собрание материалов, имеющих отношение к Америке, ее культуре и цивилизации». Я не знаю, вошел ли этот термин в язык, но мне по-прежнему он кажется удобным, даже — незаменимым. Поэтому теперь, начиная новую рубрику, я хочу назвать ее, как ту давнюю книжку. Еще и потому, что мне приятно вспомнить то азартное время, когда двадцать лет назад здоровыми, молодыми и веселыми мы, как, собственно, и я сейчас, мечтали объяснить России, чем и почему Америка на нее не похожа и как с этим жить.
— Что случилось, — пристал я к летчику, узнав, что самолет, который обещал меня увезти в Москву, не собирается покидать нью-йоркский аэродром.
— При посадке, — снизошел пилот до объяснений, — в сопло попала птица. Лопасти покорежило, но и ей не поздоровилось.
— А какая птица? — как всегда не удержался я.
— Белоголовый орел, — без улыбки ответил летчик, — и я его понимаю: с такой-то экономикой…
Я не стал спорить, хотя Америка пока далека от суицидальных настроений, скорее она разъярена кризисом и мечтает найти виновных.
Сегодня это — три короля автомобилестроения, возглавляющих «Дженерал Моторс», «Форд» и «Крайслер». На них пал гнев американских налогоплательщиков, которые разжаловали священных коров индустрии в простых козлов отпущения. На них проще вымещать обиду за экономические разочарования. Если куда более виноватые банки прячутся за необъяснимую даже экспертам вязь финансовых причин и следствий, то машины у всех на виду — и они японские. Больше всего автомобилей в США теперь продает «Тойота», а это, конечно, любому обидно, ибо машина, как вестерн, — сугубо американский товар.
Впервые я познакомился с американскими машинами еще до школы, когда в 57-м году до нас длинными окольными путями добрались со знаменитой московской выставки США цветные автомобильные каталоги. Это была порнография консьюмеризма. Взрослые тяжело дышали, я учился читать: «Кадиллак», цвет — брызги шампанского».
До сих пор не знаю, что это значит, но мой старший брат купил такой автомобиль, как только мы перебрались в Америку. Будучи ровесницей той самой, сводившей нас с ума выставки, машина была длиной с анаконду, заводилась через раз и обходилась дороже квартплаты. В конце концов, даже механику, разбогатевшему на дряхлой роскоши, надоела починка, и он посоветовал купить новую. Так мы и сделали, но уже — каждый свою.
Моя называлась «Форд Таурус». Нас связывали нежные отношения, но ее украли, пока мы чинно посещали Бруклинский музей. Обидно, что в багажнике хранились припасы на ужин — каравай черного хлеба, круг чесночной колбасы и непочатая четверть «Абсолюта». Вряд ли все это пригодилось ворам, потому что, когда месяц спустя машину вернула полиция, в пустом багажнике валялись жирные обертки от бургеров из «Макдоналдса».
Побывав в нечистых руках, «Форд» работал с прохладцей, особенно зимой, и я сменил его на «Субару», потом на «Хонду», потом опять на «Субару». Как ни странно, примерно то же, не сговариваясь, делали друзья и родственники. Постепенно во всех знакомых гаражах поселились японские машины вместо американских. Когда я рассказывал эту историю в Японии, хозяева — чета знатных славистов — поблагодарили меня, встав с татами и поклонившись в пояс. Для них это была национальная победа на чужой территории.
Как все невольные поступки, выбор сделать проще, чем его объяснить. В японских машинах никогда не было помпезности, гордыни, даже — красоты. Они брали свое тусклыми добродетелями, вроде надежности, долговечности и внимания к деталям. Японские покупатели проверяют качество окраски бензобака — изнутри. Меня убеждает инструкция, предусматривающая техосмотр, после того как машина пройдет 250 тысяч километров.
Японские машины лучше всего подходят среднему — во всех отношениях — классу. Они для тех, кто не вкладывает душу в автомобиль, не путает себя с ним и думает о нем реже, чем о жене и кошке. Остальные покупают машины подороже. Врачи ездят на «Мерседесах», программисты — на «БМВ», плейбои — на «Мазерати». На американских машинах ездят либо бедные — на ржавых, либо богатые — на грузовиках, которых у нас почему-то считают и называют «спортивным транспортом»: SUV.
Худший из них — «Хаммер», самая уродливая машина по эту сторону от танка, от которого она мало отличается. «Хаммеру» не нужна дорога, ибо он может катиться по любой, включая лунную, поверхности. Однако до Луны далеко, и большая часть «Хаммеров» принадлежит биржевым маклерам. Поэтому чаще всего эти монстры (я про машины) стоят в манхэттенских пробках, напрасно съедая бензин и отравляя последний воздух.
Летом, когда нефть стоила в три раза дороже, я стоял в очереди на автостанции рядом с заправлявшимся «Хаммером». Цифры в окошечке мелькали, будто счет шел на песеты, а не на доллары. После первой сотни я злорадно взглянул на шофера. Молодой и глупый, он еще улыбался, но уже делано.
«Хаммер» — автомобильная виагра. Но вместо того чтобы избавить от сомнений, она обнажает их. Чем больше автомобиль, тем мельче сидящая в ней личность. Поэтому растянутые, как гармошка, лимузины арендуют школьники на выпускной вечер: у них еще все впереди и им трудно наполнить салон даже в складчину.
Долгие годы Детройт, автомобильная столица Америки, паразитировал на национальном комплексе неполноценности, от которого страну вылечила дороговизна. Когда цена на бензин добралась до четырех долларов за галлон, внедорожники стали бросать и подкидывать — продавать их было уже некому.
Нельзя сказать, что детройтская тройка не видела, куда все идет. Она просто не верила, считая, что с большими машинами американцев связывают вечные патриархальные узы, а с маленькими — ветреное либеральное увлечение. Возможно, так и есть. И страна, переждав трудные времена, еще вернется к своим домашним самосвалам. Но сейчас будущее, особенно после того как Вашингтон, вроде греческого «бога из машины», готов вложить в него 15 миллиардов, выглядит совсем иначе.
— Кризис, — говорят экономисты, — слишком дорог, чтобы не использовать его по назначению.
О том, каким оно — назначение — может быть, говорит пример компании General Motors, как раз этой осенью отметившей свое столетие. У юбиляра, славного прежде всего «Кадиллаками» (они до сих пор считаются непреложным знаком богатства в Китае), было много звездных часов. Незадолго до войны инженеры GM создали автоматическую трансмиссию, что радикально упростило управление машиной и усадило за руль женщин, удвоив число водителей в стране. В 60-е фирма продавала 51% всех автомобилей в Америке. Сегодня GM, потеряв за три последних года больше 70 миллиардов, выпросил денег у Вашингтона. Они нужны, чтобы спасти уже готовую к продаже в 2010 году судьбоносную новинку — электрический автомобиль «Вольт», который заряжается от обыкновенной домашней розетки. Такой машине не нужен бензин, а электричества она расходует меньше, чем холодильник на кухне.
Если Америке окажется по карману такая машина, она, став панацеей и лозунгом, сможет смыть грязное пятно с нашей экологической совести и геополитической карты. Успешный электрический автомобиль способен радикально изменить расклад сил, упразднив геологические преимущества, которые кормят и дразнят нефтяные режимы.
— Каменный век, — тревожно сказал по этому поводу саудовский принц, — кончился отнюдь не потому, что не осталось камней.
И это верно, потому что прогресс, как жизнь, идет не только окольными путями, но иногда и вспять. Я, скажем, в ответ на автомобильный кризис сделал, что мог: купил четвертый велосипед. Теперь у меня есть горный — для гор, спортивный — для равнин, гибридный — для покупок и трехколесный — для жены, которая только на таком и умеет ездить.
Александр Генис
Нью-Йорк
12.12.2008
Дары волхвов
Кризис — это как чудо, только наоборот
Морозным вечером мы повезли друзей из провинции смотреть рождественский город. С набережной нас прогнал ветер, от которого мы решили укрыться в самых старых кварталах Нью-Йорка — кривых и узких улочках, окружавших базарную площадь.
Тут-то они и полезли — из всех дверей, щелей и закоулков. С каждой стороны к елке стекались Санта-Клаусы. Сосчитать их было нельзя, объяснить — тем более. Словно красные лемминги, они брели, ослепленные общей, но непонятной целью. Колонны пьяных Дедов Морозов туго заполняли переулки. Слабые шли обнявшись, сильные пихались ватными животами, остальные наступали друг другу на ноги в декоративных валенках. Это было Рождество — на марше. Я сумел опознать в толпе анклавы азиатов и африканцев. Как некогда — волхвы, они представляли все стороны света. Тут за спиной раздалась дружная дробь копыт.
«Олени!» — осенило меня, но вместо них из-за угла выскочило полсотни пикантных Снегурочек в коротких полушубках, цокающих высокими каблуками по сохранившейся только в этой части Америки булыжной мостовой.
— Откуда вы все взялись? — спросил я, отбив от стада самую покладистую.
— С Северного полюса, откуда же еще? — надменно ответила она и ускакала за подружками.
— Santa-Сon, — наконец сжалился над нами полицейский. — Фестиваль такой, интернетский. Они — ничего, когда в бороды не блюют.
Я увязался за алой волной, вполне безобидно буянившей в городе, пока не разобрался, чего мне в них не хватало: подарков!
Санта-Клаус на самообслуживании — с бутылкой, но без мешка.
В таком обличии, впрочем, он лучше вписывался в сегодняшнюю экономику, норовящую каждого превратить в скрягу Скруджа.
Две трети американцев уже объявили, что потратят на подарки меньше обычного. Для страны это — плохая новость, для детей — обидная, для всех — рискованная. В декабре всякий американец, включая атеистов и агностиков, ходит со списком людей, о которых он редко и без желания вспоминает в более спокойное время года.
Дело в том, что помимо праздника любви и добра, Рождество еще и национальный день блата. Традиция и коррупция советуют нам подкупить каждого, от кого мы зависим круглый год. Государство с этим борется: официальных лиц — от учителей до президентов — одаривать нельзя. Даже на почте запретили мои конфеты. Зато в частной сфере — чем больше, тем лучше, и попробуй забыть.
Послушный неписаным законам, я сую в конверт двадцатку парню, привозящему мне «Нью-Йорк таймс», — чтобы он, швыряя на крыльцо килограммовую газету, не промахнулся и не сломал три наши и без того капризные розы. Механику, честно и благородно, что великая редкость, починяющему мою машину, положена дорогая водка, тем более что я сам научил его пить — закусывая, но не разбавляя. Хозяину одесской лавки «Самовар» пойдет книжка «Русская кухня в изгнании» — чтобы не забыл позвонить, когда будет готовить фаршированную рыбу. Еще есть мясник, оставляющий мне почки для рассольника, рыбник, хранящий лососевые головы на заливное, зеленщик из корейский лавки, владеющий редкой в наших краях редькой, дворник, который из всех английских слов твердо знает только «Christmas», медсестра, ухаживающая за мамой, и, конечно, дантист, которого просто необходимо подкупить, чтобы не хвалил Буша, пока у меня рот занят сверлом.
Мелкие дары — рождественский мазут. Раз в году смазывая детали сложной социальной машины, мы обеспечиваем ее бесперебойный ход на следующие 12 месяцев. Поэтому Рождество — решающий фактор в календаре американской экономики. Она ждет его, как невеста — свадьбы.
В этом году она будет небогатой. Американцы учатся экономить с таким же азартом, с каким они привыкли тратить. Экономия — из нужды и так — вдруг оказалась модной добродетелью. Одни открыли бутерброды, другие научились ходить пешком, третьи отказались от необходимого — но не лишнего.
Когда я вчера проезжал (как всегда — на велосипеде) по нашей улице, то возле каждого дома валялись ждущие мусорщиков мордастые телевизоры. Их заменят новые — с плоским экраном, чтобы не нужно было тратить деньги на билеты в кино. Экономия рационализирует трату: роскошь легче простить, когда она маскируется выгодой.
Поэтому магазины по-прежнему полны. В одном, «Wal-Mart» на Лонг-Айленде, даже продавца раздавили. И уязвленная кризисом Америка не может себе отказать в своем главном чувственном удовольствии. Сам я, кроме книг, все приобретаю по правилу буравчика: первое слева, но у других свершение покупки вызывает оргиастический восторг. Сейчас, правда, он часто остается бесплодным: 20% товаров возвращают в магазин не распакованными. Шопинг без затрат напоминает мне то, что в молодости называлось «крутить динамо»: любовь без взаимности.
В ужасе от падения покупательской решительности сразу два президента уговаривают нас отказаться от холостых приобретений. Сегодня Буш и Обама действуют в единодушии, редком для представителей партий-антагонистов. Но кризис, как лесной пожар, всех побуждает к противоестественному поведению. (Директора трех главных автомобильных компаний Америки согласились на зарплату в один доллар в год.)
Реагируя на кризис, газеты каждый день предупреждают об опасности, умоляя сделать правильный выбор. Ведь в конечном счете все зависит от нас — покупателей. Мы и есть экономика. Понимая это, напуганные будущим американцы готовы делать, что скажут, но не могут — все сразу. Между тем от нас требуют взаимоисключающих поступков: экономить и тратить, жить по средствам и ни в чем себе не отказывать.
— Беда в том, — твердят нам эксперты, — что покончив с расточительностью, швырнувшей страну в кризис, мы угрожаем ее благополучию тем, что перестаем им пользоваться.
С этим силлогизмом не способен справиться наш бедный здравый смысл, однако его и не требуется. Большая экономика, как квантовая физика, оперирует не житейской, а парадоксальной логикой. Она требует не копить на завтра, а жить за его счет.
«Кредит, — говорят учебники, — расширяет экономику, которая кормит кредит».
Чтобы это подозрительное с точки зрения механики колесо не остановилось, от Америки требуется вернуть себе уверенность и вести себя так, будто ничего не произошло. То есть отправиться за подарками, признавая, что Рождество неизбежно.
Считается, что в эпоху экономических бед песни становятся грустными, фильмы — семейными, романы — пространными, люди — серьезными. Юбки носят длинные, наряды меняют реже, зато намного больше продают губной помады, которой дамы себя балуют вместо новых платьев и ювелирных украшений.
Что бы ни говорили экономисты (их мы уже слушали), «кризис» — понятие психологическое и явление метафизическое: было, было, и вдруг не стало.
Это — как чудо, только наоборот. Поэтому мы подспудно воспринимаем угрозу как нечто внешнее, непонятное, хуже того — необъяснимое. Перед такой опасностью необходимо сплотиться, используя внутренние ресурсы.
Быстрее всего отреагировало самое чуткое к духу времени искусство — реклама. В одной из них показывают «новый ресторан». Он и она: молодые, красивые, яппи. На кухонный стол ставят свечи, цветы и вываливают в нарядную миску кастрюлю любовно сваренных макарон. (Их, кажется, и рекламировали.) Другими словами, поужинать можно и дома, так даже теплее. И тут, нащупав нерв, реклама начинает давить, всучивая нам все, что греет: свитер, плед, тапочки, электрический камин, старые фильмы, щенка, обручальное кольцо с бриллиантом. Товары — разные, смысл — один: пережить экономические бури помогут только прочные — семейные — узы и надежные — домашние — радости.
В сущности, это — ценности Рождества.
Александр Генис
19.12.2008
Тени в раю
Святочная история
Святочный рассказ не может обойтись без призраков, а здесь их была целая деревня. Не обращая на нас внимания, они занимались своими непростыми делами. Надо признать, что это были очень работящие привидения, ибо никто из них не отрывался от трудов своих ради нравоучений в стиле Диккенса. Если они чему и учили смертных, то лишь усердию.
Матрона в чепце заправляла грандиозной стиркой. Женщина помоложе, но тоже в чепце, кормила нежных ангорских коз. Юная стряпуха с бешеным, как у всех здесь, румянцем готовила обед, разминая травы в ступе. На дворе ражий мужик в портах и некрашеной полотняной рубахе строгал доску из чуть тронутого топором соснового бревна. Сучков было много, ствол — огромным, работа шла медленно, и до Нового года ему было никак не справиться.
Здесь, однако, никто и не торопился. Время для них прекратило свое течение век назад, когда расположенная в глухом углу, между Вермонтом и Массачусетсом, деревня шейкеров Хэнкок, окончательно обезлюдев, стала достоянием ряженых. Одни были родственниками умерших, другие — писали диссертации об их наследстве.
Самые интересные музеи Америки — те, где нет экспонатов. Это — выкраденные из настоящего оазисы любовно восстановленной истории. Лавочки, церкви, школы, тюрьмы, питейные дома, верфи, конторы. Здесь пекут хлеб по рецептам с «Мэйфлауэр», говорят на елизаветинском английском, распускают слухи о конфедератах, а президента Рузвельта фамильярно называют Тедди. Дороже всего в здешних домах — гвозди (железо!), газеты тут выходят раз в год, моды не меняются никогда. Устроив такой заповедник прошлого, ученый персонал с женами, детьми и домочадцами ведет здесь щепетильно воскрешенную жизнь, устраивая зевакам парад старинных ремесел, демонстрацию допотопных обычаев, выставку отживших нравов. Несмотря на бесспорную экзотичность музеев-аттракционов, это, в сущности, огороженное забором пространство будней. Индейских, как в Теннесси, колониальных, как в Вирджинии, фронтьерских, как в Неваде, или викторианских, как в Коннектикуте. Банальность, вроде сработанной доктором наук бочки, возводится в музейное достоинство. При этом теряет всякий смысл драгоценное для музея различие оригинала с копией: выставляется процесс, не что, а — как.
Среди «музеев образа жизни» деревня шейкеров Хэнкок — самый странный и по-своему соблазнительный уголок Америки из всех, где мне доводилось бывать. Шейкеры, которых в России издавна называют трясунами, — религиозная секта, перебравшаяся из Англии в Америку. Вот что о них велеречиво рассказывает источник столетней давности: «Эта религиозная конфессия была основана Матерью Энн Ли, прибывшей в Нью-Йорк из Англии с семью последователями в 1774-м. Они верили в равенство мужчины и женщины, а также всех рас и национальностей. Сообщества трясунов-шейкеров выращивали и делали почти все, в чем они нуждались. Имущество их было общим. И они не верили в брак».
Зато они верили, что второе пришествие Христа состоялось, что матушка Энн Ли — его земное воплощение, что Царство Божие уже наступило и трясуны первыми вкусили от его плодов. Попросту говоря, шейкеры верили, что живут в раю. Их мир был совершенным и завершенным. Он не нуждался в будущем, а значит, в детях: в раю, говорил Христос, не женятся. Поэтому шейкеры жили в целибате, соблюдая строгое разделение полов. Только танцевали они вместе — в кружок, по многу часов, на каждом богослужении. Отсюда и название.
— Почему все-таки трясуны? — спросил я у румяной поварихи, решившись оторвать ее от сложной стряпни.
Мне показалось, что вопрос ее смутил, но она ответила, как учили, вежливо улыбнувшись.
— Танцы такие.
— Покажите, — не отставал я.
Поняв, что от меня не избавиться, она отставила варево с чугунной плиты и запела один из тех десяти тысяч духовных гимнов, которыми трясуны наградили музыкальную традицию Америки.
Дойдя до умилительного места, девушка опустила руки вниз и потрясла кистями.
— Так стряхивают грехи.
Потом она подняла руки и опять потрясла ими.
— Так провожают душу на небеса.
Повторяя простые па, она кружилась все быстрее, тряслась все сильнее, дышала все тяжелее, и лицо ее становилось все счастливее.
Сперва богослужение у шейкеров было открытым — так вербовали новых сторонников, но когда выяснилось, что молитвы, песни и танцы приводят к трансу, пускать стали только своих, опасаясь преследований. Без новых адептов секта не могла долго протянуть. Сегодня в Америке осталась одна община — в штате Мэн. Живут в ней четыре человека.
Порядок был манифестацией Бога для шейкеров. Они верили, что обитать в раю должно быть легко и просто, как внутри больших часов, какими они видели Вселенную. «Колхоз» трясунов бесперебойно производил счастье, ибо они вели всегда одинаковую и потому предсказуемую жизнь, которая находила себе выражение в предельно рациональном устройстве быта.
Все жители Хэнкока делили многоэтажное общежитие с гигантскими окнами, чтобы экономить на свечах. В ярко-желтых (чтобы светлее) спальнях стояли широкие койки вдоль занавешенных для тепла кирпичных стен. Больница, оборудованная сидячими ваннами. Аптека с лекарственными растениями, которыми шейкеры славились на всю страну. Для духовных упражнений — синяя, как небо, молитвенная зала без признаков мебели. Трапезная вмещала всю общину, в период расцвета — человек двести. Длинные столы, стулья с низками спинками, чтобы проще поднимать, когда пол моют. Есть полагалось молча, поэтому на каждых четырех человек ставился поднос со столовыми приборами, включая солонку, — чтобы не надо было ничего просить у соседа. На обед уходило всего десять минут, но ели вкусно: каждое утро — яблочный пирог.
Та же экономия усилий и чистота линий отличает все хозяйство шейкеров. Они изобрели круглый скотный двор, чтобы проще кормить скотину, стиральную машину из дерева и овальные коробки, занимавшие меньше круглых места на полке. Их ремесло не терпело избытка — никаких украшений, узоров, ничего лишнего. Зато каждая без исключения вещь, вышедшая из шейкерской мастерской — метла, шкаф, те же знаменитые на всю Америку овальные коробки для мелочей, — сияет добротностью, «идеальностью»: лучше просто не сделать.
Дизайн шейкеров восхитил художников-модернистов и архитекторов-функционалистов, когда они открыли себе неожиданных предтеч в трясунах. И действительно: Хэнкок выглядит так, будто его построил Корбюзье пасторального века. Но в отличие от его развалившихся шедевров, изделия шейкеров сохранились в первозданном совершенстве и прелести. Как в дзене, столь созвучном практике шейкеров, красота здесь рождалась невольно — от брака утилитарной пользы со страстным усердием.
Сами шейкеры при этом не интересовались искусством, да и не знали его. Но благочестие труда вдохновляло все, что они делали. В том числе ту небольшую картину, которую мне удалось купить в Хэнкоке.
Шахматная рамка, тщательно загрунтованный холст, а на нем чисто-красное яблоко с зеленым листком. Написанное честно и прямо, оно светится изнутри и приковывает взгляд. Сразу видно, что это — праяблоко, первое и единственное. Наверное, так выглядел плод с Древа познания. Но жившие в строгом безбрачии шейкеры не познали его вкуса. Поэтому они, собственно говоря, и вымерли. Жалко.
Александр Генис
26.12.2008
Благие намерения
О других результатах этой сострадательной деятельности можно судить по судьбе сборщика клубники из калифорнийского поселка Бэйкерфилд, который, получая 14 долларов в час, купил без аванса дом за 720 000…
У меня есть часы, которые скоро остановятся. Говоря точнее, в полдень 20 января. В Нью-Йорке эту игрушку продают уже давно. В 2000-м, когда Буш впервые стал президентом, большая, не голосовавшая за него часть Америки с трудом согласилась ждать и кипеть четыре года. В 2004-м, когда Буша выбрали во второй раз, нетерпеливые эмигрировали в Канаду, взбесившиеся — в Новую Зеландию, другие, как и я, купили часы, показывающие, сколько дней, часов и мгновений нам осталось жить с этим президентом.
Собственно, их всех кто-нибудь да не любит — такая работа. Я помню, что диссиденты считали Картера мямлей, ставя в вину поцелуй с Брежневым. В Сан-Франциско я однажды пересекся с демонстрацией студентов, именовавших Рейгана «врагом людей, зверей и минералов». Что говорить, близкий приятель чуть не выставил меня из-за накрытого стола, когда я вступился за любвеобильного Билла Клинтона. Но ни разу за проведенную в Америке треть века мне не приходилось видеть страну столь сплоченной в неприязни к ее лидеру. Друзья не могут простить Бушу ошибок, которые враги называют преступлениями.
— Приглашаю вас на мою казнь, — сказал президент репортерам, дожидающимся инаугурации его преемника, и был недалек от истины.
Чем меньше времени осталось до смены власти, тем более кровожадной становится Америка, не простившая президенту их общих заблуждений. И никому, конечно, не легче от того, что Буш стал жертвой исключительно благих намерений:
… и сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но жажда братства…
Бродский писал о другой стране, но кажется, что — и об этой. Дело в том, что Буш хотел быть рыцарем — таким, каким их изображают в детских (но не во взрослых!) книжках. Именно поэтому, начав войну в Афганистане, он простодушно назвал ее, как все хорошее в своей версии истории, «крестовым походом». И так — во всем. Буш искренне путал лояльность с талантом и предпочитал ее компетентности. Он называл любимым философом Христа, свободу считал необходимостью и набирал штат из единоверцев, интересуясь взглядами кандидатов на проблему абортов.
За все это Бушу предстоит отвечать перед историей, но, не дожидаясь ее выводов, Америка уже решила, что не простит ему лишь одного — финансового кризиса, который пытается отобрать у нее самое дорогое: мечту.
Американская мечта, как скажет прохожий и учит Конституция, у каждого своя.
Но это так только считается. Для вменяемого большинства американская мечта — собственный дом, ибо в чужом живут либо неудачники, либо временно.
В этой стране слишком долго сохранялось не знакомое Старому Свету предубеждение против доходных домов, тех солидных, основательных построек, что придают «скромное очарование буржуазии» европейским городам. В Америке, однако, считалось само собой разумеющимся, что порядочный человек не станет жить под одной крышей с кем попало. Американцы смотрели на многоквартирный дом с той брезгливостью, какую у нас вызывала коммуналка. Делить вестибюль, лифт или лестницу с посторонними означало напрашиваться на неприятности, рисковать целомудрием и ставить под удар репутацию. Поэтому дома с дорогими съемными квартирами — такие, как ставшие нью-йоркскими достопримечательностями «Ансония» или «Дакота», — заманивали жильцов немыслимой роскошью: оркестрами, висячими садами, бассейнами с живыми тюленями. И все-таки в этих прокатных дворцах селились преимущественно эмигранты, правда, знаменитые — Тосканини, Стравинский, Джон Леннон. Поэтому незатейливая американская улица до сих пор состоит из односемейных домиков, не замечающих, что они не отличаются друг от друга. Иметь такой дом — цель и оправдание.
Живя с удовольствием, но безалаберно, я долго не понимал этой страсти, но когда скрепя сердце ей все же поддался, то обнаружил, что она мне нравится. Только оказавшись в своем доме, ты обнаруживаешь, чего тебе раньше недоставало. Среди нежданных радостей — свобода от чужих праздников, роскошь лишнего пространства, азарт локальной политики, погода, начинающаяся сразу за порогом, который ты переступаешь босиком, чтобы дотянуться до утренней газеты. Говоря проще, дом меняет походку и делает взрослым. Завести дом — все равно что жениться, только, конечно, намного важнее, потому что эти узы уже нельзя расторгнуть в течение следующих 30 лет, пока ты платишь банку за свою двухэтажную мечту.
Зная это, правительство, манипулируя налогами, подбивает нас купить дом, потому что недвижимость — гарантия от социального беспокойства и страховка от гражданского неповиновения. Домовладелец послушен закону, привязан к власти, ему нужна политическая стабильность и незнакома зависть. То есть в личном порядке я могу ненавидеть соседа, но экономически мне выгоден его успех: когда он улучшает свою недвижимость, моя становится дороже. Кроме того, считается, что недвижимость побуждает голосовать за республиканцев.
Получив по наследству здоровую экономику, Буш решил поделиться ею с бедными. С большой помпой и сокрушительными последствиями Белый дом инициировал программу, позволяющую купить дом практически каждому. Американская мечта стала доступна почти всем, но прежде всего национальным меньшинствам. Их ждало пять с половиной миллионов домов, которые можно было купить без аванса, то есть без денег. На это Вашингтон ассигновал по 200 миллионов в год, остальное давали банки. Их деятельность правительство оценивало не по эффективности, а по количеству займов бедным.
Буш хотел лучшего и рассуждал прямолинейно. Поскольку богатые в Америку приезжали редко, бедность здесь всегда была универсальным, но транзитным состоянием. В этом уравнении недвижимость служит социальным ускорителем. Бедные автоматически становятся богатыми, приобретая дома, которые постоянно растут в цене: солдат спит — служба идет.
Итогом этой социальной инженерии стало рекордное за всю историю страны число домовладельцев, составившее на своем пике 69,3% от всего населения. О других результатах этой сострадательной деятельности можно судить по судьбе не говорящего по-английски сборщика клубники из калифорнийского поселка Бэйкерфилд, который, получая 14 долларов в час, купил без аванса дом за 720 000, без всякой надежды за него расплатиться. Одни покупали дома в надежде на жильцов, другие — на будущее, третьи — на дурачка, и все — в долг, обеспеченный исключительно благими намерениями правительства. Отсюда и беда: экономика, как все живое, не терпит насилия, даже если оно оправдано любовью.
Это не значит, что в кризисе виноваты только бедные. Богатые тоже хороши. В разгар бума дома покупали и продавали, не успев в них въехать. Еще недавно никто не мог поверить, что дом, такая твердая, ощутимая, материальная вещь, может оказаться столь же эфемерным, как невесомая акция. Когда это стало ясно даже банкам, в стране начались поспешные распродажи, бедные остались, где были раньше, цены рухнули, и каждый шестой дом сегодня стоит меньше, чем за него должны хозяева.
Для тех, кто живет под своей крышей, с одной стороны, ничего не изменилось, с другой — всё. Ведь дом — персональный банк, овеществленный семейный капитал, заложив который, учат детей, покупают дачу, проводят старость. В конечном счете от цены недвижимости зависит самочувствие Америки. Сейчас она сама не знает, считать себя богатой или бедной. И это опасно, потому что американскую экономику тормозят не бездомные и безработные, а те, кто, боясь оказаться среди них, перестал тратить деньги в ожидании — то ли лучшего, то ли худшего.
Александр Генис
Нью-Йорк
16.01.2009
С распростертыми
...В этом сокровенный смысл инаугурации: финальный праздник демократии. Никогда еще Америка так ему не радовалась
Как многие знают, а остальные догадываются, отдать власть намного труднее, чем ее добиться. Сами отцы-основатели окончательно поверили в победу американской революции лишь тогда, когда торжественно и мирно произошла первая смена президентов. Это вроде бега с эстафетой: важно не только обогнать других, но и безошибочно передать палочку. В этом сокровенный смысл инаугурации: финальный праздник демократии.
Никогда еще Америка так ему не радовалась. 79% американцев не могли дождаться, когда Буш покинет Белый дом. Примерно столько же — 82% — ждали Обаму с распростертыми объятиями. И этот показатель на 15% выше, чем тот, каким мог до сих похвастать любой из начинающих президентов. Оно и понятно: инаугурация — апофеоз любви Америки к себе. Проголосовав за Обаму, она, преодолев темные предрассудки, оказалась лучше, чем сама думала. Теперь об этом можно уже не спорить, а вспоминать с лестным удовлетворением. Выборы Обамы — что высадка на Луну: непрагматическая победа.
Во всяком случае, так ее восприняли в нашем тихом, казалось, навеки захваченном пенсионерами избирательном участке, где в тот судьбоносный вторник впервые выстроилась очередь. В столетней мэрии, под мутными портретами усатых магистратов, принадлежащих кисти заслуженно забытых художников, гудела пестрая толпа. Она выглядела, словно сама Америка. Пожилая пара принаряженных корейцев, матрона с взрослыми детьми, тезка-почтальон (я с ним часто болтаю), чернокожая женщина-пастор из протестантской церкви и несколько непривычно сдержанных юношей призывного возраста и неопределенной этнической принадлежности. Отстояв в очереди, нажав заветную кнопку, убедившись, что мой голос засчитан, я раздвинул похожие на театральный занавес шторы кабинки и неожиданно для себя чуть поклонился дожидавшимся избирателям. Мы друг другу даже похлопали, ибо все понимали, что угодили в историю.
В день инаугурации она кончилась и началась другая, о которой еще ничего не известно. Напуганная самым упрямым на памяти двух поколений кризисом Америка ждет от Обамы даже больше, чем он обещал, но прежде и больше всего — работы.
«Я вырос, — как писал о себе кумир моей молодости Валерий Попов, — в бедной профессорской семье. Мы одалживали деньги даже у сильно пьющей дворничихи. Зато в нашей жизни всегда было место празднику». С буднями оказалось сложнее, в том числе — и в Америке. Безработным я здесь был трижды, каждый раз переживая это состояние крайне болезненно.
Сперва меня вытурили из грузчиков. И правильно сделали. Даже невооруженным взглядом было заметно, какое омерзение у меня вызывала ненужная, нехитрая и нудная работа. Оставшись без нее, однако, я не смог заснуть и изменил взгляды. В ту ночь во мне (как потом и так же стремительно в России) произошел переход от социализма к капитализму: из обузы труд превратился в привилегию. С тех пор я часто думаю, что, как евреем или негром, каждому полезно побыть безработным — лишь бы недолго.
В отличие от европейцев, где встречаются вполне счастливые династии безработных, американцы, оставшись без труда, заболевают острым комплексом неполноценности. Мучительная, как парша, безработица страшна еще и потому, что она разъедает каждый день, ставший безнадежно свободным. Сладким безделье бывает лишь тогда, когда есть дело. Навязанная лень, что целомудрие старой девы — тяготит и тянется.
Противнее всего мне было в очереди за пособием. Придя в унылую контору еще до открытия, я усаживался в первом ряду с толстой книгой. Но читать ее я не рисковал, боясь не услышать своей короткой фамилии. Чиновница выкликивала имена тихо, неразборчиво и лишь по одному разу: пропустил — зубы на полку.
Унизительной была не система, а ее слуги — мелкая, упивающаяся короткой властью бюрократическая челядь. Такие могли найти себя только в государственном аппарате, готовом приютить тех, кого не стерпит рынок. В Вашингтоне их — целый город, за что его ненавидит страна.
С правительством тут всегда было сложно. От своих отнюдь не легендарных основ Америка сохранила истерическое недоверие к центральной власти, мешавшей Новому Свету опробовать то, чего не было в Старом. Ведь с самого начала эта земля была социальной кунсткамерой, собиравшей политические, экономические и религиозные курьезы. Колумб считал Америку Индией, знать — Англией, квакеры — братством, мормоны — раем, пуритане — чистилищем, евреи — Бруклином, пионеры — свободой. Чтобы хоть как-то навязать всем им свою волю, понадобились революция, гражданская война и сорок три президента. Но и 44-му будет нелегко убедить страну в необходимости массированного вмешательства государства в дела своего народа, хотя вроде бы все от Обамы только этого и ждут.
Американцы, как все просвещенные народы, выбирают свое правительство и, как все остальные, с трудом его выносят. По степени недоверия к власти страну легко разделить между левыми и правыми, демократами и республиканцами, предшественниками и последователями Рейгана.
— Правительство, — сказал он, — не может решить ни одной проблемы, потому что оно и есть проблема.
Эту знаменитую фразу признали мантрой, не нуждающейся в расшифровке, ибо пересказать этот тезис можно только политически некорректными словами.
— Государство, — шепчет Америке ее внутренний голос, — существует для того, чтобы отобрать у одних (богатых и белых) и отдать другим (бедным и черным).
Кризис, однако, неразборчивый дальтоник. В дни испытаний, когда одних миллиардеров сажают в тюрьму, а другие бросаются под поезд, работа нужна всем — любой ценой и за любые деньги.
Зная это, Обама обещает создать четыре миллиона рабочих мест, в том числе за счет тех, кто еще платит налоги. Вечный вопрос в том, сумеет ли государство распорядиться ими лучше нас. Вот почему, хоть Обама и приносил присягу на Библии Линкольна, книжки он сейчас читает о другом президенте — Рузвельте, конечно — Франклине, том самом, который взял в штат безработную Америку и навсегда изменил ее облик. Парадокс истории в том, что Великая депрессия тяжело уязвила коллективное сознание страны, но сделала ее красивей, чем она была.
Рядом с моим домом, сразу за мостом через Гудзон, начинается одно из бесчисленных парковых шоссе, раскинувшихся по лучшим уголкам страны без особой на то необходимости. В тридцатые их строили федеральные власти, чтобы платить скромное и необходимое жалованье той четверти Америки, которая осталась без него. Наша дорога — моя любимая, потому что она никуда не ведет. Это — прогулочная трасса сквозь кленовые леса и еловые холмы, открывающие вид на реку. То и дело через шоссе переброшены изящные мостики в модном тогда стиле арт деко. Все они — разные, чтобы дать заработать архитекторам. На каждом выезде — парк: заселенные форелью пруды, столы для пикников, детские площадки, навес с камином под крутой, как в шале, крышей на случай дождя. И где-нибудь в углу состарившаяся табличка, напоминающая о том, что за все эти зеленые радости расплатилась федеральная программа Рузвельта. Память о ней разбросана повсюду. В Нью-Йорке, например, это — судейский квартал с такими парадными дворцами правосудия, что колонн у них больше, чем в акрополе. Даже писателям Белый дом нашел тогда дело. Шесть тысяч авторов отправили сочинять путеводители по каждому штату. Среди них был и Джон Стейнбек, и Джон Чивер, и Сол Беллоу.
Примерно это обещает Америке Барак Обама, но далеко не всех такой план радует. Если одни историки считают, что Рузвельт спас Америку, то другие — что не очень. Экономике, говорят они, просто повезло: началась война, занявшая все, в том числе и женские, руки. Оборонная промышленность, выпускавшая каждые 90 секунд по большому бомбардировщику, и была той самой «экстраординарной программой стимулов», что, покончив с Великой депрессией, принесла всем выжившим беспрецедентное процветание.
Надо сказать, что такая интерпретация прошлого оставляет будущему пугающую перспективу. Но, к счастью, ученые не всегда правы. Я в этом убедился, следя за финансовыми новостями. Когда нефть стоила сорок долларов за баррель, один эксперт предсказывал, что цена дойдет до ста. После того как это случилось, он пообещал, что к нынешней зиме цена на нефть перевалит за две сотни, но она вновь упала до сорока. Как видим, специалист был прав один раз из двух. И это значит, что предсказательная сила экономической науки не меньше, чем у орла и решки.
Александр Генис
Нью-Йорк
22.01.2009
Как отпевали Бродского
Поэт оставил свой день рождения России, а день смерти — Америке
Собор святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке
Когда (28 января 1996 г.) умер Бродский, я был в Иерусалиме и никогда об этом не жалел. Говорят, что уже в похоронном бюро (на Бликер-стрит, в Гринвич-Вилледж) началась борьба российских чиновников за тело поэта. К тому же после смерти у Бродского оказалось столько близких друзей, что им стало тесно в русском Нью-Йорке.
Не успев к похоронам, я попал на поминальную службу в кафедральном соборе св. Иоанна Богослова. Эту самую большую в мире готическую церковь заложили больше века назад, а строят (и перестраивают после страшного пожара в 2001-м) еще и сегодня. Тут много достопримечательностей: уголок поэтов, как в Вестминстерском аббатстве, бесценные витражи, знаменитая коллекция детских рисунков, портрет мироздания на бизоньей шкуре (приношение индейских племен). В соборе св. Иоанна царит либеральный экуменический дух. Здесь даже отмечают предрассветными концертами вполне языческие праздники зимнего и летнего солнцестояния. К тому же в расположенном возле Колумбийского университета соборе всегда много профессоров и студентов.
Дата поминального вечера была выбрана без умысла: просто до 8 марта собор был занят. Только потом подсчитали, что именно к этой пятнице прошло 40 дней со дня смерти Бродского.
В древних русских синодиках традиционный распорядок поминовения объясняют тем, что на третий день лицо умершего становится неузнаваемым, на девятый — «разрушается все здание тела, кроме сердца», на сороковой — исчезает и оно. В эти дни усопшим полагалось устраивать пиры. Но чем можно угощать тех, от кого осталась одна душа? Бродский был готов к этому вопросу. В «Литовском ноктюрне» он писал: «Только звук отделяться способен от тел».
И действительно, в тот вечер собор заполняли звуки. Иногда они оказывались музыкой — любимые композиторы Бродского: Перселл, Гайдн, Моцарт, чаще — стихами: Оден, Ахматова, Фрост, Цветаева, и всегда — гулким эхом, из-за которого казалось, что в происходящем принимала участие сама готическая архитектура. Привыкший к сгущенной речи молитв, собор умело вторил псалму: «Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными».
Высокому стилю псалмопевца не противоречили написанные «со вкусом к метафизике» стихи Бродского. Их читали, возможно, лучшие в мире поэты. На высокую церковную кафедру взбирались, чтобы прочесть английские переводы Бродского, нобелевские лауреаты: Чеслав Милош, Дерек Уолкот, Шимус Хини. По-русски Бродского читали старые друзья — Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Анатолий Найман, Томас Венцлова, Виктор Голышев, Яков Гордин, Лев Лосев. Профессионалы, они не торопясь ощупывали губами каждый звук. Профессионалами они были еще и потому, что читали Бродского всю свою жизнь.
После стихов и музыки в соборе зажгли розданные студентами Бродского свечи. Их огонь разогнал мрак, но не холод. Вопреки календарю в Нью-Йорке было так же холодно, как и за 40 дней до этого. В этом по-зимнему строгом воздухе раздался записанный на пленку голос Бродского:
Меня упрекали во всем, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
И стану просто одной звездой.
Не сердце, а голос последним покидал тело поэта. После стихов в соборе осталась рифмующаяся с ними тишина.
Годовщина смерти Бродского — особая дата для русской Америки. Поделив жизнь между двумя странами, Бродский оставил свой день рождения России, а день смерти — Америке. Это — наша годовщина. Может быть, поэтому совсем стихийно возникла традиция. В этот день друзья и поклонники Бродского собираются в легендарном нью-йоркском клубе-ресторане его друга Романа Каплана «Самовар», чтобы стихами и рюмкой помянуть поэта.
Смерть Бродского, однако, была не только точкой, с которой можно отправиться в его и наше прошлое. Кончина поэта — начало его будущего: приобщение к чину классиков русской и мировой литературы. Этот долгий процесс требует глубокого осмысления метафизической позиции, которая определяет все остальное.
Бродский всегда был особо настойчив в решении тех последних вопросов, которые, как говорил Бахтин, «задаются у крышки гроба». В сущности, вся его поэзия глубоко религиозна. Атеизм для поэта — бездарная позиция, потому что он имеет дело с неумирающей реальностью языка. Язык — прообраз вечности. Ежедневная литургия пиитического труда приучает поэта мыслить религиозно. То есть вставлять свою малую жизнь в большое, космическое существование.
Это не значит, что поэт обязан верить в Бога, ибо он вообще никому ничего не должен. Другое дело, что поэт вынужден работать с той или иной концепцией загробной жизни, хотя бы потому, что стихи долговечнее их автора. Мысль о бессмертии есть прямое порождение поэтического ремесла. Всякое слово нуждается в рифме, даже если оно последнее. Смерть не может быть окончательной, если она не совпадает с концом строфы. Поэзия не может окончиться, как тело — где попало. Об этом рассказывал Бродский в своих многочисленных уроках поэзии. Их метафизика была простой и наглядной. Сложная метафизика — это плохая наука. Учение о началах и концах должно быть глубоким, а не запутанным.
Все это, конечно, еще не позволяет нам привязать Бродского, как это часто теперь случается, к той или иной конфессии. Одни делают из поэта олимпийца-язычника, другие — христианина, третьи — даже буддиста.
Беда всех таких интерпретаций в том, что они требуют однозначности в решении вопросов, которые необходимо задавать, но на которые невозможно ответить. Скажем, одна исследовательница, проведя частотный анализ, показала, что там, где в стихах Бродского до эмиграции стоял Бог, после нее появилось Время. Значит ли это что-нибудь? Вряд ли.
От поэта нельзя узнать ничего нового о существовании Бога (хотя, конечно, хотелось бы). От поэта можно узнать, как отразилась на его творчестве попытка решить проблемы, решения в принципе не имеющие.
Чехов писал: «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом и истинный мудрец. Русский же человек знает какую-нибудь одну из этих двух крайностей. Середина же между ними ему неинтересна».
Поэт «середины», Бродский без устали вглядывался в это «громадное поле», и если он разглядел больше других, то потому, что нашел в себе мужество смотреть на настоящее из будущего. Он всегда помнил «чем, по его любимому выражению, все это кончится». Поэтому самая интригующая черта будущего, по Бродскому, — наше в нем отсутствие.
Взгляд оттуда, где нас нет, изрядно меняет перспективу. По сравнению с бесконечностью предстоящего прошедшее скукоживается, ведь даже века — только жалкая часть грядущего. Недолговечность, эта присущая всему живому ущербность, — повод потесниться. Бродский дает высказаться потустороннему миру без нас.
Поэзию Бродский воспринимал диалогом бытия с небытием, в котором он видел союзника, жаждущего быть услышанным не меньше, чем мы услышать.
И если за скорость света не ждешь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки ее превращенья в сито
и за отверстие поблагодарит меня.
Александр Генис
Нью-Йорк
28.01.2009
Поэт середины и его крайности
Памяти Джона Апдайка
В последние годы ушли почти все любимые в России американские писатели. После смерти Воннегута, а теперь и Апдайка, нам осталось молиться на последнего кумира юности — 90-летнего Сэлинджера. Автор «Кентавра» был той же породы, только плодовитый.
Апдайк был фабрикой изящной словесности. Каждый божий день он писал по три страницы. Получалась книга в год. Апдайк любил писать и говорил, что не будь книг, он писал бы рекламу для кетчупа.
В его наследии есть всё: эссе, стихи, рецензии и, конечно, романы. Прежде всего это — массивная тетралогия про житейские неурядицы Гарри Энгстрома по кличке Кролик. Но были и дюжины других. Иногда популярные, как «Иствикские ведьмы», иногда не слишком, как «Иствикские вдовы». Но все, что он писал, выделяла предельная отточенность.
За стиль его сравнивали с Вермеером. Что-то есть. Апдайк, который в юности хотел быть художником, создал свою элегантную, пристальную, камерную прозу, полную любовно выписанных деталей. Часто его ею попрекали, говоря, что жалко расходовать такие красивые слова на такие мелкие темы. Ведь Апдайк обычно писал о средних — во всех отношениях — американцах. Писателя это не смущало.
«Я люблю, — говорил он, — середину, потому что в ней сталкиваются крайности».
Лучше всего у него это получалось в тех сотнях рассказов, которые он написал для своего любимого «Ньюйоркера» (они не расставались 55 лет). Стихия Апдайка — короткая, но не лаконичная, страстная, но меланхолическая любовная история. Если угодно, это — по-протестантски суховатая версия Бунина.
России достался другой Апдайк, которого мы любим больше настоящего. Когда в 1965-м на нас обрушился «Кентавр», он мгновенно стал культовым романом, книгой-паролем, позволяющей попасть в заветный клуб понимающих — на кухни тех интеллигентных домов, где рождалось общественное мнение шестидесятых. К тому же книга вышла в блестящем переводе гениального (по-моему, такие бывали только в Советском Союзе) Виктора Хинкиса.
Потрясение, которое мы испытали, во многом объяснялось недоразумением. В этом романе греческое сказание о кентавре Хироне накладывается и сливается с мучениями провинциального школьного учителя (таким был отец самого Апдайка). Конечно, автор тут следовал за «Улиссом». Ведь именно Джойс, как говорил о нем Т.С. Элиот, сделал «современный мир возможным для искусства», заменив «повествовательный метод мифологическим». В те времена, однако, «Улисс» нам был абсолютно недоступен (хотя, что выяснилось лишь много лет спустя, над переводом этой великой книги в те годы уже работал все тот же Хинкис). Так или иначе, не зная Джойса, мы полюбили Апдайка за обоих. (О том, что эта страсть не осталась бесплодной, свидетельствует пример Пелевина.)
И тут надо сказать главное и непонятное: нас увлекало не содержание, а исключительно форма. «Кентавр» встал на полку с книгами других кумиров шестидесятников — «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Бильярд в половине десятого» Белля, «Падение» Камю, «Женщина в песках» Кобо Абэ. Неслучайно все эти романы были переводными. Вместе с экспериментальной поэтикой за железный занавес проникала не только художественная, но и обыкновенная свобода. Зато содержательный пафос, особенно — критический, на что, собственно, и надеялась власть, проходил мимо читателя, опьяненного формальной новизной.
Теперь уже можно признать, что в той литературной вакханалии мы многое напутали. Поэтому когда состоялось настоящее, а не выборочное, знакомство с Апдайком, включившее всех его «Кроликов», оно уже не смогло ни изменить, ни добавить к сложившемуся образу. Вместо лирического реалиста, меланхолически и тонко описавшего американскую провинцию, в русском сознании остался дерзкий авангардист, превративший быт — в миф, отца — в кентавра, литературу — в свободу.
Александр Генис
29.01.2009
Цена арьергарда
Напуганная перспективой остаться без газет, Америка вспомнила урок Томаса Джефферсона: правительству без прессы он предпочитал прессу без правительства
Из вещей, составляющих повседневный быт, дороже всего мне «Нью-Йорк таймс» и очки для ее чтения. Как только мы разлучаемся с газетой, я чувствую себя словно компьютер на батарейках: экран сознания сперва теряет яркость, потом отключается вовсе. Лишившийся поводыря мир без разбору тычется во все стороны. Я не знаю, что происходит за пределами непосредственного поля зрения и недалекой зоны слуха. Новости по-прежнему просачиваются, но без интеллектуального сита мне не понять, какие из них важны, какие достоверны, без каких жить нельзя и с какими — можно.
— На твоей «Нью-Йорк таймс», — говорят мне ревнивые друзья, — свет клином не сошелся.
Я не спорю, я надеюсь. Поэтому всякий раз, улетая домой из Москвы, покупаю на последние рубли в киоске «Шереметьево» всю выставленную на прилавке прессу. Газет выходит метра полтора, но и дорога неблизкая. Терпение, однако, у меня кончается задолго до аэропорта Кеннеди. Особенно, когда читаю, как это случилось в последний приезд, что в Голодомор «украинцы пострадали от недоедания». Это все равно что написать: «Немало хлопот доставил евреям Освенцим».
У американских газет — свои глупости. Попав в Лас-Вегас, я перешел на местную прессу. Для двухмиллионного города она была тонкой и скучной. Главную сенсацию объявляла шапка на восемь колонок: «В миске чили найден человеческий палец». Хотя каннибальский сюжет преследовал нас по всему Юго-Западу, меня он оставил равнодушным. Я не люблю чили (острое блюдо из мексиканской фасоли, которое даже смешно сравнивать с лобио), а пальцев, если судить по последней книге, больше, чем надо*.
Вот почему, возвращаясь домой, я впиваюсь в «Нью-Йорк таймс», как штепсель в розетку. Включившись, я сразу попадаю в элиту. Это — один миллион тонких ценителей языка и мира, жизни и вина, искусства и погоды. Газета всегда знает, что мне делать — с душой и в выходные. Она сдает напрокат семью своих колумнистов. Я знаю и люблю каждого — и тех, которые будто у меня списывают, и тех, с которыми никогда не соглашаюсь. Эта газета, как все, любит сплетни, но в отличие от других, не унижается до склок. Ее подписчики посылают в редакцию на зависть умные письма, враги боятся спорить, политики ищут в ней союзников, любители кроссвордов — мучений, публика — утешения, и все — лакомства изящной словесности. Газета льстит мне недвусмысленностью лапидарных заголовков, обилием живописных подробностей, ловким и уверенным стилем, отнюдь не исключающим тайного парадокса, скрытого каламбура, замаскированного афоризма и сухого, как дорогой одеколон, юмора. Приятно, что ее вкусы так часто совпадают с моими. Конечно, потому что это — ее вкусы, ставшие почти моими.
Короче, я бы никогда не поверил, что такие газеты бывают, если бы каждое утро на моем пороге не появлялась свежая «Нью-Йорк таймс».
«Газеты, — писал Василий Розанов, — когда-нибудь пройдут, как прошли крестовые походы».
Говорят, это время настало. Собственно, газеты умирают давно. За сорок лет число их подписчиков уменьшилось вдвое. Хуже, что катастрофически сократился честный доход прессы — реклама. Теперь потребителя, зная, что он уже покупал, вылавливают в Сети поодиночке и берут измором. Нынешний кризис грозит добить газетную индустрию. «Чикаго трибюн» и «Лос-Анджелес таймс» объявили банкротство, «Бостон глоб» вот-вот закроют. «Нью-Йорк таймс» заложила редакцию — роскошный, всего с год назад построенный небоскреб, украшенный неоновым пером от фундамента до крыши.
Многие, однако, не видят трагедии в газетном крахе. Они утверждают, что бумажную прессу все равно уже заменила электронная. По-моему, считать так — все равно что ценить алкоголь в зависимости от градусов. Интернет действительно удобен — как водопровод, но глупо думать, что из него потечет шампанское.
Я не хочу обижать сетевое сообщество, но вынужден это сделать, потому что оно начало первым, устроив демократию графоманов. Уравняв умное слово с каким придется, Интернет заменяет душеспасительный фильтр редактора безнадежным аффтором, скрывающимся под ником Арнольд, и его же аватарой. Сетевой мир по-своему экзотичен, забавен и находчив. Не «Гамлет», капустник. И принимать его всерьез — все равно что пользоваться Википедией вместо гениальной Британники: можно, если не забывать о разнице.
Что я, Эрик Шмидт, главная шишка Гугла, назвал Интернет «свалкой фальшивых фактов». Только газеты и спасают нашу информационную среду от разложения. Бесплатный (!) сайт «Нью-Йорк таймс» посещают 20 миллионов в месяц, и я не понимаю, почему этого не делают остальные. Газеты питают Сеть, почти ничего не получая взамен: интернетская реклама покрывает лишь 20% расходов.
Понятно, что долго так продолжаться не может. Напуганная перспективой остаться без газет, Америка вспомнила урок Томаса Джефферсона: правительству без прессы он предпочитал прессу без правительства.
Самый простой способ спасения газеты — пустить ее с молотка, надеясь, что рынок вернет ей рентабельность. Беда в том, что все лучшее — от любви до искусства — нерентабельно. По-моему, продать «Нью-Йорк таймс» — все равно что продать балет, Эрмитаж и оперу. Уж лучше рассчитывать на доброхотов. Выпускать лучшую в мире газету стоит в год 200 миллионов. Дешевле, чем футбольная команда. Славы, правда, меньше, но смысла больше, причем — буквально.
Кризис бумажной прессы объясняют тем, что она устарела, но именно это и делает ее необходимой. Только дураки и по инерции по-прежнему считают газету «средством массовой информации». Сегодня это просто не так.
Газете нет больше нужды нас информировать — мы и без нее все знаем. Пресса безнадежно проигрывает и в оперативности, и в вездесущности своим конкурентам — радио, которое, как показывает статистика, сообщает нам четыре пятых новостей, телевидению и всяким разновидностям электронной медии, растущей на каждом экране, включая телефонный. Неверна и та часть формулы, что упирает на массовость газеты. Многомиллионные тиражи — участь печатного мутанта, рожденного от союза телевизора с комиксом. Эти картинки с подписью не являются газетами вовсе.
Настоящая газета брезглива и честолюбива. Последний аристократ в мире победившей демократии, она берет не числом, а влиянием. Ей повезло проиграть соперникам в гонке за прогрессом. Будущее газеты в том, чтобы, осознав и приняв судьбу, занять свое место в арьергарде информационной цивилизации.
Всех нас безвольно несет могучий поток дурного сознания. Все мы окружены ненужными сведениями, бессмысленными фактами, посторонними подробностями. И это трагично, ибо, как сказал Ницше, «лишнее — враг необходимого». Чтобы отличить одно от другого, нужна талантливая газета. Ее задача — не снабжать читателя информацией, а защитить от нее.
Отечественный опыт борьбы за свободу печати привел к тому, что функцию отбора брала на себя власть: важным было все, что она прятала. Но правду можно сказать только тогда, когда ее скрывают. В открытом обществе свободу прессы должна смирять сама пресса. Она обязана обладать таким умом и ответственностью, чтобы мы делегировали газете свое право знать о мире то, что о нем стоит знать.
В этом — тайный смысл девиза «Нью-Йорк таймс»: «Мы печатаем все, что подходит для печати». В слове «мы» сосредоточен накопленный за полтора века капитал. Вынося материал на первую полосу, газета, которую читают короли и президенты, формирует мировое общественное мнение, устанавливает иерархию, указывает на приоритеты, с которыми вынуждены считаться все, не исключая тех, кто не умеет читать вовсе.
Задача газеты не спасать, не лечить, а объяснять мир, делая его пригодным к существованию. Вставляя факты в систему, вплетая единичное в тенденцию, газета придает царству общих идей форму, соразмерную человеку — но не всякому, а интеллигентному. Специфическая и уникальная миссия газеты заключается в рационализации повседневности. Процесс организации информации наделяет ее смыслом. Все, что укладывается в умную структуру, помогает справиться с хаосом, от которого газета заслоняется своей версией действительности. В сущности, это — фабрика метафизики, изготовляющая реальность одного, но самого важного дня — сегодняшнего.
* См.: Генис А. Шесть пальцев. М., 2008.
Александр Генис
13.02.2009
Тайны вашингтонских масонов
В международную печать просочилась долгожданная новость: Дэн Браун закончил новый роман
Cryptos Дж. Санборна у здания ЦРУ указывает на героя нового романа «Ключ Соломона»
Никто, начиная с самого автора, не станет претендовать на формальную новизну будущего романа. Дэн Браун работает в наиболее эффектном сейчас жанре интеллектуального детектива — ученого триллера. Несмотря на то что родоначальника такого вида словесности считают Умберто Эко, я бы искал источник этой литературной традиции у других классиков. По-моему, беспрецедентно успешная манера Брауна происходит от слияния Конан Дойля с Жюлем Верном. Первый дает безошибочную схему детектива, второй учит нагружать его любопытным научно-популярным содержанием. Условно говоря, пока Конан Дойль держит читателя заложником у развязки, Жюль Верн втолковывает нам все, что мы хотели знать, но не догадались спросить. Разница в том, что, имея дело (в отличие от викторианских авторов) с нетерпеливым читателем, Браун нарезает информацию на гораздо меньшие порции — примерно по странице за раз. Техника такого письма идет от компьютерного экрана, который приучил нас к быстрому мельканию знаний.
Все остальное есть в каждом триллере, который, как факир кобру, завораживает нас постоянным развитием действия. По-американски такие книги называются page-turner. Это точное словцо означает, что читатель не может перестать переворачивать страницы, пока не кончится том. Несколько раз я влипал, как муха в варенье, в такие книги. Ты можешь ненавидеть автора, презирать его опус, но просто физиологически не способен бросить чтение, не узнав, чем все кончилось. Угробив несколько бессонных ночей, я разочаровался в подобном чтиве и обхожу остросюжетные книги стороной. Однако новую книгу Брауна все равно жду с нетерпением, ибо необычным его сочинение делает не форма, а содержание.
Хотя о новом романе известно лишь несколько фактов, их достаточно, чтобы попытаться реконструировать еще непрочитанную книгу. Первая подсказка — название: «Ключ Соломона». Под этим титулом историки и эзотерики знают средневековое пособие по заклинаниям, позволяющим стать невидимым, найти украденное, вернуть любовь и разговаривать с мертвыми. Составленный в XV веке по-гречески и прославившийся в латинском переводе (Clavis Salomonis), этот магический труд соединил еврейскую каббалу, арабскую алхимию и европейскую демонологию.
Видимо, примерно это сделал и Браун, добавив в гремучую смесь главный ингредиент воспаленного исторического воображения — масонов. Это — безошибочный ход, ибо в эпоху кризиса и неуверенности всякая теория заговора падает на подготовленную страхом перед хаосом почву: даже зловещий умысел лучше никакого.
Другой намек, по указанию самого автора, содержится на обложке американского издания «Кода да Винчи». Там воспроизведен фрагмент скульптуры Джеймса Санборна Cryptos, что можно перевести — опять-таки с греческого — как «Шифровка». Этот авангардный шедевр представляет собой запутанную конструкцию из красного гранита и медного экрана, содержащего непонятную вязь букв — тайное послание, о смысле которого горячо спорит интернет. Важно, что скульптура стоит у здания ЦРУ. И этот адрес ведет нас к центральному герою нового романа — Вашингтону: и человеку, и городу.
Американская столица — многообещающее место действия для исторического боевика. Белокаменная роскошь американского Рима постоянно напоминает нам о многозначительных эпизодах не такого уж далекого прошлого. Чтобы мы не забыли о нем, в Вашингтоне постоянно пишут — на порталах, площадях и тротуарах. Здесь приятно высекать — в граните, мраморе и бетоне — изречения, стихи, законы, сплетни. Жизни не хватит, чтобы прочесть этот больной графоманией город. Но этого никто и не делает, ибо надписи, как у древних египтян, служат Вашингтону оберегом, наглядно привязывающим столицу Америки к ее истории и его тайнам. Выбрав самый умышленный город Нового Света, Браун легко найдет в нем занятие для своего «символога» Роберта Лангдона.
Все подробности его новых приключений надежно упрятаны от прессы. Я, конечно, знаю не больше других, но рискну предсказать, какой будет ключевая деталь нового романа. Как, уверен, помнят все читатели «Кода да Винчи», решающий эпизод книги разворачивается вокруг секрета, спрятанного на фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В своей книге Дэн Браун утверждал, что фигура, сидящая по правую руку от Христа, — женщина. Если теперь, зная об этом, вы посмотрите на любую репродукцию этой фрески, вам уже никогда не придется сомневаться в том, что Леонардо под видом ученика Христа изобразил его ученицу.
Держу пари, что в новом романе роль такой детали (у всех на виду, но никем не понятой!) будет играть американский доллар, вернее, его и впрямь загадочный дизайн.
Александр Генис
18.02.2009
Иметь и не иметь
Самой по себе бедности недостаточно, чтобы завершить эпоху истерического консьюмеризма, — нас же это не останавливало. Больше шансов на успех у снобизма: когда не иметь станет престижней, чем иметь, позолоченный век гламура наконец кончится.
Это неправда, что в кризис люди перестают тратить деньги, они их тратят на другое: покупки статуса заменяются товарами комфорта. За этим процессом интересно следить в супермаркете. В рецессию тележку продуктов отличает объем и ассортимент. Прежде всего их больше. Экономисты с удивлением обнаружили, что в январе объем торговли не упал, как все остальное, а слегка вырос. По-моему, тут нет ничего странного: естественная, даже животная (я бы сказал — беличья), реакция на трудные времена. Не зная продуктового дефицита и потому лишенные русского комплекса «соли и спичек», американцы все равно создают сырьевой запас, который подавляет всякий страх перед будущим.
В доме моих родителей на Лонг-Айленде стояло три холодильника. Два обыкновенных и один промышленного размера морозильник, куда можно было спрятать труп стоймя. С такими резервами они могли выдержать месячную осаду. Отчасти эта фобия объяснялась тем, что мать с отцом пережили голод в войну и капризы Госплана после нее. Но больше прошлого их пугали перспективы: запасаясь впрок, они заговаривали старость. (Не потому ли, как жалуется жена, я покупаю книги в ненормальном количестве.)
«Ни за что не умрем, — убеждало родителей их подсознание, — пока всего не съедим».
«Не помогло», — говорил я себе, избавляясь от индюков, замороженных, как мамонт.
Так или иначе, я узнаю эмоцию, когда разглядываю покупки соседей, стоя в очереди к кассе. Куль риса, мешок мука для оладий, замороженный бекон, короб макарон — как на Клондайк. И цель та же — перезимовать, дождаться весны, когда снег сойдет и кредиты оттают.
Вопрос, однако, в том, останемся ли мы сами прежними.
Консьюмеризм был всегда. Тяга к ненужному приводила в движение экономику и кормила ее роскошью. Всякий, но преимущественно — географический, прогресс развивала потребность в заведомо необязательных товарах. Римляне сходили с ума от шелковых тканей, сквозь которые так соблазнительно просвечивало тело. Ренессанс открыл пряности, москвичи — джинсы. Обойтись без всего этого обычно легко и часто разумно. Можно заменить китайский шелк домотканой шерстью, заморские пряности — огородным укропом, американские джинсы — лыжными штанами. Можно, но не престижно. Между тем, какой бы мелкой ни была роскошь, она поднимает нас над теми, у кого ее нет, позволяя выделиться за счет чужих вещей, а не своих способностей. Статусное потребление создает наглядную иерархию. Место в ней легко вычислить, купить или украсть. Однако в зазор между полезным и лишним вмещается столько амбиций, что добром это редко кончается. Вспомним шекспировского Лира:
Сведи к необходимости всю жизнь,
И человек сравняется с животным.
Не будучи королем, я не вижу в этом большой трагедии. Наш кот, например, ничем не владеет и всем пользуется. Но мне, увы, до него еще далеко.
Первый гонорар я получил в пятом классе, написав за товарища сочинение про его папу. Наградой за труды была шариковая ручка, точнее — медный стержень от нее. Писать им было мучительно трудно, ибо тощий столбик выскальзывал из пальцев и пачкал карман. Однако тогда, в 1965-м, именно так выглядел наш смутный объект желаний, и я периодически носил свой стержень заправлять чернилами в особую мастерскую, пока он не состарился, а я не вырос. На смену пришла водолазка-битловка, потом — плащ болонья, чуть позже — нейлоновая рубаха, наконец — складной зонтик. Каждая из этих забытых вещей стоила недельную зарплату и была абсолютно бесполезна. Битловка душила, болонья рвалась, рубаха намокала от пота, зонтик ломался от дождя. Но нас это не останавливало.
Раньше, как во всем остальном, я винил советскую власть, считая абсурд потребления прямым следствием бедности, но в Америке я убедился, что хотя бы в данном случае режим ни при чем.
Возле Кейп-Кода, известного нам из Бродского как Тресковый мыс, лежат два острова. Один, описанный в «Моби Дике» — Нантакет, — славится китобойным музеем и дикими пляжами. Другой — Мартас-Винъярд, где живут Кеннеди, знаменит только знаменитостями. На первый ездят заядлые туристы, на второй — все остальные. Последних, понятно, больше. Но затесавшись с ними на кораблик, я обнаружил, что значительная часть приезжих, высаживаясь на берег, идут не дальше пристани, где в сувенирной лавке продавали несуразно дорогую майку с изображением черного пса. От любой другой эта майка отличалась лишь тем, что ее продавали исключительно на Мартас-Винъярде. Тривиальная, как орден Подвязки, она грела избранника пошлой судьбы, примазавшегося к великим и богатым.
Для меня эта майка — апофеоз бессмысленной траты. Утоляя немедленную страсть, радость от нее сгорает быстрее соломы. Говоря точнее, а именно это делают калифорнийские психологи, — от шести недель до трех месяцев. За этот срок снашивается то счастье, которым нас способна наградить всякая покупка. Ее потенциал так невелик, потому что пик любви приходится на момент обмена — денег на предмет, мечты на реальность. Раз став доступной, она стремительно теряет статус и смысл. Став нашей, свежая вещь теряется среди бывших в употреблении, и все надо начинать сначала.
Выход, говорят те же ученые из университета Сан-Франциско, в том, чтобы вкладывать деньги не в вещи, а в опыт. Накопленный благодаря ему капитал не тратится, а копится в памяти, принося проценты и обеспечивая старость. Опыт — будь то работа или хобби, концерт или отпуск, поцелуй или ужин, шашлык или рыбалка, футбол или баня — меняет не быт, а личность, создавая в душе неистребимую прибавочную стоимость. Богаче нас делает не мертвая вещь, а живой процесс.
Переживание, говорит наука, приводя, как это ни странно, точные цифры, приносит несравненно больше счастья, чем обладание, ибо «быть» лучше, чем «иметь».
За исключением статистики, в этом открытии нет ничего нового, во всяком случае — начиная с Нового Завета. Другое дело, что кризис делает нас более восприимчивыми к его урокам.
Впрочем, в моду я верю больше морали. Самой по себе бедности недостаточно, чтобы завершить эпоху истерического консьюмеризма, — нас же это не останавливало. Больше шансов на успех у снобизма: когда не иметь станет престижней, чем иметь, позолоченный век гламура наконец кончится.
В Америке об этом полвека назад говорили битники, предрекая, что на обломках послевоенного изобилия начнется та «рюкзачная революция», что породила 60-е, хиппи и нас с вами.
В 1980-м мы издавали «Новый американец». Это была самая интересная работа, которую я знал, но газета дышала на ладан, а спасения не было, потому что каждый следующий менеджер воровал больше предыдущего. И правильно делал, ибо беря очередного негодяя на работу, мы задавали ему один, но заветный вопрос: читал ли он Джойса в оригинале?
Когда разорение стало неминуемым, мы с женой подвели итог семейному бюджету. Жалея, что нельзя сдать бутылки, мы собрали каждый цент, оставленный на черный день, и решив, что он уже пришел, улетели в Грецию. Другого выхода не было, потому что я выучил наизусть все элементы колонны, отличал килик от ритона, мог начертить границы 36 полисов и перечислить философов в любом порядке. Обратно мы вернулись без денег, работы и не наученные горьким опытом.
Однако треть века спустя, когда положение дел в Америке вновь стало угрожающим, я, накопив здравый смысл и опыт, не пошел по тому же пути и отправился в Рим.
— Нашел время, — закричал на меня коллега.
— Если мне суждено попасть под машину, — холодно ответил я ему, — то я бы хотел, чтобы это произошло после обеда, а не перед ним.
Александр Генис
Нью-Йорк
20.02.2009
Игра на утешение
Организаторы «Оскара» пошли по пути, проторенному Великой депрессией
Ведущий церемонии Хью Джэкман и певица Бейонсе
На этот раз своих фаворитов я нашел только на периферии списка. Каламбурный боевик «В Брюгге», лучшая — со времен «Бульварного чтива» — написанная картина не получила явно причитающегося ей «Оскара» за сценарий, сочиненный ирландским драматургом Мартином Мак-Дона с мастерством и точностью Беккета. Зато чудная комедия Вуди Аллена «Вики, Кристина, Барселона» все-таки принесла восхитительной Пенелопе Круз награду за женскую роль второго плана.
Еще приятнее победа душераздирающего «ВАЛЛ-И» в категории анимационных фильмов. Но я-то надеялся увидеть его героя награжденным премией за лучшую мужскую роль.
Все остальное меня не столько радует, сколько примиряет с действительностью. Дело в том, что в этом году от «Оскара» ждали примерно того же, чего от Обамы: утешения. Но у Голливуда есть одно большое преимущество перед президентом: опыт. Кино знает, как себя вести в эпоху кризисов, потому что оно там уже было. Именно Голливуд помог Америке 30-х годов перевести дух — отсидеться в темном зале, разделяя с немой толпой сладкие грезы. Напомнить о них считала своей сверхзадачей нынешняя церемония раздачи «Оскаров».
— Лишь добрая порция гламура, — сказал Харви Вайнштейн, — сможет вылечить нас от болезни, заразившей реальный мир. Если мы — и наши фильмы — не можем создавать иллюзию, значит, кино перестало работать.
Не желая рисковать в трудное время, организаторы «Оскара» пошли по пути, проторенному Великой депрессией. Вся церемония была фантазией на тему той эры. Это была не цитата и не пародия, а тонкая стилизация, которая удалась потому, что была осознана, осмыслена и поставлена в потрясающих декорациях. Сцену обрамляли хрустальные занавеси (92 тысячи кристаллов Сваровского), которые меняли цвет от номера к номеру. Музыкантов вытащили из оркестровой ямы. Задник превратили в калейдоскоп, тасующий причудливые изображения. И всю это пышную роскошь перетащили поближе к аудитории, чтобы звезды на сцене и в зале сливались в одну голливудскую галактику.
Короче — на «Оскаре» все искрилось и блестело, и это мне понравились больше всего. Удивительно, что столь успешный дизайн создал нью-йоркский архитектор Дэвид Рокуэлл. Человек со стороны (в Лос-Анджелесе он признался, что у него даже нет солнечных очков, без которых в Калифорнии из дому не выходят), Рокуэлл сумел придумать сценическую фантасмагорию, сотканную из ностальгии и парадоксов. Он воспроизвел атмосферу старомодного клуба для красивых и знаменитых, куда приглашают зрителей, даже не заставляя снимать тапочки. Тактично ссылаясь на опыт тридцатых, Рокуэлл построил закрытый (не для нас) салон для избранных, где жизнь течет, как шампанское, дамы сверкают бриллиантами, джентльмены носят фраки, а реальность появляется лишь иногда и только на экране.
Казалось, что прямо с него, с экрана, спустился и новый ведущий — шармёр из Австралии Хью Джэкман. Хотя его и признали самым сексуальным мужчиной года, мне он показался бесплотным призраком из прежнего времени. Он много пел, еще больше танцевал, часто льстил, слегка шутил, но немного и осторожно. Впервые за тридцать лет постановщики «Оскара» выбрали в конферансье не комика, а артиста опереточного, что ли, направления. Но и этот ход вписывался в общий тон праздника с его элегантным эскапизмом: скорее Ватто, чем Пикассо, скорее Штраус, чем Шостакович, скорее поэзия, чем правда.
Такому «Оскару» подошли бы другие фильмы. Дело в том, что с самого начала, с 1929 года, «Оскар» задумывался как рекламное мероприятие — могучее орудие больших голливудских студий. Чем он, собственно, и был много лет, пока в середине 90-х не произошла тихая революция. Она привила «Оскару» уважение к независимому кино и его эстетике.
Характерная деталь: номинацию за лучшую режиссуру получили пять фильмов, сражавшихся за главную награду. То есть академия теперь поощряет не студийное, а авторское кино. И объясняется это демографией. Раньше почти все члены были жителями Лос-Анджелеса, голливудскими «инсайдерами». Они предпочитали называть кино «индустрией», умели считать деньги и поощряли тех, кто любил их зарабатывать. Сегодня в академии появилось немало иностранцев, еще больше — мастеров независимого кино, которые с куда большим вниманием относятся к собратьям по разуму.
Это не значит, что большие, по-старомодному величественные картины вроде «Титаника» перестали соблазнять академию. Это значит, что сегодня гораздо больше шансов у маленьких, причудливых, относительно дешевых и безусловно оригинальных фильмов.
По этому поводу я не испытываю безоговорочного энтузиазма. С такими тенденциями «Оскар» может заболеть недугом Нобелевской премии, которая слишком часто наказывает популярных писателей и поощряет эзотерических. Тем более что в последние годы вывели особую породу фильмов — специально для «Оскара». Не слишком коммерческие, чтобы быть успешными в прокате, и не слишком замысловатые, чтобы считаться авангардом, эти картины, как все искусственные гибриды, не готовы жить на свободе. Во всяком случае их трудно сравнить, скажем, с «Крестным отцом», который, не нуждаясь в парниковых условиях, завоевал и критиков, и кассу, и «Оскара».
На этот раз таких картин не было, и все пошло по накатанному. Получившая 13 номинаций и только два технических «Оскара», «Загадочная история Бенджамина Баттона» стремилась, рассказав «жизнь наоборот», занять в сердцах зрителя то же место, которое там себе так прочно завоевал «Форрест Гамп». Два политических фильма, чье присутствие в финальной пятерке объясняется еще и отголоском выборных страстей, немного похожи друг на друга. Картина «Милк» посвящена не столько сексуальным меньшинствам, сколько трагедии дискриминации, причем — любой. Лента «Фрост против Никсона» — прекрасно разыгранная пьеса, где полемика о пределах власти и ее ответственности вылилась в увлекательную риторическую дуэль. Фильм «Чтец», сумевший соединить эротику и холокост, лента-сюрприз, без которых «Оскар» не обходится.
Как и предсказывали газеты и «букмекеры», триумфом — восемь «Оскаров», включая главный, — увенчали «Миллионера из трущоб», картину британца Дэнни Бойла, часть которой идет на хинди. Возможно, успехом картина обязана и тому обстоятельству, что в своей «бомбейской золушке» режиссеру удалось сделать экзотическим не богатство, как это принято в Голливуде, а бедность, вернее — безоговорочную нищету, которая помогает вставить жизнь в контекст, попутно уменьшая нашу боль от кризиса.
Независимо от содержания фильма победа «Миллионера» может оказаться судьбоносной для кинематографа. Укажу на прецедент. В 1988 году те же восемь «Оскаров», включая награду за лучший фильм, получила картина «Последний император». Я не собираюсь сравнивать два совсем непохожих фильма. Однако стоит заметить, что именно лента Бертолуччи проложила китайскому кино дорогу к широкому западному зрителю. Если «Миллионер из трущоб» сумеет сыграть подобную роль для самого большого в мире индийского кинематографа, то и этого будет довольно, чтобы 81-я церемония вручения «Оскаров» вошла в историю нашего любимого искусства.
Александр Генис
Нью-Йорк
25.02.2009
Попугаи
Стая в сто попугаев представляет собой сильное зрелище, тем более — для неподготовленного человека, и пуще всего — зимой. Пахомов, например, впервые увидав изумрудных птиц на заснеженном бейсбольном поле, чуть не зарекся пить…
Фокусы начались, стоило нам перебраться через реку. На другом берегу Гудзона первыми нас встретили ядовито-зеленые птицы с пронзительным голосом и клювом почище моего. До сих пор я таких видел только в клетке. Но эти летали на свободе, задиристо показывая всем, что дешево ее не продадут.
— Как они называются? — спросил я местных, боясь прослыть идиотом, но все равно показался им, ибо птицы, конечно, были попугаями.
— По-научному, — разъяснили мне, — их называют «монахами», но это — сильное преувеличение, вон их сколько расплодилось.
В этом прибрежном городке попугаи поселились незадолго до меня, но при куда более драматических обстоятельствах. Наверняка эту историю не знает никто, но наиболее распространенная версия утверждает, что первые попугаи, отцы-основатели, совершили побег из магазина экзотических животных, где они коротали свой долгий век с молчаливыми игуанами. Отличаясь от последних буйным темпераментом, попугаи, как Спартак, жаждали воли и добились ее, сумев открыть клетку и вылететь в окно.
— Важно, — подчеркивают старожилы, — что побег произошел летом.
И правда — в августе окрестности Нью-Йорка мало отличаются от родины попугаев, которых в Северную Америку привезли из Южной. Все — похоже: жара, лень, влажность. Не удивительно, что попугаи стремительно освоились. Они ели, что придется, отбивая крошки у воробьев, мальков — у чаек и все остальное — у голубей. Даже уступая другим птицам в росте, они брали числом, держась заодно.
Укрепив тылы и заставив с собой считаться, попугаи захватили плацдарм у Гудзона, уверенно отвоевав себе вид на жительство в нашем Эджуотере. И тут началась осень.
Сперва, надо полагать, птицы думали, что это скоро пройдет. Считая похолодание временным, они стойко сносили идиотские шутки погоды до тех пор, пока не выпал снег. Для попугаев ледниковый период начался в одночасье, не оставив им, как нашим предкам, времени, чтобы постепенно, из поколения в поколение, приспособиться к климатическим переменам.
У попугаев на все про все было недели две. Они даже не могли вернуться с повинной, потому что к тому времени зоомагазин — не без их помощи — разорился и стоял заколоченным. Оказавшись на грани вымирания, попугаи, чтобы не перейти ее, совершили эволюционный подвиг: они открыли гнездо.
Начав с архитектурного шедевра, они сразу построили крепость. Сплетенное из колючих, защищающих от котов и ястребов веток, гнездо напоминало подвешенный на дерево термитник. Неприступное с виду и на деле, оно было прочным, просторным, многоместным, с коридорами, вентиляцией и укрепленными выходами. Но главное — внутри было тепло. Это точно известно, потому что попугаи пережили зиму, о существовании которой они даже не догадывались в родных тропиках. Летом вылупилось первое поколение свободных попугаев Америки, и к следующей осени гнезд стало больше.
В Эджуотер я перебрался в самый критический момент отечественной истории. Советская власть дышала на ладан, и мои московские гости считали, что народ без нее ни за что не выживет.
— Разве справятся прибалты, — кручинился один, — без руки Москвы?
Вместо ответа я вел гостя к попугаям.
— Что Россия без Крыма? — восклицал другой.
И за ответом мы вместе отправлялись к птицам.
— Как мужику без колхоза? — спрашивал третий.
Не зная, что сказать, я и его тащил к гнезду. В любом споре попугаи служили мне бесценным аргументом, легко заглушая противника.
Гостей было много, Гайдар проводил реформы, заводы закрывались, цены росли, зарплату не платили, и я так часто ходил к попугаям, что за мной стали следить соседи.
Дело в том, что феномен попугаев Эджуотера заинтриговал научную общественность. Ошарашенная эволюционным прорывом, она решила прибрать наших птиц к рукам и держать их взаперти, пока не узнает, как попугаи дошли до такой жизни и не могут ли ученые у них этому научиться.
Вооруженные сетями и добрыми намерениями орнитологи из общества Одюбона явились в Эджуотер на охоту, но встретили дружный отпор встревоженных горожан. Став грудью, они окружили живой стеной гнезда и, устроив круглосуточный караул, не разрешили приезжим вновь лишить попугаев заслуженной свободы. Биологи ретировались, но местные жители, не доверяя, как это теперь водится, науке, с подозрением относились ко всяким — включая моих гостей — пришельцам, демонстрирующим повышенный интерес к попугаям. Все обошлось, но лишь после того, как я подробно объяснил про перестройку, Горбачева и Ельцина, которых тогда знали и по-своему любили в Америке.
Годы шли, но попугаи не старели. Они по-прежнему крикливы и общительны. К тому же их стало значительно больше. Стая в сто попугаев представляет собой сильное зрелище, тем более — для неподготовленного человека, и пуще всего — зимой. Пахомов, например, впервые увидав изумрудных птиц на заснеженном бейсбольном поле, чуть не зарекся пить, но вовремя передумал, когда я убедил его, что это — не белая горячка, а зеленое чудо природы.
Сам я окончательно это понял, близко познакомившись с попугаем по имени Ганс. Мой брат подобрал его птенцом, когда тот вывалился из гнезда от ажиотажа. (С подростками это бывает.) Как только нога срослась, Ганс принялся обживать свой новый дом. Он летал, где хотел, возвращаясь в клетку только на ночь. Днем Ганс жаждал общения, ни на минуту не оставляя людей в покое. Он принимал с братом душ, пил с ним пиво из крышечки от бутылки, ел гороховый суп, балансируя на краю тарелки. Привыкнув ждать от жизни только хорошего, Ганс с восторгом встречал незнакомых — почтальона, соседку, ее собаку. Мне он, например, сразу сел на лысину, фамильярно залез клювом в ухо и дружески навалил белесую кучку на плечо.
Хорошо еще, что весу в нем — сто граммов, но любопытства хватило бы на взрослого Эйнштейна. Ганс хотел все знать, попробовать и открутить. В компьютере он отковырял крайние буквы, в мобильнике — цифры, счета исклевал до дыр. Мир был для него вызовом, и он пытался его не объяснить, как я, а переделать, как Маркс, но с бульшим успехом — Ганса все любили. Возможно, еще и потому, что от него никто не слышал плохого слова, ибо Ганс не желал, как дрессированные попугаи, говорить по-человечески.
Между тем над его родичами собралась новая туча. В целом Эджуотер ценил и лелеял своих шумных попугаев. В нашей экологической среде у них не было естественных врагов — кроме службы энергоснабжения. Ее пугало, что птицы продолжают эволюционировать — к этой зиме они освоили гладкие столбы с проводами.
— Каждое гнездо, — объявили монтеры, — может оказаться причиной возгорания и должно быть разрушено — безжалостно и сразу.
— До птенцов об этом не может быть и речи, — ответил город и привычно стал в караул.
Противостояние закончилось полной победой птиц. Гнезда остались на столбах, а отходящие от них провода укутали прочными, чтоб не проклюнуть, изолирующими попонами. Город приобрел еще более странный вид, и к нам зачастили туристы. Приезжают они маловерами, но возвращаются неофитами. Попугаи внушают им веру в братьев по разуму, а это сегодня дороже многого.
— Если кризис, — замысловато говорят экономисты, — игра нервов на бирже, то благополучие — всего лишь коллективная иллюзия, которую питает простая тавтология: будущее — плод уверенности в нем.
Попугаям ее не занимать. Я знаю об этом из первых, так сказать, уст, потому что прошлой осенью попугаи соорудили себе гнездо прямо над окнами спальни. На утренней заре они не дают спать, подробно обсуждая планы, на вечерней — мешают смотреть телевизор, громогласно подводя итог прожитому.
Но я, конечно, никому не жалуюсь — в нашем городке у попугаев статус священных птиц. Особенно сейчас, когда биржа падает, безработица растет, людей выгоняют из родного гнезда, и зима, как на грех, не кончается.
Александр Генис
Эджуотер
26.02.2009
Творец Чегема
К 80-летию Фазиля Искандера
Тайна «Сандро из Чегема» в том, что искандеровские лирика и юмор соединились тут в эпос, чтобы произвести потрясение в нашей литературе, которое она не испытывала со времен явления писателей Юго-Западной школы. В отечественную словесность вновь — и опять с Юга — влилась свежая кровь, омолодившая жанр романа, сам состав, самое плоть русской прозы.
Интересно, что по своей природе «Сандро» был имперским феноменом. Советская (тогда еще) литература прирастала за счет окраин, которые открывали русскому читателю новые миры. (Вот так — чтобы сослаться на прецедент — Киплинг подарил английской литературе Индию.)
Это бесценное наследство советской империи — так сказать, нерусская литература на русском языке — еще не осмыслено во всей своей совокупности. А жаль, не так уж много хорошего осталось от прежнего режима. Впрочем, не стоит забывать, что та же власть сделала все, чтобы задержать приход настоящего «Сандро» к ждущим его читателям.
Лишь после выхода американской — в издательстве «Ардис» — книги стала ясно вырисовываться фигура Искандера как писателя мирового уровня. В сущности, он сделал со своим Чегемом то же, что Фолкнер с Йокнапатофой или Маркес — с Макондо: вырастил из родной почвы параллельную вселенную, существование которой уже нельзя отрицать.
В предисловии же к тому «Ардиса» Искандер сформулировал свою задачу: «Следуя традициям русской классической литературы, показавшей полноценность душевной жизни так называемого маленького человека, я пытаюсь в меру своих сил раскрыть значительность эпического существования маленького народа».
Искандер сделал, что обещал: дал голос народу, раскрыл, по его же словам, «мощь и красоту нравственного неба, под которым жили люди Чегема».
Именно поэтому мне кажется, что из всех ныне живущих российских писателей Искандер прежде всего заслуживает Нобелевской премии. За что еще давать высшую награду, как не за расширение литературной географии?
С урока такой географии и началось мое знакомство с Искандером. Мы встретились в 87-м году, когда Фазиль вместе с другими вестниками гласности впервые приехал в Нью-Йорк. Готовясь к свиданию с любимым писателем, мы с Петром Вайлем вычертили подробную карту Абхазии, вроде тех, что прикладывали в старину к приключенческим романам. Как и положено, к ней прилагалась так называемая «легенда» — указание на места, связанные с ключевыми, теперь уже всем памятными эпизодами: «Сталин на ловле форели», «Битва при Кодоре с деревянным броневиком», «Кедр Баграта», «Место встречи Сандро со Сталиным на нижнечегемской дороге». Венчала наше художество надпись, составленная по образцу той, которую Фолкнер поставил под картой своей столь же вымышленной Йокнапатофы: «Абхазия — единственный владелец Фазиль Искандер».
Удовлетворенно оглядев эту шутливую схему, Искандер ухмыльнулся и размашисто вывел вердикт: «С подлинным — верно».
Как показали бурные события двух последующих десятилетий, мирная Абхазия «Сандро из Чегема» весьма отличается от настоящей. Это и понятно. Искандеровская Абхазия — литературный прием, опытная делянка, творческая лаборатория, в которой автор испытывал на прочность все идеи своей буйной эпохи.
Говоря о книге «Сандро из Чегема», все, начиная с автора, упоминают слово «эпос». В «Сандро из Чегема» действительно есть черты, которые заставляют вспомнить о гомеровских ахейцах, ибо герой Искандера — народ. Говоря иначе, племенная стихия, еще не осознавшая себя нацией. Изображенные в книге абхазцы — с обычаем вместо Конституции и кровной местью вместо милиции — не фон романа, а его душа. При этом автор книги — русский абхазец советской эпохи, как кентавр, тоскует по оставленной им «племенной половине». Из этой тоски и происходит эпическая поэма «Сандро из Чегема».
Народ, архаический по своему сознанию, есть фигура, несомненно, эпическая. И как у каждого эпического народа, у него есть герой — Сандро. Существо необычное, но при всех своих невероятных статях истинно народное. Его достоинства — утрированные черты соплеменника. Как и положено эпическому герою, он не противостоит среде, а лишь выглядывает из нее, всегда готовый раствориться в толпе других персонажей. В принципе, любой из них может перерасти в героя. Поэтому так легко отделяются от «Сандро» целые главы — про Тали, Хабуга, Махаза. Все они могли бы стать центром повествования. Потому что эпос слагают о жизни, характере, мировоззрении не личности, а народа.
Искандеру повезло с родиной. Советская Абхазия оказалась идеальным экспериментом по стыковке доклассового общества с «бесклассовым», древней морали с «моральным кодексом строителя коммунизма», архаического сознания с социалистической сознательностью. В своих краях Искандер нашел не только кладезь фольклора, но и действующую социальную модель, по которой можно изучить, показать и осмеять все безумства чуждого народу строя. Эта двойственность порождает сложную жанровую структуру книги.
До большевиков Сандро был героем эпоса — может, комического, но эпоса. Но вот пришла новая власть — и Сандро стал героем романа — может, плутовского, но романа.
До революции время пребывало в эпической неподвижности. После нее оно стремительно движется в газетную действительность, разменяв степенность времени, «в котором стоим» (эта фраза часто встречается в книге), на хаос времени, в котором мечутся. Центральный конфликт Искандера — не столкновение между старым и новым (у Ильфа и Петрова такое называлось «Верблюд нюхает рельс»), а непримиримое противоречие нового и вечного.
Так в книге возникает уникальное жанровое образование с оригинальным сюжетом. История эпически воссозданного народа, который перепрыгивает из наивного и разумного родового строя в жестокую и комическую реальность социалистического карнавала.
Я люблю позднего Искандера за то, что он не похож на раннего. Как все кумиры эпохи, Искандер тяжело пережил перемены, роковой смысл которых он оценил, пожалуй, лучше всех. Ведь в постсоветскую эпоху почти вся прежняя литература, что правая, что левая, оказалась лишней литературой. Искандер ясно видел пропасть, которую сам помог вырыть.
Представьте себе, говорил он, что вам нужно было всю жизнь делить комнату с буйным помешанным. Мало этого, приходилось еще с ним играть в шахматы. Причем так, чтобы, с одной стороны, не выиграть (и не взбесить его победой), а с другой — и поддаваться следует незаметно, чтобы опять-таки не разозлить сумасшедшего. В конце концов, все стали гениями в этой узкой области:
«Но вот буйный исчез, и жизнь предстала перед нами во всей неприглядности наших невыполненных, наших полузабытых обязанностей. Да и относительно шахмат, оказывается, имели место немалые преувеличения. Но самое драгоценное в нас, на что ушло столько душевных сил, этот виртуозный опыт хитрости выживания рядом с безумцем оказался никому не нужным хламом».
Искандер поставил клинически точный диагноз того психологического ступора, в котором оказалась литература, привыкшая смешивать фронду с лояльностью в самых причудливых пропорциях. Но сам он нашел для себя выход.
В «Сандро» есть интересное авторское признание:
«С читателем лучше всего разговаривать коротко и громко, как с глуховатым. Громко-то у меня получается, вот коротко не всегда».
Сегодня Искандер говорит тихо и немного. Все чаще вместо его знаменитых извилистых периодов, которые я так люблю, появляются короткие стихи и точные, приглушенные, матово поблескивающие афоризмы. Один из них гласит:
«Умение писателя молчать, когда не пишется, есть продолжение таланта, плодотворное ограждение уже написанного».
Другой звучит так:
«Верь в разум в разумных пределах».
Третий кажется самоопределением жанра:
«Героизм старости — опрятность мысли».
В конце 90-х я попал с Фазилем Искандером на конференцию в Токио. Мне тогда Искандер показался очень грустным. Его не радовало даже явное обожание хозяев. Япония в определенном смысле — старомодная страна: здесь еще уважают писателей и смотрят им в рот. На каждой встрече Искандера окружала туча поклонников. Он дружелюбно надписывал иероглифические книги, но улыбался редко. Говорят, что все сатирики не часто смеются, но Искандера еще и явно угнетали вести из дома — и из Москвы, и из Абхазии. Впрочем, об этом мы почти не говорили. Он расспрашивал об Америке. Правда, и в ее жизни его интересовали ровно два явления: первое — Бродский, второе — Довлатов.
Александр Генис
Нью-Йорк
05.03.2009
Гарри Поттер: в школе без дома
«Частный случай» Александра Гениса — однотомник филологической прозы, собравший литературу о литературе. Замысел книги объясняет эпиграф из Шкловского: «Человек питается не тем, что съел, а тем, что переварил»
Только детские книжки читать.
Мандельштам
Я всегда любил детские книжки, и чем старше становлюсь, тем чаще их перечитываю. Они помогают стареть. С возрастом перестаешь доверять сложности. Она-то как раз проста. Ее можно объяснить и нетрудно симулировать. Сложная метафизика — всего лишь плохая наука, и только мудрость не терпит комментария. Воннегут справедливо называл шарлатаном автора, который не может объяснить, чем он занимается, шестилетнему ребенку. Как раз столько обычно бывает тому, кто впервые читает сказку о Винни-Пухе. Оставшееся время мы употребляем на то, чтобы стать ее героями. Сперва трясемся, как Пятачок, потом на всех бросаемся, как Тигра, затем ноем, как Иа-Иа, пока, наконец, не поднимаемся до безразмерного Винни-Пуха, который, вместо того чтобы предъявлять претензии окружающему, принимает, в отличие от Ивана Карамазова, мир таким, какой он есть. С медом и пчелами. Между первым и последним чтением «Винни-Пуха» проходит жизнь, заполненная другими книгами. Они учат нас лишнему, зато отвлекают от главного.
Сага о Гарри Поттере принадлежит как раз к такой породе. Она не дотягивается до классики, потому что написана для детей, а не с ними. Построенный на специальных эффектах Поттер монотонно, как счетчик такси, накручивает никуда не ведущие приключения. Читатель не разбогатеет на «Поттере», ибо тот все получил даром, в наследство. Какие бы события ни ждали героя в еще не написанных томах, им не сравниться с тем, что произошло с Гарри в младенчестве. Начав с кульминации, Роулинг вынуждена заменить сюжет деталями. Только они, вроде совиной почты, и придают не более чем скромное обаяние этому незатейливому бестселлеру.
Короче, мне не нравится «Поттер». Но я понимаю тех, кто его любит. Для этого мне достаточно вспомнить себя. Это сейчас я восхищаюсь Дюма с его мушкетерским субботником, Андерсеном, собравшим хоровод безнадежных, как у Бергмана, героев, Дефо, задолго до Маркса открывшим мистерию труда. Но в детстве у меня были другие герои. Незнайка, Старик Хоттабыч, Витя Малеев в школе и дома. Когда-то, уже в Америке, я приложил немало усилий, чтобы раздобыть эту библиотеку троечника. Но был тяжело разочарован бескрылой фантазией ее авторов. Лишенные остроумия и выдумки, они пересказывали бодрым пионерским голосом лишь то, чему нас учили в школе. Однако не здесь ли зарыта угробленная годами собака? Может быть, тем и отличаются любимые детские книги, что их надо вспоминать, а не перечитывать?
Принято считать, что всякая сказка — зашифрованный рассказ об инициации. Прежде чем стать взрослым, ребенок должен пройти ряд испытаний, в которых ему помогают волшебные силы. От Серого Волка до Пугачева в «Капитанской дочке» или секретной службы в «Джеймсе Бонде». Однако сетка мотивов, щедро накинутая нашим Проппом, так велика, что покрывает собой все, что шевелится. Там, где есть структура, ее и искать не стоит. Все мы знаем, что внутри нас скелет, но не торопимся его обнажать. Современные сказки интересны именно тем, чем они не похожи на настоящие. В первую очередь — школой.
Классический миф ее не знал. Школа — изобретение нового времени. Все еще мало освоенная художественная традиция. В сочинениях взрослых авторов школа занимает так мало места, что этому, кажется, есть только одно объяснение: вырастая, мы стараемся о ней побыстрее забыть. Если я этого до сих пор не сделал, так это потому, что еще первоклассником дал себе страшную клятву никогда не относиться снисходительно к мучениям, которые в ней пережил. Для ребенка школа — рай, уже на второй день ставший адом. Нужно быть ненормальным, чтобы туда не стремиться, и извращенцем, чтобы ее полюбить. Машина мучений, школа обращает радость познания в орудие пытки. В мире нет ничего интересней, чем учиться. Например, футболу. Но школа берет насилием то, что мы бы отдали ей по любви.
Кто же этого не знал: страх и бессилие, унижение и бесправие, глухая одурь уроков и гулкая дурь перемен. Конечно, школьная жизнь мало чем отличается от обычной. Невыносимой ее делает новизна испытаний. Ребенку труднее, чем нам, поверить, что это всё, что другого не будет, что вступив в колесо сансары, он будет катить его всегда. Обманутый ребенок отказывает реальности в существовании, еще надеясь найти ошибку в расчетах. Не в силах изменить мир, он хочет его переправить. Как двойку в классном журнале. Именно этим занимались книги моего детства. Сверхъестественного в них было меньше, чем в программе коммунистической партии. Вмешательство волшебства исчерпывалось возвращением нормы. Героям нравилось то, что они делали. Главное, в сущности, и единственное отличие вымышленного мира от настоящего сводилось к присутствию в нем школы, которую можно любить. Только для этого и требовались чудеса.
Каждый ребенок — раб. Но, как и мы, он мечтает не о свободе, а о добром хозяине. В «Гарри Поттере» я узнаю мечту моего детства. Как ни странно, она совпадает с идеалом каждого англичанина. Одиннадцатилетнему очкарику повезло попасть в сказочное царство. Готическая архитектура, темные коридоры, густонаселенные призраками, пыльные фолианты, дубовые столы, изумрудные газоны, парадные мантии, пышные ритуалы, вечные традиции, эксцентрические учителя и интересные уроки. Лучшая в мире британская школа за вычетом кошмаров, которые делают ее почти невыносимой.
В сказке Роулинг очень мало сказочного. Именно поэтому ее книги работают. Узнаваемое оправдывает чудесное. Формула Поттера — минимум искажения при максимуме различия. Кажется, стоит чуть скосить глаза, как за непроницаемой стеной заурядного откроется спрятанная страна бесконечных возможностей. Путешествие в нее как раз то немногое, что фильм сумел добавить к книге.
Чудо начинается с того, что звероподобный дворник с вагнеровским именем Хагрит перетасовал кирпичи ограды, скрывающие косой переулок. Он ведет нас в старую добрую Англию, которой дорожит каждый читатель Диккенса, предпочитающий, как я, забыть его мрачные страницы. Очень правильно, что академия волшебников прячется от современной жизни в недалеком прошлом. Временная дистанция заменяет магическую.
В Хогвардс нельзя попасть ни на ракете, ни на ковре-самолете. Только на поезде, который тащит старинный, загрязняющий окружающую среду паровоз. Символом этой добрососедской близости служит платформа с диковинным номером 9 и 3/4. Дроби всегда казались мне невозможными. Они указывают на то, что почти есть, но чего в настоящей жизни все-таки быть не может.
«Гарри Поттера» прочли все, а посмотрели еще больше. Одна треть пришла в зал с родителями, другая — с детьми. Остальных мне жалко. В кино их гонит тот неутолимый голод, что мешает признать окружающее окончательным. От страха перед его неизбежностью мы верим в параллельный мир, точно такой, как наш, но лучше. Существуя вне теологических фантазий и социальных экспериментов, он притаился за спиной, чтобы выскочить зайцем из шляпы в то счастливое утро, когда нам повезет в нем проснуться. Беда в том, что параллельные прямые пересекаются только в той школе, где учится Гарри Поттер.
Александр Генис
13.03.2009
Как пришить голову профессору Доуэлю
Читатели отметили 115 лет со дня рождения Александра Беляева
Заглянув в святцы любимого книжного магазина, я узнал, что отечественные читатели отметили не слишком круглый юбилей Александра Беляева. Уже сейчас я понимаю, что это отнюдь не такая простая фигура, как может показаться. Александр Романович Беляев в молодости учился сразу на юридическом и в консерватории, начал писать еще в 1910 году. После революции, как многие другие авторы, нашел себе безопасную нишу в детской литературе. Умер в войну, в 42-м. Беляев написал множество сочинений: «Продавец воздуха», «Человек-амфибия», «Звезда КЭЦ», «Остров погибших кораблей». Утрированная лояльность к власти выразилась в том, что все они напичканы вульгарным марксизмом и, как говорил по другому поводу Бунин, «глупы до святости». Советская фантастика, особенно ранняя, больше всего любила фантазировать по поводу Запада, поэтому опусы Беляева переполняют то кровожадные, то меркантильные буржуи, кокетливые певички, продажные ученые и бездушные миллионеры. При всем том Беляева читают и сегодня. На сайте того самого книжного магазина, что отметил юбилей фантаста, я нашел 204 переиздания его книг.
У Беляева был своеобразный дар к созданию архетипических образов. Книги его ужасны, сюжеты примитивны, стиль отсутствует вовсе, но герои запоминаются и остаются в подкорке. Беляев не был советским Уэллсом, он был автором красных комиксов. Его герои вламывались в детское подсознание, чтобы остаться там до старости. Сила таких образов в том, что они не поддаются фальсификации, имитации, даже эксплуатации. Сколько бы власть ни старалась, у нее никогда не получится то, что без труда удается супермену. Одновременно с любимой картиной нашего детства «Человек-амфибия» на экраны страны вышел первый в СССР широкоформатный фильм — безумно дорогой «Залп Авроры». Картину про Ихтиандра посмотрели 40 миллионов, про революцию — два, и ни один не запомнил.
В моей собственной читательской жизни Беляев сыграл особую роль. В школу я еще не ходил, но уже умел читать, во всяком случае одну книгу — «Голова профессора Доуэля». В ней рассказывается о том, как в бесчеловечных капиталистических условиях ученые оживляют — естественно, в гнусных целях — отрезанную от трупа голову гениального, но наивного профессора. Что с ним произошло дальше, я не знаю, потому что до конца так и не дочитал. Мне хватило одной головы. Она меня настолько напугала, что снилась многие годы: верх без низа, рот без живота, мозг без дела и дух без тела. Впрочем, теперь я знаю мыслителей, готовых поменяться с несчастным профессором местами, но мне эта живая голова всегда не нравилась и снилась до тех пор, пока я не стал ее вставлять во все, что печатаю. (Так, кстати сказать, я выяснил, что снится мне лишь то, о чем я не пишу.) Мне до сих пор вспоминаются эти детские кошмары, но теперь отделенная от тела голова стала еще страшнее, ибо в ней можно увидать аллегорию рационального мира.
В самом деле голова профессора Доуэля наглядно описывает того картезианского человека, с явлением которого начался расцвет науки, разделившей человека на две части: тело и разум. Вспомним, знаменитое cogito ergo sum: «мыслю (а если переводить точнее, то «рационально, логически, аналитически рассуждаю и планирую») — следовательно, существую». Другими словами, если я мыслю, то существую, а если не мыслю, то и не существую. Поэтому, как говорит легенда, Декарт прибил живую, но не мыслящую собаку к полу и разрезал ее на куски. Для него она была роботом, бездушным устройством, лишенным истинного, то есть по-человечески разумного бытия. История про собаку — наверняка выдумка, но она вписывается в общую систему взглядов. Человек по Декарту говорит: «У меня есть тело», вместо того чтобы сказать: «Я есть тело». Между тем японцы часто упоминают «фуку» — «вопрос, адресованный животу». Американцы это неголовное мышление называют gut feeling, мы говорим: «Чуять нутром». Во всех этих выражениях содержится намек на иной — телесный — способ познания.
Сегодняшняя нейрофизиология, вооруженная новой техникой сканирования мозга, пытается срастить тело с духом. Ученые, исследуя пациентов с поврежденными передними долями мозга, где находятся центры, управляющие эмоциями, обнаружили, что эти больные по-прежнему умны и памятливы, но не могут принимать разумные решения, делать осмысленный выбор. Травма мозга приводила к полной атрофии эмоций, а без них человек не способен мыслить в том самом картезианском смысле, который предусматривает взвешенное суждение, холодный расчет и бесстрастный анализ.
Другими словами, ученые впервые экспериментально показали, что мы не можем отделить разум от чувства. И это значит, что наша цивилизация решительно и драматически недооценивает эмоциональную сферу жизни как таковую. За этим скрывается старая болезнь науки: она склонна игнорировать то, что не может подсчитать. Так за ее пределами обычно остается все, что не поддается исчислению: запах, вкус, прикосновение, эстетическая и этическая чувствительность, сознание в целом. В эту категорию неисчислимого попадают, конечно, и эмоции.
Почти любой старый роман на теперешний вкус кажется нам излишне сентиментальным. Не только чувствительные Ричардсон и Карамзин, но и Диккенс, и Достоевский переполняли свои страницы эмоциями. Здесь постоянно плачут, смеются и сходят с ума от любви.
В ХХ веке так уже не пишут. Элиот как-то сказал фразу, которую можно применить ко всем классикам модернизма: стихи пишут не для того, чтобы выразить эмоции, а для того, чтобы сбежать от них. Вторя ему, Оден ядовито советовал тем, кто ищет в литературе катарсиса, отправиться вместо библиотеки на корриду. О таком часто говорил и Бродский. Наставляя поэтов в сдержанности, он писал, что эмоциональный пейзаж стихотворения должен быть «цвета воды». То же и в прозе. «Улисс», эта библия модернизма, заражает читателя своеобразной бесчувственностью. Джойс первым по-настоящему полно раскрыл внутренний мир человека, но он регистрировал чувства, а не вызывал их. Такая же эмоциональная отстраненность разлита по страницам единственного писателя, которого можно поставить рядом с Джойсом, — Платонова. Вот начало (я его до сих пор помню наизусть) гениального «Сокровенного человека»: «Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки».
Монополия разума в современной культуре вызвала всеобщее сенсорное голодание. Заглушить его взялся масскульт. Любопытно было бы проследить закономерность, по которой вымещенные из высокого искусства эмоции переливались в более низкие жанры — от комиксов до Голливуда. Не зря «мегахиты», вроде «Титаника», напоминают лесопилку эмоций: они уже не вызывают сопереживание, а выколачивают его из нас. Но и этого оказалось недостаточным.
Когда я приехал в Америку, меня поразил совет известного путеводителя «Фодор». Он рекомендовал американским туристам в России отправиться на вокзал, чтобы полюбоваться открытым проявлениям чувств, на которые еще способны славяне. Теперь для этого есть реальное телевидение с его заемными эмоциями. Сидя по другую, безопасную, сторону экрана, мы жадно поглощаем чужие переживания, спровоцированные условиями программы. Такой эмоциональный вампиризм — тревожный симптом, говорящий о нашей собственной чувственной недостаточности.
Вся история западного сознания шла по дороге разума. Только на этом пути мы и смогли построить цивилизацию. Но чтобы жить в ней, одного ума мало. Нужна еще культура чувств, которая учит уважать и рафинировать их. Лишь закончив школу эмоций, мы сможем излечить несчастную голову профессора Доуэля, пришив ее обратно к телу.
Александр Генис
Нью-Йорк
18.03.2009
Хворые
Американская медицина может сделать все, включая много лишнего. Лучше ее в мире нет, но и хуже — немного. Самая развитая и расточительная, она лечит и разоряет страну с одинаковым успехом
Сорок дней назад у меня умерла мама. И удалось ей это лишь потому, что мы, вооруженные специальным завещанием, сумели спасти ее от американской медицины, норовящей продлить умирающим мучения, сорвав с пациента последнюю рубашку. Не удивительно, что к здравоохранению США у меня накопилось претензий не меньше, чем у президента Обамы, который в разгар могучего экономического кризиса объявил приоритетом своего правительства медицинскую реформу. Для постороннего это звучит странно, для своего — запоздало.
Мои отношения с американской медициной начались с Сахарова. Я был молодым, пьющим, доверчивым и к врачу пришел, надеясь, что в Америке лечат даже похмелье. Слушаясь книг, прежде всего — Драйзера, я выбрал доктора с кабинетом на Пятой авеню, тем более что напротив стоял музей Метрополитен, удовлетворявший мою жажду иным манером. Как водится в Америке с советскими эмигрантами, медицинский опрос начался с политики. Выяснив, что я уже выбрал свободу, доктор заинтересовался Сахаровым. До диагноза дело не дошло, обошлись тестами. Об их результатах я так и не узнал ничего определенного, потому что в отведенное на визит время мы обсуждали здоровье, но не мое, а Сахарова.
Когда академик умер, доктор окончательно потерял ко мне интерес, и я перебрался к другому врачу — обидчивому. Узнав меня получше, он дал понять, что такого и лечить не стоит. В принципе, я был с ним согласен, вычитав у Эпиктета, что человек — это душонка, обремененная трупом, но и она нуждается в утешении. Ведь чаще всего — но до поры до времени! — мы ходим к врачу, чтобы он нам объяснил, почему мы в нем не нуждаемся. Этот к моим жалобам относился свысока, давая понять, что при таком образе жизни я лучшего не заслуживаю. О диагнозе, кстати сказать, речь опять не шла. Надо признать, что американская медицина любой ценой избегает определенности, ибо за нее легко угодить под суд в случае ошибки. Помня об этом, врачи всех лечат от одной и той же болезни, которая называется «инфекция» и может означать все, от чего умирают не сразу. Этим она напоминает мне ту химеру советского здравоохранения, что изображалась аббревиатурой ОРЗ, расшифровывалась — «бюллетень» и случалась после зарплаты.
Несмотря на воспоминания, третьего врача я нашел по Интернету и выбрал лишь после того, как не только взвесил его настоящее, но и оценил прошлое. Соотечественник и земляк, он заканчивал тот Рижский мединститут, где учились близкие друзья и красивые девушки. Общие воспоминания оказались лучшим лекарством, и я вообще перестал ходить к врачу. Но тут умер отец, внезапно состарилась оставшаяся без него мать, и американское здравоохранение обрушилось на нас со всей высоты своего роста.
Американская медицина может сделать все, включая много лишнего. Лучше ее в мире нет, но и хуже — немного. Самая развитая и расточительная, она лечит и разоряет страну с одинаковым успехом.
Чтобы распутать эту цепь парадоксов, нужна статистика. В год на здоровье души и тела среднего американца уходит 7539 долларов. Это по крайней мере вдвое больше, чем в любой другой стране, включая, допустим, Францию, где живут намного лучше и немного дольше.
Расходы на медицину душат страну и ее промышленность. Нельзя, например, сказать, что американские машины заведомо хуже импортных — они просто дороже. В среднем автомобиль General Motors стоит на две тысячи долларов больше аналогичной модели заграничной компании. Почти вся разница — цена страховки, которой фирма оплачивает здоровье своих профсоюзных рабочих — с первого дня до последнего.
Боясь остаться без врачей, низы живут в крепостной зависимости от верхов. Вторые разоряются, оплачивая здоровье первых, поэтому на улице оказываются и те и другие.
Эту смутную арифметику трудно усвоить приезжим из стран с национализированной на социалистический манер медициной, то есть со всего мира, кроме Америки. Канадцам, которых во всем остальном трудно отличить, наши проблемы даются с особым трудом. Например, моему однокласснику, поселившемуся в Торонто, все американцы кажутся безнадежными ипохондриками, мусолящими нудные социальные вопросы, вместо того чтобы кататься, как принято у соседей, на лыжах. Американцы и впрямь одержимы здоровьем, но дорожат они им еще и потому, что знают, сколько оно стоит. Самая важная часть американской зарплаты — страховка, особенно, говоря по-нашему, та, редкая, что «вплоть до зубов». Если у вас, как у 46 миллионов американцев, полиса нет вообще, то дело плохо. Умереть не дадут, но и жить — не очень.
Проще всего тем, с кого взять нечего. Я знаю по себе, вернее — по сыну, который родился за полцены. Больше у нас тогда не было, а когда я выписывал чек на оставшуюся сумму, то от отчаяния сделал столько ошибок в английском правописании, что банк его не оплатил, а больница отстала. Долго, однако, так могут протянуть только бездомные. Их лечат даром и самым невыгодным для общества образом: от инфаркта до насморка — в реанимации. Легче приходится тем, кого закон признает неимущим. Среди добившихся такого статуса — много наших. Их лечат бесплатно, в том числе от депрессии — экскурсиями в казино и походами на Брайтон. Хуже тем, кто сводит концы с концами и нигде не служит, скажем, художникам всякого рода. Когда жившая без страховки Сьюзан Сонтаг заболела раком, весь интеллигентный Нью-Йорк собирал деньги на лечение. Оно, кстати сказать, надолго оттянуло развязку, потому что американская онкология — лучшая в мире. Но долги остались.
Страх перед ними преследует всех, ибо медицина стоит зверские, несуразные, будто игрушечные деньги. Стоимость пребывания в больнице превышает цену за постой в «Ритце» или «Плазе», может быть, даже вместе взятых. И понятно — почему. Во-первых, мы платим за тех, кто этого не делает. Во-вторых, больница — проходной двор и фабрика расходов: она за все дерет, чтобы содержать парк сложных машин и сомнительную орду бездельников.
Когда мать опять сломала ногу, гениальный хирург бережно собрал ей бедро, как из черепков вазу. Затем началось вымогательство. Каждый день в больнице стоил нам — сто долларов, плюс — по десятке за телевизор и телефон, плюс — целое состояние ее страховке. В больнице играли в лото, стоял рояль, лежачих учили вышивать, ходячих — бальным танцам. Среди персонала встречались социальные работники, эксперты по трудотерапии, психиатры широкого профиля, заезжие фармацевты, тренеры и коммивояжеры. Специалисты-диетологи разносили научно выверенное и кулинарно заковыристое меню: «суп из спаржи, лосось с диким рисом, птифуры». По вкусу еда, впрочем, не отличались от салфеток и напоминала самолетный обед, зато мягкий, будто его уже один раз жевали. Матери, однако, от этого было не легче, потому что после удара она не могла держать ложку и ела раз в день, когда я ее кормил, приходя в палату.
В коридоре меня встречал хоровод сестер и санитарок, но у каждой из них были строго оговоренные контрактом обязанности. И чем больше людей вертелось вокруг, тем меньше оставалось надежд найти на них управу. Когда говорившая только по-испански уборщица выбросила мамину вставную челюсть, от всех птифуров осталась прохладная каша.
Хуже стало, когда выяснилось, к чему все идет. В американской больнице смерть — апофеоз траты, и последний день человека — самый дорогой в его жизни. Когда сделать уже ничего нельзя, медицина пускает в ход простаивающую технику, чтобы растянуть агонию и раздуть расходы.
За всем этим хищно присматривала страховка. Полностью понять ее византийское устройство не может никто, мне хватает той части, что доступна здравому смыслу. Страховые компании зарабатывают себе на хлеб тем, что, стоя между пациентом и врачом, отбирают у первого как можно больше, следя, чтобы второму досталось как можно меньше. С лукавством колхозного нарядчика страховка начисляет докторам трудодни и больным доплаты.
Так, создав беспрецедентную по сложности бумажную архитектуру, страховой бизнес сам себя кормит. Дикая цифра: в системе здравоохранения США уже занято 5% трудоспособного населения, но на 17 работающих в медицине человек приходится только один практикующий врач. Остальные пишут — документы, отчеты, мемуары, инструкции. Живя по своим, списанным у Кафки, законам, бюрократический организм заполняет собой экономическое пространство, не производя ничего полезного. Америка тратит намного больше, чем ей надо. В совокупности выходит 650 лишних миллиардов в год. Это как шесть войн в Ираке плюс мелочь на карательные экспедиции. На каждого из нас приходится по 2100 долларов, которыми американцы оплачивают медицинскую систему, ненавистную всем.
Страна горячо мечтает, чтобы это кончилось, и панически боится, что будет хуже. Беда в том, что, как я, Америка инстинктивно не доверяет всему, что напоминает о социализме, даже тогда, когда он с человеческим лицом и в белом халате.
Александр Генис
Нью-Йорк
19.03.2009
Светлый Север
100 лет назад, 6 апреля 1909 года Роберт Пири, а также его спутники-эскимосы Ута, Эгингва, Сиглу и Укея достигли Северного полюса
Всем временам года я предпочитаю холодное, всякому направлению — северное, любым осадкам — снег, ибо он проявляет жизнь, обнаруживая ее следы. Мне никогда не приходило в голову жаловаться на холод, по-моему, он сам себя оправдывает — этически, эстетически, метафизически. Мороз пробирает до слез, как музыка, и действует, как лунный свет: меняет реальность, ни до чего не дотрагиваясь.
— Зима, — говорил Бродский, — честное время года.
Летом, надо понимать, жизнь и дурак полюбит. Но я фотографии и природу предпочитаю черно-белыми — по одним и тем же причинам: аскетическая палитра обнажает структуру, убирая архитектурные излишества. Поэтому когда древние китайцы писали пейзажи черной тушью, сложив в нее радугу, у них получался не только портрет мироздания, но и схема его внутреннего устройства.
Стыдясь мальчишества, я до сих пор с трудом удерживаю слезы восторга, читая о приключениях полярников. В лучших из них воплотились черты того прекраснодушного идеализма, которые традиция с куда меньшими основаниями приписывает рыцарям, революционерам и паломникам: фантазия, самоотверженность, благочестие. Тогда, на рубеже еще тех веков, прекрасная и недостижимая Арктика была религией атеистов, и полюс слыл их Граалем.
С трудом пережив тоталитарный героизм предыдущего столетия, XXI век утратил вкус к романтическим подвигам. Пресытившись ими, он заменил единоборство с природой экстремальными видами спорта: в Нью-Йорке популярны кафе с бетонным утесом для скалолазания, а лед есть и в холодильнике.
Раньше мы лучше умели пользоваться Севером. Он был не дорогой, не рудником, не скважиной, а храмом, лишенным деловитого предназначения. Впрочем, всякий храм бесполезен, именно потому, что он — храм бесполезному, такому как Бог, любовь или горы. Понимая это, сто лет назад люди рвались к полюсу лишь потому, что он был: напрочь занесенная снегом географическая абстракция. Сегодня ее стало меньше — намного. За последние полвека полярная шапка сократилась уже вдвое: ушанка стала тюбетейкой. Накануне юбилея — 100 лет открытия Северного полюса — климатологи в очередной раз оповестили мир о том, что добраться до него стало проще: арктические льды тают куда быстрее, чем предсказывали ученые. В принципе, это как раз тот катаклизм, о котором мечтали юные мичуринцы всех стран и народов.
Приспосабливая мир к себе, прогресс делает его сразу и больше, и меньше. Именно это случилось с Севером. Растопленная Арктика наконец откроет регулярное полярное судоходство, позволяющее обойтись и без Суэцкого канала, и без Панамского, что на пять тысяч морских миль сократит кругосветное путешествие. К тому же парниковый эффект сделает доступными сокровища потеплевшего Севера, где залегает четвертая часть всех запасов газа и нефти на нашей планете. Готовясь поднять новую целину, прилегающие к полюсу страны мобилизуют ресурсы — от газетных шапок до подводных лодок. Охваченные утилитарным зудом, мы рады принести ему в жертву другие арктические резервы — запасы пустоты, спрятанной под вечными льдами.
Чистый излишек пространства, как высокие потолки или тонкая рифма, — необязательная роскошь, придающая жилью достоинство, а стихам оправдание. Как раз поэтому, как стрелку компаса, меня всегда тянет на Север, хотя, в сущности, там ничего нет. Наука утверждает, что мысля, мы используем свой мозг лишь на несколько процентов. Остальное, видимо, уходит просто на то, чтобы быть человеком.
На Севере это особенно трудно, зато холод обостряет переживание всего остального, начиная со времени: чем сильнее мороз, тем дольше тянется минута. Достигнув летального предела, искусство становится искусством выживания. Быт высоких широт придает каждой детали скудного обихода забытую нами красоту необходимого: костяные солнечные очки, надетый на себя водонепроницаемый каяк, мороженое из китового сала, средство от цинги, которым служит мясо живого тюленя.
Живя в окрестностях небытия и ощущая трепет от его близости, северные народы обычно молчаливы, сосредоточенны и склонны к пьянству. Сегодня за полярным кругом обитают четыре миллиона человек, но, пожалуй, селиться там стоило лишь эскимосам. За пять тысяч лет они сумели полностью вписаться в среду, мы же ее переписываем, постепенно превращая в робинзоновского Пятницу.
Александр Генис
Нью-Йорк
03.04.2009
Соблазн Кассандры
Кризис опасен тем, что провоцирует спекуляции, особенно — философские. Не в силах справиться с сегодняшним днем, мы готовы принести в жертву завтрашний, чтобы попасть во вчерашний
Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю…
Пушкин
Мне повезло, скажу не шутя, вырасти в ту редкую и знаменательную эпоху, когда многим казалось, что мир меняется — от плохого к лучшему, или хотя бы к сносному.
Когда я поступил в первый класс, меня причислили к «нынешнему поколению», которое доживет до коммунизма и бесплатного мороженого. И тут же, в качестве аванса, Гагарина запустили в космос, а Сталина вынесли из мавзолея. К восьмому классу я, правда, усомнился в неизбежности прогресса, потому что встретил на Карпатах направлявшиеся в Прагу танки, но и они меня не исправили. Я по-прежнему отношусь со скепсисом к скептикам, подозревая в них шарлатанов. Мизантроп — выгодная профессия. В определенном и невеселом смысле он всегда оказывается прав, зная, как все мы, чем это кончится. Но именно беспроигрышность этой ситуации меня смущает.
Осуждать обратную сторону проще, чем хвалить лицевую. Опуская другого, мы поднимаем себя. Зная это, Генрих Белль, считая негативные рецензии бесполезной игрой амбиций, оценивал критиков по тому, кого они хвалят, а не ругают. (Впечатленный таким принципом, я уже лет 20 лет пишу только о тех книгах, которые мне нравятся.)
Важно еще и то обстоятельство, что предсказывать беду надежнее. Если она обойдет стороной, то на радостях мы о ней забудем. Поэтому те, кто всегда ждет худшего, выигрывают дважды. Когда они попадают в точку, мы благодарны им за предусмотрительность, если промахиваются — довольны тем, что обошлось. Никто не стал бы попрекать Кассандру, окажись она не права.
Один мой приятель-диссидент сидел в Коми с сектантами, всегда готовыми к концу света. Когда он не наступал и очередной роковой день проходил незамеченным, строгий лагерный этикет требовал, чтобы об этом не вспоминали. В Нью-Йорке такое случилось, когда умер любавический ребе Шнеерсон, которого в Бруклине считали мессией. В ожидании последнего из всех судных дней евреи не спали, не ели и три дня не показывались на службе, а когда все-таки явились, то только коллега-пятидесятница не сумела сдержаться:
— Ваш из гроба не встал, — сказала она, — а наш еще как.
— Это еще как посмотреть, — ответил ей хасид, потирая красные глаза.
Я не знаю, что он имел в виду, но у склепа раввина до сих пор горит свет и дежурят евреи.
Конец света и впрямь слишком важное событие, чтобы его пропустить, не примазавшись. Поэтому история полна несбывшимися пророчествами, но кто сейчас, например, вспоминает, с каким ужасом мир боялся новогодней ночи 2001-го, обещавшей свести с ума компьютеры, людей и (сам читал) домашних животных.
Еще хорошо, что у нас короткая память, а то, сколько я ни живу в Америке, столько она стоит на краю пропасти. Вглядываясь в прошлое, я вижу в нем лишь один тихий период — тот, когда страна следила за сексуальными эскападами своего президента. Славные были времена, если у сената не было других забот, кроме как решать, является ли оральный секс настоящим и заслужил ли за него Клинтон отставку.
Эйфория, однако, была недолгой, и с 11 сентября Америка живет в беспрестанной «экзистенциальной тревоге», что в Новом Свете — в отличие от Старого — подразумевает не отчаяние космического одиночества, а обычный страх конца.
Пока я не привык, меня это беспокоило, но потом перестало, потому что каждый раз угроза менялась. Сперва в те месяцы, когда руины «близнецов» еще дымились и мы не открывали окон при южном ветре, смертельной опасностью считались террористы. Потом, поскольку Усаму не нашли, их задвинули на задворки общественного мнения и стали бояться атомной бомбы Хусейна. Когда и ее не нашли, угрозой — и надолго — оказалась просто война в Ираке. День за днем нам объясняли, что от ее исхода зависит мир, покой и исход президентских выборов. Но тут подорожал бензин, и война скрылась за кулисами газет.
Еще прошлым летом до сих пор не повешенные экономисты предсказывали, что зимой баррель нефти будет стоить двести долларов. Топливный кризис обещал разорить Запад и спасти планету. Боясь, что заправить машину бензином будет не дешевле, чем шампанским, я почти купил электрический автомобиль, но тут нефтяной рынок рухнул, и все принялись ждать депрессии, пугая ею друг друга.
Опыт научил меня, что спасение от этой череды кошмаров в том, что следующий вымещает предыдущий, ибо природа массовой информации не терпит конкуренции. Если сегодня мир катится в экологическую пропасть, то террористы должны ждать своей очереди до завтра. Если Россия встает с колен, то про Иран забудут, пока она не вернется обратно. Если производство падает, то мы не умрем от ожирения. Если пришла «Катрина», то нет цунами. Если плохо, то сейчас. Наше сознание вмещает одну катастрофу за раз, потому что перед многочисленными бедами оно немеет, и мы можем махнуть на средства массовой информации рукой, чего они никак не могут себе позволить.
Стоять на краю бездны полезно и боязно. Опасность обостряет ощущения и пробуждает от дремы повседневности. Придя в себя, мы становимся восприимчивыми к проповеди — какой бы она ни была. Поэтому нынешнему кризису — тотальному и глобальному — нет цены: он позволяет каждому осудить чужие грехи и наметить свои пути к спасению. Одни ищут его в экологической беспорочности, другие — в обыкновенной, одни призывают к нестяжательству, другие соблазняют распродажей, одни рассчитывают на власть, другие на жадность. Пути различны, но цель одна: воспользоваться руинами для возведения дворца своей истины. Как Страшный суд, кризис обнуляет жизнь, давая пророкам надежду начать ее как следует.
Когда кончится кризис, спрашивают все, но каждый получает ответ по своей вере. Инвесторы надеются, что в следующем году, Обама — в этом, и только из московской газеты я узнал, что — никогда.
«Запад, — читаю я в ней, — заболел русским недугом. Лишившись национальной и всякой другой идеи, он живет как попало, сгрудившись в той коммунальной квартире, которую попавшие в нее зовут «Евросоюзом».
Короче говоря, закат Европы — поскольку про Америку и говорить не приходится, о ней уже все сказали власти.
В такой, весьма популярной, версии событий русский кризис — расплата за то, что Россия, торопясь включиться в общую жизнь, пренебрегла своей.
Это значит, что кризис оживил затихший было спор славянофилов с западниками. Как в прошлом, так и в настоящем его завершает компромисс Евразии. Суть его в географии, владеющей русским воображением, с тех пор как изобрели карты. Азарт немереного — захватившего два континента — пространства обычно требовал уникального подхода, нетривиальной экономики и любви к начальству.
Мне, однако, Евразия всегда казалась историософской химерой вроде Атлантиды, позволявшей Платону заменить социальные эксперименты мысленными. К тому же, рассуждая практически, а не метафизически, в Америке, Канаде или Австралии земли тоже хватает, но никто не ждет от этой почвы ни на что не похожего урожая. И если уж смотреть на карту России, то лучше, как однажды сказал Битов, увидеть в ней не вторжение Азии, а продвижение Европы до Нового Света — с другой стороны глобуса.
Помимо всего прочего, кризис опасен тем, что провоцирует спекуляции, особенно — философские. Не в силах справиться с сегодняшним днем, мы готовы принести в жертву завтрашний, чтобы попасть во вчерашний. Но так точно не будет, ибо каждый катаклизм меняет мир по-своему — и к худшему, и к лучшему.
Я не хочу сказать, что не боюсь кризиса, — еще как. Но еще больше я страшусь тех, кто боится его сильнее меня. В истории, как показала еще Первая мировая война, нет ничего опаснее неадекватной реакции.
Александр Генис
Нью-Йорк
10.04.2009
Шапка Мономаха
Политика — магическая практика, которая не только наделяет харизму властью, но и власть — харизмой
Свою единственную трагедию «Борис Годунов» Пушкин писал в 1825 году, когда состоялась его первая встреча с Николаем, который назвал поэта самым умным человеком России. Пьесу, однако, царь не одобрил и посоветовал переделать в роман — «наподобие Вальтера Скотта».
Пушкин предпочитал Шекспира. Точнее — послужившего ему моделью «Генриха IV», его вторую, менее популярную часть, описывающую умного и дельного монарха-узурпатора, раздавленного муками совести. Не в силах уснуть, король произносит слова, ставшие пословицей: «Uneasy lies the head that wears a crown». У Пастернака это место звучит так:
Счастливый сторож дремлет на крыльце,
Но нет покоя голове в венце.
Задолго до него, однако, Пушкин переплавил шекспировские слова в строку, глубоко застрявшую в сознании народа:
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!
Обычно так говорят о мучительном бремени власти, забывая, что у обоих поэтов эту фразу произносят те цари, что незаконно завладели короной. Своя ноша не тянет, чужая — не дает жить. Муки совести парализуют волю. Узурпатор оказывается заложником толпы. Расплата за первородный грех присвоенной власти — угроза бунта. Страшась его, обессиленная виной власть становится игрушкой молвы и толпы.
Другими словами, «Борис Годунов» — первая трагедия русской демократии. И завершает пушкинскую пьесу провидческая ремарка: «Народ безмолвствует». Молчание толпы — приговор ее будущему. Беда не только в том, что уставшим от беззаконной суеты на престоле все равно, кому достанется шапка Мономаха. Хуже, что, отказавшись делить с властью ответственность за свою судьбу, народ отвернулся от политики, посчитав ее уделом несчастных: кровожадных тиранов, наивных мучеников, бездушных прагматиков, порочных честолюбцев, прекраснодушных диссидентов и других козлов отпущения.
Как все вокруг меня, я вырос, презирая политику. К ней относилась первая полоса каждой газеты, которую не читал даже тот, кто ее писал. Будучи заведомо нечистоплотной, политика была для других, и я никогда не встречал профессионалов, пока не попал на свадьбу комсомольского секретаря, набравшегося быстрее меня. Не удивительно, что я никогда толком не знал, что значит политика, пока не перебрался в Новый Свет, где перестал понимать ее окончательно.
Хотя мне довелось жить при семи президентах, я так и не разобрался, откуда они берутся. Подозреваю, что наверняка этого не знает никто, поэтому так вопиюще расточительны, безмерно азартны и безумно непредсказуемы американские выборы. Всякий раз, когда им подходит срок, в стране ощущается вибрация, выталкивающая наверх хорошо знакомых или, наоборот, совсем безвестных людей. Каждый из них — лишь потенциальная величина, черная доска, ждущая мела и тряпки. Газеты пишут и стирают, но пыль власти оседает в народной душе и кристаллизируется в ее выборе. Основанный на неизвестных величинах и неисчислимых переменных, он зреет в темной, недоступной рефлексии глубине общества. Для простоты мы называем этот таинственный процесс политикой, но проще она от этого не становится. Причудливый танец интересов, страстей и страхов втягивает в свой хоровод всех (даже те, кто не голосует, служат балластом). Под тяжестью груза меняется сама реальность, преображая тех, кого вчера, кажется, еще не было вовсе. Политика — магическая практика, которая не только наделяет харизму властью, но и власть — харизмой.
Я помню Рейгана. Он был актером. Причем неважным. В разгар предвыборной кампании по телевизору тогда крутили ролик, склеенный из фильмов, где одни ковбои били других. Рейган играл тех, кому больше доставалось. Его считали глуповатым, и когда, уже после смерти, напечатали его политические размышления, пресса опубликовала написанный от руки манускрипт, доказывая, что он сам его сочинил. Теперь Рейган, как Кеннеди, стал аэропортом.
Я помню Клинтона. Он играл на саксофоне. В разгар предвыборной кампании старший Буш назвал их «клоунами» (вторым был Гор). Теперь они дружат. По неписаному, и оттого особенно суровому закону бывшие президенты не дают советы настоящим и не критикуют друг друга.
Я помню Обаму. Впервые он появился в разгар чужой предвыборной кампании на съезде демократов, где произнес яркую речь. О чем — забыл, но это и не важно. Хранить — забота истории, политика живет забвением. Поэтому избиратели так легко прощают себе неверный выбор. Они полагаются на того, кто придет, чтобы исправить их ошибки.
В этом — суть политики, не дающей закоснеть действительности. Прочищая трубы жизни, политика внушает доверие к переменам. Президент — их живое олицетворение. Его работа — свято верить в будущее, которое ему, в отличие от стариков и философов, нравится больше прошлого. Не смея отрицать преемственности с ним, президент обещает исправленный статус-кво: будет так же, но лучше, похоже, но по-иному, все вернется в колею и пойдет другой дорогой. Такого не бывает, но политика никогда не удовлетворяется реальным и достижимым. Попав в тупик, власть меняет обстоятельства, внушая нам уверенность — не столько в себя, сколько в себе.
И тут, судя по опросам, Обама не знает равных.
Чем хуже дела у Америки, тем лучше они у Обамы. В это трудно поверить, но в стране все показатели падают, кроме президентского рейтинга. Один он и растет. Сегодня 70% американцев дрожат за свое рабочее место, 40% отказались от дорогих покупок, 10% — от необходимых, 30% — от тех и других. При этом все больше становится тех, кто считает, что Обама ведет Америку в правильном направлении. В январе, когда это путешествие только начиналось, таких было 15%, сегодня — 40%. Объективно говоря, экономика все хуже. Число безработных стало двузначным (в процентах), биржа — в горячке, финансисты — в панике, производство — в обмороке, Детройт — на грани банкротства, банки — тоже. Но субъективно положение постепенно и верно меняется не к худшему, а к лучшему. В январе так думали 7% опрошенных, сегодня — 20%.
Заполнить пропасть между объективным и субъективным должна программа стимулов, на которую Обама обещал такую сумму, что нулей не напасешься. Одни считают это спасительным решением, другие — губительным, третьи — что мы никогда не узнаем, какое из этих двух суждений верно. В конце концов, самые именитые историки до сих пор спорят, помог или помешал Франклин Рузвельт стране справиться с Великой депрессией.
Больше надежды не на дела Обамы, а на него самого. Этот президент — цветущий плод демократического произвола. Захотели и выбрали — несмотря на мусульманское имя, экзотическое детство, цвет кожи и африканских родственников. Он был чужим, а стал своим. Как, собственно, все в Америке. Слившись с ней, Обама воплощает судьбу и удачу Нового Света.
Во время первого европейского вояжа Обамы серьезные газеты упирали на международные отношения, бульварные — упивались главным. На обложке вульгарной «Нью-Йорк Пост» из всех приемов и встреч читателям достался один снимок: Елизавета, Мишель, Обама. И заголовок: «Royalty!», что переводится — «И мы не хуже».
Королей в Америке, конечно, нет, но корона — хоть и невидимая — осталась. Ее отливают из грез, украшают иллюзиями и венчают идеалом. Она нематериальна, как сон и мысль, но ведь все лучшее в нашей жизни стоит на обмане. Культура — отвлекающий маневр, цивилизация — эскалация лицемерия, политика — проекция себя на другого и всех на одного.
Александр Генис
Нью-Йорк
15.04.2009
Зврк
Балканский дневник
Отель стоял в прозрачной березовой роще. Южная весна походила на северную, и ветерок играл почти пустыми ветками. В березках мочился юноша в трениках.
«Лель», — решил я, входя в двухэтажный вестибюль.
Писатели делили гостиницу с хоккеистами, собравшимися в Новый Сад на чемпионат мира.
— Tere-tere, — закричал я парням в синих майках с надписью «EESTI».
— Гляди, Леха, — сказал хоккеист такому же белобрысому приятелю, — эстонец.
Другой изюминкой отеля был ресторан «Тито» с поясным портретом вождя, выполненным в дерзкой манере соцреалистического сезаннизма. Среди мемориальных вещей я заметил окурок толстой сигары. Однажды Тито встречал тут Новый год. На память о торжестве остался аутентичный сервиз.
— Возможно, этой ложкой, — сказал пожилой официант, принося суп, — ел Тито.
— Возможно, этой вилкой, — продолжил он за вторым, — ел Тито.
— Возможно, этим ножом…
Я вздрогнул, потому что в моем детстве Тито обычно называли «кровавой собакой», и прервал старика вопросом:
— Кто по национальности был Тито?
— Маршал, — отрезал официант, и я остался без кофе.
Даже с ним здесь непросто.
— Знаете, — спросили тем же вечером писатели, — как по-нашему будет кофе?
— Кофе, — рискнул я.
— Кафа.
— А по-хорватски — кава, — добавил один писатель.
— По-боснийски — кахва, — заметил другой.
— По-македонски — кафе, — вставил третий.
— По-черногорски — эспрессо, — заключил Горан Петрович.
Над Черногорией здесь принято посмеиваться, потому что она поторопилась найти себе отдельное место под солнцем, да еще у моря. Поводом к отделению послужили три уникальные буквы, на которые черногорский язык богаче сербского. Проблема в том, что букв этих никто не знал, и русские, открывшие и купившую эту чудную страну, привезли их с собой.
Включив в номере телевизор, я услышал голос диктора:
— Наличие кэша, без наличия кэша, наличие без кэша.
«Сербский», — решил было я, но потом заметил в углу буквы «РТР».
Русскому, впрочем, говорить по-сербски просто. Только долго. Каждое слово я сопровождаю всеми мыслимыми синонимами. Рано или поздно один из них оказывается сербским словом.
Утром я нашел среди мраморных колонн газетный киоск и спросил у приветливой продавщицы:
— У вас есть какая-нибудь пресса на английском?
— Конечно, — удивилась она, — скоро завезут.
— К вечеру?
— К лету.
Оставшись без новостей, я ограничился историей. В этих краях только римских императоров родилось шестнадцать душ. И Новый Сад всегда был перекрестком Европы с самой собой. Обычно, попав в незнакомый город, я описываю архитектурные достопримечательности, делая это по той же причине, по которой Швейк советовал фотографировать мосты и вокзалы, — они не двигаются. С людьми сложнее, если они не славяне. С ними мы быстро находим общий язык, потому что он действительно общий.
— Чего у нас больше всего? — спросила меня дама с радио.
— Того же, — честно ответил я, — что и у нас: эмоций.
— Это комплимент?
— Скорее — судьба.
Между тем литературный фестиваль вошел в силу, и меня представили переводчице.
— Мелина.
— Меркури? — вылетело из меня, но я оказался прав, потому что отец назвал дочку греческим именем из любви к актрисе безмерной красоты и радикальных убеждений.
Мы подружились по-славянски стремительно: душа Мелины не помещалась в худом теле и была вся нараспашку. Тем более что она пригласила в гости, а чужое жилье, как подробно демонстрировал Хичкок, — собрание бесспорных улик, и я не стеснялся оглядываться. На балконе стояла пара лыж и два велосипеда. В передней висела гитара, на плите — чайник на одну чашку. Книг было умеренно, компьютер — переносной. Остальное место занимала раскрашенная по-детски яркими красками карта мира. Туда явно хотелось.
Литературный фестиваль открылся в старинном особняке. Раньше здесь располагался югославский КГБ. За стеной по-прежнему дико кричали, но из динамиков и под гитару.
Когда дело дошло до официальных речей, выяснилось, что Мелина переводила хорошо, но редко.
— Этого, — говорила она, — тебе знать незачем.
— А этого, — послушав еще немного, добавила она, — тем более.
Меня подвели к высокому и спортивному мэру.
— Мне нравится, — льстиво начал я, — ваш город…
— Мне тоже, — свысока ответил он.
Но тут нас, к счастью, прервала музыка. Ударила арфа: Гайдн, Эллингтон, что-то батальное. Одетая лилией девушка не жалела струн, но скоро одну музу сменила другая. Начались чтения. Сперва в переводе на сербский звучала венгерская проза, потом — словенская, затем — македонская. За столом, впрочем, выяснилось, что все авторы учились на одном курсе, играли в одной рок-группе и вместе издавали стенгазету «Знак» — про Лотмана. Поэтому мне удалось без труда вклиниться в беседу:
— Живеле! — закричал я, и все подняли «фракличи», филигранные рюмки-бутылки, со зверски крепкой ракией. Как русскому мне ее наливали в стакан.
Чокнувшись с соседом, я обнаружил в нем тезку. Чтобы не путаться, мы решили звать его Александром Македонским. Он не спорил и рисовал на салфетке карту родовых владений нашего эпонима, которые упорно не попадали в Грецию. Моего собеседника это радовало, греков бесило, из-за чего Македонию не брали в Европу.
— Реакционеры, — кричал он, — они не знают новой географии. С падением Берлинской стены исчез целый край света. Западная Европа теперь кончается Белоруссией, с которой начинается Западная Азия.
— А сейчас мы где? — не сдержал я любопытства.
— Западные Балканы, — решительно вмешался другой писатель.
— Восточное Средиземноморье, — поправил его третий.
— Один хрен, — резюмировал четвертый, который лучше всех говорил по-русски.
Обшитая дубом гимназия, самая старая в Сербии, больше походила на Оксфорд, чем на среднюю школу. В такой мог учиться Булгаков и учить «человек в футляре». На стене актового зала висел Карагеоргиевич в алом галифе. За спиной с темного портрета на меня глядел первый попечитель Сава Вукович в меховом жупане. Гимназии было триста лет, ее зданию — двести, ученикам — восемнадцать.
— Какова цель вашего творчества? — спросили они.
Первые десять минут коллега слева, усатый автор сенсационного романа «Лесбиянка, погруженная в Пруста», отвечал на вопрос сидя. Следующие пятнадцать — стоя. Наконец он сел, но за рояль, и угомонился только тогда, когда у него отобрали микрофон, чтобы сунуть его мне.
— Нет у меня цели, — горько признался я, — а у творчества и подавно.
Молодежь разразилась овациями — им надоело сидеть взаперти. Выбравшись во двор, мы разболтались с гимназистками. Они учили русский, чтобы заработать денег, и английский, чтобы выйти замуж.
— За кого?
— За русских, — непонятно ответили они.
Но тут я вспомнил, что в России молодежь тоже учит английский, и решил, что они объяснятся.
— Что самое трудное в русском языке? — сменил я тему.
— Мягкий знак.
— И несмотря на него, вы взялись за наш язык. Почему?
— Толстой, Достоевский, Пушкин…
— Газпром, — перевела Мелина.
Нефть и деньги действительно приходят в Сербию с Востока, но Пушкина здесь тоже любят. Его тут даже больше, чем в России. В прошлый приезд я встретил в одном погребке вырезанную на доске строку, понятную и без перевода: «День без вина, как день без солнца». И подпись — Пушкин. Классик, правда, такого не писал, но все равно красиво. На этот раз я узнал всю правду про Леонида Андреева.
— Он требовал, — рассказывал очередной писатель, — чтобы его обслуживали официантки с голой грудью.
— Как в Африке, — ахали слушатели, но я уже ничему не верил, подозревая, что на Балканах нашу литературу приправляют по вкусу.
Обедать нас привезли в дунайский ресторан «Салаш».
— Шалаш, — перевела Мелина, — как у Ленина.
Кормили, однако, лучше и можно было покататься — на лодке или верхом.
— Правда ли, что сербы не любят рыбу, — спросил я у автора романов в стиле магического реализма, — потому что в Дунае живут злые духи-вилы?
— Нет, — сказал Горан, — неправда, просто смудж на базаре — 10 евро с костями.
Смудж на поверку оказался судаком, к тому же очень вкусным. Мы ели его на берегу разлившейся реки. Под столом прыгали лягушки. Вдалеке на мелкой волне качался сторожевой катер дунайского военного флота. Рядом мирно стоял теплоход «Измаил» под жовто-блакитным флагом. Мимо плыла подозрительная коряга.
— Из Венгрии, — присмотревшись, заметил Горан.
Между переменами я выскочил из-за стола, чтобы погладить лошадь.
— Зврк, — заметил на мой счет писатель слева.
— Зврк, — согласился с ним писатель справа.
— Зврк, — закивали остальные, включая лошадь.
За любовь к знаниям друзья часто зовут меня Гугл, а жена — Шариком. С незнакомыми — хуже. В Японии, говоря обо мне, студенты употребляли два слова, лишь одно из которых — гайджин — было смутно понятным.
— Любознательный, мягко говоря, варвар, — вежливо перевели мне наконец.
Но Зврк?! Так меня еще не звали. Оказалось, впрочем, что зврк — всего лишь непоседа, из тех, у кого в попе шило. Спорить, однако, не приходилось, потому что я всегда первым и влезаю, и вылезаю из автобуса, не переставая задавать вопросы.
Меня, впрочем, тоже спрашивали, но только журналисты, которым поручили заполнить страницу между политикой и спортом. Каждый из них начинал с того, что обещал задать вопрос, который до сих пор никому не приходил в голову. Звучал он всегда одинаково:
— Почему вы уехали в Америку? За свободой?
— Угу, — отвечал я.
Мелина переводила дословно, но репортер все равно вдохновенно строчил, надолго оставив меня в покое.
На прощание Мелина привела меня в самую старую часть города.
— Моя любимая улица, — сказала она, заводя в заросший травой тупичок.
У тропинки стоял беленый дом с таким низким окном, что выпасть из него мог только гном. В сумерках шмыгали мелкие кошки, сбежавшие из турецкой сказки. За забором уже цвела толстая сирень.
— По-нашему — йергован, — объяснила Мелина.
— Похоже, — согласился я от благодушия.
В этих краях оно меня редко покидает: не Восток, но и не Запад же, не дома, но и не среди чужих. Такое бывает со слишком прозрачным стеклом: кажется, что его нету, а оно есть, как выяснил один мой знакомый, пройдя из гостиной в сад через стеклянную дверь. К столу его вывели ни голым, ни одетым — в бинтах.
Романом с Сербией судьба что-то говорит мне, но я никак не различу — что. Поэтому в балканских поездках мне мнится потусторонняя подсказка. Лестная примерка воздаяния? А может, опечатка в адресе? Сербы считают, что я скромничаю, на самом деле — недоумеваю. С этим, однако, легко примириться, если с тобой спорят.
В самолете я пристегнул ремни — «ради безбедности лета», как уверяла меня последняя табличка на сербском, и уставился в иллюминатор. Страны мелькали по-европейски быстро. Вскоре под крылом доверчиво расстелилась плоская Голландия — с воскресным футболом и бесконечными грядками тюльпанов. Они были разноцветными, как полоски на незнакомом флаге еще не существующей державы.
Александр Генис
Новый Сад — Нью-Йорк
08.05.2009
Бродвей дождался Годо
Ровно через 50 лет
На Бродвей вернулся Годо. Как ложка к обеду, Беккет пришелся ко времени. Пара опустившихся бродяг вполне могли бы быть разоренными кризисом безработными, бездомными, выкинутыми из своих домов, даже банкирами, смутно помнящими лучшие времена с конкретным адресом — тучные 90-е годы. Во всяком случае, публика живо реагировала на современные аллюзии, которые, конечно, никто не смел специально вставлять в текст.
Энтони Пэйдж, знаменитый постановками Джона Осборна, Олби, Пинтера и Островского, безукоснительно следовал указаниям автора. Даже имя Годо у него звучит, как произносил сам Беккет, — с ударением на первом слоге. Помимо уважения к воле драматурга щепетильной верности оригиналу требует завещание писателя, за выполнением которого строго следят душеприказчики. Благодаря этому каждая постановка — не «переложение на тему», что случается и с Шекспиром, а экспонат беккетовского музея. Успех тут зависит не от изобретательности и дерзости режиссера, а от его смирения и — конечно — от мастерства исполнителей.
Такая компания, как на этот раз, и на Бродвее собирается редко. Эстрагона играл кумир кино и театра Натан Лэйн. Владимира — лучший клоун своего поколения Билл Ирвин. Роль Поццо исполнял слоноподобный Джон Гудман, которого вся страна знает по сериалу «Розанна», а эстеты — по гениальной роли дьявола в фильме братьев Коэн «Бартон Финк». Попав на сцену театра «Карусель», актеры добиваются невозможного — естественности. Глядя на них, мы принимаем ситуацию как должное. Поэтому и пьеса, попав в такое созвездие, оказалась такой, какой была придумана. Спектакль полон действия, движения, жестов и пауз. В нем есть все, чего нельзя прочитать в тексте, и это делает постановку смешной и прон-зительной. Мы видим живых людей в безжизненных декорациях: серые скалы, голое дерево, пустая дорога. Это всегда и везде, в том числе — тут и сегодня.
Дело в том, что искусство, не умея быть злободневным, часто оказывается актуальным — созвучным. Жизнь заставляет резонировать то, что ей подходит. Сиюминутное рифмуется с вечным, вызывая то смех, то дрожь.
Беккет — писатель отчаяния. Он не идет довольным собой эпохам. Зато его почти неразличимый голос слышен, когда мы начинаем сомневаться в том, что «человек создан для счастья». Исторические катаклизмы помогают критикам толковать непонятные беккетовские шедевры, которые сам автор никогда не объяснял. Так, действие в пьесе «Эндшпиль» разворачивается в напоминающей блиндаж комнате, из окна которой ничего не видно. Пейзаж постапокалиптического мира, пережившего, а точнее говоря — не пережившего атомную войну. Пьесу «В ожидании Годо» критики считали военной драмой, аллегорически описывающей опыт французского Сопротивления, в котором Беккет принимал участие. Война, говорят ветераны, это прежде всего одуряющее ожидание конца. Но причины для Беккета всегда важнее поводов. Поэтому зерно этой драмы нужно искать у его любимого философа — Паскаля.
В их жизни было что-то общее. Жадные до знаний, они оба разочаровались в том, что можно познать, а тем более — вычитать. Но человек, оставшись без интеллектуальной завесы, превращается в мизантропа. Паскаль писал: «Отнимите у человека все забавы и развлечения, не дающие возможности задумываться, и он сразу помрачнеет и почувствует себя несчастным». Просто потому, что ему не останется ничего другого, как размышлять — «о хрупкости, смертности и такой ничтожности человека, что стоит подумать об этом — и уже ничто не может нас утешить».
Беккет вторил этому рассуждению, описывая своего малолетнего героя в романе «Мэлон умирает»: «Больше девочек его мысли занимал он сам, его жизнь — настоящая и будущая. Этого более чем достаточно, чтобы у самого толкового и чувствительного мальчика отвисла челюсть».
Пряча от себя разрушительные мысли, говорил Паскаль, мы должны постоянно отвлекаться и развлекаться.
«Например — в театре», — добавил Беккет и открыл новую драму. В ней он показывал примерно то, о чем рассказывал Паскаль: людей, коротающих отпущенную им часть вечности.
Беда в том, что, глядя на них, мы думаем исключительно о том, о чем герои пьесы пытаются забыть. В своем театре Беккет поменял местами передний план с задним. Все, что происходит перед зрителями, все, о чем говорят персонажи, не имеет значения. Важна лишь заданная ситуация, в которой они оказались. Но как раз она-то ничем не отличается от нашей. В сущности, мы смотрим на себя, оправдывая эту тавтологию театральным вычитанием. Ведь в отличие от жизни в театре Беккета нет ничего такого, что бы отвлекало нас от себя. Смотреть на этот кошмар можно недолго. Неудивительно, что пьесы Беккета с годами становились все короче.
Герои Беккета всегда ходят парами — Владимир и Эстрагон в «Годо», Хамм и Клов в «Эндшпиле», Винни и Вилли — в «Счастливых днях». Все они, как коробок и спичка, необходимы друг другу, хотя между собой их связывает лишь трение. Взаимное раздражение — единственное, что позволяет им убедиться в собственном существовании.
От своих актеров Беккет требовал неукоснительного следования ремаркам, занимающим чуть ли не половину текста. Верный жест был для автора важнее слова. И понятно почему. Говорить люди могут что угодно, но свободу их движения сковывает не нами придуманный закон — скажем, всемирного тяготения. Подчиняясь его бесспорной силе, мы демонстрируем границы своего произвола. Смерть ограничивает свободу воли, тяжесть — свободу передвижения.
К тому же у Беккета болели ноги. Пожалуй, единственный образ счастья во всем его каноне — человек на велосипеде, кентавр, удачно объединивший живой дух с механическим телом. Молой, один из многочисленных хромающих персонажей Беккета, говорит: «Хотя я и был калекой, на велосипеде я ездил вполне сносно». Эта простая машина помогала ему держаться прямо. Но обычно герой Беккета — человек, который нетвердо стоит на ногах.
Вот и в этой постановке все спотыкаются, падают, валяются, не могут подняться и все-таки встают. Земля тянет нас вниз, небо вверх. Человек, растянутый между ними, словно на дыбе, не может встать с карачек. Заурядная судьба всех и каждого, включая, конечно, автора. Каждую драматическую пару Беккет списывал с жены и себя. Друзья знали, что в «Годо» попали без изменения диалоги, которые им приходилось слышать во время семейных перебранок за столом у Беккетов. Синтез универсального с конкретным делает театр Беккета безразмерным. Мы все в него помещаемся, и с этим ничего не поделаешь.
Сократ говорил, что неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы ее тянуть. У героев Беккета нет другого выхода.
— Я так не могу, — говорит Эстрагон.
— Это ты так думаешь, — отвечает ему Владимир.
И он, конечно, прав, потому что, попав на сцену, они не могут с нее уйти, пока не упадет занавес. Драматург, который заменяет своим персонажам Бога, бросил их под огнями рампы, не объяснив, ни почему они туда попали, ни что там должны делать. Запертые в трех стенах, они не могут ни покинуть пьесу, ни понять ее смысла. Ледяное новаторство Беккета в том, что он с беспрецедентной последовательностью реализовал вечную метафору: «Мир — это театр». Оставив своих героев сражаться с бессодержательной пустотой жизни, он предоставил нам наблюдать, как они будут выкручиваться.
Драма Беккета — трагедия агностиков. Они не знают, придет ли Годо. Но они его ждут, потому что в их — не отличающегося, впрочем, от нашего — положении им не остается ничего другого.
— В конце концов, — сказал после спектакля Натан Лэйн, самый разговорчивый из четверки актеров, — что значит Годо? Программа экзистенциальных стимулов, дающих надежду выйти из кризиса.
И добавил, как это водится у нью-йоркских либералов:
— Только не думайте, что я критикую Обаму.
Александр Генис
Нью-Йорк
20.05.2009
Мой Шерлок Холмс
Настоящий герой затмевает и книгу, и автора... К 150-летию Артура Конан-Дойля
Величие Конан-Дойля в том, что он создал героев, навсегда поселившихся в читательском воображении. Такое удается далеко не каждому великому писателю. На все романы Набокова, скажем, найдется одна Лолита, но и она — сексуальная фантазия, лишенная определенного характера. (Примечательно, что есть немало пятидесятилетних дам по имени Лолита. Это можно объяснить лишь тем, что их родители не читали Набокова, как не слушали Верди те, кто называл дочку Травиатой.) Настоящий герой — от Одиссея до Чапаева — затмевает и книгу, и автора.
— Дон Кихот, — уверял Борхес, — не изменится, если окажется персонажем другого романа.
С легкостью преодолев эту планку, Холмс и Ватсон выходят из своего сюжета. Но и внутри него читателю важнее посторонние фабуле обстоятельства. Виной тому — пристальность Холмса. Ему все равно что знать — его зоркая мудрость безразлична к смыслу. Конан-Дойль так и не объяснил, зачем его герой пересчитал ступеньки лестницы на Бейкер-стрит. Холмс все знает на всякий случай. Как Британская энциклопедия, которую переписывает владелец ссудной кассы Джабез Уилсон из рассказа «Союз рыжих».
Я люблю этот рассказ за красочную избыточность аферы. Убогую затею — подкоп к сейфу — маскирует ярмарочный балаган. Чтобы отвлечь рыжего владельца лавки, соседствующей с банком, злоумышленники устраивают цирковой парад: «Флит-стрит была забита рыжеволосым народом, а Попс-корт напоминал тележку разносчика апельсинов. Здесь были рыжие всех оттенков — соломы, лимонов, апельсинов, кирпича, ирландского сеттера, желчи, глины».
Расцвечивая унылую лондонскую палитру, Конан-Дойль приносит сюжетную логику в жертву эффекту. Длинный ряд вопиюще разнородных предметов — от сеттеров до лимонов — соединен фальшивым условием цвета. Это — энциклопедия рыжих Англии!
Собранная ради одного абзаца, она поражает бессмысленным размахом. Но так и должно быть, ибо полнота — пафос энциклопедии. В ней заперт дух работящего XIX века, который перечислял окружающее в надежде исчерпать тайны мира. Просветительская мечта энциклопедии — упорядочить мир, связав его узлом перекрестных ссылок. Ее герой — рантье науки, эрудит-накопитель, коллекционер, классификатор, одним словом — Паганель. Умеющий различать пепел сорока табаков Холмс приходится ему умным братом. Паганель собирает факты, Холмс ими пользуется.
В сущности, Конан-Дойль — изобретатель компьютера. Человек, по Холмсу, — это склад знаний. Его мозг — «чердак», чью ограниченную природой площадь нужно использовать с максимальной эффективностью. Повышая ее, Конан-Дойль с простодушием Силиконовой долины увеличивает объем памяти: чем умней персонаж, тем больше череп.
Мистер Уилсон из «Союза рыжих» — черновик Холмса. Он собирает знания, не умея их употребить. Холмсу информация служит, Уилсон сам служит информации. Он — раб энциклопедии, не смеющий от нее оторваться. Бесцельность навязанной ему эрудиции подчеркнута ее ложной системностью. Строя свою утопию, энциклопедия набрасывает на вселенную случайную узду алфавита. Поэтому переписывая первый том Британской энциклопедии, Уилсон «приобрел глубокие познания о предметах, начинающихся на букву «А»: аббатах, артиллерии, архитектуре, Аттике».
Мне трудно представить автора, которого не соблазнит этот список. Беккет закончил бы им рассказ, у Байрона он бы стал батальным сюжетом: аббаты аттического монастыря отстреливаются от турок. Конан-Дойль поступает иначе. Он забывает о несчастных аббатах. Союз рыжих распущен, и выстрелившая деталь валяется на полях пустой гильзой.
Рассказы о Холмсе — наглядное пособие по эволюции, страстный интерес, который Конан-Дойль разделял со своим, как, впрочем, и нашим веком. Сам Холмс и есть живая цепь умозаключений. Его сила — в последовательности рассуждения, которую Холмс называл «дедукция». Она — квинтэссенция XIX столетия, боготворившего постепенность. Секрет его завидного достоинства — в отсутствии квантовых скачков, экзистенциальных разрывов, с которыми уже примирился современный человек, выброшенный из лузы своей биографии.
Мандельштам, автор знаменитой бильярдной метафоры, толковал эволюцию не по Дарвину, а по Ламарку. Осваивая поэтику разрыва, сам поэт мыслил «опущенными звеньями». Но пафос Конан-Дойля — в демонстрации всех ступеней эволюции. Для этого написан «Затерянный мир». В этом викторианском «Парке юрского периода» Конан-Дойль делает естественную историю частью обыкновенной.
Название этой повести напоминает «Диснейленд», образы — «Искушение святого Антония», содержание — «Божественную комедию». Спускаясь по эволюционной лестнице, автор приводит нас в доисторическую преисподнюю: «Место было мрачное само по себе, но глядя на его обитателей, мне невольно вспомнилась сцена из седьмого круга Дантова «Ада».
Важнее, однако, что в затерянном мире герои находят (и истребляют) раздражающее науку недостающее звено — получеловека-полуобезьяну.
С помощью нижних ступеней эволюции Конан-Дойль удлинил викторианскую цивилизацию. Спиритизм должен был сделать ее вечной. Конан-Дойль верил, что избавиться от сверхъестественного можно, лишь превратив его в естественное. Поднимаясь от бездушной молекулы до бесплотной души, он не пропускал ступеней. Так Конан-Дойль пришел к общению с духами. Спиритизм — оккультная истерика рационализма, детектив — его разминка.
Лучше других Холмс знает, что загадка — антитеза тайны: она отменяет непознаваемое. Поэтому Холмс не вступает в диалог со сверхъестественным — он отказывается с ним считаться. Холмс — последняя инстанция в споре рационального с необъяснимым. Как всем богоборцам, Холмсу мешает случай. Чтобы справиться с ним, он признает случайность либо ложной, либо слепой. В первом случае она уступает преступному расчету, во втором — математическому. «Четыре миллиона человек толкутся на площади в несколько квадратных миль. В таком колоссальном человеческом улье возможны любые комбинации событий и фактов». Так начинается построенный на череде совпадений «Голубой карбункул».
В центре рассказа — стадо гусей. Их столько же, сколько букв английского алфавита — 26. Незадачливый преступник спрятал похищенную драгоценность в зоб одной из двух белых птиц с полосатым хвостом. Опечатка зачинает сюжет: похититель зарезал не того гуся. Перепутанные гуси попадают к перепутанным людям — драгоценная птица оказывается у некоего Генри Бейкера. В Лондоне, где «живет несколько тысяч Бейкеров и несколько сот Генри Бейкеров», так же трудно найти нужного Бейкера, как нужную птицу в гусином стаде. В эту призрачную толпу однофамильцев затесались и Холмс с Ватсоном, живущие на Бейкер-стрит. Цепь случайностей завершает трапеза, на которой «опять-таки фигурирует птица: ведь к обеду у нас вальдшнеп». Череда совпадений помогает Холмсу избавиться от намеков судьбы.
«Случай, — добродушно резюмирует он, — столкнул нас со странной и забавной загадкой, и решить ее — сама по себе награда».
Живя в просвещенном викторианском веке, Шерлок Холмс обладает ренессансным темпераментом. Он сам себе устанавливает правила, по которым играет. Даже на скрипке: «Когда он оставался один, редко можно было услышать пьесу или вообще что-либо похожее на мелодию».
Ватсон живет на краю мира, не задавая ему тех вопросов, на которые Холмс отвечает. Призвание Холмса — истребить хаос, о существовании которого Ватсон не догадывается. Холмс норовит проникнуть в тайны мироздания — и разоблачить их. Ему нужна правда — Ватсон удовлетворяется истиной: одному надо знать, как было, другому хватает того, что есть.
Беда Холмса в том, что сквозь хаос внешних обстоятельств он различает внутренний порядок, делающий жизнь разумной и скучной.
Восхищаясь Холмсом, Конан-Дойль не заблуждается относительно его мотивов. Они своекорыстны и эгоцентричны. Мораль Холмсу заменяет ментальная гигиена:
«Вся моя жизнь, — признается он, — сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия будней».
Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора.
«Счастье лондонцев, что я не преступник», — зловеще цедит Холмс, и ему трудно не верить.
Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки.
Холмс стоит выше закона. Поэтому не описанные добрым доктором дела Холмса — блеф Конан-Дойля. Они должны нас убедить в том, что Холмс может обойтись без Ватсона. Не может.
Трагедия сверхчеловека Холмса в том, что он во всем превосходит заурядного Ватсона. Безошибочность делает его уязвимым. Оторвавшись от нормы, он тоскует по ней. Уйдя вглубь, он завидует тому, кто остался на поверхности.
«Кроме вас, у меня друзей нет», — говорит Холмс, понимая, что без Ватсона он — ноль без палочки.
Холмс — пророческий символ науки, которая может решить любую задачу, не умея поставить ни одной.
Прислонившись к пропущенному вперед Ватсону, Холмс, как и положено нулю, удесятеряет его силы. Оставшись один, он годится лишь на то, чтобы пародировать цивилизацию, выращивая пчел в Сассексе.
Конан-Дойль выпустил своих бессмертных героев в мир, чтобы воплотить в нем две стороны справедливости. Иллюстрацией к ней служит иерусалимский дворец правосудия. Он построен на одном архитектурном мотиве — прямой коридор закона замыкает полукруглая арка справедливости. Это — тот природный дуализм, что сталкивает и объединяет кодекс с милосердием — закон с порядком.
Если закон — это порядок, навязанный миру, то порядок — это закон, открытый в нем. Условность одного и безусловность другого образуют цивилизацию. Растворяя искусственное в естественном, она выдает культуру за природу.
Собственно, за это мы и любим Конан-Дойля. Его герои — Шерлок Холмс и доктор Ватсон — караулят могилу того утопического мира, что опирался на Закон и Порядок, думая, что это — одно и то же.
Александр Генис
Нью-Йорк
29.05.2009
Жиртрест
Ожирение может стать чумой XXI века. Оно стережет мир, который побеждает голод, чтобы проиграть сытости. Америка, как всегда, первая.
Каждый раз, когда я возвращаюсь из Европы в Америку, мне приходится заново привыкать. Не то чтобы Новый Свет так уж отличался от Старого на первый взгляд, но на второй неизбежно замечаешь, что его существенно больше. Машины тяжелее, тени длиннее, луна больше, а люди толще, причем — намного.
Издалека американская толпа напоминает тюленей. Вблизи замечаешь, что между кроссовками и бейсбольной кепкой помещается веретенообразное тело, с трудом обтянутое тканью. Обычно — немаркой расцветки, чтобы было легче слиться с окружающим. Из этого, конечно, ничего не получается. Толстых нельзя не заметить. Ходят они редко и переваливаясь, сидят, не помещаясь на стуле, устают, не успевая встать, и умирают намного раньше положенного.
Ожирение — страшный недуг еще и потому, что этих больных никто не жалеет. Деликатные худые вообще не смотрят на толстых, самодовольные, наоборот, пялятся, и с презрением. Лишь среди своих толстяки могут рассчитывать на снисхождение, на любовь — тем более, поэтому они кучкуются с себе подобными.
Прокормить такое тело — изнурительный труд, связанный с унижениями. В ресторане на их тарелки косятся посетители, и даже официанты лезут с советами. Зная это, жирные всему в мире предпочитают буфеты самообслуживания. За определенную и незначительную сумму они обещают клиенту «все, что он сможет съесть». Именно так: не все, что захочет, а все, что влезет.
Однажды и в Париже открыли такую обжорку. В ней подавали один ростбиф, но без ограничений. Первым посетителем оказался редактор русского журнала «Мулета», не случайно взявший себе псевдоним Толстый. Доев 27-ю порцию говядины, он заказал 28-ю. Подсчитав расходы, хозяин было отказал, но собравшиеся у витрины болельщики привели ажана. Толстый триумфально завершил обед, и заведение закрылось, по-видимому, навсегда. В Америке, наоборот, их стало больше. Особенно — в местах отдыха: на курортах, круизах и, страшнее всего, в казино.
Первый раз приехав в Лас-Вегас, я поклялся, что в следующий раз попаду сюда разве что в наручниках. Жизнь, однако, сложна, и через год меня вновь занесло в Неваду на конференцию. Участников, как всех гостей города, кормили в казино, которые заманивают к себе игроков щедрым, изобильным и копеечным угощением. За столом царила безграмотная оргия. Дно тарелок занимала пицца, потому что в Америке — она всему голова. На ней громоздились куриные ноги, над ними — отбивные, и тут же — креветки, ракушки, драгоценные тихоокеанские крабы, суши и спагетти в жгучем соусе. Свальный грех кулинарии протекал в ускоренном режиме. Чтобы гости не засиживались, казино не заводят в своих ресторанах сортира. Наверстывая неупущенное, народ жевал крещендо, и я с ужасом подумал, как бы нам не встретиться в третьем круге, куда Данте поселил чревоугодников.
Ожирение может стать чумой XXI века. Оно стережет мир, который побеждает голод, чтобы проиграть сытости. Америка просто, как всегда, первая, еда здесь дешевле, чем всюду, поэтому и остановиться трудно. Чуть ли не каждый обед в ресторане завершает незнакомый европейцам мешок с остатками — doggie bag, который, вопреки названию, редко достается собакам.
Толстые — стыд и боль Америки. Полвека назад их было 13%, сегодня — треть страны. От ожирения чаще всего страдают бедные, больше всего — индейцы, хуже других — детям. В гетто есть целые школы жирных. Их жизнь, предсказывают эксперты, будет трудной, болезни — хроническими, смерть — ранней. С жиру ведь и правда бесятся, во всяком случае — впадают в депрессию. Те, кто перенес липосакцию, говорят, что предпочли бы ослепнуть, чем опять растолстеть.
Столкнувшись с эпидемией, еще не знакомой человеческой истории, власти не знают, что делать, но боятся не делать ничего. Еду нельзя, как это было с алкоголем, запретить, но можно, как это делают с сигаретами, обложить зверскими налогами.
Первой — и самой заслуженной — жертвой выбрали лимонад, который в Америке называется «содой» и составляется по убийственному рецепту: полстакана сахара на стакан воды с пузырьками. В среднем каждый американец ежедневно выпивает по две банки, потому что тут принято есть и пить буквально одновременно.
Надо сказать, что меня часто предупреждали, как опасно этого не делать. Еще Марк Твен поражался европейцам, которые не подают к обеду воду. В Америке ее приносят раньше меню. Возможно, это — память о пуританах, которые вместо греховного вина пили за едой чистую воду. В Новой Англии она, кстати, была такой вкусной, что глыбы льда из здешних озер на парусных кораблях возили англичанам в Индию.
К несчастью, воду заменило ситро, и в результате чудовищной кулинарной нелепости десерт переместился с конца обеда в его середину. И это так же странно, как есть котлету с компотом. Еще хуже, что сладкие напитки хоть и поставляют каждую пятую калорию рациона, не дают чувства сытости. Между тем привычка сделала соду не только незаменимой, но и незаметной частью застолья — как соль и салфетки. Это — тайный вредитель, на которого правильно ополчились власти. Правда, я не верю, что кого-то остановят налоги. Диета, как все остальное, вопрос не денег, а престижа. Я-то помню, каких трудов стоило достать пепси-колу крымского розлива. Ее даже везли в подарок родным и близким. Однажды, возвращаясь с юга, я угодил на один самолет с киевским «Динамо». И у каждого футболиста между ног стояла авоська с бутылками, даже у Блохина.
Рецепт для толстых, конечно, всем известен: диета. К удивлению профанов, все диеты одинаково хороши. Не важно, что есть, важно, чтобы осмысленно. Пока мы понимаем, что едим и помним — сколько, любая диета приносит плоды, вернее — вычитает их. Но только на время. Поставив надежный эксперимент, обескураженные медики выяснили, что за год диеты все пациенты похудели, а через два — наверстали потерянное.
Несмотря на статистику, в Америке все сидят на диете, во всяком случае — врут о ней. Согласно опросам, четыре пятых американцев пьют малокалорийное пиво, на самом деле таких лишь 20%. Остальные хотят казаться лучше. Толстым надо постоянно оправдываться перед собой и другими. Чувствуя себя тяжелой обузой для общества, они делают, что могут. И зря. Раб диеты постоянно думает о еде, как монах о грехе, а солдат о сексе. Воздержание можно выдержать, но недолго. Навсегда худеют только фанатики, сделавшие из диеты профессию, укор и хобби. Другим может помочь только голод.
Самое дикое слово в Америке — «snack», «перекус». Оно значит, что с утра до вечера американец, не останавливаясь, жует — как голубь. В лучшем случае — фрукты и овощи, в худшем — чипсы, конфеты, хлопья, хот-доги, гамбургеры, печенье. И все потому, что в Америке голод считают болезнью, лечат ее немедленно и радикально. Отсюда, собственно, и взялась могучая, покрывающая весь мир сеть «Fast food». Быстрая еда — скорая помощь аппетиту, убивающая пациента.
Привыкнув отвечать на первый позыв желудка, американцы едят не только, что попадется, но и где придется. Ни в одной другой стране я не видел, чтобы люди кормились в метро, на спортивном матче, в университетской аудитории, а чаще всего — на ходу прямо на улице.
Заразившись этой дурью, я попал впросак в Японии, где есть на виду у прохожих так же стыдно, как справлять при всех нужду. Что и верно: беглая, поспешная еда — позорная капитуляция культуры перед физиологией. Есть сразу, как захочется, значит лишить себя отложенного и уже потому рафинированного удовольствия. Только приправленная голодом еда становится праздником, причем — долгожданным. Именно потому нам так вкусно вспоминать юность, что тогда мы подолгу хотели есть — от молодости, от бедности, но и от традиции, требующей предвкушать трапезу и переживать ее.
Я в жизни не садился за стол, если он не обещал хотя бы скромного торжества. Оно может состоять из чашки китайского чая со свежей газетой, бутерброда на пикнике, рюмки в хорошей компании, а может оказаться и изысканным — для гостей — обедом в виде дорогого провансальского буйабеса, бесценного мэнского омара или бесконечных русских щей. Кухня тут, впрочем, ни при чем.
Когда тридцать лет назад я открыл Америку, она — по ее же признанию — страдала гастрономической анемией. Хлеб тогда был квадратным, рыбы боялись, мороженое продавали в ведре. Теперь все по-другому. Кулинарные книги вытесняют остальные, и повара стали «звездами» голубого экрана. Америка уже все знает о еде и по-прежнему ничего о голоде. Однако до тех пор, пока она его не откроет, положение не изменится и страна будет пухнуть, так и не узнав простого средства спасения.
Вот оно: человек рождается голодным и должен оставаться таким от завтрака до ужина с перерывом на обед.
Александр Генис
19.06.2009




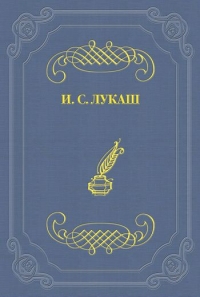
Комментарии к книге «Пошлый, как лебедь», Александр Александрович Генис
Всего 0 комментариев