САТИРА из «ИСКРЫ»
ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ
Я знаю, нас очень многие называют легкомысленными, и даже ставят нам это в укор. Что мы легкомысленны — против этого, кажется, возражать нечего; но чтобы в этом качестве заключалось что-нибудь предосудительное — это еще вопрос, и притом крайне сомнительный.
По моему мнению, мыслить легко значит мыслить так, как в данную минуту мыслить удобнее. При сем: чем менее допускается стеснений со стороны мыслей предшествующих, тем больше представляется удобств для распоряжения мыслями текущими. Или, говоря точнее: истинное легкомыслие есть не что иное, как столь уважаемое нами свободомыслие, только очищенное от препон.
Не надо забывать, что внезапная мысль никогда не приходит одна, но дает начало целому ряду таких же внезапных мыслей, которые становятся рядом не потому, чтобы они чем-нибудь были связаны, а потому именно, что ничем не связаны. Когда таких мыслей накопляется достаточно, то образуется оплот, на который уже можно смело опираться в самых затруднительных обстоятельствах жизни. Все равно как в математике минус, помноженный на минус, дает плюс, — так и в жизни: легкость, помноженная на легкость, всегда дает в результате нечто солидное. Если одна легкость не выручает, поправьте ее другою, другую — третьею, и поступайте таким образом, покуда не достигнете того, что на языке публицистов высшего полета называется «системою».
Как только вы добрались до системы, то можете смело сказать, что задача вашей жизни исполнена. Система тем хороша, что она представляет собой такую густую сеть всевозможных легкостей, в которой можно спрятаться, как в самом неприступном укреплении. Легкости конденсируются и приобретают все свойства метательных орудий. По временам в «системе» чувствуется даже присутствие логики…
Когда нам говорят о каком-нибудь человеке, что он легкомыслен, то мы обыкновенно представляем себе, что у этого человека мысли бегают в голове, точно мыши в мышеловке. Нельзя не согласиться, что это сравнение довольно верно; однако что же из этого следует? Из этого следует только то, что действительно в голове легкомысленного человека мысли бегают точно мыши, попавшиеся в мышеловку, — и ничего больше. Затем нужно еще доказать, что это или непохвально, или неудобно, или несовместно, а доказать этого нельзя. Во-первых, это будет подвиг не популярный, во-вторых, человек, который предпримет его, не преминет убедиться, что существуют на свете такие твердыни, от которых самая строгая система доказательств отскакивает, как от стены горох. Гораздо благоразумнее поступит тот, кто примет на себя адвокатуру легкомыслия. Этот человек может заранее сказать себе, что труд его будет и популярен и оценен по достоинству.
Так я и поступлю.
Начну с того, что легкомыслие, как творческая сила, было известно уже афинянам. В древности это уж было так заведено, что всякий народ чем-нибудь да славился. Персы славились глупостью, македоняне — дипломатическим вероломством, жиды — проказою, спартанцы — непреоборимым тупоумием и храбростью, афиняне — легкомыслием. Из всех этих народов удел афинян был самый завидный. Вспомним, с какою легкостью они увольняли от службы вождей своих, как непринужденно они смеялись, когда их называли неблагодарными, — и мы поймем, почему афинская цивилизация имела такое решительное влияние на цивилизацию позднейшую. Все дело в том, что афинские мысли не залеживались, но беспрестанно обращались.
За всем тем Афины пали, а потомки древних афинян продают в настоящее время в с. — петербургском гостином дворе айвицу и грецкое мыло. Почему же они пали? — а потому, милостивые государи, что они не умели быть легкомысленными до конца, что они никогда не достигали той полноты легкомыслия, при которой не остается ничего другого, как блаженствовать. Припомним, что у них были Периклы, Сократы, Демосфены и проч., и спросим себя: можно ли далеко плыть по океану цивилизации, имея такие камни на шее? Насколько дальше они могли бы уплыть, если бы вместо Перикла у них был И. И. Излер, вместо Сократа — Аскоченский, а вместо Демосфена — М. Н. Катков — это даже предугадать трудно.
Верьте, милостивые государи, что чем реже мы спотыкаемся на Сократов, тем удобопонятнее делается для нас бремя жизни. Чтобы стать выше упреков в ограниченности стремлений, нужно настолько расширить свои идеалы, чтоб они приняли вид расплывшегося во все стороны киселя. Когда получится возможность бродить в этом киселе и вкривь и вкось, и вдоль и поперек, то вместе с тем получится и безграничная свобода действий, то есть свобода вытаскивать из киселя именно те бирюльки, которые на потребу. Шаг человеческий сделается уверенным, мысль — легкою и свободною, щеки утратят способность краснеть. Зачем краснеть? в чем раскаиваться, когда в прошлом все позабыто, а в будущем ничего не предвидится?
Как бы то ни было, но Афины пали. Наступили средние века, и струя легкомыслия едва не исчезла безвозвратно…
То были времена тягчайшего тупомыслия, не лишенного, однако, изобретательности. Изобретены были порох и книгопечатание, открыт путь в Восточную Индию и сделаны были распоряжения об открытии Америки. Из этого следует, что тупомыслие не всегда бесполезно.
Но легкомыслие не изгибло, а только тлелось под пеплом. Если б пределы настоящей статьи не стесняли меня, то я мог бы даже сквозь хаос крестовых походов и пламя инквизиции проследить непрерывную преемственность этого интересного явления до той минуты, когда афинское наследие попало в руки французов. Возведенное ими на высоту почти неприступную, легкомыслие угрожало уже смутить спокойствие целой Европы, как вдруг его постигла та же участь, что и в Афинах. Известны всякому печальные происшествия, едва не ввергшие в конце прошлого столетия Францию в бездну погибели, но очень мало кому известно, что происшествия эти были последствием не столько самого легкомыслия, сколько недостатка последовательности в нем.
Как ни тщательно лелеяли французы свое афинское наследие, они не могли облегчать себя настолько, чтобы вполне застраховать свое будущее от наплыва таких примесей, которые идут явно наперебой правильному развитию легкомыслия. Они освободились от многого, но не могли освободиться от одного: от уважения к уму и таланту. Это были для них своего рода Сократы, которых присутствие в истории уже служит явным признаком, что золотой век еще не наступил. Как ни старайтесь перебегать от одного предмета к другому, как ни усиливайтесь, чтобы минута последующая отнюдь не зависела от минуты предыдущей, но если при этом внимание ваше, хоть на мгновение, хоть невзначай, обо что-нибудь зацепится, вы непременно придете на край бездны. Кончено, работа всей жизни пошла на ветер, ибо одна зацепка приводит за собою другую, другая — третью и т. д., так что, вместо сети легкомыслия, вы вдруг очутитесь опутанным сетью зацепок и препон!
Истинное легкомыслие не таково. Оно не хочет знать никаких преткновений и ищет свободы от каких бы то ни было уз; при слове талант — оно разевает рот, при слове ум — блаженно гогочет. Представим себе, например, такое общество, историю которого в сокращенном виде можно было бы охарактеризовать следующим образом:
Период первый. Трудно и даже невозможно найти какие-нибудь типические черты, которые могли бы послужить к характеристике внутренней жизни общества (имя рек) в течение этого первого периода его существования. Это был какой-то хаос, в котором одно движение противодействовало другому, в котором все заботы, по-видимому, были устремлены к тому, чтобы переделывать сделанное, подрывать предпринятое и сколь возможно тщательнее разбивать те звенья, которые связывают последующее с предыдущим и т. д.
Период второй. Еще труднее найти какие-нибудь типические черты в этот второй период существования общества. Это был какой-то хаос, в котором и т. д.
Период третий. Гораздо труднее и т. д.
Вот счастливейшее из обществ! Вот общество, в котором, наверное, не найдется ни одного Сократа и в котором можно горстями черпать Аскоченских! Это то идеально-легкомысленное общество, которое ни перед чем не станет в тупик, ни обо что не зацепится!
Что, если бы в таком обществе нечаянно появился Сократ? Как поступили бы с ним? Заставили ли бы выпить чашу с цикутой? — навряд ли! Но что его засадили бы в кутузку или, в наиболее благоприятном случае, споили бы с кругу и сделали бы способным плясать вприсядку — в этом не может, кажется, быть сомнения.
Но легкомыслие, как и всякое другое жизненное явление, имеет свои тезисы, которые оно защищает и которые составляют его философию (так и называется «философия легкомыслия»). Постараюсь рассмотреть некоторые из них.
Тезис первый формулируется так: «сначала все уступи, дабы впоследствии всем пользоваться».
По уверению почитателей «Московских ведомостей», честь изобретения этого тезиса принадлежит М. Н. Каткову. Он, дескать, в душе отъявленный нигилист, и ежели прикидывается благонамеренным, то для того собственно, чтоб хорошенько заручиться, а потом, заручившись, нагрянуть. Когда в моем присутствии происходят эти объяснения, мне всегда приходит на мысль суворовское: заманивай его, братцы, заманивай!
«А ну, как он не заманит! — думалось мне, — ну, как он, заманивая да заманивая, сам хлопнется в овраг? Ведь девять лет издает М. Н. Катков свою газету, и девять лет все заманивает! Это тоже штука!»
Но как бы то ни было, правы или не правы почитатели г. Каткова, снабжая его подобными намерениями, дело в том, что указанный выше тезис действительно существует в нашей жизни и даже начинает проникать в печать в качестве руководящей истины.
Сколько я могу понять, слово «уступи» принимается здесь не столько в прямом его значении, сколько, так сказать, в сокровенном. «Уступи» значит не уступай, а только притворись, что уступаешь, или уступи что-нибудь такое, чему хотя и приписывается важность, но что, в сущности, составляет совершенную дрянь. Я знаю, что в сферах высшей публицистики подобный образ действия носит название «дипломатического», но так как на такую игру словами согласиться довольно трудно, то считаю себя вправе возвратить ему настоящее его название «легкомысленного».
В самом деле, чтобы вполне убедиться в легкомысленной сущности этого тезиса, стоит только начать с него самого, то есть уступить, и принять на веру его практическую необходимость и мудрость. Первое затруднение, с которым мы встретимся на этом пути, будет заключаться в том, что у нас не имеется достаточных данных для определения слова «дрянь». Это понятие допускает такое бесконечное разнообразие определений, что нет ничего легче, как впасть в ошибку, и притом самого печального свойства. Есть дряни абсолютные, для всех видимые и доказанные, есть дряни относительные, имеющие смысл сокровенный и не для всех ясный. Какую из них следует уступить, или, лучше сказать, какою из них следует пользоваться? Сверх того, есть много таких дряней, которые, несмотря на видимую свою дрянность, до того въедаются в жизнь, что делают ее почти невозможною. Обыкновенно эти дряни кажутся нам самыми ничтожными и легкодопускаемыми, а на поверку выходит, что именно они-то и загораживают выход для всех прочих дряней. Следует ли продолжать жуировать ими по-прежнему?
Вот как трудно ориентироваться в мире дряней, и какой особливой прозорливости требует правильная сортировка их. Но пойдем далее. «Поступиться дрянью» — не значит ли это сохранить именно то, что прежде всего подлежит устранению? Конечно, в мире физическом нам очень часто приходится встречаться с такими случаями, когда искусственным развитием какого-нибудь менее опасного недуга достигается искоренение или облегчение недуга более опасного; но не надо забывать, что мы ведем речь не о мире физическом, законы которого более или менее исследованы, но о дрянях мира нравственного, в котором все до крайности неопределенно и спутано. Поступившись даже одним этим пресловутым правилом об уступках дряней, мы уже разом вступаем в такую безграничную область, по которой остается только бежать сломя голову, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Дряни не только разнообразны, но и до неприличия цепки. Они налипают одна за другою с такою быстротой и последовательностью, что, заручившись однажды теорией об уступках, мы не успеем и оглянуться, как уже увидим себя до того навьюченными, что трудно даже и помыслить о возможности сбросить нахлынувший со всех сторон груз.
И вот, когда вся эта чушь облепит человека, — тогда «пользуйся»! Чем же «пользуйся»? — да всем! Как же «всем», когда все заранее уступлено, на все заранее дано согласие и затем уж в запасе осталось только пустое место? Но в этом-то и заключается драгоценное свойство легкомыслия, что то, что кажется нелепым и невозможным перед судом здравого смысла, оказывается в сообществе и при пособии легкомыслия не только возможным, но даже и имеющим какие-то шансы на успех.
Оказывается, что мир легкомыслия точно так же неисчерпаем, как и мир дряней, что, сколько ни уступай из него, все будет полная чаша, а пустого места не будет. Оказывается, что, укоряя своего соседа в легкомыслии и непоследовательности, мы отнюдь не отступаемся этим от своего собственного права на легкомыслие и непоследовательность…
Как может выступить с либеральным словом человек, который за минуту перед тем гремел проповедью самого непроходимого обскурантизма? как может говорить о свободе совести и мысли человек, который за минуту перед тем высказывался в пользу инквизиции и чуть ли даже не травли собаками? Все это тайна российского легкомыслия, на языке которого обскурантизм и собачьи травли называются «уступками», делаемыми для того, чтобы «потом всем пользоваться»!
А между тем такого рода мудрецов мы встречаем на каждом шагу, и дело у них идет как по маслу. Искусство, с которым эти люди из области рабомыслия делают непосредственный скачок в область свободомыслия — это такой пример беспримесного легкомыслия, перед которым бледнеют все остальные разновидности этой категории. Далее может существовать только блаженство, то есть такое нравственное положение человека, когда мысли и поступки человеческие сменяются одни другими с полнейшим забвением всякой последовательности.
Да; есть и такое положение. Как ни блажен удел человека, все уступающего для того, чтобы всем воспользоваться, в нем все-таки есть известная доля горечи. Оно напоминает о коварстве, и хотя это коварство невинное, но невинность в этом случае свидетельствует лишь о тупоумии, а отнюдь не о чистоте намерений. Гораздо в лучшем положении находится легкомыслие легкое, которое никаких намерений не имеет, которое ничем не пользуется, но зато ничего и не уступает. Это легкомыслие, которое чуть-чуть канканирует и как будто приговаривает: «Ты думаешь, что я что-нибудь замышляю! ошибаешься, мой друг, — это я так». Это «так» до того драгоценно, что если б мы всегда умели держаться на высоте его, то, конечно, были бы счастливейшим и притом самым афинским народом в целом мире.
«Так»! да поймите же, сколько тут достолюбезного, непредвидимого, почти непостижимого! «Так» — погладил по голове; «так» — ковырнул масла; «так» — поправил меньшему брату челюсть; «так» — поднес рюмку водки. Все — «так». И все эти «так» столь быстро сменяют один другого и представляют такую нескончаемо текущую реку, что как только окунешься в нее, то так и невзвидишь света от удовольствия! И не заметишь, что тут есть и пропасти, и обрывы, и вообще всякое летание стремглав. Все гладко и ровно… система, да и только!
Сравнивая эти две школы легкомыслия, из которых одна говорит: «сначала все уступи, а потом всем пользуйся», а другая вещает: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся», я положительно отдаю предпочтение последней. Она проще и потому доступнее. Стоит только вести себя хорошо (не притворяться, а действительно хорошо себя вести) — и нечего будет уступать, потому что все дастся. Что дастся? — ну, разумеется, не бог знает что, а по мере возможности. Тогда как с притворством… а ну, как угадают это притворство? да надерут за это уши? да поставят в угол на колени… Боже! да мало ли есть наказаний, при одном воспоминании о которых легкомысленного человека пронимает дрожь!
Я знаю, что первая система легкомыслия почему-то пользуется репутацией дальновидности, а вторая попросту зовется глупою, но я убедительно предостерегаю читателей против подобных оценок. Так как фактически может быть доказано, что обе системы суть дщери одного и того же легкомыслия, то очевидно, что самый спор о том, которая из них глупее, есть спор праздный и нестоящий разработки.
Говорят, будто в первой системе уже скрывается какой-то намек на мысль, что она заставляет своих последователей заботиться о каких-то укреплениях и вообще проводить свой путь зигзагами (это, дескать, требует до известной степени работы мозгов). Но, по-моему, эти свойства не придают еще прелести системе, а только причиняют головные боли, которые, в свою очередь, не исключают элемента легкомыслия, а лишь порождают особенный вид его — легкомыслие с мигренью.
Второй жизненный тезис, выработанный нашим легкомыслием, служит естественным придатком к первому. Ежели первый говорит: «сначала все уступи, а потом всем пользуйся», то второй прибавляет: «пользуйся, но так, чтобы никто ничего не заметил».
Наша страсть к секретному житию как нельзя полнее сказалась в этих двух житейских правилах. Мы очень часто обманываем и действуем потихоньку, совсем не ради какой-нибудь корыстной цели, а просто в видах испытания, авось-либо никто не заметит. Для чего нам это нужно — один бог знает; но несомненно, что в этом отношении мы самые сущие спартанцы, которым, как гласит история, смолоду внушали, что воровать — отчего не воровать, но попадаться — упаси боже!
Если б вас пригласил кто-нибудь обедать и формулировал свое приглашение так: прошу ко мне обедать, но предупреждаю, что вы должны так отобедать, чтобы я этого не заметил, — вообразите, как были бы вы удивлены? Но удивлению вашему, конечно, не было бы пределов, если б обед был устроен всенародный, если б во время его на вас были устремлены тысячи глаз, и вам все-таки предстояло бы исполнить этот обряд по секрету. Ведь это гораздо мудренее, чем даже, например, проглотить втихомолку шпагу или секретно держать в сжатой руке раскаленные уголья! В последних случаях требуется только известная степень душевного воспаления, в первом — совершенная бессмыслица: отсутствовать, присутствуя. В виду такого требования, я даже начинаю понимать, почему мы, русские, всегда обнаруживали и обнаруживаем столь явное пристрастие к фокусникам и престидигаторам, почему представления этого рода неизменно привлекают толпы зрителей. Мы просто видим в их действиях повторение или преобразование того, что на каждом шагу происходит с нами на практике. — А! ты проглотил шпагу — знаю! Я давеча проглотил две! — А! ты сварил в шляпе яичницу — знаю! я давеча не в шляпе, а у друга сердечного на голове уху сварил — и он этого не заметил! Одним словом, не удивишь и не обрадуешь нас ничем!
Быть — и в то же время не быть; быть видимым — и в то же время быть невидимым; двигаться — и оставаться без движения… Вот те геркулесовы столпы легкомыслия, до которых никогда не могли достигнуть ни афиняне, ни французы и до которых мы достигли без малейшего напряжения.
Да; это своего рода грани; но ежели вы спросите меня: возможно ли быть блаженным при такой степени легкомыслия? я отвечу: да, только при такой степени и возможно быть совершенно блаженным. Примешайся тут с булавочную головку здравого смысла — все дело погибло бы несомненно и безвозвратно. Этого мало: не только блаженствовать, но даже жить можно.
В то памятное время, когда мы процветали под сению крепостного права, не мало шаталось по деревням беспардонных помещиков, которые, будучи снедаемы либерализмом, только о том и тужили, как бы провести сквозь мужика какое-нибудь преднамерение или предначертание. Форма для этого была в то время самая удобная: в ней укладывались и благие стремления и свирепые; и детские розги и взрослые: вдоволь было места для всяких свобод. Трудность только в том заключалась: как бы таким манером провести известное преднамерение, чтобы, с одной стороны, все сейчас почувствовали, а с другой стороны, никто бы ничего не заметил, или, иными словами: чтобы все пользовались, но никто не воспользовался. Тогда еще никто не видел в этих разъяснениях признаков легкомыслия, а остерегались только, как бы впоследствии не вышло каких-нибудь грамматических недоразумений.
Много было представлено в то время на соискание разных полезнейших проектов; много было таковых и в исполнение приведено…
Подобно другим отечественным либералам, заразился этою язвою и друг мой, Андрюша Гнусиков. По Невскому ли, бывало, идет, у Донона ли трапезует, в танцклассе ли благодушествует — все думает: непременно отмочу штуку! Мало того: подружился с Вс. Крестовским, в Вяземский дом ночевать ходил, посещал Конную площадь, наблюдал, как секут меньших братьев, и даже сам, однажды, чуть-чуть в части не был высечен… И везде преследовала его одна неотвязная мысль: непременно отмочу штуку!
И вот, однажды, приходит он ко мне и, молча, подает сложенный начетверо лист бумаги. Развернув его, я прочитал следующее:
Хочу — отдам; хочу — назад возьму.
СЕЛЬСКАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ КРЕСТЬЯН СЕЛА ГНУСИКОВА
С ДЕРЕВНЯМИ
А. ПРАВА
1) Всякий имеет право сообщать, изъяснять, передавать на ухо или иным образом излагать свои мысли, с тем, однако ж, чтобы сие делалось с осторожностью.
2) Всякий имеет право заявлять о своих нуждах, наблюдая только, чтобы оные были не бездельные.
3) Всякий имеет право невозбранно пользоваться свободою телодвижений, с тем лишь, чтобы таковые не заключали в себе неистовства.
4) Всякий имеет право говорить правду, лишь бы сия правда была безобидная.
5) Всякий, будучи призван на сходку, имеет право представлять оной замечания, лишь бы они были полезные.
6) Всякий, будучи приглашен для наказания, имеет право приносить оправдания, которые и приемлются, буде найдены будут заслуживающими уважения.
и 7) Всякий имеет право снять с отданного ему поля хлеб, буде таковой уродится.
Б. ОБЯЗАННОСТИ
— Ну… там… как обыкновенно… — сказал Андрюша, прерывая меня, — что? как тебе кажется?
— Хорошо… Только знаешь ли что, душа моя? — прибавил я, спохватившись, — этот седьмой пункт… как-то… как будто… Хорошо ведь, как он не уродится? а ну, как уродится? Как бы тут не было… недоразумений каких…
Андрюша задумался.
— Так ты думаешь, что этот пункт лучше редактировать так: «Всякий имеет право снять с отданного ему в пользование поля хлеб, буде таковой не уродится?»
— Да… нет, не то… Этак тоже будет, пожалуй, неловко… Я думаю, душа моя, вовсе оставить этот пункт… Или вот что: не отнести ли его к «обязанностям»?
— И прекрасно! действительно, какое же это право? Отлично! Ну, а в прочих частях как?
— Бесподобно! С одной стороны всё сполна, с другой стороны не бесполезные ограничения… чего еще нужно!
Андрюша весь вспыхнул; лицо его озарилось каким-то священным огнем.
— Только вот что еще, — продолжал я, — подумай, душа моя, не слишком ли ты себя обездоливаешь… Не слишком ли ты связываешь себе руки? Рассуди! Ведь это… Как бы тебе сказать… Ведь это… почти конс…
— Ну, об этом позволь мне знать самому… Об этом я много думал! — прервал он меня твердо и от наплыва чувств чуть-чуть не поперхнулся.
Тут он рассказал мне все: как он ночевал в доме Вяземского, как болел сердцем на Конной площади, как сам, однажды, едва не был высечен и как, наконец, созрела-таки у него в груди «сельская радость».
— Я знаю, — говорил он мне, — что они будут неблагодарны! Но я решился… Я готов вынести все… Даже клевету, даже обвинение в революционной пропаганде!!
— Но все-таки, мой друг, не лишнее, ах! как не лишнее быть осторожным! Не приноси жертвы не по силам! — убеждал я, — подумай! есть ли у тебя верный человек, который мог бы на месте наблюсти, чтоб эти права… чтоб эта «сельская радость» enfin…[1]
— О! насчет этого я могу быть спокоен! Там у меня есть Иван Парамоныч… Он…
Андрюша сжал при этом свой кулак так выразительно, что можно было подумать, что у него в этом кулаке замерзла вожжа.
Когда он ушел от меня, я долго не мог образумиться.
«Каков! — думал я, — каковы люди-то у нас народились! и что ж? растут себе, как крапива, где-нибудь подле забора, и никто-то их не знает, никто-то об них не слышит! А кабы собрать их всех да в кучу…»
Прошло с полгода после этого разговора, и я уже успел позабыть о гнусиковской сельской радости, как случай привел меня в самое святилище вольномыслия, то есть к Андрюше в имение.
Однажды утром из окна барской усадьбы я увидел перед домом «гнусиковского общественного управления» большую толпу. Спрашиваю: что это такое? отвечают: гнусиковское народное вече — ну, как же не взглянуть на вече!
— Стало быть, у тебя оно в ходу? — спросил я моего друга.
— У меня, mon cher,[2] это все в порядке, — отвечал он, любуясь, вместе со мною, зрелищем размахивающей руками толпы, — у меня ничего по имению, ничего без них не делается! обо всем они должны свое слово сказать! У меня, душа моя, по-старинному: я «приказал», а выборные гнусиковской земли «приговорили»… Как в Новгороде… или то бишь в Москве!
— Ну, а седьмой пункт… помнишь?
— Biffé![3]
Мучимый любознательностью, я осторожно подошел к толпе, чтоб не вспугнуть ее своим появлением и не помешать выборным людям гнусиковской земли свободно выражать их мысли и чувства. Но, увы! вече уже давно подходило к концу, и я мог слышать лишь заключительные слова речи, которую только что произнес Иван Парамоныч.
— Свиньи вы! рожна, что ли, вам еще надобно! право, прости господи, свиньи! Барин вас милует, а вы и того… на дыбы сейчас! Я-ста да мы-ста! Пошли вон, подлецы!
Вече начало медленно расходиться; но через два часа перед приятелем моим стоял Иван Парамоныч и докладывал следующий приговор: «лета 18**, мая дня, я, помещик и государственной службы коллежский асессор, Андрей Павлов Гнусиков, приказал, а выборные гнусиковской земли приговорили: имели мы рассуждение о том, что для пополнения запасных хлебных наших магазинов собирается ежегодно со всех гнусиковских мирских людей хлебная пропорция, но как сие неудобно, а потому постановили: ввести промеж себя общественную запашку, для чего определяем» и т. д. и т. д.
— Однако ведь они, mon cher, совсем этого не желают! — вступился было я.
— Mais laissez donc! laissez donc![4] — замахал руками мой либеральный друг, смотря на меня уже с некоторым негодованием.
— Нешто они что понимают! — прибавил от себя Иван Парамоныч, с возмутительным безмятежием практика.
Но я не успокоился и продолжал делать наблюдения, потому что в то время меня еще интересовали и гнусиковские начинания, и гнусиковская ширина взглядов, и гнусиковские светлые надежды. Да и костомаровские «Народоправства» были еще у всех в свежей памяти.
Увы! я должен сказать правду, что мало утешительного вынес я из этих наблюдений! Во-первых, я удивился, что выборные, занимавшие должности в гнусиковском «общественном управлении», проводили время собственно в том, что топили печи в доме управления и по очереди там ночевали, совокупляя, таким образом, в своем лице и должности сторожей. Во-вторых, я узнал, что они не только не гордились честью участвовать в гнусиковских делах, но даже положительно тяготились ею.
— И для чего только нас держут! — сказал мне однажды один из них, внезапно обнаруживая какую-то тоскливую доверчивость.
— Как для чего, мой друг (защитникам гнусиковских интересов я всегда говорил не иначе как «мой друг» или «голубчик»)? Как для чего? Ведь вот вам теперь дал Андрей Павлыч права…
— Права-то?
— Ну да… права… Как же ты, голубчик, не понимаешь этого?
Заседатель от земли смотрел на меня, выпучив глаза.
— Ну? — сказал он.
— Ну да, права, — повторил я, но голос мой внезапно оборвался, потому что я почувствовал, что мне стыдно.
— А Иван Парамоныч? — спросил заседатель от земли.
Я смешался еще более.
«Однако вы таки бестии!» — подумал я и на первый раз так на этом и порешил, что бестии; однако же не потерял надежды, что когда-нибудь, со временем, «бестии» все-таки придут в себя и поймут, что нельзя же наконец не оценить.
Но мне не пришлось этого дождаться. Не дальше как через полгода я встретил Андрюшу в Петербурге и, натурально, сейчас же обратился к нему с вопросом:
— Ну что, как «права»? Андрюша махнул рукой.
— Ужели? — воскликнул я.
— Biffés! — ответил он.
Признаюсь, я так мало был приготовлен к такому ответу, что готов был даже обвинить моего друга в недостатке энергии, в отсутствии инициативы…
— Mon cher! не обвиняй меня! — сказал он мне кротко.
— Да нет, душа моя! Это была твоя обязанность! Ты должен был идти вперед! искоренить предрассудки! истребить невежество, грубость!
— Нельзя! — отвечал он мне самым решительным тоном, — они не созрели!!
И вслед за тем он расказывал мне трогательную историю своих усилий и их непонимания. Оказалось, что он с своей стороны дал им — все, от них же требовал только, чтобы они платили исправно оброк и слушались Ивана Парамоныча.
— И… и бога бы за меня молили! — прибавил он взволнованным голосом.
Напротив того, они отвечали, что им не надобно ничего, а вот кабы Ивана Парамоныча от них убрали, так это точно, что они стали бы бога молить!
— Ну, представь себе: один только представитель моих интересов и оставался — и того убери! — укоризненно заключил мой собеседник.
— Бестии! — произнес я решительно.
— C’est le mot![5]
— Что же ты сделал?
— Велел Ивану Парамонычу действовать решительно и неуклонно!
Тем и покончилась благонамеренная затея моего друга.
Рассматривая ее внимательно, я должен сознаться, что поступок моего друга был очень рискован и смел. Уж одно то, что человек этот избрал своим девизом слова: «хочу — отдам, хочу — назад возьму», доказывает, что он решался на многое. «Хочу — отдам» — шутка сказать! Поймите, что ведь тут уж есть глагол «отдать» и что если бы за ним не следовал непосредственно корректив в виде «хочу — назад возьму», то кто же знает, что из этого могло бы произойти!
Тем не менее Гнусиков изнемог…
Это вечно печальная и никогда не кончающаяся история русского человека, у которого в голове засела затея! Наши реформаторы гибнут и на заре дней, и на склоне дней, гибнут в ту самую минуту, когда все готово, все нарывы назрели, и стоит только со всех сторон двинуть, чтобы…
Почему они гибнут? почему, например, в данном случае погиб реформатор и либерал Андрюша Гнусиков?
А потому, милостивые государи, что он был не до конца легкомыслен и что рядом с его теорией: «пользуйся, но так, чтоб никто ничего не заметил», существует другая теория, еще более легкомысленная, а именно: ничем не пользуйся, и пусть все замечают!
Сравните обе эти теории, и вы увидите, что последняя совершенно затмевает первую. Начать с того, что первая требует изворотливости ума. Ум, в каких бы размерах и формах он ни проявлялся, есть исконный враг всякого легкомыслия. Пусть даже это будет ум не настоящий, направленный к отрицанию самого себя, истинное легкомыслие все-таки не выдержит его и непременно погибнет под бременем тех невзгод, которые принесет за собой его появление. Истинное легкомыслие чисто, как кристалл; малейшая раковина внутри делает его цену ничтожною. Ум есть беспокойство, легкомыслие — блаженство… Поймите же наконец, милостивые государи, что ежели вы действительно желаете достигнуть блаженства, то должны принять и те средства, которые ведут к этой цели. Вы должны совсем-совсем истребить в себе всякий признак ума…
Третий, и едва ли не самый главный, житейский тезис легкомыслия: будь счастлив и не взирай!
В самом деле, чем более мы взираем, тем большую накопляем сумму данных, которые, впоследствии, могут уготовать нашу погибель. «Взираю» — уже отчасти значит «смекаю», и даже «знаю», а кому неизвестно, что человеческое благополучие всецело заключается в неведении? О, если б, подобно Сократу, мы знали одно: что мы ничего не знаем! Но нет, мы находим такое знание недостаточным, мы идем далее, мы ищем какого-то действительного знания… В результате обретаем фигу, то есть погибель!
— Не видал бы я этого вина — быть бы мне и теперь человеком! — говорит, обыкновенно, пропоец, дошедший до той степени восторженности, когда мир начинает казаться дьявольским наваждением.
— Не видал бы я этой книжки, — спать бы мне и теперь на своей постелюшке! — говорит едущий на перекладных юный философ, которого чтение книжки, по какому-то счастливому сцеплению обстоятельств, привело к познанию истины, что ничто так не образует юношество, как путешествия.
— Не видал бы я этих денег — не украл бы! — говорит с своей стороны и вор, стремящийся оправдать свой поступок любознательностью.
Во всех этих случаях и пьяница, и философ, и вор потерпели прежде всего оттого, что взирали. Воззрение зажгло в них любознательность, любознательность породила желание испытать на деле. В заключение, все трое очутились в прескверном положении. И, что всего замечательнее, несмотря на разницу, которая существует между упомянутыми тремя ремеслами, все они, однако, привели к результату почти однородному! Почему? — а потому просто, что в основе каждого из них лежал один и тот же глагол «взирать».
В применении этого житейского принципа на практике могут встретиться довольно серьезные затруднения — это несомненно. Могут, например, спросить: как можно не взирать на предмет, который сам собой мечется в глаза? Согласно ли с здравым смыслом ничего не видеть, когда человек обладает зрением и глаза его не ослеплены! Но на все эти вопросы очень легко возразить целым рядом других вопросов, которых разрешение, как мы видели, не стоит ни малейшего труда. Таковы вопросы: можно ли отсутствовать, присутствуя, можно ли двигаться — и быть без движения? Можно ли быть — и не быть? и так далее.
Существенное в этом деле — все-таки не взирать, то есть не соблазняться и не пробовать. Наша публицистика давно уже пропагандирует эту истину — и чувствует себя отлично хорошо. Может быть, она думает, что, занимаясь подобною пропагандою, она заговорит уши и тем временем что-нибудь да узрит; но такое убеждение доказывает только вящее ее легкомыслие: заговаривая уши, можно прийти только к одному результату, а именно: заговорить их до того, что они будут ко всему глухи, кроме невзирания, — и тогда милости просим попробовать что-нибудь узреть!
Много рассказывает людская молва разных правдивых былин, героями которых являются люди кроткие и невзирающие. Спал Иванушко-дурачок три дня и три ночи, спал и даже во сне ничего не видел; проснулся — ан оказалось, что он не Иванушко-дурачок, а Иван-царевич. «Счастье с неба валится», — гласит народная мудрость — а валится оно, наверное, тому, кто не взирает и знает неукоснительно, что он ничего не знает. Для того чтоб схватить счастье за хвост, совсем не нужно быть сильным по части изобретения пороха, а нужно только лечь спать, разумеючи. Тогда врата легкомыслия откроются сами собою, и на могильном памятнике того человека напишется: «Сей человек, обладая необширным умом и посредственными чувствами, был почтен!»
Нельзя, однако ж, сказать безусловно, чтоб эта наука была легкая. О нет! врата легкомыслия отпираются не перед всяким, и уступают не без усилий. Не взирать — не только значит не видеть, но и потерять обоняние, осязание, вкус… Какое счастливое сцепление случайностей нужно изобрести, чтобы создать подобное положение! Если же этих случайностей налицо не имеется, сколько тут нужно геройства, сколько нужно продолжительного и упорного самовоспитания!
— Столь много я муки этой видел, что даже думал уродом на всю жизнь остаться! — говорил мне на днях один из несомненных ревнителей на пути к совершенству, — однако бог привел: усовершенствовался!
И действительно: это был в своем роде субъект довольно любопытный, и ежели в нем еще чувствовался какой-то недостаток, то он заключался единственно в том, что субъект этот как будто все еще не мог опомниться от воспоминания тех истязаний, которые он вытерпел.
«Не пытайся понять то, что тебе понять не дано», «не забывай, что выше лба уши не растут» — вот правила, которые внушались мне с детства и которые, впоследствии, в особенности укрепило во мне чтение афоризмов Кузьмы Пруткова. С тех пор я не только не пытаюсь, но просто-напросто ничего те понимаю и только наблюдаю, чтоб уши мои как-нибудь не выросли сверх пропорции. Вижу, что кругом меня что-то мечется, снует, кружится, и в сердце своем говорю: «Господи! сохрани мою невинность! пошли мне глаз слепоту, языка онемение, ума оглупение и чувств помрачение! И да пребуду вовеки блажен!» И как только проговорю это — все наваждение сейчас как рукой снимет!
Но повторяю: чтобы достигнуть этого, нужно или особенно счастливое стечение обстоятельств, или геройство, а так как и то и другое не всегда являются к нашим услугам, то людское легкомыслие ухитрилось придумать другой, переходный афоризм, который до некоторой степени поправляет упомянутый выше недостаток. Афоризм этот гласит так: «Взирай, но взирай с рассмотрением!» По-видимому, тут заключается логическая бессмыслица, ибо невозможно в одно и то же время быть легкомысленным и рассматривать, то есть все-таки отчасти рассуждать. Но, в сущности, это вовсе не такое мудреное дело, как можно заключить с первого взгляда, ибо, для облегчения его, существуют такие каталоги, в которых подробно поименовываются предметы, на которые с легкомыслием взирать не возбраняется. Конечно, такого рода каталоги покаместь существуют еще только в сердцах легкомысленных людей, но будем надеяться… Будем надеяться, что публицистика наша, разработавшая на своем веку столько важных афоризмов, не оставит и этой важной статьи без внимания и что, со временем, мы получим совершенно полное руководство, которое на вечные времена обеспечит наше легкомыслие от всяких случайностей. Воображаю я, сколько разойдется изданий этого руководства в течение нескольких часов! Сколько глупцов вдруг почувствуют себя мудрецами, единственно потому, что у них будет в руках книжка, которая оградит их от всяких посягательств против легкомыслия!
Теперь, по заведенному порядку, мне надлежало бы привести здесь несколько биографий знаменитых мужей, которые наиболее прославились своим легкомыслием, но я оставлю эту интересную работу до другого раза и спешу изложить кратко практические результаты, которые принесло наше легкомыслие и выработанные им жизненные тезисы.
Главнейший результат заключается несомненно в том, что нас никто ни в чем не застал. Это устраняет от нас всякие подозрения и вселяет к нам неограниченное доверие. Взирая на нас, всякий говорит: оставим их в покое, потому что это подлинно те самые люди, у которых мысли мелькают в голове, точно мухи в безграничном пространстве воздуха.
Второй результат — невозмутимое спокойствие совести. Совесть питается сознанием, сознание требует умственной сосредоточенности. Но когда мысль приобретает форму и свойства мухи, то ясно: и сознание и совесть могут оставаться вполне от тревог свободными.
Оба эти результата естественно ведут к третьему — к долговечности. Ничто так не способствует пищеварению, не утучняет, не укрепляет нервы, как легкомыслие. Я знаю стариков, которые по три века чужих заели, единственно благодаря тому, что их никто ни в чем не застал и что совесть их никогда ничем не тревожилась. Знаю много таких и из молодых, которые обещают представить собой экземпляры здоровья несокрушимого. Таким образом, и маститая старость, и полная бодрости юность соединяют свои усилия, чтобы показать нам: в первом случае — пример легкомысленной долговечности, во втором — надежду на оную.
Четвертый результат — величие, то есть апофеоз.
Не имея сзади никакой ноши, мы можем смело говорить, что наше будущее свободно и что мы находимся в положении человека, у которого всегда под руками гладкая доска, принимающая какие угодно каракули. Пускай сомнения, тревоги и тоска останутся уделом тех, чье будущее неясно и скомпрометировано прошедшим. Наше будущее принадлежит нам, потому что оно ничем не скомпрометировано назади и ни в чем не предвидит для себя стеснения впереди. Будем же твердыми в легкомыслии, ибо в нем заключается та драгоценная творческая сила, которая утучняет тела, способствует пищеварению и придает нашим действиям тот характер восторженности, который составляет предмет удивления и зависти современников.
ИТОГИ
ГЛАВА I
В мундирной практике всех стран и народов существует очень мудрое правило: когда издается новая форма, то полагается срок, в течение которого всякому вольно донашивать старый мундир. Делается это, очевидно, в том соображении, что новая форма почти всегда застает человечество врасплох. Что такое мундир? имеет ли он корни в прошедшем? есть ли у него задатки, по которым можно было бы сделать предположения насчет его будущего? — Ясно, что ответ на эти вопросы может быть только отрицательный, а из этого уже само собой следует, что нового мундира, хотя бы он был весь шитый, ни предвидеть, ни приготовиться к воспринятию его в будущем невозможно. А потому попечительные начальники и рассуждают: пускай, мол, добрые люди донашивают старые мундиры, покуда умы еще недостаточно окрепли для воспринятая новых. А для того чтобы возмужание умов совершалось неукоснительно, назначают, по усмотрению своему, неотяготительные сроки, по истечении которых новая форма уже окончательно делается обязательною.
Такова цель упомянутого выше правила, но не таково, к сожалению, применение его на практике. Тут оно встречается с такими затруднениями, которые совершенно извращают его смысл и даже оттесняют на задний план самый вопрос о мундирах.
Покуда длится процесс водворения новых мундиров, в обществе происходит временное замешательство, вообще свойственное эпохам мундирного возрождения. Солидные люди (консерваторы) жадно хватаются за опубликованные сроки и отстаивают свои права; люди легкомысленные (прогрессисты), напротив того, спешат как можно скорее щегольнуть новыми погонами. Прогрессисты уже реют по улицам, облитые лучами вновь вышитых воротников, тогда как консерваторы уныло, но упорно влачат свое существование, устремляя все помыслы к сокращенным или удлиненным фалдам, с которыми росло, воспитывалось и укреплялось их внутреннее мундирное чувство. Прогрессисты, «в надежде славы и добра», бегут вперед, убежденные, что новым мундирам конца не будет, а консерваторы (они же ретрограды) покачивают головами, иронизируют и по временам даже почтительно огрызаются. «Укоротим фалды! упростим лацкана! — и впереди нас ждет блаженство!» — восклицают прогрессисты. «Тише! не вдруг укорачивайте! помните, что еще может наступить час удлинения — и благо будет тому, кто не до конца себя окургузит!» — предостерегают консерваторы.
Завязывается обмен мыслей, в котором главную роль играет вопрос: дозрели мы или не дозрели? Прогрессистам вопрос этот, конечно, кажется несерьезным, но по той настойчивости, с которою он поддерживается консерваторами, опытный наблюдатель уже угадывает, что он поставлен недаром. Мало того: знатоку человеческого сердца может показаться, что даже в самую минуту постановки вопроса можно уже провидеть и формулировать предстоящее его разрешение.
Такие знатоки человеческого сердца составляют явление очень прискорбное. Когда окрест царствует или безграничный энтузиазм, или худо скрываемое озлобление, как-то странно встретиться с человеком, который на вопрос: «какой из двух мундиров лучше?» — отвечает: «оба лучше», и на этом прекращает разговор. Во-первых, этот ответ ни с чем не сообразен; во-вторых, он заключает в себе косвенное отрицание мундирного принципа вообще. Можно порицать, но не отрицать. Изложите ваши соображения, подвергните критике кантик за кантиком, пуговицу за пуговицей и, ежели хотите, не оставьте даже канта на канте, пуговицы на пуговице — все это выслушается со вниманием, даже с трепетом. Но отвечать: «оба лучше» — это значит смеяться над тем, что наиболее дорого и священно; это значит ни во что считать самый факт возрождения.
Нет ничего обиднее для человека, как внезапные откровения, с помощью которых он приходит к уразумению ничтожества интересов, дотоле занимавших в его жизни громадную роль. Он суетится, выходит из себя, просит разрешить дело по существу — и вдруг ему навстречу ответ: нет тут никакого дела, а следовательно, нет и существа его. Иногда он сам собой доходит до подобных откровений: иногда они приходят к нему извне. В первом случае он ожесточается против самого себя (шутка сказать! целую жизнь носил мундир в своем сердце и вдруг узнал, что это только мундир — и ничего больше); во втором — еще более ожесточается против внешней причины своего невольного отрезвления. Он чувствует себя уязвленным и поруганным; он не может опомниться от негодования; он усматривает злостность и преднамеренность; он считает, наконец, себя вправе потребовать отчета…
— Какая же ваша доктрина? не увертывайтесь! говорите! мы взвесим, обсудим, и ежели найдем в ней полезные стороны, то примем их во внимание! — вопиет он, постепенно переходя от изумления к угрозе.
И ежели содержание ответа все-таки останется то же, то есть что насчет мундиров всякие доктрины представляются излишними, то этого достаточно, чтоб вырвать вопль негодования из всех сердец.
И вот вопрос о мундирах вступает в новую фазу, или, лучше сказать, он даже как бы отстраняется, чтобы дать место вопросу более существенному — вопросу об отрицании и отрицателях.
Этот последний, по утвердившемуся в обществе мнению, служит единственным препятствием, вследствие которого все прочие вопросы медленно подвигаются вперед, а некоторые даже чахнут в самую минуту своего возникновения. В самом деле, что такое отрицание? — Это непризнание самого существа тех вопросов, которые занимают того или другого индивидуума. Но этого мало: отрицание есть в то же время и непризнание полезных свойств, предполагаемых в деятельности тружеников, которые корпели над разрешением упомянутых вопросов и лелеяли их.
Все в мире создается потихоньку и помаленьку — на этом сходятся и прогрессисты и ретрограды, с тою только разницей, что одни, в сфере предприимчивости, идут на вершок дальше, другие — на вершок короче. В обоих случаях область человеческой деятельности встречается с бесчисленным множеством перегородок, и чем меньше захватывает вширь, тем прочнее и надежнее кажутся те закладки, которые полагаются в основание самому делу. Один выдумывает пуговицу, другой — кантик, третий — воротник; смотришь — ан когда-нибудь и целый мундир выйдет. Поступать таким образом повелевает благоразумие, советует самый закон преуспеяния. И все действующие на поприще преуспеяния так именно и поступают, то есть: спорят, обмениваются мыслями, подвергают критике ту или другую подробность, а в случае крайности даже озлобляются и предают друг друга осмеянию. В результате оказывается прогресс, то есть пуговица, погон.
Отрицатели относятся к подобному образу действий сомнительно, то есть не отвергают его прямо, а проходят молчанием. Вот это-то молчание и оскорбляет, ибо оно затрогивает не столько самое изобретение, сколько изобретателя. Самое резкое противоречие прощается охотнее, нежели молчание, потому что противоречие все-таки ставит оппонента на одну доску с вопрошателем. Напротив того, молчание устраняет самый предмет спора, ставит возбуждающего вопрос в положение человека, который сгоряча подает руку и вместо пожатия встречает пустое место. Inde ira.[6] «Какие же ваши доктрины по сему предмету?» — будет настаивать разогорченный возбудитель вопросов, и ежели ответ последует уклончивый, то не ограничится простым приставанием, а сочтет себя вправе подвергнуть отрицателя тщательнейшему исследованию.
Тем не менее к исследованию приступается не без оговорок, в числе которых первое место, разумеется, отводится общему благу. Прежде всего выступают вперед затруднения, встречаемые при разрешении вопросов жизни, вследствие досады, негодования и других преград, возбуждаемых отрицательным отношением к этим вопросам. «Опомнитесь! что вы делаете! Ведь вы, сами того не понимая, поддерживаете распространителей обскурантизма, врагов прогресса!» — взывают прогрессисты. «Вот он, настоящий-то прогресс! вот он к чему приводит — к равнодушию!» — хохочут в свою очередь консерваторы и ретрограды, умышленно смешивая заблудших овец, случайно отторгнувшихся от их стада, с людьми, скромно идущими в стороне и скромно делающими свое скромное дело. Затем очень видную роль играет и то соображение, что вся эта масса отрицателей, которая держит себя безучастною свидетельницей мундирного возрождения, есть масса совершенно потерянная для дела, ибо в то время как сеятели и деятели хлопочут и выбиваются из сил, одни «отрицатели» безмолвно проходят мимо и не хотят ударить пальцем о палец. «Что было бы, если б каждый из этих людей выдумал по пуговице, хотя по одной пуговице! какая масса добра! какой свет! какое довольство!» — вопиют прогрессисты. «Что было бы, если б каждый из этих людей употребил свои способности на защиту хотя одной старой пуговицы, — только одной!» — в свою очередь взывают ретрограды. И в результате этих обоюдных воплей — вопрос: «какая же ваша доктрина?»
Этот мучительный вопрос повторяется постоянно, и постоянно же остается без ответа. Безответность, в свою очередь, заставляет предполагать одно из двух: или что у отрицателей совсем нет никаких доктрин, или что они имеют какие-то доктрины, но не хотят о них повествовать.
Первое предположение, по-видимому, самое выгодное для обеих сторон. Для допрашивающей стороны оно выгодно потому, что ежели «отрицатель» не имеет своих собственных выдумок, то, стало быть, и опасаться его нет надобности. Это не отрицатель, а, напротив того, оплот. Для допрашиваемой стороны оно выгодно потому, что ежели предположение о неимении ею доктрин утвердится на прочном основании, то, стало быть, упразднится повод для придирок, подозрений и приставаний. Человек, который свободен для всяких притязаний к жизни, есть человек самый доброкачественный. Такими людьми полны улицы, и к ним никто не пристает, никто их ни в чем не подозревает, ибо всякий знает, что ежели появятся новые погоны, то они первые усвоят их со всею тщательностью. Если сердца их не будут при этом играть, если они недостаточно войдут во вкус, это будет лишь признак их неразвитости, а кто же когда-нибудь претендовал и сердился на неразвитость? Стало быть, выгода обоюдная: допрашивающие освобождены от обязанности метать стрелы; допрашиваемые — от обязанности испытывать действие этих стрел на своих организмах…
Но, к сожалению, люди, принимающие живое участие в мундирных возрождениях, слишком редко становятся на эту здоровую и спокойную точку зрения. В большей части случаев они ощущают какую-то необъяснимую потребность истязать и мучить себя и, руководствуясь этою потребностью, дают обширный простор подозрениям, хотя бы основательность последних ничем не оправдывалась. И вот, невесть откуда, является предположение, что отрицатели доподлинно обладают некоторою доктриною, но только, должно быть, доктрина эта очень опасная, и потому они тщательно скрывают ее. Предположение это ведет за собою обязанность раскрыть и объяснить сущность скрываемой доктрины.
Но здесь сила желания находится совершенно в обратной пропорции с силою и твердостью отправного пункта. С одной стороны мотивы, определяющие желание, представляют общее место, которое трудно формулировать; с другой — не более ясности представляет и самый объект желания. Вещественных признаков, с помощью которых должно было бы определить искомую доктрину, — нет; руководящей нити, которая дала бы возможность отыскать эти признаки — тоже нет. Принципы нравственности, общественной безопасности, политической необходимости — все это дает повод для бесчисленнейших толкований, из которых ни одно не согласуется с другим и, следовательно, и не дает никакого действительного основания для предпринятия наступательных действий. Остается, стало быть, наудачу произвести выемку души — авось-либо что-нибудь там и найдется.
Однако ж для того, чтоб произвести с успехом подобную выемку, надобно все-таки знать, во-первых, что такое душа, а во-вторых, что в ней искать надлежит. Но и тут все мрак и полное отсутствие регламентов. Где местопребывание души? — ни прогрессисты, ни консерваторы указать не могут, хотя знают, что это местопребывание где-то есть. А потому единственным средством, чтоб отделаться от этого вопроса, представляется произвольное оставление его без рассмотрения. Вместо того чтоб обыскивать душу, схватывают слова, сказанные на лету, подмечают позы, телодвижения, выслеживают образ занятий и из этих обрывков созидают нечто целое, долженствующее изображать собою искомую доктрину. Но так как уразумение какой бы то ни было доктрины дается только тому, кто хоть с какой-нибудь стороны прикосновенен к ней, то, несмотря на всевозможные сглаживания и сшивки, выводы, получаемые путем собирания обрывков, принимают характер фантастичности, противоречивости и даже неожиданности. Всякому, выслушивающему это спутанное изложение, делается сразу понятным, что ежели бы собиратель обрывков понимал то, о чем он повествует, то он о многом умолчал бы в виду своих собственных интересов, а о многом сказал бы совсем иным образом. И таким образом с полною ясностью выступает только одно — это чувство ненависти, которое всецело охватывает помыслы собирателя и которое заявляет о себе преувеличенными и совершенно произвольными заключениями.
Ах! это чувство очень мучительное, ибо в основании его лежит страх, и — что всего ужаснее — страх, имеющий в предмете опасность, которой величина и характер определяются только величиною и характером индивидуальных, смутно сознаваемых подозрений. Ежели когда-нибудь человек является способным быть творцом собственного индивидуального внутреннего мира, не имеющего ничего общего с миром действительным, то это именно в минуту ненависти, порождаемой ожиданием несознанных опасностей. Все, до чего не дозрел и не додумался ум, представляется исполненным угрозы, а так как область этого недодуманного почти безгранична и нет в виду даже эмпирических указаний, которые помогли бы отыскать какие-нибудь светящиеся точки в этом темном пространстве, то всякий новый шаг приводит за собой только новое беспокойство, без надежды на умиротворение вскую мятущегося духа. Метать громы нужно, а в кого и во имя чего следует их метать — неизвестно. Что ж остается? — остается метать их, во-первых, во имя темных предчувствий, о чем-то подсказывающих, но ничего ясно не говорящих, и, во-вторых, метать их наугад в расстилающееся впереди пространство, не зная, правые или виноватые сделаются их жертвою…
Предположите, например, что корень доктрины, навлекшей на себя подозрение, кроется в естествознании. Покуда эта отрасль человеческих знаний стояла особняком, покуда влияние ее на общий строй жизни не выражалось фактически, это была какая-то заповедная область волшебств и секретов, в которую никто близко не всматривался, полагая, что действительный мир с его горестями, превратностями и нуждами — сам по себе, а мир чудес, составляющий предмет естественных наук, — сам по себе. И вдруг завеса, разделявшая оба эти мира, падает, и — что всего неожиданнее — одновременно с этим падением происходит и перетасовка названий, которые дотоле присвоивала мирам рутина. Действительный мир оказывается миром чудес, мир чудес — действительным, существующим и обращающимся в силу естественных и совершенно вразумительных законов. Такое открытие (особливо если оно сопряжено с обобщениями и критикою воззрений, служивших дотоле отправными пунктами для человеческой деятельности) может для многих показаться чересчур смелым и даже экстравагантным. Оно противоречит всем историческим наслоениям; оно указывает для умственной деятельности человека совсем другие центры; оно предлагает жизнь сначала. Со всем этим примириться нелегко, но как же убедить людей, что два мира, стоявшие доселе друг от друга отдельно, так и должны оставаться до конца веков особняком? Где взять доказательств для поддержания этой темы? — Увы! мы все, прогрессисты, консерваторы и ретрограды, — все мы с головы до ног эмпирики, знающие только предание, а никак не доказательства! Мы умеем только ненавидеть, а во имя чего ненавидим — даже самим себе отчета в том отдать не можем!
Правильно или неправильно подвергаются нападкам так называемые «отрицатели» — здесь разрешать не место. Но, во всяком случае, в этой странной борьбе замечателен тот факт, что одни борются, не зная, во имя чего, другие — терпят борьбу, не зная, за что. В результате: приостановка жизненного движения, смешение формы с делом и полное господство процесса устранения над процессом творчества.
Как ни мало существенно само по себе мундирное творчество, но и оно может принести пользу. Если б люди были искренно ему преданны, то они, по крайней мере, проникались бы благоволением и к другим ремеслам и занятиям, признавали бы более или менее близкую солидарность их и, исходя из этого убеждения, изгнали бы из сердец своих семена вражды и ненависти. Изобретатель новых воротников подал бы руку химику, потому что последний может объяснить наилучший способ золочения; изобретатель новых ботфортов простер бы братские объятия мозольному оператору, потому что последний может дать благой совет, какая форма сапога может предохранить от мозолей. И вот на земле осуществился бы рай, в котором никто никому не мешал бы делать дело, а каждый каждому оказывал бы помощь и содействие.
Распря неведомо за что затемняет смысл первоначальных задач и даже устраняет их из арены жизни. Сверх того, она истощает силы общества в занятии в высшей степени непроизводительном. Предположите в этом обществе, столь охотно предающемся безумной отваге, минуту отрезвления и спросите его: что ты сделало? чем ты ознаменовало свое вступление на новый путь? «Я дралось!» — ответит оно, и бог знает сколько горечи прозвучит для него в этом правдивом и им самим данном ответе.
Но горечь была бы еще спасительною, ибо в ней есть признак возврата, а в возврате всегда заключается возможность выхода более или менее благоприятного. В большей части случаев бессознательно дерущееся общество и затем продолжает драться с тою же бессознательностью, как и прежде, не отрезвляясь и не отвечая ни на какие вопросы до тех пор, пока весь воздух не преисполнится пылью и прахом.
Здесь да позволено мне будет небольшое отступление по поводу так называемых прогрессистов.
Это народ очень загадочный, совмещающий с чувствительностью души и слезливостью в голосе непреодолимую страсть к «куску».
Они постоянно скорбят и постоянно выставляют себя последним убежищем, не выражая ясно, чего именно, но давая почувствовать, что чего-то очень хорошего.
Обыкновенно они рекомендуют себя следующим образом:
— Не обвиняйте нас! Мы не всё можем, что желаем! если бы вы знали, что нам стоит отстоять самую малую часть добра, к которому мы стремимся, вы оценили бы наши усилия, вы отдали бы полную справедливость нашему самоотвержению! Или:
— Поберегите нас! Мы последнее ваше убежище! Не будь нас — и то малое, что вы видите еще уцелевшим, погибло бы без возврата! Мы не можем действовать определеннее, потому что в таком случае должны были бы совсем отказаться от деятельной роли! Посудите сами, полезно ли это будет даже в ваших интересах!
Голос взволнован, жест прост и задушевен, вся глубина чувства так и просится наружу, а если к этому присовокупить белейшее и тончайшее белье, безукоризненно сшитую одежду, прекрасные руки и проч., то действие получится поистине неотразимое.
Странники моря житейского так и льнут к прогрессистам, особливо в минуты постигающих их несчастий. И действительно, никто не сумеет так утешить, сказать сочувственное слово, показать вдали перспективы.
— Когда наступит удобный момент… будьте уверены… а между тем призовите на помощь ваше мужество… все к лучшему… несчастие отрезвляет… сознайтесь, что и отрезвления не всегда лишни… за всем тем, когда момент настанет, и т. д.
Странник моря житейского возвращается домой утешенный, окрыленный. Он даже и рассуждать начинает как-то дерзко. Что такое это «несчастие», которое за минуту перед тем приводило его в смущение? Это миф, это сон, это прах, для исчезновения которого достаточно было одного дуновения прекрасного прогрессиста! Это греза давно минувших времен, которая едва-едва брезжится вдалеке! Дух его не только не упал, но окреп еще больше, нежели до «несчастия»! Он начинает строить планы; он верит в будущее, надеется выиграть двести тысяч, даже не обладая ни одним билетом выигрышного займа…
Но проходит момент за моментом, а будущее все ускользает да ускользает из рук. «Несчастие» не брезжится где-то вдалеке, а глядит прямо в глаза и с каждой минутой все суровее и суровее. Чем легче окрылялись надежды, тем легче они гаснут. Скверное сочетание легковерия и беспомощности представляется во всей наготе.
— О, прогрессисты! — восклицает в отчаянии бедный странник моря житейского.
Увы! он не прав только тем, что с этого восклицания ему следовало бы начать, а не кончать им.
Прогрессист — такой же идеолог, как и консерватор или ретроград, и душа его так же мало откликается на дело, как и душа самого заскорузлого ханжи-обскуранта. Какой же резон для него идти каким-то другим путем?
Никто не видал, чтобы прогрессист когда-нибудь чем-нибудь поступился, чтобы он усовершенствовал свою чувствительность до того, чтобы выпустить «кусок», который он раз защемил зубами. Будучи от природы покрыт скользким веществом, он пользуется этим преимуществом, чтобы увертываться и скользить, но пользуется лишь до тех пор, пока не зайдет речь о «куске». Напоминание о «куске» производит в нем панику, а паника — целый ряд решений и действий, которым позавидовал бы огнепостояннейший из ретроградов.
Вся жизнь прогрессиста есть непрерывное и опасное сидение между двумя стульями, и если он не испытывает невыгодных последствий этой опасности, то потому только, что, в случае надобности, он посидит как-нибудь и на весу. И должно отдать ему справедливость, он так искусно сидит на весу, что многим кажется, что так именно и следует всегда сидеть. И вот во всех сердцах зажигается удивление и созидаются алтари; из всех уст несутся гимны и песнопения. А он между тем жует да жует свой «кусок» и даже не давится им… Памятуя стих Пушкина:
Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман, —он окрыляет одних и кувыркается перед другими. То есть: с одной стороны, приобретает пламень благодарных сердец, с другой — ласку и куски. Ласку он ценит плохо, но «кусок»… о! «куска» он не выпустит ни под каким видом!
Кто захочет сделать буквальное применение написанной выше картины мундирного возрождения к современному положению нашего общества, тот, конечно, впадет в немалое заблуждение. Содержание нашего общественного возрождения слишком глубоко по своим намерениям, чтоб сравнения в этом роде могли быть допущены без явной несправедливости. Но дело не в самой картине, а в том пути, которому последовала жизнь в процессе своего обновления, и в тех отрицательных результатах, к которым она привела, благодаря избранному пути. Здесь встречается уже многое, что прямо напоминает пути и результаты, изображенные выше.
Источники замутились, задачи утратили первоначальный смысл; в результате — приостановка жизни, равнодушие, почти оцепенение. Всякий, кто отдаст себе серьезный отчет в том, что происходит кругом него, должен будет сознаться, что трудно представить жизнь, более сдавленную гнетом собственной вялости и бедности стремлений и идеалов.
Недавно мы были свидетелями периода довольно оживленного, который многими назывался периодом брожения. Были у нас и прогрессисты, и консерваторы, и ретрограды. Первые пламенели, вторые балансировали, третьи огрызались. Производился обмен мыслей, ставился вопрос: дозрели мы или не дозрели — и мгновения незаметно летели за мгновениями. Очень возможно, что весь этот переполох не заключал в себе существенного содержания, что он представлял собой легкомысленное щебетанье снегирей, насвистанных с чужого голоса, но, во всяком случае, лица не поражали сонливостью, не видно было той подавляющей скуки, которая так, кажется, и гласит: сии люди погибли для радостей. Теперь даже этого внешнего оживления незаметно. Нет ни прогрессистов, ни консерваторов, ни ретроградов, потому что россияне утратили самый вкус к мундирам и никто не может сказать ничего положительного насчет того, какого ему шитья хочется.
А между тем наступило время сеяния; зерна по земле рассыпано множество, а инде даже и молодые всходы пробиваются. Современный человек видит и это сеянье, и эти всходы, по временам останавливается перед ними и даже произносит сочувственное или неодобрительное слово. Но стоит прислушаться к этому слову, чтобы убедиться, что в нем нет ни одной живой и ясной ноты. Тут звучит и неумелость, и легкомысленная голословность, и завещанная преданием заученность — все, кроме страстности и сознания личной прикосновенности к делу сеяния. «Не мое дело, мне как бы вот день прожить», — говорит всяк и каждый. Одно за другим проходят явления, которым, по всем видимостям, следовало бы захватить самые жизненные основы общества… ничуть не бывало! ничто ничего не захватывает, ничто ничего не вызывает наружу! По поводу явления самого решительного литература испустит обычное формально-лирическое бормотание, уличная же публика вяло перекинется двумя-тремя бессодержательными вопросами и вяло же разбредется по домам, чтобы там предаться вялым размышлениям…
Как скоро все это стихло, потухло, стушевалось 1 Что ни говорите, а эта быстрота утомления — признак очень сомнительный. Не в том опасность, что скоро потухло и стихло брожение, которому мы были свидетелями, — бог с ним, с этим брожением! — а в том, что быстрота утомления делается как бы регулятором жизни. Стало быть, впереди видится нечто очень малое, ежели общество не трепещет, не напрягает сил, не самоотвергается, не впадает в ошибки, а только глядит в одну случайно попавшуюся на глаза точку и думает: «ах, кабы совсем этих сеяний не было!»
Говорят, что все это признаки очень здоровые; что страсти умиротворились, брожение улеглось, колебания выяснились. Солидные люди усматривают задатки так называемого трезвого отношения к жизни и пророчат нечто прочное, осмотрительное, неторопливое. Но качества этой трезвости более чем сомнительны. Это безвкусная, бессодержательная трезвость, которая граничит с полным упадком сил. Как ни наянливо было наше недавнее озлобление против запросов жизни, как ни мелочны были формы, в которых оно выражалось, — приходится пожалеть и о нем. И там было нечто, свидетельствовавшее, что пульс не перестал еще биться, и там была возможность поступков, а следовательно, и возможность поправок, возвратов, раскаяний. И вдруг — пустое место. Одно чувство господствует и одолевает: чувство пустоты, чувство ненужности. У всех на языке одна фраза: надо дело делать, и у всех же в голове одна мысль: «ах, кабы меня бог помиловал!» Все окоченело и сосредоточилось на одной мысли: как бы подцепить грош и прожить насущный день. Не чувство жизни горит в человеке, а коптит и чадит в нем чувство самого грошового самосохранения. И жить незачем, и умереть страшно. Не потому страшно, чтоб пугали сновидения:
Умереть — уснуть… —
а потому, что умы до того сдавлены робостью, что никакое прямое решение для них недоступно. Человек не живет и не умирает, а перебрасывает самого себя изо дня в день без всякого участия личного творчества.
Горечь отдельных фактов не возбуждает в нас ни симпатии, ни отголоска; наплыв случайности не вызывает нашего гнева; разрозненность явлений, отсутствие связного представления об общем строе жизни, перерывы, провалы, колебания — ничто не может пробить броню равнодушия, в которую мы облеклись. «Не наше дело! — слышится со всех сторон, — довольно волнений! пусть страсти улягутся! пусть жизнь сама ответит на собственные запросы свои!»
Глядя со стороны, можно подумать, что мы только что вытерпели жестокую битву и теперь зализываем свои раны.
И действительно, битва, которую мы вытерпели, была очень жестокая. Это была знаменитая в летописях битва против нигилистов, свистунов, космополитов и проч. Мы увлеклись ею до того, что забыли даже о задачах, которые нас занимали, и из бессодержательного эпизода сделали главную тему всей нашей жизни. И что же вышло? устранили ли мы что-нибудь? — нет, не устранили, потому что и устранять, в сущности, было нечего. Приобрели ли? — нет, и не приобрели ничего, а, напротив того, все утратили. Утратили вкус к жизни, к ее интересам… и даже к ее разнообразным мундирам.
И теперь, когда поле сражения чисто, когда нигилисты и свистуны поражены, посрамлены и рассеяны, мы тщетно стараемся припомнить те задачи, которые занимали и волновали нас в оное время.
— О чем бишь мы производили обмен мыслей до этой баталии? — может спросить любой из нас и наверное не получит никакого другого ответа, кроме:
— Убей бог! ничего не помню!
ГЛАВА II
Представьте себе, что в самом разгаре сеяний, которыми так обильна современная жизнь, в ту минуту, когда вы, в чаду прогресса, всего меньше рассчитываете на возможность возврата тех порядков, которые, по всем соображениям, должны окончательно кануть в вечность, вдруг откуда-то повеет чем-то старым, знакомым, отчасти даже любезным… Не без любознательности вглядываетесь вы вперед, стараясь угадать, откуда потянуло знакомыми запахами, и, к удивлению вашему, убеждаетесь, что «старое» совсем не упразднилось, но стоит совершенно бодро, что оно смотрит прямо в глаза и даже как будто иронизирует. «Старайтесь, милые, сейте! — говорит оно, — а я тем временем поревную особо». Что может означать подобный факт?
Нет сомнения, что описанное выше чувство недоумения испытал всякий, кто прочел обнародованные на днях в «Московских ведомостях» результаты недавней ревизии Пермской губернии. Но в то же время не может быть сомнения и в том, что результаты эти многим уяснили многое, что дотоле проходило совершенно для них незамеченным.
Чтоб это последнее уяснение было достигнуто, стоит лишь обратиться к недавнему прошлому и спросить себя: какое значение в то время имела ревизия, подобная той, которая постигла Пермскую губернию?
Значение это у всех на памяти — это было просто-напросто обличение невозможности жить. Когда в какой-нибудь губернии жить делалось невозможно, назначалась ревизия, дабы всем ведомо было, что жить подлинно невозможно, что закон упразднен, что место его занял даже не произвол, а просто-напросто грабеж, и что начальство, убедившись в этом, принимает меры, то есть назначает ревизию. Наряжался ревизор, который приезжал на место с полномочием вязать и решить, который выслушивал жалобы, рассматривал дела, собирал сведения о нуждах края и о том, в какой степени они оставлялись без удовлетворения, и в конце концов резюмировал свой труд так: да, действительно, жить было невозможно.
Тем не менее ревизии возбуждались не часто и, раз возбужденные, производили в обществе говор. Не то казалось удивительным, что понадобилось произвести ревизию, а то, что ревизия состоялась. Были люди (по-тогдашнему, «ябедники»), которые десятки лет вызывали ревизию и умирали, не дождавшись ее. Были другие, которые ценою неимоверных и хитросплетенных ябедничеств вызывали наконец ревизию и считали себя счастливыми даже в том случае, если ревизия ничего другого им лично не приносила, кроме высылки в другую губернию под характеристическим наименованием «ябедников», которое и оставалось за ними на всю жизнь. Это были тогдашние старатели и ревнители. В них, в искаженной и изуродованной форме, воплощалась общественная совесть. Они подвергались всевозможным поруганиям и преследованиям и все-таки продолжали свое обличительное дело. Какую роль в этом деле играл четвертак и какую — правда, разобрать довольно трудно; но, судя по тому, что вся деятельность «ябедников» была направлена исключительно против сильных мира и не окрылялась особенными надеждами на успех, можно заключить, что в ней все-таки главную роль играла скорее правда, нежели четвертак. Надо быть глубоко уязвленным в душе, надо перенести страшную массу обид и злоключений, чтобы безнадежно стучать в запертую дверь и по временам достигать даже того, что она отворялась. И ябедники стучались и выполняли свое призвание вполне добросовестно, хотя им, конечно, небезызвестно было, что жить в мире с властями все-таки выгоднее, нежели вопиять против них к небу…
Почему ревизии назначались лишь в самых исключительных и редких случаях? На это было очень много причин. Во-первых, всякая ревизия сопрягается с обличениями, не всегда удобными, и преждевременно возбуждает вопрос о невозможности жить в такой среде, где эта невозможность, того гляди, еще не вполне созрела. Требуются своего рода проницательность и такт, которые предотвращали бы пагубные смешения между подлинною невозможностью и невозможностью так себе… может быть, просто с жиру. Не надо забывать, что возможность жить далеко не во всех случаях измеряется действительною стоимостью тех жизненных благ, которыми пользуется человек; напротив того, очень часто мерилом ее служит лишь относительная упругость и сносливость субъекта, обреченного на жизнь. Один говорит: «меня хоть на куски режь, я и тогда жив буду!» Другой идет дальше и считает жизнь невыносимою даже в том случае, когда его незаслуженно называют курицыным сыном. Третий идет еще дальше и говорит: «заслужил или не заслужил я название курицына сына, все-таки не смей меня так называть, потому что в противном случае жизнь сделается для меня невозможною». Ясно, что здесь первый человек понимает «возможность жить» шире, нежели второй; второй — шире, нежели третий. Стало быть, весь вопрос заключается в том, удобно ли суживать подобные понятия прежде, нежели сама практика укажет на необходимость подобного сужения? А ревизия именно производит это сужение, ибо, подвергая своему анализу вопрос о неудобствах, сопряженных с невозможностью жить, она тем самым возбуждает и другой, более деликатный вопрос: об удобствах, сопряженных с возможностью жить. Мудрость веков всегда отвечала на все эти вопросы отрицательно, то есть что не следует поднимать исследований о том, как живется, до тех пор, покуда кое-как живется. И действительно, сообразно с этим извечным правилом, все ревизии, то есть исследования, предпринимались не прежде того, как возможность жить прекращалась в самом широком смысле, то есть тогда, когда люди останавливались даже перед изречением: «режь меня на куски!» — и когда при том в прекращении жизни совершенно ни для кого не оставалось никакого сомнения. Если бы не было этого благоразумного правила, в притязания к жизни непременно вторглось бы смешение, а быть может, даже и прихотливость. Переходы из первого разряда во второй, из второго в третий были бы не редкостью, и притом переходы произвольные, возмутительные. Иной смог бы еще множество лет оставаться твердым в бедствиях, а тут, видя со стороны начальства потачку, возьмет да и сприхотничает. «А сем-ка, — скажет он себе, — и я доложу, что мне жить невозможно». И не только доложит, но даже представит несомненные тому доказательства. И таким образом вдруг откроется, что множество людей жило (а может быть, и еще несчетное число лет жить бы могло), и вот теперь, благодаря ревизии, начинает вдруг ощущать, что божий мир не мил. И доказывает это такими фактами, перед которыми совесть молчит.
Другая причина, обусловливавшая редкость ревизий, заключалась в том, что ревизия, возбуждая вопрос о праве на жизнь, косвенным образом служила причиною прекращения даже той доли жизни, которая известна под именем отправления текущих дел и которая, несмотря на злоупотребления, все-таки кое-как плелась. Читатель, который был свидетелем перепохолов, производимых ревизией, поймет, что мы хотим сказать. Перед глазами его воскреснет вся лихорадочная обстановка, которая, при первой же вести о ревизии, вдруг водворяется в целом крае и характеризуется одним словом: трепет. Трепет этот отнюдь не составляет частного явления, к которому можно было бы применить классическое выражение французов: que les méchants tremblent, que les bons se rassurent![7] Нет, тут, по недоразумению, трепещут все: и злые и добрые. Злые трепещут потому, что им рядом несомненных фактов доказано будет, что действия их имели результатом невозможность жить. Добрые трепещут потому, что сомневаются, будут ли признаны вполне достаточными те доказательства невозможности жить, которые они намереваются предъявить. Но, сверх того, есть и еще множество разнообразнейших причин, производящих трепет. Одни трепещут по преданию, другие — оттого, что в первый раз встречаются лицом к лицу с чрезмерно блестящим мундиром, третьи — оттого, что их подавляет осанка, голос и т. д. Но когда человека объемлет трепет (хотя бы и неосновательный), то он, очевидно, не только не может быть благополучен, но даже просто-напросто оказывается вне всякой возможности заниматься обычным, будничным своим делом. Вместо того чтоб торговать, печь пироги, возделывать землю, он трепещет; вместо того чтоб писать решение о том, сколько кому отпустить надлежит, он трепещет. Все трепещут: и жалобщики, и те, на которых приносятся жалобы.
Лица, на которых жалуются, суть те самые, на обязанности которых лежит отправление дел. Как только пройдет слух о ревизии, так тотчас же они оставляют всякие попечения о делопроизводстве, начинают служить молебны, вынимать заздравные просвиры и беседовать с собственною совестью. Наступает эпоха угрызений; из тьмы прошлого выделяются призраки. Неподлежательно высеченные части тела, неподлежательно взятые гривенники так и мечутся в глаза со всею обстановкою, при которой первые были высечены, а вторые взяты. И все это надобно объяснить так, чтоб ревизующий понял, что тут нет ничего, кроме невинности, и что не только не было невозможности жить, но был рай. А объяснить это очень трудно, потому что ревизор, испуганный массою воплей и жалоб, делается придирчив и не довольствуется полураем, но требует доказательств, что рай был точь-в-точь такой, какой существовал древле на берегу Евфрата и Тигра. Это требование до такой степени чрезмерно, и ревизуемый чиновник чувствует себя до того подавленным им, что не может содержать в голове своей никакой другой мысли, кроме мысли о необходимости сделать себя белее снега, и затем ко всем напоминаниям текущей жизни (которые все-таки не прекращаются и удовлетворение которых лежит на том же ревизуемом чиновнике, независимо от ревизии) относится не только равнодушно, но с явным нетерпением и досадой. «Подождите!», «не до вас!» — вот единственные ответы, возможные при подобном всеобщем переполохе. И ежели дотоле правосудие отправлялось неправо и медленно, то теперь не отправляется никакого правосудия: ни правого, ни неправого, ни скорого, ни нескорого. Бегут, являются, объясняются, собирают справки, запираются, докладывают и облыжно и взаправду — словом, делают все, кроме дела, кроме даже той крохотной части дела, которая делалась до тех пор…
Какими ущербами отражается подобный переполох на сословии жалобщиков — это известно единому богу. Но горечь их разочарования должна быть сильнее уже по тому одному, что самый взгляд их на свойства и результаты ревизий в высшей степени своеобразен. Наука администрации говорит: всякое административное действие сперва пускает корни, потом идет в штамб, потом производит цветы и, наконец, плоды; но они, то есть жалобщики, совсем не понимают этой истины. Им, по невежеству, кажется, что у всякого ревизора полны карманы плодов и что, следовательно, все их жалобы, как прошедшие, так и настоящие, должны быть удовлетворены немедленно, в ту самую минуту, как появится на горизонте ревизор…
Наконец, третья причина, вследствие которой ревизия предпринималась лишь в крайних случаях, заключалась в тех инстинктах роскоши и всяких излишеств, которые как-то фаталистически пробуждались в ревизуемой местности при первой вести о приближении ревизора. Под видом чествования ревизора предпринимался целый ряд волшебнейших объедений, бледные примеры которых можно встретить только во время дворянских выборов. Балы следовали за балами, обеды за обедами. Женщины сверкали обнаженными плечами и увлекали роскошью походки; мужчины явственно проводили идею о супружеской снисходительности. Нынче, конечно, все это поизменилось, потому что и мошна стала потощее, да и самые провинности не настолько крупны, чтоб требовать искупления в форме непрерывного обжорства; но существовало время — и оно недалеко, — когда упомянутые выше волшебства были истиною. Существует предание, что в одной губернии была даже выписана из соседней губернии дама, славившаяся своей любезностью и красотою, с специальною целью увеселять ревизора и смягчать его нравы…
Но, как ни вески описанные выше неудобства, ревизии все-таки назначались, потому что не было иного средства устранить распространение невозможности жить. А распространение это от времени до времени высказывалось с такою рельефностью, что изумляло даже людей, и не легко поддающихся чувству удивления…
Что же означала эта невозможность жить? что это было за явление? что поддерживало и питало его?
Существует мнение, что невозможность жить есть признак такого общественного строя, в котором обязательная сила закона находится в зависимости не от большей или меньшей ясности заключающихся в нем предписаний, а от применений и толкований, которые являются обыкновенно независимо от закона, со стороны, и которые ни предвидеть, ни своевременно удовлетворить нельзя. Справедливость этого мнения едва ли кто-нибудь будет отрицать. Нет никакого сомнения, что если не все благополучие человека, то, по крайней мере, весьма значительная часть его зависит от прочности и вразумительности его отношений к требованиям закона. Внутреннее содержание закона само по себе может оказывать не всегда выгодное влияние на судьбу человека — это так; но ежели оно однажды объявлено обязательным, то остается одно из двух: или устраивать жизнь таким образом, чтобы не впадать в противоречие с законом, или протестовать против приносимых им стеснений на свой собственный риск. Во всяком случае, здесь всего важнее, чтобы человек мог вполне ясно и определительно отдать себе отчет, чему надлежит подчиняться или против чего протестовать. Если это условие не соблюдено, он лишается даже возможности подчиняться.
Предположите себе, например, существование такого несуществующего закона, который обязывал бы обозчиков сворачивать с дорожной колеи в сугроб в виду грядущего навстречу исправника. Как ни стеснителен этот закон, но, ввиду его совершенной ясности и обязательности, обозчику предстояло бы: или оставаться дома, дабы не подвергать себя встрече с исправником, или заранее подчиниться сворачиванию в сугроб, или же, наконец, не оставаться дома и не сворачивать, рискуя подвергнуть себя всем карам, за несворачивание в сугроб установленным. Что может быть яснее и вразумительнее такого положения? Но оно разом утрачивает свою вразумительность, как скоро требование о сворачивании предъявляется не законом, а каким-то частным толкованием, о котором нельзя даже определительно сказать, откуда и при каких условиях оно выходит. Толкования этого рода имеют то неудобство, что они столь же разнообразны, сколь разнообразны наклонности и вкусы самих толкователей. В одном месте провинившихся обозчиков раскладывают на снегу и тут же секут; в другом, за то же преступление, тут же бьют по зубам; в третьем — загоняют в ближайшую сельскую расправу и там арестуют на день, на два и т. д. Очевидно, что здесь не только признаки преступления являются неудобопредвидимыми, но и самая кара, вызываемая неисполнением внезапно возникшего толкования, принимает формы прихотливые или, лучше сказать, сочиненные в ту самую минуту, в которую сочинено и самое толкование. Возможно ли при таких условиях жить, то есть предусматривать завтрашний день, обеспечивать свою спину, делать сбережения, предпринимать операции и проч.? — ответ на этот вопрос пусть подскажет собственное благоразумие читателя.
Когда человек приступает к возделыванию земли или предпринимает торговый оборот и т. д., он заранее рассчитывает последствия как выгодные, так и невыгодные, которые может привести за собой его предприятие. И сообразно с этими расчетами приготовляется к встрече этих последствий. Но когда он выходит из дома в гости и не в состоянии заранее определить себе, какого рода сплетение обстоятельств может привести его, вместо гостей, в кутузку, то ясно, что он должен себя чувствовать вполне свободным от каких бы то ни было расчетов и предвидений. И не только он, но и соседи, и присные его тоже освобождены от расчетов. N вышел из дома и не возвращается — никто не пробует даже отыскивать причину этого отсутствия, но все говорят просто: «должно быть, с исправником на дороге встретился».
Какая польза рассчитывать, когда область, открытая для расчетов, до того безгранична и темна, что нельзя найти в ней ни одного ясного отправного пункта, и когда при этом на всяком месте идет непрерывное сочинение толкований, которых ни под каким видом предусмотреть невозможно? Такого рода положение вещей свидетельствовало не о случайной только бесконтрольности, но о целой системе, в которой бесконтрольность являлась господствующим началом. И вот, для того чтоб была хоть тень контроля, предпринимались внезапные ревизии, начальственные погромы и т. д.
Что погромы совершали свое дело удовлетворительно — этого отрицать нельзя. Долго после того чиновники ходили смирные, ласковые, шелковые, как будто их коснулась благодать. Но существо бюрократии нимало от этого не изменялось, потому что возможность внезапных толкований и сочинений оставалась за нею всецело. И ежели некоторое время по совершении погрома толкования производились в смысле благожелательном, то не было ручательства, чтоб в срок более или менее непродолжительный эта благожелательность не оттенилась красками очень сомнительного свойства.
Погром обличал язвы, накоплявшиеся десятками лет; но за сим следовали новые десятки лет, в продолжение которых опять предстояло обширное поприще для всякого рода накоплений…
Таково было значение ревизий в недавнем прошлом, и такова была непрочность достигаемых ими результатов.
В нынешнем году минет десять лет со времени первой и притом важнейшей реформы в ряду тех, которые ознаменовали настоящее царствование. Существенное значение этих реформ заключалось именно в устранении возможности тех произвольных применений и толкований, которые ничего другого не производили, кроме невозможности жить. После крестьянской реформы, легшей в основание всех дальнейших успехов нашей жизни, мы увидели реформу судебную и земскую. Первая обеспечивала личность и достояние граждан, вторая полагала начало самоуправлению, то есть контролю более прочному, нежели тот, который достигался с помощью ревизий и начальственных погромов. Надобно было обладать скептицизмом самым отчаянным, чтобы предполагать, что при столь плодотворных задатках может повториться такое изумительное явление, как невозможность жить, и притом повториться с теми же самыми признаками, которые характеризовали его в былые времена.
А между тем явление это повторилось, и притом не где-нибудь в завоеванном крае, где ревность не по разуму может найти толкователей, опирающихся на исключительные условия местности, а в Пермской губернии, где не слышно ни о столкновениях различных национальностей, ни о возбуждении пагубных страстей, ни о вторжении вредных и неблагонадежных элементов (особенный вид преступности, рекомендуемый г. академиком Безобразовым, но, по неясности признаков, до сих пор в уголовный кодекс не внесенный). В эту благодатную страну ездят наши департаментские экономисты для обнаружения богатств, скрывающихся в недрах земли, и возвращаются оттуда, полные волшебных снов о реках, текущих млеком и медом, о горах, изобилующих златом и самоцветными камнями, о вековых лесах, в которых кишат всевозможные звери и птицы, и т. д.
И в этой-то волшебной стране вдруг оказалась невозможность жить!
Это невероятно, но это так. Мало того что упомянутая невозможность жить существовала здесь в самом широком смысле, но — что всего замечательнее — условия общественного строя не указали иного способа устранить эту невозможность, кроме того, который существовал уже во времена дореформенные. А между тем все реформы в ходу: реформы, ограждающие личность и достояние граждан, реформы, привлекающие общественное мнение к участию в общественном контроле, реформы, освобождающие миллионы людей из плена, в котором они находились в течение столетий…
Что сей сон значит?
Но материалы, добытые ревизией Пермской губернии и обнародованные на днях в «Московских ведомостях», до того поучительны, что читателю никак не лишне будет познакомиться с ними. Это знакомство, независимо от удовлетворения его любознательности, даст возможность сделать некоторые сопоставления, которые ни в каком случае не могут быть сочтены бесполезными.
Вот эти материалы в кратком перечне.
1) Законы, определяющие пределы действия каждого отдельного агента административно-полицейской власти, были упразднены, а на место их введены так называемые толкования, в основание которых легли смутные предчувствия и стремление предвосхитить начальственную мысль. Таким образом, то, что в высших правительственных сферах существовало лишь в качестве проекта, в Пермской губернии было уже приведено в исполнение.
2) Цель, к которой стремились эти толкования, заключалась в том, чтобы как можно более усилить единоличную власть представителей центрального управления и как можно более сократить и ослабить власть коллегий, представляющих препоны административному бегу.
3) В согласность с этою целью, дела из губернских присутственных мест (непосредственно подчиненных губернатору) произвольно переводились в канцелярию губернатора, а из Уездных коллегий — в канцелярии исправников.
4) Приняты были меры, дабы ведомо было всем и каждому, что единоличная власть действительно усилена, а закон и всякие другие препоны действительно упразднены. В этих видах указано или допущено было: а) не следовать в точности законам об аресте обвиняемых, но, в видах спокойствия края, арестовать и при недостаточных уликах; б) не представлять сельских должностных лиц к наградам иначе, как по соглашению с исправниками; в) окружить исправников конвоем из казаков; г) возбуждать, по усмотрению полиции (или, что то же, исправника), даже такие дела, которые могут начинаться лишь в порядке частного обвинения или по заявлению духовного начальства.
Такова была теоретическая сторона этого несложного административного построения. Практическое влияние его на местные полицейские нравы обнаружилось следующими характерными, но не весьма плодотворными результатами:
1) Почувствовавши усиление власти и стремясь дать ей еще большую прочность и значение, полицейские агенты до того увлеклись действительнейшим, по их мнению, средством упрочения, то есть сечением, что начали сечь и в одиночку, и массами, и с оттенком иронии, и серьезно. Верхотурский исправник высек одного почтсодержателя и потом на запрос губернского правления отвечал, что сечение произведено по собственному желанию пациента. Один исправник высек разом сорок человек обозчиков за то, что они не свернули перед ним с дороги. Один исправник жестоко избил нагайками двух ямщиков за то, что на лошадях их была худая сбруя. Один помощник исправника высек мещанина (изъятого, по закону, от телесного наказания) за то, что последний не хотел отпустить к нему свою шестнадцатилетнюю дочь…
2) В тех же видах, полицейские агенты производили только такие исковые дела, которые нравились их усмотрению; те же дела, которые их усмотрению не нравились, оставляли без производства. Так, по взысканию государственным банком 24 000 р. с одного богатого купца, полиция шесть лет не находила времени приступить к описи имущества должника. Подобным же или приблизительно подобным же образом поступила она и в других двух случаях, приведенных в «Московских ведомостях». Зато по иску другого купца она несколько раз захватывала металлы и механические орудия Сысертских заводов, хотя было известно, что этими металлами и орудиями обеспечивался казенный долг. Многие, быть может, подумают, что во всех этих делах примешивались и посторонние, не чуждые корысти, интересы; но так как на такое предположение нет никаких улик, то лучше всего объяснять эти действия бескорыстным желанием придать вящий блеск власти. Вот, мол, каков я: хочу — произвожу, не хочу — не произвожу!
3) В тех же видах, полицейские агенты, при возникновении жалоб на неправильность расчетов, производимых горными заводами, разбирательств не производили, а просто-напросто обзывали жалобщиков бунтовщиками и, утвердив их в этом звании, поступали как с таковыми, то есть секли.
4) В тех же видах, аресты производились на скорую руку, так, чтобы несомненно было, что не по существу дела арестуется человек, а с целью придания власти блеска. Так, были по одному делу арестованы двое убийц, а по рассмотрении дела в суде оказалось, что даже самого факта убийства не существует. Один крестьянин, освобожденный судебным следователем, был снова посажен в тюрьму полицией. Другой крестьянин был найден в остроге заключенным неизвестно за что, когда и по какому делу.
5) В тех же видах, полицейские агенты поощряли ссылку домашним порядком. За последние три года выслано из Пермской губернии 1100 человек по приговорам обществ, «продиктованным уездными и губернскими властями», да, кроме того, административным порядком сослано около 100 человек. При этом бывали распоряжения о ссылке из-за Урала… в Москву!
6) В тех же видах, полицейские агенты вмешивались в дела сельских обществ, а именно: а) сдавали от себя подрядчикам отбывание дорожной и подводной повинности взамен отправления ее натурой; б) рассматривали мирские приговоры о сдаче питейных заведений и указывали лиц, которым кабаки должны быть сданы.
7) В тех же видах, полицейские агенты или вовсе не отвечали на запросы властей, или отвечали усилением мер упрочнения. Так, например, к верхотурскому исправнику был послан запрос по жалобе купчихи Шадриной, поданной министру внутренних дел; но исправник ничего на запрос не ответил, и дело было сочтено конченым. Другой пример еще поразительнее: при проезде великого князя Владимира Александровича уполномоченный от крестьян Каслинской волости, вместе со старшиной, подали его высочеству прошение с жалобой на неисполнение заводчиками условий и на притеснение от местных властей. За это просители просидели в тюрьме два года, так как следствие, возбужденное по поводу этого прошения, производилось не по предметам жалобы, а над подателями прошения.
Таково было влияние теории усиления единоличной власти на полицейские нравы. Что касается до влияния той же теории собственно на население губернии, то оно выразилось в следующих результатах:
1) Число уголовных преступлений в 1869 году оказалось в четыре раза больше, чем в 1867 году.
2) Из числа 65 785 человек, привлеченных за последние три года к следствию, 30 184 человека вовсе освобождены судом, 24 376 человек оставлены в подозрении, и только одна шестая часть обвинена судом. Стало быть, пять шестых воротились домой и несомненно обогатили родные селения плодами острожной цивилизации.
3) Казенные недоимки увеличились (доказательство, что сечение не увеличивает народной производительности, а, напротив того, истощает ее), а в одном из уездов даже образовалось общество неплательщиков податей…
Вот что происходило в одной из великорусских губерний в виду реформ последнего времени, вот к каким неожиданным итогам может иногда прийти жизнь.
Но итоги эти, в виду той внешней, хитросплетенной деятельности, которая кишит на каждом шагу и бьет в глаза всякому непосвященному в ее тайны не могут не возбуждать множество вопросов самого болезненного свойства. Вот некоторые из этих вопросов, которые прежде всего представляются уму:
Пермская губерния представляет ли исключение относительно незащищенности жизни, или ту же самую незащищенность можно встретить (если поискать прилежно) и в других однородных с нею местностях, как, например, в губерниях: Пензенской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской и т. д.
Где кроется источник этой незащищенности: в самой ли жизни, упорствующей в систематическом оголении существеннейших основ своих, или в чем-нибудь ином?
Отчего реформы, несомненно плодотворные, так туго входят в жизнь, что кажутся как бы стоящими совершенно особняком от действительных применений?
Отчего в жизни нет широкого основания, которое одно может сообщить характер правды и действительности всем отдельным попыткам, делаемым во имя ее освобождения?
Отчего эти попытки имеют характер разбросанности?
Откуда, наконец, эта апатия, которая поражает всякого при самом поверхностном взгляде на русское общество и о которой было достаточно говорено в предыдущей нашей статье?
Где же итоги?
Все это такие вопросы, на которые несомненно ответит будущее.
ГЛАВА III
Ежели существует способ проверить степень развития общества или, по крайней мере, его способность к развитию, то, конечно, этот способ заключается в уяснении тех идеалов, которыми общество руководится в данный исторический момент. Чему симпатизирует общество? чего оно желает? к чему стремится его мысль? — вот вопросы, которых разрешение с первого же раза становится обязательным для историка и исследователя общественной жизни, так как только на нем, на этом разрешении, могут быть основаны все дальнейшие приговоры и оценки. И благо тем обществам, которые хоть какой-нибудь ответ дают на эти вопросы; недобро тем, которые никакого ответа на них дать не могут.
Прежде всего, именно нужен ответ. Предположите общество, следующее в своем развитии самому ложному пути, общество, признающее своим идеалом обеспечение прав меньшинства ценою бесправности масс, — вы, конечно, будете вправе сказать, что этот идеал неудовлетворителен н даже опасен, но в то же время вы все-таки должны будете сознаться, что перед вами стоит не безразличная масса, а юридическое лицо, которое способно защищать свои убеждения и понимать силу и последствия своих поступков. Тут есть возможность для порицания, для опровержений и споров, а следовательно, и для оценки. Но предположите такое общество, которое не свидетельствует ни о правильном, ни о ложном развитии, которое просто-напросто представляет массу бродячих элементов, не знающую никаких идеалов и в то же время настолько компактную, что в смысле орудия она может оказывать действие очень решительное, — и вы наверное скажете, что это общество или совсем безнадежное, или такое, которое не вышло еще из доисторической эпохи своего существования.
Чтоб убедиться в правильности этого приговора, стоит только оглядеться кругом себя и попристальнее вникнуть в ежедневную практику личных отношений. Какие люди представляются на практике самыми бесполезными? — это люди, которые не имеют ясного отправного пункта для оценки требований жизни и определения своих отношений к ней. С какими людьми сношения принимают не только бессодержательный, но даже просто невыносимый характер? — опять-таки с теми же, живущими бессознательною жизнью, людьми. Наконец, каких людей всего более есть основание опасаться? — и тут прежде всего бросаются в глаза те вялые и бесцветные субъекты, движения которых ничем не обусловливаются, кроме вспышек темперамента. Человеку, который бродит, не видя перед собой цели и не зная, куда он прибредет, невозможно доверить никакого общественного интереса. С человеком, который не в силах ничего сказать, нельзя иметь не только действительного обмена мыслей, но даже и такого, к которому было в обычае приглашать поголовно всех гулящих русских людей в памятную для нас эпоху всероссийского либерализма. На человека, который представляет собою пустое место, не только нельзя возлагать упований, но даже остеречься от него трудно, потому что никто не может определить, что заползет в эту пустоту и что из нее выйдет, приветственный ли звук, или змеиное шипение, или просто дурацкое мычание. Тут все загадка, и притом такая, на разрешение которой сколько бы ни потратилось ума, все-таки никакой разгадки не получится. Самые антипатичные друг другу убеждения могут иметь общую почву — почву разума, заблуждающегося или идущего верно; но при встрече убеждения с отсутствием такового возможность общей почвы исчезает совершенно, и человеку убежденному, очутившемуся среди людей, не тронутых сознанием, остается только умолкнуть, предаться физиологическим отправлениям и выжидать, что будет дальше…
Таким образом, вопрос об общественных симпатиях и идеалах выдвигается сам собою и становится единственным исходным пунктом для правильного формулирования всех последующих суждений и оценок.
К сожалению, не далее как по поводу французско-прусской войны мы видели очень резкий и замечательный пример практического бессилия общественных симпатий. Что общественное мнение наше довольно живо интересовалось этим громадным историческим фактом — это может засвидетельствовать каждый, переживший семь месяцев, в продолжение которых длилась война. Можно, пожалуй, засвидетельствовать даже, что общий тон симпатий был правильный и что бесчисленные иксы и зеты, встречаясь друг с другом на улице, рассуждали о текущих событиях очень умно и «отрадно». Но какую же силу может иметь подобное свидетельство? оставляет ли оно по себе следы настолько прочные, чтобы история могла сослаться на него и вывести из него вполне достоверные заключения? Ответ на эти вопросы, кажется, не подлежит сомнению: нет, никакой силы подобное свидетельство не имеет, ибо в основании его лежит не практический факт, а только личные наблюдения и оценки. Для очевидцев-современников еще может быть несомненным, что русское общество в данную минуту жило под влиянием известных интересов, что оно горячо принимало их к сердцу и волновалось ими; но ведь историк убеждается в жизненности того или другого явления лишь тогда, когда в основании его найдет практический факт. Для современников еще есть возможность привести в некоторый порядок массу встречных мнений и толков, имеющих ход на улице, и даже определить довольно верно, в какую сторону клонились общественные симпатии; но для истории и тут не может быть ясного просвета, потому что она имеет дело лишь с голословным преданием, которого не в состоянии очистить от случайных примесей. Положим, что, кроме предания, имеется еще свидетельство органов русской мысли и слова, но, говоря по совести, это последнее свидетельство скорее говорит в пользу бессилия, нежели силы наших общественных симпатий. Ведь дело не в том, как мыслили об известном предмете X. или Z. или что говорилось об этом в таком-то литературном органе, а в том, как влияли эти мнения на общий установ жизни. Как влияли? — никак. Кого они поддержали и ободрили? — никого. Что же может сказать история в виду подобной безрезультатности общественных симпатий? — Очевидно, она может сказать одно: есть повод думать, что в данную минуту в таком-то вопросе симпатии русского общества склонялись в пользу такой-то стороны; но были ли эти симпатии сознательны или же они представляли лишь плод легкомыслия — этого определить невозможно, потому что никаких практических последствий господствовавшего в то время сочувственного движения — по документам не оказалось.
Между тем едва ли кто будет отрицать, что для нас вопрос о торжестве той или другой стороны в упомянутой выше распре есть вопрос существенной важности. И притом не только с точки зрения общечеловеческих интересов, которые тут замешаны и которых понимание, быть может, не для всех доступно (а для общества, мимоходом сказать, они-то всего и важнее), но и с точки зрения политическо-государственной, которая мало кому недоступна. И общество наше чувствовало это и понимало, что между будущими политическими судьбами России и тем или другим разрешением франко-германского вопроса имеется связь очень существенная. Очевидцы-современники могут засвидетельствовать, что в течение семи месяцев наш воздух был буквально насыщен проектами всевозможных союзов, наступательных и оборонительных войн, трактатов и т. д. Но для истории это движение, несмотря на свою несомненность, все-таки должно остаться загадкой, по той простой причине, что совершенно невозможно объяснить себе, почему движение, по-видимому, сильное, так и осталось движением и, несмотря на жизненность своей подкладки, не оказало никакого практического давления. И волею-неволею она должна будет заключить, что русское общество переживало времена доисторические, к которым никакие оценки неприменимы.
Впрочем, о французско-германской распре можно еще сказать (хотя и совершенно несправедливо), что это вопрос для нас посторонний; но сколько же есть так называемых внутренних вопросов, которых близости никто не может отвергнуть и в которых тяготение общественного мнения чувствуется столь же слабо, как и в вопросе французско-германском. Возьмем для примера хоть вопрос о классическом и реальном образовании. По-видимому, здесь вторжение общественного мнения выразилось несколько назойливее, нежели в других случаях (превосходство реального образования доказывалось даже самоубийствами); но чего же в конце концов добилось общество, кроме горького сознания своей назойливости и совершенной ее бесплодности?
Предположим, однако ж, что все эти симпатии и антипатии представляют в жизни общества нечто эпизодическое, что оно независимо от них может разрабатывать известные исторические задачи, имеющие значение абсолютное, а не преходящее. Как ни мало вразумительно это разграничение абсолютного и условного в применении к общественному организму, но допустим даже бессмыслицу, согласимся на минуту, что общество может достигать известных целей в будущем, даже и в том случае, когда оно на каждом шагу противоречит этим целям в настоящем и делает все возможное, чтоб подорвать их, — все-таки прежде всего приходится разрешить вопрос: в чем же заключаются эти цели будущего? чего желает общество? К чему стремится его интимная мысль?
Но здесь мы больше, чем где-либо, вступаем в область догадок и недоумений. Навстречу нам восстает целая масса так называемых задач будущего; но эта масса, к сожалению, сплошь состоит из одних общих мест, и даже не из общих мест, а просто из отрывочных звуков. Одни видят разгадку будущих русских судеб в слове «цельность», другие — в слове «смирение», третьи — в слове «любовь»; четвертые, наконец, даже не дают себе труда порыться в лексиконе, а просто-напросто сулят слово новое, неслыханное. Какие возможны практические применения для всех этих загадочных определений? И ежели даже отложить в сторону вопрос о применениях насущных, если представить себе, что общество обязано терпеливо выносить временные невзгоды и неудобства в виду грядущих идеалов, то какой же идеал может осуществить собой, например, «смирение»? способно ли политически существовать общество или государство, поставившее себе целью подобный идеал?
«Смирение» приводится здесь потому, что оно все-таки иредставляет идеал более практический, нежели, например, «цельность», «любовь», «новое слово» и т. п. «Смирение» не без примеров в прошлом, а при известной сумме усилий к нему можно, пожалуй, прийти и в будущем. Самое совершенное, практическое применение этого идеала было уже осуществлено историей в крепостном праве; но ежели вглядеться в это явление попристальнее, то окажется, что даже в его основе лежало не столько смирение, сколько принуждение. Смирение было лишь исходным пунктом, из которого впоследствии распустилось пышным цветком крепостное право; но поддерживалось и питалось оно исключительно принуждением. Если б это было иначе, не предстояло бы надобности возбуждать вопрос об упразднении крепостного права, ибо смирение есть вещь, которая никогда никому не возбранялась, да и возбранять ее выгоды нет. Но дело в том, что смирение ни во что другое не может развиться, как только в крепостное право; а следовательно, ежели вновь возвести его на степень общественного идеала, то придется опять быть свидетелем нарождения крепостного права, а затем и опять хлопотать об его упразднении. Сколько переполохов, хлопот, экзекуций! Во имя чего? — не во имя того, чтобы впоследствии иметь право сказать: этих людей секли, дабы они умели пользоваться дарами свободы и насладились плодами материального и нравственного обеспечения, а для того, чтобы сказать: этих людей секли, дабы они были смиренными. Что ж дальше? Какие практические последствия этого идеала, кроме всеобщего обезличения и обнищания? Стоит ли хлопотать из-за этого?
Но не в том еще дело, что идеалы, на которые указывает общественное мнение и литература, негодны, а в том, что ежели, например, говорят, что задача русского общества заключается в осуществлении «цельности» жизни, то вопрос: в чем же состоит задача русского общества? — все-таки остается открытым. Подобного признака история не только не может принять в соображение при определении стремлений и желаний общества в данную минуту, но не имеет права даже останавливаться на нем. В глазах ее это не признак, а празднословие — и ничего больше. Поэтому все, что она может сделать в виду подобных ответов, — это сказать: в такую-то эпоху русское общество, быть может, и обладало какими-либо политическими и социальными идеалами, но, за невозможностью формулировать их, ограничивалось лишь некоторыми загадочными выражениями, думая, конечно, заменить ими те конкретные представления, которые одни могут служить целью для общественных стремлений. Или, выражаясь точнее, общество обманывало само себя, окружая призраками свое настоящее и запутывая ими свое будущее.
Итак, несмотря на изобилие ответов, настоящего, дельного ответа все-таки нет. Следует ли из этого заключать, что русское общество живет вовсе без желаний, без идеалов? — Само собой разумеется, что нет, ибо допустить подобное предположение значило бы допустить исключение русского общества из общечеловеческой семьи, а это было бы слишком уж опрометчиво. Мы помним даже один момент (и очень недавний), когда можно было уловить очертания наших общественных желаний и стремлений, но, к сожалению, момент этот был так короток, что не успели мы оглянуться, как очертания стерлись, а на место их снова выступили: смирение, любовь, цельность да загадочное «новое слово». То есть опять наступили времена доисторические.
Тем не менее не следует забывать, что такой момент, когда общественные желания из области бесформенности готовы были вступить на почву практическую, существовал несомненно. И на первых порах эти желания выразились очень конкретно и ясно: в упразднении крепостного права и в учреждении правильного суда. Общие места и забористого свойства слова были на время покинуты. Не было речи ни о смирении, ни о цельности, ни о любви, потому что для пустословия нет места там, где предстоит прямое практическое дело.
Какое же, однако, можно вывести отсюда заключение относительно идеалов русской жизни?
Покуда заключение может быть только следующее: что русские общественные идеалы не противоречат идеалам общечеловеческим и что они, точно так же, как и последние, лежат на реальной почве. Но в чем именно заключается полнота этих идеалов и выяснится ли она когда-нибудь настолько, насколько, например, выяснились идеалы французского общества, — это и поднесь остается загадкою.
Есть мнение довольно распространенное, которое указывает на последние успехи нашей жизни как на факт, свидетельствующий о достижении нами общественного идеала: Но, признавая всю несомненность упомянутых успехов, всю благотворность их влияния на жизнь, едва ли можно остановиться на мысли о такой их непреложности, которая позволила бы счесть прогресс завершенным. Сомнения, которые при этом возникают, совсем не плод капризной и прихотливой мысли, но прямо вытекают из практики. Жизнь хороша и привольна — слова нет; но все же нельзя не сознаться, что и в этой привольной жизни кое-чего недостает. Недостает, например, возможности знать, чего мы желаем, к чему стремимся, чему симпатизируем. Допустим даже, что это требование прихотливое, но не забудем и того, что множество требований, которые считались прихотливыми относительно обществ доисторических, делались совершенно законными и естественными, как скоро те же самые общества вступали в исторический период своего существования.
Самый существенный интерес для общества заключается в познании самого себя, своих сил, симпатий и целей, а пожалуй, даже и в уяснении искомого нового слова. Это первый признак, и притом единственное прочное доказательство его действительного вступления на стезю исторической жизни. Обладаем ли этим самопознанием? и ежели обладаем, то почему же оно высказывается до того неслышно, что высказ этот не оставляет по себе никаких следов? — Покуда этот вопрос тяготеет над нами, мы едва ли будем правы, свидетельствуя во всеуслышание о нашем обновлении.
К сожалению, общество наше выдержало в прошедшем такую тяжелую школу, что даже первые, частные признаки обновления, уже пресытили и утомили его. Блеснувшие на горизонте лучезарные точки ослепили; шорох, произведенный зачатками движения, оглушил. Простые просеки оно приняло за окончательную цель задачи своего существования и, прорубив их, успокоилось. Признаки этого успокоения или, лучше сказать, утомления мы увидим везде, если будем смотреть непредубежденными глазами. Да это и не удивительно, потому что приступ к делу никогда не может быть равносилен его разрешению, а деятельность, вращающаяся исключительно около этого приступа и не идущая далее, никогда не удовлетворит настоятельнейшей и законнейшей потребности человека: потребности развития. Следовательно, прежде всего необходимо, чтобы общество наше, несмотря на сделанные уже им попытки в смысле обновления, все-таки серьезно спросило себя: чего оно хочет, чему симпатизирует и к чему стремится…
И вот, когда оно предложит себе этот вопрос не для шутки, когда оно серьезно сочтет себя обязанным ответить на него, тогда можно будет оценить, каков будет этот ответ и есть ли возможность видеть в нем признак действительного обновления…
ГЛАВА IV
Стало быть, ежели нет возможности формулировать, чего мы желаем, что любим, к чему стремимся, и ежели притом (как это доказала ревизия Пермской губернии), несмотря на благодеяния реформ, человек, выходя из дому с твердым намерением буквально исполнять все требования закона, все-таки не может заранее определить, в каком виде воротится он домой: высеченным или помилованным, то понятное дело, что горячиться и поднимать вопли энтузиазма не из чего.
Мы и не горячимся, но поступаем так, как бы и век нам предстояло не знать, будем ли мы высечены или помилованы.
Столь резонное отношение к суете сего мира до крайности упрощает наше положение. Оно вычеркивает из нашего лексикона множество совсем ненужных слов («ответственность», «обязанность» и т. п.); оно упраздняет всякие сомнения насчет будущего, следовательно, отгоняет от нас и заботу, эту мучительницу человека, не перестающую преследовать его с той самой минуты, как только он начинает сознавать свое положение. Мы никаких положений не сознаем, а потому ни о чем не заботимся, ничего не боимся, ни к чему не обязываемся и ни за что не отвечаем. Мы просто-напросто «благополучно почиваем».
Призовите на помощь самую крайнюю утопию и вы не найдете ничего, что могло бы сравниться с утопией, ежедневно развертывающейся перед вашими глазами. Жизнь, текущая по маслу, жизнь, сложившаяся так прочно, что стихии, ее составляющие, действуют с математическою точностью, не перебивая и не перевешивая друг друга, жизнь, которой русло навсегда обеспечено от изменений, жизнь без забот, с одним пением и танцами — разве это не утопия из утопий! Нас стращают именами Кабе и Фурье, нам представляют какое-то пугало в виде фаланстера, а мы спокон веку живем в фаланстере и даже не чувствуем этого! Не чувствуем, потому что к фаланстеру Фурье надо пройти через множество разнообразных общественных комбинаций, составляющих принадлежность периода цивилизации, а наш фаланстер сам подкрался к нам, помимо всяких комбинаций, и, следовательно, достался, так сказать, даром, без всякой цивилизации…
То нравственное равновесие, которое, по предположению Фурье, достигается при посредстве гармонической игры страстей, давным-давно нами достигнуто и воплощено путем гораздо кратчайшим: путем крепостного права. Не надо забывать, что хотя крепостное право не только не поощряло игру страстей, но даже безусловно преследовало всякие азартные игры, но это ограничение отнюдь не исключало возможности гармонии. Страсти не играли, но взамен того регулировались, и так как регуляризация эта, для большей верности, была сосредоточена в одном лице (помещике), то весьма естественно, что для прочих членов крепостного фаланстера оставалось одно: равновесие души. Идя другим путем, вступая в храм гармонии с заднего крыльца, мы тем не менее имели полное право кичиться, что главная цель нами достигнута. Это была действительная гармония тишины, порядка и беспечности. Об угрозах будущего не могло быть и речи, потому что когда люди уже стоят на точке нравственного равновесия, тогда им море по колена, а, следовательно, необеспеченность вполне равняется обеспеченности. Если человек совершенно уверен в необеспеченности своего завтрашнего дня, то это все равно как бы он был совершенно уверен в его обеспеченности. Уверенность — вот главное; с исчезновением ее начинается смута. Несчастие человека, стоящего между двумя фаланстерами, крепостным и гармоническим, в том собственно и заключается, что в нем уже поколебалась уверенность, что он уже может нечто подозревать и о чем-то беспокоиться. Он еще не достиг действительного нравственного равновесия, но в то же время уже вышел из состояния тела, перебрасываемого изо дня в день по прихоти ветров. Ясно, что он должен быть несчастлив и что несчастие его начинается именно с той минуты, когда ему приходится жить за свой собственный счет.
Поколебалась ли эта уверенность в современном русском обществе? На этот вопрос одни отвечают утвердительно, другие — отрицательно. Но разногласие по вопросу столь существенному уже само по себе дурной признак. Стало быть, дело это не для всех одинаково ясно, стало быть, есть в нем нечто сомнительное, коль скоро возможна не только постановка вопросов по его поводу, но и разнообразное их разрешение. Допустим даже за верное, что некоторая свобода прозревать в будущем и народилась, но если признаки этого нарождения не настолько ясны, чтоб устранить всякий повод игнорировать их, то очевидно, что решительный шаг в этом смысле — еще впереди.
Утвердительный ответ в пользу выхода из периода обеспеченной необеспеченности почти всегда исходит из лагеря наших патентованных прогрессистов. Это люди, преимущественно склонные идти вперед «в надежде славы и добра». Ретрограды и консерваторы в этих случаях обыкновенно помалчивают или коварно улыбаются.
Прогрессисты — люди восторженные и чувствительные. Уста их легко наполняются болтовнёю, сердца — вздохами, глаза — слезами. По самомалейшему поводу они готовы воскликнуть: «ныне отпущаеши…», но с тем, однако ж, чтоб их не отпустили. И так как их действительно не отпускают (это в своем роде люди полезные, ибо ими гнилые заборы подпирать можно), то восторженность их сердец идет все crescendo и crescendo и под конец даже не всегда остается в пределах опрятности. Начинаются бесконечные разговоры о каком-то знамени, которое следует держать твердо и бодро, и не менее бесконечные инсинуации насчет неблагонадежных элементов, наплыв которых якобы не следует допускать…
Представьте себе дворового человека, воспитанного в суровой школе холопства, которому вдруг подарили сюртук с барского плеча, — и вы получаете ключ к разгадке той хронической пламенности, которою обуреваются наши патентованные прогрессисты. До «сюртука» дворовый человек жил своею обычною, спокойною жизнью: он чистил ножи, подавал тарелки, топил печи — и во всем этом видел не что иное, как заурядное исполнение той обязанности, которую, volens-nolens,[8] он выполнить должен. И вдруг в его жизнь врывается «сюртук» и в одно мгновение ока производит волшебное превращение не только в наружном виде, но и во всем внутреннем существе дворового человека. Он не ожидал… он не был приготовлен… он даже сомневается, точно ли он достоин… А кровь так и приливает к голове, а сердце так и саднит от наплыва какого-то неведомого чувства. И вот, весь просветленный и недоумевающий, он начинает слагать гимн. Первые строфы гимна робки, а потому не вполне противоречат здравому смыслу; но чем дальше идет работа славословия, тем больше и больше опьяняется творец его, опьяняется не вином, а собственным своим просветлением. Он говорит, что душа бессмертна и что тарелку надлежит подавать с благоговением. Он не говорит, а кричит. Он называет себя червем ползущим; он свидетельствует о своем недостоинстве и произносит клятвы, которые могут опалить не совсем осторожного прохожего. От окончательного кощунства спасает его только чищение ножей, которое, к счастию, не прекращает своего действия. Оно одно приводит его в себя и предохраняет его сердце от разрыва.
Примените сейчас написанную картину к современным русским прогрессистам — и вы поймете, что эти последние тоже получили «сюртук»; а так как он был ими незаслужен, то тотчас же захмелели. Ничтожество их основных притязаний к жизни было таково, что свалившийся с неба подарок разом исчерпал все содержание их существования. В строгом смысле нельзя даже сказать, чтоб они когда-нибудь имели какие бы то ни было притязания. Они наравне с прочими подавали тарелки и только по недоразумению считали себя прикомандированными к каким-то вопросам, преимущественно же к вопросу о крепостном праве. Но в этом случае слово претило им гораздо больше, нежели самая вещь, нежели та совокупность разнообразнейших отношений, которая за этим словом скрывалась.
Они ухитрились замежевать понятие о крепостном праве в самые тесные границы и сообщить ему чисто специальное значение, не имеющее никакой органической связи с общим строем жизни. Понятно, что при такой упрощенности запросов отвечать на них, и даже с некоторой наддачею, не стоило большого труда. И действительно, ответ последовал скоро, но на первых же порах наполнил сердца прогрессистов не торжеством, а какою-то странною смутою. Им и радостно было, что предмет их многолетнего будированья наконец осуществился, и в то же время жалко было самого процесса будированья, для которого не было уже пищи. А между тем это будированье давало им хорошее положение в обществе, окружало их обаянием и в особенности располагало к ним женские сердца. Никогда оно не заключало в себе ничего резкого, никогда не выходило из пределов тихого курлыканья благовоспитанных каплунов — и вдруг всякий повод для курлыканья исчез…
Вот тогда-то явились на выручку энтузиазм и сокрушение о своем недостоинстве. Старики воспламенились, вскипели и, не говоря дурного слова, стали обзывать себя червями ползущими, а прохожих упрекать в неблагодарности. Они поняли, что питающийся восклицательными знаками энтузиазм столь же дешев, как и питавшееся восклицательными же знаками фрондерство, — и без оглядки пустились по новому пути. И благо им, потому что операция эта восстановила упавший кредит их и крепче прежнего утвердила их положение в обществе. Теперь они на всех перекрестках кричат: «мы и мечтать не смели!» — и когда посторонние люди просят их успокоиться и прийти в себя, они на все увещания дают один и тот же ответ: «мы и мечтать не смели!»
Источник энтузиазма был искусственный, развитие его — неожиданно; но восторженность имеет то свойство, что питает сама себя, и потому нередко достигает пределов разнузданности. При таких условиях в воображении прогрессистов происходит нечто подобное тому, что происходит в природе в лунную ночь, когда тени от предметов разрастаются до невероятных размеров, канавы кажутся акведуками, будки — дворцами, груды камней — монументами. «Мы и мечтать не смели!» — этого одного достаточно, чтобы поставить вопрос о человеческой автономии вне споров. Да, современный человек уже вступил в период совершеннолетия и самостоятельной деятельности; он получил то, «о чем мы даже мечтать не смели», а потому на него же должна пасть и ответственность за будущие его судьбы…
Так повествуют прогрессисты, и любопытно видеть и слышать, как они бьют себя в грудь, доказывают, перечисляют.
С каким наивным нахальством дают они понять, что если бы не они, то общество осталось бы ни при чем; с каким простодушным лукавством намекают, что и в будущем кой-чего от них ожидать можно. Только не вдруг — это главное; потому что если будем слишком натягивать струны, то они могут лопнуть.
Эти оговорки необходимы. «Не вдруг!» — это целая философская система; это гора будущего, которая может разродиться мышью, но в которой могут скрываться и алмазные копи. Ждите сколько угодно — «не вдруг» всегда и на все вопросы будет ответом своевременным и вполне целесообразным. Кто знает, может быть, оно, это неизвестное, должно через минуту разрешиться, а тут какой-нибудь нетерпеливец, презревший теорию «не вдруг», испортит все дело! Стало быть, лучше всего ждать и верить, верить и ждать…
Но надо же знать, чего ждать. Если период обеспеченной необеспеченности подлинно упразднился, то надо указать на несомненные признаки этого упразднения. Все это необходимо не в видах удовлетворения пустой прихоти людей, а в видах утверждения в них верований и надежд. И что же? Тут-то именно и высказывается ахиллесова пята наших прогрессистов, или лучше сказать, тут-то каждый из них всецело, всем существом своим, оказывается сплошною ахиллесовою пятою. «Мы и мечтать не смели!» — говорят они, но разве это ответ? Вы не смели мечтать, ну и продолжайте не сметь, но отчего же не мечтать другим?
Приверженность к восклицательным знакам и стремление заменить ими определенность и трезвость речи составляют типическую черту наших прогрессистов-энтузиастов. Несмотря на клятвенные уверения, что все совершающееся и могущее совершиться как нельзя более ясно, — людям, не развращенным напускною восторженностью, не без основания кажется, что это ясность мнимая, могущая существовать только в таких головах, в которых никогда ни о чем действительно ясного представления не было. И еще сдается, что все эти quasi-восторженные субъекты суть не что иное, как порожние сосуды, которые в свое время наполнялись будированием, теперь наполняются энтузиазмом, а завтра будут наполняться… чем бог послал.
Как бы то ни было, но разнузданность энтузиазма отнимает у нашей прогрессистской пропаганды всякую убедительность. Уверенность, что русское общество безвозвратно вышло из состояния необеспеченности, в котором оно находилось во время существования крепостного равновесия души, встречает совсем не так много прозелитов, как это было бы желательно. Жалеть ли об этом? — конечно, жалеть.
Жалеть об этом следует тем более, что рядом с мнением патентованных прогрессистов существуют мнения совершенно им противоположные. Они утверждают, что крепостной фа-ланстеризм продолжает проникать собой все явления общественной жизни; что он только лишился прежнего плотного центра, но в разлитом виде едва ли не представляет еще больше угроз. Жалеть ли о том, что подобные мнения существуют? — опять-таки само собой разумеется, что жалеть следует…
Но не надо забывать при этом, что существенная причина разногласия все-таки заключается в том тумане, который окружает вопрос, сам по себе очень простой и ясный. Вопрос этот формулируется так: может ли современный человек, независимо от угрозы, представляемой перспективою естественной смерти, провидеть сегодня, что случится с ним завтра? Разрешите этот вопрос не голословными утверждениями или отрицаниями, а на основании фактов, которых конкретность не подлежит сомнению, — и будьте уверены, что все разногласия упадут сами собой.
На днях мне случилось провести вечер в очень интересном обществе. Тут было целых четыре столоначальника: один из них служит в департаменте недоумений и оговорок; другой — в департаменте дивидендов и раздач; третий — в департаменте отказов и удовлетворений; четвертый — в департаменте изыскания источников и наполнения бездн. Народ все бодрый и прогрессист. Присутствовал еще делопроизводитель из департамента любознательных производств; но тот более молчал и, под видом раскладывания гранпасьянса, с большим тактом прислушивался.
Каждый из столоначальников удостоверял, что деятельность в его департаменте кипит. Один рассказывал, что комиссия «по части приведения в надлежащий вид оговорок» должна на днях выдать шестьдесят первый том своих трудов. Другой сообщал, что комиссия «о наилучшем и наипоспешнейшем пополнении бездн», окончив сто первый том своих трудов, заключила: приступить к новому рассмотрению собранных материалов и для сего образовать новую комиссию, старую же упразднить, сохранив членам ее присвоенные им оклады содержания. Третий повествовал, что хотя их департамент несколько отстал от прочих, но, со вступлением нового директора, комиссия «о преподании большей вразумительности и быстроты отказам», в течение какого-нибудь месяца, уже успела выработать обширный труд, под названием: «Взгляд на причины», который и будет на сих днях отпечатан в трех томах, с пятнадцатью к оным приложениями. Четвертый, наконец, обрадовал известием, что для оживления работ в комиссии «для разработки прочной системы раздач» приглашен, в качестве эксперта от наук, один известный своею находчивостью экономист.
Все было, следовательно, в порядке; молодые люди пламенели и порывались; я, с своей стороны, смотрел на них и радовался.
Вообще, с некоторого времени я как-то чаще начинаю радоваться. Состоя членом нескольких благотворительных обществ, я убедился, что человек сам творец собственных несчастий. А так как дела мои идут прекрасно, то мало-помалу в мою душу проникла та ясность, то равновесие, до которых возвысился (в комедии Островского «Доходное место») старик Юсов в ту минуту, когда он произносит знаменитый монолог, начинающийся словами: «я могу плясать!» Что мне за дело до того, что есть люди, которые не могут плясать? Я могу плясать — и этим вопрос о плясаниях для меня совершенно исчерпывается. Ноша за мной не тянет, а потому я вижу цветок — на цветок радуюсь, птицу вижу — на птицу радуюсь. Везде премудрость вижу. И не одобряю людей, которые не видят премудрости, а следовательно, и не пляшут. Стало быть, ноша какая-нибудь у них сзади тянет, размышляю я и уже издали, завидя такого субъекта, кричу ему:
— Не одобряю, государь мой, не одобряю!
Итак, я сидел и радовался, ибо, очевидно, ни за одним из этих бодрых молодых людей никакой ноши не было. Когда все новости были высказаны, мы не без труда сообразили, что если все комиссии приведут свои труды к благополучному окончанию, то из этого может произойти 666 томов полезнейших материалов, которыми, конечно, не преминут воспользоваться другие комиссии. Эти другие комиссии подвергнут собранные материалы освежению и дополнению и в свою очередь издадут 666 томов трудов, которыми в свое время не преминут воспользоваться третьи комиссии. Третьи же комиссии…
Но здесь представление о бесконечной преемственности комиссии и непрерывности освежений и дополнений навело нас на идею о вечности. Идея же о вечности зажгла души восторгом. Мы вскочили с мест и без всякого законного основания начали целоваться.
— А долгонько-таки придется вам канитель-то тянуть! — вдруг вступился делопроизводитель департамента любознательных производств.
Мы не вдруг поняли. Сначала даже, весело потирая руки, механически повторяли: «долгонько! долгонько!» Но потом, однако ж, сообразили, что в замечании мрачного делопроизводителя скорее скрывается ирония, нежели поощрение нашим восторгам.
— А по-вашему как? — бросились мы к нему.
— А по-моему вот как!
Он махнул ладонью руки сверху вниз, как будто рассекал гордиев узел.
Тогда сам собою возник вопрос: можно ли вдруг перевернуть мир вверх дном? Тема была бесконечная, как сама бесконечность, следовательно, обмен мыслей полился рекою.
Столоначальники утверждали, что вдруг нельзя, и доказывали это примером комиссий, которые перевертывают мир исподволь и лишь по зрелом и внимательном обсуждении. Делопроизводитель, напротив того, утверждал, что можно, о комиссиях же отозвался непочтительно, вроде того, что они, дескать, ничего не делают, а только в проходном ряду пылью торгуют.
— Согласитесь однако, что ежели предварительно мы не приведем в ясность всех оговорок, то движение вперед будет по малой мере затруднено, а быть может, и совсем невозможно! — ораторствовал столоначальник департамента недоумений и оговорок.
— А я, с своей стороны, спрашиваю: если не будут преподаны совершенно ясные и твердые правила насчет наполнения бездн, то каким же образом вы приведете оные в равновесие с источниками? — вопрошал в свою очередь столоначальник департамента изыскания источников и наполнения бездн.
— Никаким, да и не надо! — как-то грубо отрубил делопроизводитель.
— Но баланс, милостивый государь! во всяком деле требуется баланс! С одной стороны…
— Ну, да: с одной стороны принимая во внимание, а с другой стороны имея в виду… знаем мы, как эти слюни-то распускают. Вам это-то и любо!
Делопроизводитель уперся и утверждал, что в средствах перевернуть мир вверх дном никогда недостатка не имелось и не имеется: была бы только охота. Взял, пришел и перевернул — без всяких комиссий.
— Без малейших-с! — прогремел он, ворочая зрачками.
Я сидел и радовался. С одной стороны, мне нравился этот смелый узлорешитель, который, согласно с бывшими примерами, намеревался единолично, без участия комиссий, обновить мир; с другой стороны, нравились также и эти степенные молодые люди, бодро вступившие на стезю обновления, но, в виду могущих быть увлечений, обставившие его целою сетью комиссий. А что всего больше нравилось — так это мысль, что пройдет каких-нибудь полчаса и эти два элемента, по-видимому, столь противоположные, сольются и будут, как ни в чем не бывало, вместе закусывать и пить водку!
«Побольше подобных обменов мыслей, — думал я, — и дело нашего возрождения будет упрочено навсегда!» Но в то же время я чувствовал, что и мне необходимо сказать свое слово, и именно слово примирительное, такое, с помощью которого человеку было бы ловко пройти посередочке. Поэтому, когда дело дошло до таких выражений, как «выеденное яйцо», «шваль», «отребье» и т. п., я счел долгом вступиться.
— Позвольте, господа! — сказал я, — по моему мнению, разногласие между вами совсем несущественно. Скажите, что, собственно, вы утверждаете? — обратился я к столоначальникам.
— Мы утверждаем, что нельзя вдруг перевернуть мир вверх дном! — очень решительно отвечали они.
— Гм… вдруг!… стало быть, самый принцип перевертыванья вы допускаете… хорошо-с. Вы-с? — обратился я к делопроизводителю.
— А я говорю, что можно и должно! — отвечал он с азартом.
— Гм… стало быть, во всяком случае, и вы и вы — в принципе допускаете, что перевернуть мир вверх дном надлежит?
— Конечно… но… — заикались столоначальники.
— Стало быть, вас разделяет слово «вдруг»?
— Ну да… конечно… но…
— Что тут еще толковать! — огрызнулся делопроизводитель.
— Позвольте-с. Но для того, чтобы мир когда-нибудь был перевернут, — обратился я специально к столоначальникам, — нужно же понемногу его перевертывать…
Столоначальники разинули рты, но делопроизводитель не дал им говорить.
— Не понемногу, а разом! сейчас! сию минуту! — выходил он из себя.
— Позвольте-с. Предположим, что предприятие ваше увенчалось успехом, — обратился я на сей раз уже к делопроизводителю, — что вы взяли, пришли и перевернули мир вверх дном… Дальше-с?
Я нарочно остановился, чтобы видеть, какой эффект производит мой диалектический прием.
— Не мямлите, ради Христа! — раздражительно прервал меня мой оппонент.
— Как думаете вы: не получится ли у вас в результате, что, вследствие слишком быстрого повертыванья, мир вновь очутится на старом месте?
Я торжествовал. Каламбур мой удался как нельзя больше; столоначальники неистово хлопали в ладоши, делопроизводитель смутился. Тем не менее, для очищения совести, он все-таки упорствовал и совершенно уже голословно повторял:
— Нет! мы никогда с вами не сойдемся!
— Итак, — продолжал я, — соглашение между вами, господа, не только возможно, но и легко. Признаем в принципе пользу перевертыванья и затем вооружимся лишь против тех злоупотреблений, которые могут заключаться в перевертыванье с слишком зрелым онаго обсуждением, то есть против медленности, обнаруживаемой в этом деле нашими комиссиями. Для этого, мне кажется, совершенно достаточно поставить за правило, чтобы комиссии эти ограничивали количество своих трудов десятью томами… не больше-с! и затем уже приступали к перевертыванью без всякого сомнения!
— Гм… тогда и волки будут сыты, и овцы целы! — задумчиво сказал столоначальник департамента дивидендов и раздач.
— Это моя мысль!
Столоначальники согласились со мною без труда и тут же приступили к начертанию проекта особой комиссии «для преподания правил комиссиям, на разные случаи учреждаемым»; но делопроизводитель, к удивлению моему, все-таки упорствовал и продолжал голословно повторять:
— Нет! мы никогда с вами не сойдемся!
Кто эти «мы»? от чьего имени говорит этот пользующийся доверием своего начальства чиновник?
Признаюсь, вопрос этот немало меня интересовал… И что ж оказалось?
Оказалось, что мрачный делопроизводитель служит в департаменте любознательных производств лишь по недоразумению. Что, будучи рассматриваем отдельно от вицмундира, он радикал. И, наконец, что в свободное от исполнения возлагаемых на него поручений время он пишет обширное сочинение, под названием: «Похвала Робеспьеру»…
Признаюсь!
Поклонников доктора Панглоса, утверждающих, что все идет к лучшему в лучшем из миров, развелось нынче очень много. Не только у столоначальников, но даже у будочников в умах один вопрос: «рожна, что ли, вам нужно?» И откуда они узнали, что кому-то чего-то нужно!
Тем не менее мы оставим будочников в стороне, ибо провозглашение истин, вроде сейчас приведенной истины о «рожне», принадлежит к числу их обязанностей. Но каким образом наша литература ухитрилась сделать из себя сокровищницу той же панглосовской мудрости, которая занимает и умы городовых, — это уже вопрос гораздо более трудный для разрешения.
Здоровая традиция всякой литературы, претендующей на воспитательное значение, заключается в подготовлении почвы будущего. Исследуя нравственную природу человека, литература не может не касаться и тех общественных комбинаций, среди которых человек проявляет свою творческую силу. Хотя, с исторической точки зрения, эти комбинации представляют не что иное, как создание самого человека, но то же историческое тяготение сделало их настолько плотными и самостоятельными, что и они, в свою очередь, могут или вредить, или споспешествовать человеческому развитию. Если б источник творчества иссяк, то человеку оставалось бы сложить руки и с покорностью ожидать ударов судьбы; но изменяемость общественных форм, для всех видимая и несомненная, доказывает совершенно противное и предрекает человеческому творчеству обширное будущее. Ежели современный человек зол, кровожаден, завистлив и алчен, если высшие интересы человеческой природы он подчиняет интересам второстепенным, то это еще не устраняет возможности такой общественной комбинации, при которой эти свойства встретят иное применение, а следовательно, примут и иную складку. Это искомое, но такое искомое, которое нимало не противоречит элементам, составляющим человеческую природу, ибо для всякого наблюдателя общественных явлений и теперь уже ясно, что одно и то же свойство на разных ступенях общественной иерархии проявляет себя совершенно различным образом, смотря по тому, в какой обстановке оно находится. Содействовать обретению этого искомого и, не успокоиваясь на тех формах, которые уже выработала история, провидеть иные, которые хотя еще не составляют наличного достояния человека, но тем не менее не противоречат его природе и, следовательно, рано или поздно могут сделаться его достоянием, — в этом заключается высшая задача литературы, сознающей свою деятельность плодотворною.
Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека. Утопизм не пугает ее, потому что он может запугать и поставить в тупик только улицу. Типы, созданные литературой, всегда идут далее тех, которые имеют ход на рынке, и потому-то именно они и кладут известную печать даже на такое общество, которое, по-видимому, всецело находится под гнетом эмпирических тревог и опасений. Под влиянием этих новых типов современный человек, незаметно для самого себя, получает новые привычки, ассимилирует себе новые взгляды, приобретает новую складку, одним словом — постепенно вырабатывает из себя нового человека. Что было бы в том случае, если бы литература, забыв о своих воспитательных задачах, пошла по другому пути… хоть, например, по пути бесплодных обращений к прошлому?
К сожалению, наша современная литература пошла именно по этому последнему пути, и потому ее воззрения можно без малейшего преувеличения уподобить воззрениям будочников, негодующих на искание какого-то рожна.
В общем ходе человеческого развития подробности занимают лишь второстепенное место; они играют роль эпизодов, не имеющих существенного влияния на канву и процесс движения. В современной русской литературе, напротив того, подробности занимают первый план, а действительный смысл движения до такой степени заслоняется ими, что жизнь представляется сложившеюся под гнетом какого-то неслыханного умопомрачения. Ненавистью и желчью пропитано каждое слово современной русской литературы, и это горькое чувство могло бы иметь очень опасные для общества последствия, если б не было слишком ясно, что в основе его лежат те бесплодные обращения к прошедшему, которые обусловливаются корыстным или наивным непониманием самых простых, общепризнанных и естественных законов человеческого развития.
И на улице и в литературе раздается один вопль: довольно! Чего же довольно? наездов ли, устранений ли, душевных ли выемок, проявлений ли бессознательности, произвола и дикости? — Нет, не этого. Довольно жертв, довольно усилий, направленных к тому, чтобы стать на стезю сознательности.
Только глубоко вкоренившееся, так сказать, историческое презрение к самим себе, только вполне бесповоротное убеждение, что мы не только в настоящую минуту состоим в должности кадетов цивилизаций, но и навсегда осуждены на эту роль, могло произвести подобный результат. Для всех (то есть, говоря трактирным слогом, для тех, которые почище) — цивилизация с ее благами, открытиями и движением; для нас (то есть для тех, которые еще рылом не вышли) — обрезки, помои и старое, заношенное белье. И это проповедуется не на толкучем рынке, не в кабаках, — там бы куда уж ни шло! — а в литературе…
Подобные приливы озлобленности и систематического омрачения небеспримерны и в других странах; но там они объясняются решительностью политических и социальных кризисов, когда общественные силы, под влиянием исключительной паники, всецело охватываются интересами и опасениями данной минуты и таким образом на время теряют из вида руководящую нить будущего. У нас это, так сказать, естественная дань преисполненных благородным энтузиазмом сердец. Предполагается, что мы, по самой природе своей, не имеем права ни к чему приступить, не исполнив предварительно танца благоговения и вечной признательности. И вот, ежели мы, рассматривая какое-нибудь явление (последствия которого, не забудем, отразятся на нас же самих), пробуем встать на один с ним уровень, то нас прямо обвиняют в черствости, неблагодарности и заносчивости. «Курицыны дети! — восклицают хором прогрессисты-литераторы и прогрессисты-публицисты, — посмотрите! тоже топорщатся! шеи вытягивают, на цыпочки становятся!»
На мой взгляд, будочники в этом случае гораздо симпатичнее. Произнося свое сакраментальное: «рожна, что ли, нужно?» — они, во-первых, действуют чисто механически, то есть просто производят порядок, и, во-вторых, едва ли даже знают, что именно следует разуметь под словом «рожон». Несмотря на грубость интонации, в их голосе можно иногда подметить благодушие, почти сострадание к человеку, который ищет рожна и… находит его. Напротив, чувство, одушевляющее прогрессиста-публициста, совсем другого свойства: тут нет и речи о чем-нибудь примирительном. Для него презрителен самый вид «топорщащегося» человека, да и самое слово «топорщиться» именно с тою целью заимствовано из лексикона теплых русских слов, дабы в нарочито омерзительном виде изобразить претензию человека на человеческий образ. Он прибегает ко всевозможным уподоблениям: городовых именует орлами; людей, ищущих сбросить с себя иго бессознательности — кротами, червями и трутнями. Его изгибает, свертывает и коробит, как бересту, брошенную на огонь, и коробит не оттого, что он видит пришибленность, забитость и вольное ползание, а оттого, что в глазах его происходит попытка сделать человеческий жест.
Откуда эта ненависть?!
Литератор-прогрессист сам едва ли сумеет объяснить себе причину этого явления. Он действует под влиянием темперамента, который подсказывает ему, что русский человек не имеет права относиться к явлениям жизни с спокойствием и достоинством, но должен во всяком случае и во что бы то ни стало благодарить. Ежели он не благодарит, то это значит, что он злокознствует; а ежели злокознствует, то значит, что сам собой возникает вопрос о необходимости истребления козней и интриг. Собираются вольные дружины, объявляется поход, и, за стуком мечей, забывается даже то тощее дело, по поводу которого возник переполох. И все из-за того, что в сердцах нет должной благодарности, или, говоря высоким слогом, не замечается надлежащей теплоты чувств!
Предоставляется читателю самому судить, насколько возможно развитие и разрешение общественных вопросов при таком воспалительном отношении к ним даже со стороны литературы, на которую многие и до сих пор смотрят как на выразительницу общественной совести…
И вот итоги! итоги, в действительности которых едва ли может усомниться кто-либо из современников. И опять-таки повторяю: не в кабаках, не на толкучих рынках отразились эти итоги, а в самом центре всех жизненных итогов — в литературе.
Даже будочники проливают слезы сожаления при виде людей, ищущих рожна и обретающих его, а в литературе это зрелище вызывает только зловещий крик: ату!
Естественное ли это дело? естественно ли, чтоб литература являлась не воспитательницею и руководительницею общества в его исканиях идеалов будущего, а обуздательницею и укротительницею?
Однако, как ни проповедуйте, что перевернуть мир вверх дном невозможно, а исподволь перевертывать все-таки приходится. Потому что, в противном случае, всегда найдутся люди, которые будут натыкаться на рожны, а зрелище этого натыкания едва ли может для кого-нибудь составить приятность.
Человек так уж устроен, что всякое новое приобретение, сделанное в области знания, ищет применить к себе, к своему личному положению. Это стремление прежде всего отражается на приобретениях будничных, непосредственных. Так, например, ежели человек узнает, что чистота и простор жилищ, а равно достаточная и хорошая пища способствуют долголетию, то непременно будет домогаться, чтоб это жизненное условие было у него под рукою. Затем, ежели он узнает, что тому же долголетию способствует обладание и другими благами, более отвлеченного свойства, то будет добиваться и их. Вследствие этого многие думают, что все усилия должны быть направлены к тому, чтобы человек или вовсе не знал, или узнавал сколь возможно позднее. Но это лишь пустая надежда, о которой даже и говорить не стоит. Гораздо более весу имеет оговорка, утверждающая, что человек, во всяком случае, обязывается делать свои попытки на собственный счет и страх. Но и об этой оговорке покаместь не может быть речи, ибо дело идет не о практических попытках, а лишь о постановке вопросов на почву обобщений. Или, говоря языком более любезным для наших прогрессистов-публицистов, — об обмене мыслей.
Да, речь идет об обобщениях — и ни о чем больше, ибо сепаратные попытки довести свое личное положение до известного уровня существовали с незапамятных времен и никогда не возбуждали ничьей подозрительности. Они имели место даже при крепостном праве, которое, не поощряя игры страстей, не препятствовало, однако ж, осуществлению ее в частных случаях. У всех на памяти, что бывшие помещики не только не воспрещали принадлежащим им крестьянам приобретать некоторые жизненные удобства, но и находили в этом повод для удовлетворения своего тщеславия.
— Вот как, каналья, живёт! без щей с говядиной и за обед не садится! — хвастались они перед соседями каким-нибудь Еремеем, который, откладывая грош по грошу, купил себе право увеселять сердце помещика зрелищем «моего Еремея», хлебающего наварные щи.
Очевидно, стало быть, что подобная попытка признавалась и естественною и непредосудительною. Отчего же тот же самый вопрос усложняется, как только переносится на почву обобщений? Ответ на это обыкновенно дается такой: «помилуйте! да разве возможно всем?» И ответ этот кажется резонным, не потому, чтобы он в самом деле был резонен, а потому, что слова «вдруг» и «все» оказывают на нас точно такое же ошеломляющее действие, какое в комедии Островского («Тяжелые дни») оказывают мудреные слова вроде «жупел» и т. д.
«Нельзя вдруг перевернуть мир вверх дном!», «Нельзя дать все и всем!» — вот несложный кодекс житейской мудрости, на котором сходятся и ретрограды, и консерваторы, и прогрессисты, и никому из них не приходит в голову, что это кодекс до того уже легкий, что опираться на него могут только такие люди, у которых ничего нет в запасе, кроме истертых и оглоданных общих мест.
О том ли идет речь, чтобы что-нибудь перевернуть, или у одного нечто отнять, а другого наградить? Нет, речь идет об отыскании таких законов общежития, которые могли бы умиротворить человечество — и больше ни о чем. Вопросы о перевертываньях и отнятиях всецело принадлежат к той практике, которая уже и ныне предусматривается уголовными кодексами и, следовательно, признается косвенно самими прогрессистами. Вопросы эти возбуждаются эмпирически на больших дорогах, а также в форме простых краж или краж со взломом, — что же может быть общего между ними и работою теоретической мысли?
Объект теоретической мысли не хаос и случайность, а порядок и закон. Даже вырабатывая так называемую утопию, она имеет в виду именно эту, а не другую какую-нибудь цель. Притом общество достаточно обеспечено от чрезмерного наплыва утопий тем одним, что последние не только никогда не господствуют безраздельно, но, напротив того, всегда состоят под самым строгим контролем всевозможных уличных опасений и тревог. Ужели этого обеспечения мало? Ужели, в виду фантастических страхов, внушаемых ожиданием наплыва утопий, можно счесть более безопасным и целесообразным, чтобы вопросы жизни разрешались хотя сепаратными, но тем не менее совершенно неправильными эмпирическими попытками на больших дорогах, вроде тех, о которых сейчас говорено и которые требуют для своего осуществления темной ночи, отмычек и взломов?
Нет, это неверно. Против подобного эмпиризма восстает даже мой друг Феденька Козелков, а я имею полное основание ссылаться на его авторитет, потому что этот человек уже почти администратор.
Я люблю Феденьку не за то, что он считает себя прогрессистом (он как-то уж слишком упорно настаивает на своей принадлежности к этому сословию), а за то, что он простодушен, и это простодушие нередко внушает ему мысли и действия достаточно доброкачественного свойства. В основании его административной системы лежит словцо, по-видимому, очень маленькое: «можно!» — но вникните пристальнее в это слово, и вы убедитесь, что во всем русском лексиконе нет его любезнее. «Можно!» — ведь это, так сказать, в малом виде отпущение грехов; это бальзам, пролитый на рану недоумения и недомыслия; это исцеление недугующих и страждущих, это не соломинка какая-нибудь, а целый корабль, поспешающий для спасения погибающих! Вся жизнь человеческая обращается между «можно» и «нельзя», и перегородка, которая, вследствие этого, делит человеческую жизнь на две половины, служит источником мучительнейших нетерпений, промахов и домогательств. И вдруг эта перегородка, по манию Феденьки, исчезает, и вместо нее является ровное и злачное пространство, по которому можно гулять без сомнения… Шутка!
Конечно, Феденька не принадлежит к числу орлов, но ежели рассудить хладнокровно, то орлов и без того так много, что вряд ли присовокупление одного лишнего хищника может послужить украшением. Сверх того, у Феденьки имеется и еще один довольно крупный недостаток — это робость и даже, можно сказать, путаница в понятиях; но и это обстоятельство проходит незаметно, потому что слово «можно!», которым путаница разрешается, покрывает ее до такой степени, что вместо путаницы является даже целая система.
И вот, на днях, беседуя с Феденькой о его административных надеждах (он беспрерывно говорил о каком-то «крае» и, по-видимому, имел даже серьезные основания рассчитывать на осуществление своих мечтаний), я невольным образом вынужден был коснуться и его административных взглядов на жизнь.
— А как ты полагаешь, мой друг, насчет хоть бы того, что вот иногда… не всегда, конечно, а иногда… люди чувствуют потребность размышлять, сообщать друг другу свои наблюдения и открытия… ведь можно? — спросил я, конечно, не без робости, ибо очень хорошо понимал, что вопрос мой касается одной из самых чувствительных административных язв.
Он немного задумался, ибо не далее как того же дня утром выслушал, откуда следует, очень обстоятельное по сему предмету поучение. Я знал об этом и, следовательно, имел очень основательный повод беспокоиться. Но, к удовольствию моему, простодушие моего друга и на сей раз взяло верх.
— Знаешь, что я тебе скажу? — наконец произнес он (при этом я очень хорошо заметил, что из груди его вылетел вздох), — пускай размышляют, пусть даже разговаривают! Я положительно не вижу к тому никаких препятствий!
— Подумай, однако ж, мой друг, ведь из этого может произойти ущерб… то есть посягательство… ну, и прочее… — продолжал я испытывать Феденьку.
— Нет, уж что… Христос с ними!
— Гм… так, значит, по-твоему, можно?
— Можно!
Тем не менее рана, произведенная утренним поучением, была еще слишком остра, чтоб не вызвать кое-каких оговорок. Феденька в видимом волнении ходил по комнате, и я с прискорбием замечал, что каждый новый шаг выдвигает на сцену какое-нибудь новое привидение.
— Признаюсь откровенно, — произнес он, останавливаясь передо мной, — я желал бы одного: пусть размышляют, пусть обмениваются мыслями, но… но так, чтобы никто этого не заметил!
Сгоряча я не понял всей оглушительности этой оговорки и даже радостно протянул ему обе руки, воскликнув:
— Ну, да! ну, само собой разумеется… конечно!
Но через минуту, однако ж, я спохватился и стал допрашивать Феденьку, каким же образом он предполагает устроить, чтобы люди откровенно сообщали друг другу свои мысли и чтобы, в то же время, никто этого не заметил.
— Ведь это все равно что если б твой будущий градской голова позвал тебя на пирог и требовал, чтоб ты таким образом ел, чтоб никто этого не заметил. Ты точно так же зовешь их на пирог и…
— Нет! ты меня не понял! — как-то брюзгливо прервал меня Феденька, — я совсем не о том говорю! Я хочу только сказать, что было бы желательно, чтобы не всякому (он особенно напер на это слово)… tu comprends:[9] не всякому… это было заметно!
Я понял. Мне сделалась ясною вся эта сложная и многохитрая система со всеми ее разветвлениями, умолчаниями и оговорками. Я с удивлением смотрел на моего друга и готов был признать в нем искуснейшего дипломата новейшего времени (по части внутренней политики).
— Ведь они иногда очень дельные мысли имеют, — продолжал между тем Феденька, — такие мысли, которых пугаться решительно нечего. На днях, например, я разговорился с каким-то «волосатым» насчет этого… самоуправлением, кажется, оно называется… Ничего! Я думал, что он в драку полезет, а он, напротив… такие мысли, что я со временем их непременно в какую-нибудь бумагу помещу! Parole d’honneur![10]
— Феденька! друг мой!
— Ведь по правде-то сказать, мы все немножко социалиты… Ведь это, так сказать, наша национальная подоплека. Le socialisme, la commune — c’est tout un![11] Разумеется, с разных точек зрения…
— Феденька! голубчик ты мой!
— Только вот ежели их дразнить, этих «волосатых»… ну, тогда они действительно в известной степени свирепеют! Но и то лишь в «известной степени», ибо окончательно свирепеть и в особенности проявлять эту свирепость им еще не разрешается… да! н-н-не р-раз-ре-ша-ет-ся!
Мне показалось, что, говоря эти последние слова, Феденька даже на меня взглянул как-то угрожающе: до такой степени натура его была подвижна. Но через минуту простодушие вновь одержало победу; он начал подробно развивать свою административную теорию и в горячности чувств чуть-чуть не дошел до равновесия души.
— Я докажу на практике, — ораторствовал он, — да-с, на практике докажу, какая неизмеримая разница между администратором, который овладевает сам положением, и администратором, которым (он подчеркнул: рым) овладевает положение!
Но я уже не слушал. Я спешил воспользоваться восторженным настроением его души, чтоб заручиться чем-нибудь солидным:
— Итак, стало быть, «можно»?
— Можно! — махнул он рукой, как бы давая понять, что он все уже разрешил и более беспокоить его мелочами не следует.
«Ну, это, по крайней мере, «итог»!» — невольно подумалось мне.
ГЛАВА V[12]
К числу непомнящих родства слов, которыми так богат наш уличный жаргон и которыми большинство всего охотнее злоупотребляет, бесспорно принадлежит слово «анархия».
Употребление этого выражения допускается у нас в самых широких размерах. Стоит только прикоснуться к вопросам, имеющим общественный характер, как уже со всех сторон поднимается крик: что вы делаете? разве не видите, что там, на дне, таится анархия? Стоит предъявить самые скромные требования к жизни, как отовсюду посыплются предостережения: берегитесь! скромное требование приведет за собой иные, менее скромные требования, а затем и анархию! Мало того: попробуйте вовсе устраниться от всяких непосредственных требований и вопросов, — и вы наверное услышите: это он неспроста помалчивает! это он замышляет анархию! Занятие науками считается анархией, занятие науками естественными — анархией сугубою. Словом сказать, везде, где видится попытка к уяснению, исследованию, сознательности — везде вместе с тем видится и признак анархии. Таков приговор уличного ареопага, и, к сожалению, приговор безапелляционный. В бесконечно растяжимых его тенетах запутывается все, что мыслит, что стремится вперед, что ищет устройства более правильных и упрощенных жизненных форм и отношений.
Это история очень древняя и периодически повторяющаяся, но нам незачем ходить далеко, ибо уже на наших глазах был момент очень характеристичный, момент, когда чуть не вся Россия была заподозрена в анархических стремлениях, когда только идиот да заведомый жулик могли считать себя свободными от опасной клички анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. Это было время очень тяжелое, но что оно было — никто не может возразить против этого. И даже не момент продолжалась эта действительная анархия во имя анархии мнимой, а долго, очень долго, дольше, чем можно вместить (и, однако ж, мы вместили), и характер ее был тем горчее, что еще накануне она сама считала свое дело проигранным. С наступлением благоприятной минуты она очень хорошо смекнула, что ей предстоит не только утвердить торжество своих подлинно анархических принципов, но и наверстать все недавние неудачи. И вот началось это страшное сонное видение, которое для многих сделалось не менее страшною действительностью. Свидетели вчерашнего ликования сделались свидетелями сегодняшнего скрежета зубов, и наоборот. Ликование переменило центр и в то же время приняло какой-то особенный, своеобразный характер. Это было ликование с воплями, гиканьем, травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!
Еще накануне патентованные прогрессисты чувствовали себя неуязвимыми и, указывая на беспредельное пространство, кричали: вперед! И под рукою, и гласно они заявляли о своем сочувствии молодому поколению. Они говорили: какой это бодрый, смелый и дельный народ! Быть может, эти похвалы были не вполне искренни; быть может, в глубине души, прогрессисты надеялись, что горячность, которой они были свидетелями, скоропреходяща, что бодрым, смелым и дельным молодым людям придется-таки вспомнить, что они не больше как кость от костей, как дети того же порядка, который взлелеял на лоне своем и ретроградов, и консерваторов, и прогрессистов. И надежда не обманула их, ибо вспомнить пришлось не далее как назавтра, и так вспомнить, как не приходилось никогда до того времени и как придется вспоминать, быть может, в будущем, когда российская страна почувствует себя достаточно крепкою, чтобы разом покончить со всякими анархиями, гидрами и безднами, и ежели не навсегда, то надолго погрузиться в консервативное оцепенение. Да; это будущее еще предстоит, ибо бюрократия только теперь начинает сознавать саму себя…
В самый разгар прогрессистских ликований случился странный и, по-видимому, неожиданный перелом. В одно прекрасное утро вылезли из нор люди дикого вида с такими ожирелыми затылками, представление о которых даже среди нас утратилось со времени упразднения крепостного права. Это были так называемые столпы. Они стекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам городов и весей и едиными устами вопили: анархия! Припомните, сколько было в то время выпито шампанского! сколько разослано телеграмм! сколько мимоходом задавлено младенцев и неповинных! Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды и все сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии. На первых порах они с особенною яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уж издревле заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым, но большинство кое-как извернулось и, сбросивши взятые напрокат одежды, в свою очередь, благим матом возопило: анархия! И состоялся тут компромисс, в силу которого на одной стороне встали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой — лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову: вперед!
С этой минуты понятие об анархии для всей улицы утвердилось на прочных основаниях, и в настоящее счастливое время нет того уличного мазурика, который не сумел бы употребить это выражение с пользою для себя. Да оно и понятно: ведь дело идет не об открытии или изобретении, не о новом вкладе в сокровищницу человеческих знаний, а только о том, чтобы как можно глубже впиваться в тело своего соседа. А эта наука какому же мазурику не известна…
А между тем стоит только попристальнее вдуматься в действительный смысл этого quasi-антианархического движения, чтоб убедиться, что здесь все основано на самом вопиющем извращении понятий вполне ясных и не подлежащих никакому спору.
В самом деле, что такое «анархия», в действительном и прямом значении этого слова? «Анархия» — это такое состояние общества, когда оно не хочет знать никакого руководящего начала (не начальства, как смешивают многие, а именно начала), когда оно бредет без ясно сознанной цели, неведомо куда, когда оно изнемогает под игом всевозможных страхов, составляющих неизбежную принадлежность невежественности и бессознательного отношения к вещам, когда оно не имеет интересов, которые могло бы назвать своими собственными, когда оно лишено доступа к какой-либо инициативе и с тупым равнодушием смотрит на происходящие внутри и вне его явления. Что такое настроение общества нельзя назвать иначе как анархическим, это доказывается бессилием всех его движений (кроме, впрочем, злостных), безрезультатностью его начинаний. Спокойное снаружи, внутри оно заключает прах и ни единой лепты не внесет в общую массу преуспеяния. Ни для себя, ни для других — вот девиз подобного общества, а так как с таким девизом оно может представлять собой только бремя в общечеловеческой семье, то нет ничего удивительного, если в конце концов все, что есть в мире интеллигентного, относится к нему с нетерпением и негодованием.
Совсем другой смысл имеет слово «анархия» в глазах уличных мудрецов. По мнению их, анархия — это возбужденное состояние умов; анархия — это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия — это искание руководящей истины, уровень которой более соответствовал бы уровню нарастающих нравственных и материальных условий жизни; анархия, наконец, — это сама жизнь, вышедшая из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Говоря короче, анархия — это все то, что обусловливает движение и прогресс. Если в обществе возникает сомнение в удовлетворительности идеалов, которыми оно до того времени руководилось, или в неприкосновенности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя; если установленные преданием отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными; если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку уяснить себе, независимо от предания, то положение, которое он занимает в обществе и природе — все это признаки, которые, по мнению уличной толпы, неразрывны с существованием анархии. А так как сама история человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознающей себя мысли, то ясно, что и история не может быть ничем иным, как непрерывною анархией. И ежели уличные мудрецы еще не пришли к этому заключению, то, очевидно, только потому, что под именем «истории» они разумеют не историю собственно, но лишь тот или другой учебник, изданный для руководства в гимназиях и кадетских корпусах.
Инициатива подобного рода суждений об «анархии» идет обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными (у нас и до сих пор еще в ходу афоризм, что «умный человек не может быть не плутом»). Эти люди с удивительной ловкостью умеют пользоваться невежеством, предрассудками и пристрастиями толпы. Толпа обобщает с трудом; она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Ей вразумительны лишь истины, основанные на грубейшем эмпиризме, или такие обобщения, которых происхождение давно затерялось и которые тем не менее остаются в обращении благодаря преданию и неряшливому отношению к ним толпы. Все это очень хорошо известно всякому имеющему дело с массами, и, следовательно, для того чтоб приобрести влияние на них, стоит только говорить их языком, верить или притворяться верующим в те истины, которые на толкучем рынке пользуются правом гражданственности. В сущности, впрочем, подладиться под тон масс — дело вовсе не такое мудрое, как может показаться с первого взгляда, и потому не трудность предприятия составляет здесь главное препятствие, а явление совершенно другого порядка. Дело в том, что человек не вполне разлученный с совестью понимает, что созидать свой успех на истинах, которых негодность вполне для него доказана, значит заведомо прибегать к обману, и потому невольным образом останавливается перед таким подвигом. Напротив того, человек бессовестный, прожженный и ловкий тут-то именно и чувствует себя вполне свободным. Он является к толпе и объявляет, например, что сила и право понятия тождественные или что бороться против действия стихий значит не признавать божественного произвола и т. д. Толпе такие истины на руку, ибо доступ в область критической проверки рекомендуемых ей афоризмов еще закрыт для нее. Она испокон веку чувствовала на себе давленье силы, испокон веку была беззащитна против стихий, и потому в ней зародилось убеждение, что свет держится только безусловным преклонением перед силою и случайностью. Это же убеждение в свою очередь усердно поддерживается и воспитывается в ней и извне, а потому совершенно естественно, что оно становится исходным пунктом всей жизни, краеугольным камнем всего общественного строя. И вот когда является перед ней человек, по всем внешним признакам стоящий выше ее, и утверждает то, что она сама всегда утверждала, она без дальних рассуждений отдает ему свои симпатии и в чаду бессознательного восторга изъявляет готовность идти всюду, куда ни поведет ее проходимец. Выделяются сонмища людей, которые не могут даже различить, на какой стороне находится их собственный интерес, а могут только во всякое время мгновенно наливаться кровью. Вот эти-то глупые люди и составляют так называемую стену, внутри которой спокойно располагается лагерем анархия консерватизма и за которую тщетно старается проникнуть ищущая и исследующая мысль. И — странное дело! — несмотря на то что в основании всех движений этих людей лежит одна бессознательность, в слепом усердии своем они доходят по временам до озлобления еще горшего, нежели то, которое питает даже руководителей их.
Начинается бред наяву. Глупые люди с ужасом рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных «бесчинствах», сопряженных с «анархией». Об «авторитете» упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. Толпа вздыхает и вместе с «авторитетом» мнит и себя поруганною, погибшею, посрамленною. «Кормильцы-то наши!» — голосят уличные кумушки, взирая на краснощеких пройдох, которые только добреют да нагуливают жиру в борьбе с «анархией». Но потребуйте у любого из этих вздыхающих людей, чтоб он дал сколько-нибудь осмысленное определение предмета своих вздыханий, и вы тщетно будете ждать ответа. Добросовестные, заслышав вопрос, выпучат глаза; бессовестные — изрыгнут ругательство и посулят нелегкое.
Что же такое, однако ж, этот «авторитет», об охранении которого так усердно хлопочет толпа, руководимая ловкими людьми? В сущности, ответ на этот вопрос очень прост: «авторитет» есть тот жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек, и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития того и другого. У патагонца один авторитет, у китайца другой, у европейца третий. В соответствии авторитета уровню развития заключается вся сила первого, вся его жизненная обязательность. С исчезновением этого условия идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий.
Все это неопровержимо доказывается и этнографией и историей. А так как в справедливости подобного свидетельства усомниться нет основания, то из этого само собой явствует, что понятие об «авторитете» есть понятие условное и зависимое и что мнение о незыблемости его есть мнение по малой мере не подкрепленное никакими положительными доказательствами. Авторитет незыблем, покуда человек находит в нем для себя прочное руководящее начало, покуда грани им поставленные оказываются в меру человеческого роста; но как скоро сама жизнь затопляет эти грани, то очевидно, что она в то же время должна затопить и самое начало, поставившее их. Так, например, при низкой степени человеческого развития, авторитет представляется в самой грубой форме, или, говоря точнее, значение авторитета присвоивает себе все то, что может приказать и против чего ничего не поделаешь. Опыт, однако ж, положительно доказывает нам, что человечество не без причины с таким упорным постоянством стремится к освобождению себя из-под ига грубой силы и в наше время едва ли даже найдется легкомысленный человек, который взялся бы защитить теоретически незыблемость подобного авторитета. Точно так же, конечно, никто не назовет незыблемыми и множество других авторитетов, при помощи которых человек некогда разъяснял свои сомнения, но которые, в сущности, привели за собой лишь массу заблуждений. История самым очевидным образом свидетельствует, что авторитет постепенно утрачивал свою первоначальную грубую форму и приобретал форму более тонкую и сложную и что вообще во всех этих передвижениях, упразднениях и отрицаниях речь шла не об авторитете в смысле принципа, дающего жизни известную окраску, а об авторитете данном (имярек). Следовательно, ежели мы видим отдельного человека или целое общество, которые отрицают известный авторитет, то это совсем не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается на авторитет «имярек». Собственно говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть лишь перемещение авторитета из низшей сферы в высшую. В чем же можно тут заподозрить подрыв? И может ли «авторитет» как принцип потерпеть от подобных перемещений?
Напротив того, здесь-то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много вопиют мудрецы и руководители улицы, приобретается лишь тогда, когда приказательный характер авторитета заменяется характером естественно-обязательным. А эту-то именно замену и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присвоивается название анархических. Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его упрочения; и не произвольно они возникают, по капризу той или другой горсти людей, а тогда, когда старый авторитет обнаруживает себя недостаточно состоятельным, чтоб оградить мысль от колебаний, в которые повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном доверии к нему.
Но, могут возразить, почему же предполагать, что перемещение авторитета происходит непременно из низшей сферы в высшую? почему не предположить движения обратного? Но в том-то и дело, что этого обратного движения по многим причинам даже предположить никаким образом невозможно. Во-первых, такого рода предположение совершенно неприменимо к тем людям, которых принято называть анархистами и которые потому-то именно так и зовутся, что идут от понятий простых к понятиям сложным, недоступным толпе. Во-вторых, оно неприменимо даже и к тем ловким людям, которые в глубине души желали бы на неопределенное время приковать человеческую мысль к тем низменностям, где безраздельно царит авторитет силы. Конечно, они не прочь были бы спуститься в пространства еще более низменные, но, к счастию для человечества, история не возвращается назад и не затем поднимает завесу прошлого, чтоб рекомендовать его идеалы будущим векам, но затем, чтоб засвидетельствовать, что идеалы эти окончательно исчерпали свое содержание и что вновь вызывать их к жизни нет никакой надобности.
Следовательно, повторяем опять, ежели перед нашими глазами в обществе происходит движение, стремящееся расширить арену человеческой индустрии и освободить ее от связывающих пут, то как бы ни поражало нас это движение своею необычностью, мы не имеем права видеть в нем ни анархии, ни так называемого «попрания авторитета». Остережемся же от употребления «страшных слов», остережемся тем более, что хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его с словом «успех» и, под предлогом упразднения «бесчинств», упразднить самое развитие жизни. И не то отдаленное развитие, о котором мечтают утописты (уж до него ли нам!), а развитие обыденное, без которого немыслим ни один шаг в человеческой жизни.
Пусть каждый беспристрастно отнесется к условиям своей собственной жизни, и, конечно, он сознается, что она усеяна бесчисленным множеством идолов, наводящих страх, уничтожающих самые законные проявления человеческого существа. Все эти стеснения не делают жизнь ни более удобною, ни более приятною, ни даже более соответствующею требованиям самой ограниченной морали: они просто производят только стеснения, и всякий в глубине души давно согласен, что освободиться от них было бы отлично. Да по мере возможности, исподтишка, всякий за свой счет и освобождается. А между тем они продолжают господствовать над жизнью, и даже люди, наиболее свободные от предрассудков, находят себя вынужденными покоряться им. Почему? — а потому, что существуют тьмы тем глупцов, которым предание оставило в наследство только одну доктрину: что человек рожден для стеснения, и которые при малейшем прикосновении к этой доктрине кричат: анархия! — не понимая, что высшую и действительнейшую анархию составляет не проповедь освобождения, а проповедь стеснения.
Глупцов пугают страшные слова. «Ломать», «разрушать», «уничтожать» — одних этих слов достаточно, чтоб заставить любого глупца полезть на стену. Он не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не разрушивши старого. Он изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных общественных комбинаций и не хочет верить, что в этих-то невольных союзах и комбинациях и кроется корень всех его недовольств и что устранить эти недовольства нельзя иначе, как устранив причины их породившие.
А между тем «ломать» — значит только ломать, и ничего больше. Вредный или полезный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Всего более приходится слышать в этом смысле упреков в тех случаях, когда предмет ломки составляют давно установившиеся обычаи. «Ничего не пощадили, даже…» — вопиют ловкие люди, а за ними и уличные кумушки. Но как ни жалостны подобные вопли, справедливость требует сказать, что давность обычая еще не обусловливает его непогрешимости, а нередко зависит от целой сети дробных причин, почти неуловимых для невооруженного взгляда. Немаловажную роль здесь играют: леность, равнодушие, неумение выйти из ложного положения, страх неизвестности. Поэтому, ежели ложность давнего обычая уже сознается, и ежели при этом находится человек, который умеет формулировать это сознание, то этого человека следует называть не проповедником анархии, а ревнителем и устроителем человеческих судеб. Христианство сломило языческий мир — ужели тут было хоть что-нибудь похожее на анархию? Разрушенное на наших глазах крепостное ираво — ужели это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент гражданского ведомства, отмененный порядок приема простых писем на почте… все это анархия, анархия и анархия? Так умейте же, наконец, обобщать, о люди, боящиеся страшных слов! С помощью обобщений вы от инспекторского департамента гражданского ведомства дойдете и до других более сложных комбинаций, которые, несмотря на то что носят другие названия (названия-то собственно и путают вас), имеют сущность совершенно тождественную, и потому столь же мало драгоценны, как и упомянутый выше департамент.
Таким образом оказывается, что отыскивание признаков анархии в таком движении живой мысли, которое стремится дать формам человеческого общежития устойчивость, обеспечивающую индивидуальное и общественное довольство, есть дело не только несправедливое теоретически, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в ее корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы нередко проходим мимо этого зрелища с полным равнодушием, как бы говоря этим, что так тому делу и следует быть. Но это свидетельствует только об известной степени притупления нашей восприимчивости, притупления, произведенного обыденностью зрелища, однако ж никто, спрошенный в упор, конечно, не будет столь бесстыден, чтоб объявить во всеуслышание, что хлеб, смешанный с лебедой, есть нормальная пища второго или третьего сорта людей. Так будемте же последовательны, милостивые государи, и не забудем, что лебеда и мякина существуют не в одной человеческой пище, но разлиты всюду. Что мы привыкли видеть эти вредные примеси, что зрелище их не потрясает нас до глубины души — пусть так. Но когда дело доходит до правильной и хладнокровной их оценки, когда перед нами стоят люди, которые называют лебеду лебедою, мы поступаем, во-первых, бесчестно и, во-вторых, во вред самим себе, называя этих людей анархистами и предавая их на поругание толпе.
Посмотрим теперь, не справедливее ли применить слово «анархия» в совершенно обратном смысле, то есть признать анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему совершить, благополучно совершено и далее идти ему некуда. Нет сомнения, что разрешение этого вопроса несравненно интереснее, нежели голословные и, в сущности, ничего не разъясняющие обвинения в посрамлениях, глумлениях, ломках и разрушениях.
Прежде всего взглянем на это дело с точки зрения теоретической.
Если б можно было представить себе, что общество — не говоря уже о современности, — хоть когда-нибудь, в отдаленном будущем, получит право сказать себе, что все предстоявшие ему задачи сполна разрешены, тогда, конечно, возможно было бы допустить и осуществление так называемого «золотого века». «Золотой век не позади, а впереди нас», — сказал один из лучших людей нашего времени (Пьер Леру, «De l’Humanité etc»[13]), и хотя изречение это само по себе истинно, но истина, в нем заключенная, имеет смысл чисто иносказательный. Действительно, человек так устроен, что ему непременно хочется золотого века, и он во всяком признаке прогресса видит его приближение. В этом смысле нынешняя, например, акцизная система может быть названа золотым веком относительно прежней откупной системы. Но все-таки это золотой век относительный, допускающий возможность бесконечного ряда других подобных же золотых веков и в том числе, например, продажи вина совсем безакцизной. Что же касается до золотого века абсолютного, до той минуты успокоения и духовного и материального равновесия, когда человек найдет подлинное основание счесть себя опочившим от трудов и исканий, то предположение о таком порядке вещей не имеет за собой ничего верного и решительного. По крайней мере, до сих пор творчество природы, как и личное творчество человека, представляются нам растяжимыми до неизвестных пределов. Природа заключает в себе неистощимый родник материала, подлежащего исследованию и извлечению из недр неизвестности; человек, в свою очередь, заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обобщающей силы. Кто может сказать, какая сумма сил природы еще не представляет для человека таинства? кто может сказать, какая часть собственных сил и способностей человека вполне открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему, и тот преемственный прирост новых племен и произведений, о котором так положительно свидетельствует наука, доказывает с полною очевидностью, что арена человеческих исследований не только не суживается, но постепенно все больше и больше расширяется. Завершится ли когда-нибудь этот прирост и что станется с нашей планетой, когда он завершится? Будет ли она свидетельницей общего блаженства или, исчерпав все свое содержание, обветшает и погибнет? — обо всем этом можно только гадать, но для утвердительных ответов никаких данных представить нельзя.
Таким образом, с точки зрения теоретической и отдаленного будущего, вопрос о всеобщем успокоении разрешается скорее отрицательно, нежели утвердительно. Что же можно сказать о разрешении того же вопроса в применении к современности?
Стоит только оглянуться кругом, чтобы понять, до какой степени велико самообольщение тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигнувшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными! сколько униженных и оскорбленных! сколько поставленных судьбой вне пределов истории! сколько одаренных природой и не знающих, какое сделать употребление из этих даров! сколько препятствий для проявления самых законнейших требований человеческого существа! И все это обделенное, оскорбленное, бродящее во тьме не просто прозябает и бродит, но хоть инстинктивно, а понимает, что где-то брезжит свет и что история не лишена примеров, свидетельствующих, что люди даже обделенные, по временам достигали лучей этого света! Естественное ли дело, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно покрыло себя пеплом забвения? Естественно ли, чтоб люди, стремящиеся к свету, отвернулись от него, не употребив наперед всевозможных усилий, чтоб достигнуть его?
Пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести, пусть поставит он самого себя за пределы истории и тогда, только тогда пускай ответит на этот вопрос.
Но ловкие люди и тут отыскивают лазейку. Мир совершенствований и открытий, говорят они, есть мир науки. Там вы можете вполне свободно исследовать, обобщать, делать какие хотите выводы (не совсем, однако ж, господа, вспомните историю с «пагубным материализмом»), но не касайтесь самой жизни и тех исконных основ, на которых держится современность! Таким образом, отделяя мир науки от мира практики, ловкие люди предполагают застраховать последний от вторжений первого; или, говоря другими словами, они выражаются так: пусть науки идут вперед, как им угодно, а мы, люди насущного дела, останемся особняком, при прежних формах жизни!
Однако эти люди ошибаются очень грубо. Не говоря уже о том, что возведение перегородок между наукой и жизнью есть дело, по самому своему существу бессмысленное, не имеющее разумной цели, нельзя упускать из вида, что в мире вообще нет ничего, что могло бы долгое время продержаться особняком. Насильственные попытки организовать подобное особничество насильственно же и кончаются. Несмотря на то что уличная толпа с трудом усматривает связь между жизнью науки и ее собственною обыденною жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю так очевидно, что не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознательности пользуется плодами освобождения от уз, которое приносит с собой наука. Он видит перед собой довольство сравнительно большее, нежели то, которое видел столь же бессознательный отец его, он чувствует себя в более разумных и ясных отношениях к силам природы, ощущает себя свободным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. Естественно ли, чтоб даже при самой сильной степени равнодушия он наконец не понял, что ключ ко всем тем неудобствам, которые подчас так сильно заставляли его страдать, совсем не так хитер, как это ему до тех пор казалось? А как только он поймет это, так сразу разорвутся старые мехи и в прах разлетятся все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассириянами, вавилонянами, римлянами, греками и т. п.
[Все это до такой степени справедливо, что даже сама жизненная практика, несмотря на господствующую роль ловких людей, постепенно поступается целостью форм, завещанных преданием, дает место новым формам и элементам и узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом числились не имеющими рода и племени, и, поступая таким образом, жизненная практика вовсе не делает ничего необычайного, а только следует закону фаталистического самосовершенствования, заключающемуся в ней самой.
Спрашивается теперь, какое название всего справедливее применить к тем ловким людям, которые идут наперекор существеннейшему закону даже той туго поступающейся жизненной практики, которая составляет основу истории? Очевидно, что их-то именно и следует назвать разрушителями, подрывателями, попирателями, анархистами, — то есть присвоить им те самые клички, которые они так щедро расточают людям, совершенно непричастным никаким попраниям и разрушениям.
Да; это единственные разрушители, которых общество должно опасаться, единственные анархисты, на которых оно должно указывать, как на зачумленных, единственные мечтатели, никогда не могущие выбиться из пустоты. У них одних нет руководящих начал, на которые они могли бы опереться, для них одних будущее подобно бездонным хлябям, преисполненным ужасами неизвестности и тьмы.
Пусть говорят они, что и у них имеются свои идеалы, пусть называют себя консерваторами и охранителями общественного порядка — их идеалы, осужденные историей, могут привести за собой лишь пагубу и истощение общественных сил, а консерватизм их может быть выражен следующим характеристичным стихом:
Eteignons les lumières et allumons le feu…![14]
И когда эти праздные и самолюбивые утописты, мечтающие повергнуть весь мир в оцепенение, одерживают, благодаря горькой случайности, верх в обществе, тогда-то действительно наступает постыднейшая из всех анархий, о которых когда-ли<бо> свидетельствовала история.
Замечательно, что никогда анархисты мнимые, то есть сторонники прогресса, не действуют с таким поразительным ожесточением, с такою ужасающею бесповоротностью, с какою всегда и везде поступают анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции могут служить тому очень убедительным примером. Они в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия наиболее непреклонные из приверженцев Парижской коммуны! Нет спасения от одичалого охранителя, да и не для чего искать его! Искать спасения значит только обрести лишнее унижение, лишнюю подго<то>вительную жестокость к жестокости последней, окончательно вырывающей жизнь! Ибо анархия успокоения изобретательна до утонченности в своих истязаниях. Она любит видеть судороги и тоску своей жертвы, и только когда натешится вдоволь зрелищем этих судорог, только тогда отсекает ненавистную ей голову.
Нет ничего отвратительнее, как зрелище торжествующей анархии консерватизма. Если б оно представляло собой только голую травлю — как ни позорно такое явление, его можно бы еще снести. Ужасна игра, ужасно привлечение всего человека, не только публичного и политического, но и частного со всеми его, до него одного только относящимися, слабостями и пристрастиями. Заподозривается, например, NN в анархических стремлениях — натурально, его обыскивают, арестуют (в Париже это нынче не редкость). При обыске ничего компрометирующего в политическом смысле не отыскивается, но взамен того отыскивается переписка любовного содержания. И вот под предлогом интересов общественного спокойствия начинается выемка человеческой души. Что значит такое-то слово? что скрывается под таким-то выражением? Анархист-выемщик сам очень хорошо понимает, что все слова, которые он читает, ничего больше не значат, кроме того, что заключает в себе прямой их смысл, но он не останавливается перед этим соображением, ибо ему нужны судороги стоящей перед ним жертвы, нужна ее агония. Не добившись достаточного повода, чтоб вырвать жизнь у преследуемого, он обесчестит его, уязвит в самой дорогой его привязанности и только тогда прекратит свои истязания, когда увидит, что вся сумма гнусностей, которые были в его распоряжении, уже истощена.
И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, в которое в глубине души не верит ни один из одичалых, будь он даже самодовольнейший из всех утопистов этой паскудной корпорации. Пусть же будет замечен этот факт, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к этому, что жертвами консервативной анархии являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, исчезновение их непосредственно посекает жатву будущего, то сила и значение этого факта сделается для нас еще более непререкаемою и очевидною.
Допустим, однако ж, что успокоение, которого так добиваются уличные утописты, наконец достигнуто — в чем же может заключаться сущность его? В том ли, что общество действительно придет к обладанию всеми теми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастием? В том ли, что, не овладев еще счастием, оно хоть издали увидит мерцание его животворного луча? В том ли, наконец, что оно найдет себе руководящую нить, которая приведет его к выходу из терзающих его колебаний?
Ничего подобного не даст это хваленое успокоение, ибо прежде всего оно не согласно с природой вещей. Достигнет ли человек счастия или не достигнет, все-таки оно впереди, и, следовательно, для того, чтоб достигнуть его, надобно идти к нему, а не отворачиваться от него. Успокоение, в том смысле, как его пропагандируют революционеры-консерваторы — это прекращение жизненного процесса, и ничего больше. Когда жизнь застывает, то люди близорукие или притворяющиеся таковыми уверяют, что все, подлежавшее достижению, достигнуто и больше идти некуда. Но пусть они разуверятся, ибо в действительности не достигнуто ничего, кроме анархии, то есть господства величайшего из насилий (можно ли назвать иначе как насилием факт прекращения естественного течения жизни?), какое только может представить себе человеческий ум.
Обделенный не протестует; униженный не поднимает головы; поставленный вне пределов истории не выказывает поползновенья прорваться за стоящую перед ним преграду. Все это правда, и по наружности кажется весьма успокоительным. Но то неправда, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности имеется какое-нибудь действительное удовлетворение. Обделенный все-таки не перестает быть обделенным, и ежели он не протестует, то или потому, что находится в оцепенении, или потому, что приберегает свой протест до более благоприятного случая.
Когда общество не предъявляет никаких требований, когда в нем не слышится внутренней работы разложения — можно сказать наверное, что это общество, доведенное до отчаяния и упершееся в глухую стену. Девиз такого общества: «не твое дело».
Можно ли придумать руководящее начало более анархическое, более противное человеческой природе?
Ответ на этот вопрос до такой степени не сомнителен, что даже поборники консервативной анархии начинают понимать, что невозможно серьезно убедить человека, что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался везде и в самых широких размерах, когда он регулировал собою всю жизнь; но плоды этой бессмысленной сатурналии даже тогда оказались слишком горькими, так что в настоящее время нет даже идиота, который допускал бы применение этого принципа во всей его чистоте. Тем не менее отвергая девиз в его наготе, консервативная анархия отнюдь не отказалась от его сущности, а только дала ему другую форму, которая вполне сохранила весь его букет. Она разделила жизнь на две независимые друг от друга половины: дозволенную и недозволенную, и в первой заключила мелочи и подробности, то есть все то, что в действительности не дает никакого удовлетворения, во второй — главные основы жизни, то есть все то, что действительно развязывает руки человеку и дает ему возможность сознавать себя человеком. Затем она сочла все требования уже удовлетворенными, в чем и выдала самой себе похвальный аттестат. Когда же ей доказывают, что девиз «не твое дело» все-таки не утратил своего первенствующего значения, она оскорбляется, перечисляет по пальцам все возможные обрывки и в заключение кричит: анархия!
А между тем в этом изобилии мелочей и подробностей именно и заключается анархия. Охваченный со всех сторон свитою миниатюрнейших интересов, человек теряет способность обобщения и принимает за действительное благо то, что в сущности составляет ничтожнейший атом его, не имеющий никакой силы благодаря уединенному положению, в котором он находится. Мелочи и подробности — это, конечно, не прямой и безусловный отказ, но это спекуляция на человеческое легкомыслие, это отказ, сопряженный с изворотом. Подробности сыплются пригоршнями, а жизнь не имеет ни широкого основания, ни великих целей и идеалов… И путается человек среди этого множества подробностей и дается диву, что вот он и то получил, и другое получил, а все ему неудобно, неловко, неспоро, все он не знает, помилует ли его завтрашний день или не помилует…
НЕОКОНЧЕННОЕ
<КТО НЕ ЕДАЛ С СЛЕЗАМИ ХЛЕБА…>
Кто не едал с слезами хлеба,
Кто слез в ночи не проливал,
Стеня на одр не упадал,
Тот
и т. д.
Так гласит Гёте в плохом переводе г. Струговщикова. И действительно, для того чтобы понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо именно пройти через то безвыходное состояние, которое такими горькими чертами описывает немецкий поэт, а ежели не пройти, то, по крайней мере, видеть его, присутствовать при нем. И тогда предстанет перед глазами со всею ясностью та бесспорная истина, что есть нужды особенные; нужды вопиющие, перед которыми должны стушеваться и приникнуть все другие.
Страшно подумать о том убожестве, в котором живет большинство и которому оно, по-видимому, вполне подчинилось. Негодование, которое проникает душу при виде явлений пошлого легковерия, одичалости и отвратительного насильства, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, когда собственными легкими вдохнешь в себя струю той затхлой атмосферы, которою они дышат.[15] В человеческом существе есть нечто высшее, нежели сила озлобления и негодования, — в нем есть сила прощения, сила симпатического отношения ко всему, что страждет (причем не сознает даже в миллионной доле всей безвыходности своего положения), ко всему, что живет не живя, то есть не зная светлой стороны жизни, ее радостей, ко всему, что родится на свет уже заранее заклейменное печатью отвержения, заранее обреченное на безвременное увядание. О! если б массы знали весь ужас той нищеты, которая преследует их от колыбели до могилы, если б они понимали, что в жизни есть нечто такое, что зовется радостью, счастьем, и что право на это нечто есть священнейшее и бесспорнейшее из всех прав человека! Они с ужасом отвернулись бы от самих себя, они убедились бы, что все их прошлое было даже не прозябанием, а просто каким-то чудовищно-бессмысленным служением упитыванию разнообразных чужеядных, со всех сторон густою сетью оцепивших их.
Это симпатическое отношение, которого значительную долю чувствует в себе всякий сколько-нибудь развитой человек, совсем не так непосредственно, как это кажется с первого взгляда. Тут действует не одно инстинктивное сострадание, но и анализ — последний даже по преимуществу. Мы не просто говорим: «ах, какое жалкое, бедное положение!», не просто оплакиваем, но прежде всего вглядываемся в это жалкое положение и стараемся дать себе отчет в причинах его. На первый раз оно кажется совершенно непонятным, и толпа уподобляется большому дураку, который вырос с коломенскую версту и успел только в том, что животненные отправления происходят у него, как у взрослого. Как, в самом деле, дойти до такого положения, что при всей очевидности силы, при всем ее обилии, последняя оказывается до того притупленною, до того лишенною всякого содержания, что может быть употреблена только на нелепые шараханья из стороны в сторону? Как снизойти до степени бессмысленного орудия, годного только на то, чтобы давить, давить и давить? Действительно, это очень странно, особливо если возьмем в соображение то выгодное положение, в котором стоит толпа относительно материальных средств. И по мере того, как мы будем углубляться в наши наблюдения, перед нами откроется целый темный мир всякого рода горечей, целая проклятая история непрерывных умственных оглушений. Конечно, все эти общественные неровности, которые ныне поражают нас своею ненормальностью, были в источнике своем до того тонки и незаметны, что даже почти невозможно их проследить, а тем менее указать тот момент, когда они перестали быть добровольными и естественными и образовали собой систему, но ведь это и не нужно совсем для того, чтоб доказать, что в этой системе нет ни справедливости, ни человеколюбия. Нам не нужно знать даже, виноват ли кто в таком положении вещей и почему оно произошло: вследствие ли какой-нибудь проклятой необходимости или просто по случайному капризу судеб. Нам нужно убедиться только в том, что тут действительно была система, что она цепко опутала то, что ей нужно было опутать, и лежит доднесь несмываемым грехом на том, что этому греху совсем не причастно. А для того чтоб убедиться в этом, не требуется ни исторических изысканий, ни особенной наклонности к философствованию; тут требуется только известная доза здравого смысла и доверие к собственным своим глазам.
И тогда, ежели к симпатическому нашему чувству и примешается некоторая доля негодования, то негодование это будет иметь в предмете уже отнюдь не толпу, забитую до бессмыслия, робкую до трусости, а нечто иное — предположим, хоть историю…
Этим-то именно и объясняется, что горькое чувство, которое возбуждают некоторые движения толпы, не только не умаляет наших симпатических отношений к ней, но и не поселяет в нас никакого разлада, ни малейшего противоречия с самим собой. Негодуя на толпу, мы все-таки сознаем себя привязанными к ней совсем не таинственными нитями, а нитями совершенно явственными и несокрушимыми. Мы чувствуем, что в ней заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы, что без нее (без толпы), без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы, — до нас никому никакого дела нет. В этой зависимости от толпы, конечно, есть много горечи (в самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания?), но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиниться ему нет возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, малосмысленной, подчас жестокой и ничего не стоящей толпе; что самый генияльный мыслитель-реформатор, которого мысль не может, по-видимому, иметь ничего общего с мыслью толпы, лучшую часть своей деятельности отдает толпе; что толпа обседит нас, что она одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум». Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не умеют или не хотят объяснить, а фатализм, объясняемый тою общечеловеческою основой, которая и составляет соединительное звено между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною человеческою личностью.
История показывает, что те люди, которых мы, не без основания, называем лучшими, всегда с особенною любовью обращались к толпе и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу. Это вовсе не значит, что люди эти идентифировались с толпою, что они принимали ее нередко слепые и неразумные инстинкты за руководящий закон, а значит только, что мысль о толпе (человечестве) как о конечной цели всякого разумного и полезного человеческого действия сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если б была исключительно обращена к отвлеченной сфере. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет; ибо, как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до тех пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет хотя в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития. Человек нуждается в обществе себе подобных вовсе не по капризу или для развлечения, а потому, что природа его по преимуществу общежительная и, следовательно, стоя на недосягаемой для толпы высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитее, покорнее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он непременно погиб бы и загрубел в этом жалком уединении, если б, к счастию его, толпа сама на каждом шагу и с достаточною резкостью не напоминала о себе, не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того уединения, на которое он, по нерасчетливости и кичливости своей, обрек себя.
Следовательно, те нужды, которыми страдает толпа, суть нужды общечеловеческие, а потому никто не имеет права не только обходить их, но и не поставить их на первый план. Это нужды кровные, вопиющие, от неудовлетворения которых страдает общечеловеческое развитие, а стало быть, и наше собственное.
Мудрено представить себе, до какой степени горько влияет на жизнь бедного труженика толпы самое ничтожное обстоятельство; но поэтому-то мы и должны понимать, что для этой жизни нет того самодряннейшего факта, который можно было бы назвать ничтожным. Интересы, по-видимому грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую громадную сумму, под бременем которой положительно погибает член так называемого «несуществующего» у нас пролетариата. Да, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни (даже подстоличные), и вы увидите сплошные массы людей, которые не знают употребления мяса и для которых вопрос о соли составляет предмет мучительных дум; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой доход заключается в каких-нибудь пятнадцати — двадцати рублях, с трудом вырабатываемых мотаньем бумаги. А пролетариата нет. Правда, что эти массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но ведь по временам и они чувствуют, особливо когда хочется есть. Нам, людям, живущим отдельно от масс, очень трудно представить себе, что такое значит «хотеть есть», ибо если мы чувствуем голод, то немедленно же и удовлетворяем его; но существуют, действительно существуют люди, которые всегда «хотят есть», ибо никогда порядком желанию этому удовлетворить не могут.
Положение человека, как бы фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть и вообще «не пропасть как собаке», конечно, заслуживает всего нашего внимания. Это те самые первоначальные, вопиющие нужды, при неудовлетворении которых невозможно развитие никаких иных нужд. А в развитии-то этих «иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен по малой мере от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном, но покуда не будет иметь средств обеспечить свободу своего желудка, не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга, — вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною.
И опять-таки не о постепенности и не об ненужности идеалов тут идет речь, а о том, чтобы поставить деятельности (той деятельности, которая в данную минуту необходима) реальные границы, о том, чтобы найти исходный пункт, который соответствовал бы насущным нуждам толпы, и из которого можно было бы вести ее далее. Подумайте, милостивые государи! ведь это, право, сюжет недурной, это сюжет, из которого можно выйти к какой угодно высшей цели…
Представляю я себе человека, которому как следует разъясняется, что не наедаться досыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы — вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения, или, как выражается г-жа Падейкова, ничего нет «релегеозного»; представляю я себе этого <человека>, и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице от подобного разъяснения. Но разъяснение продолжается; за общими положениями следуют указания примеров, сравнения и т. д. (разумеется, еще было бы лучше, если б при этом употреблен был обратный ход мысли, как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий, но, увы! мы и до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, то есть с общих положений!). Черты лица собеседника мало-помалу утрачивают испуганное выражение и принимают выражение разумное… И до тех пор продолжается разъяснение, покуда собеседник не поймет. Представляю я себе человека этого, когда он уже понял.
А он не поймет до тех пор, пока не убедится по малой мере в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить. Пусть только он убедится, что право голодать, право не пользоваться ни благами, ни радостями жизни не заключает в себе ничего неприступного, он сразу его устранит сам, даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право. Но в том-то и дело, что нужно, чтоб он убедился.
— Куда, я теперь денусь! куда я денусь-то! — бормотала на днях некоторая баба, сильно размахивая руками и почти бегом бежа по дороге.
Мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала из дому на мельницу посмотреть, как его раздавило. Покойник был человек зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми; благосостояние, в котором находилась эта семья, в одну минуту рушилось. Вдова податей платить не могла, а следовательно, не получала и земли (которую, впрочем, и обработать не имела средств); мир, с своей стороны, на вдовьи слезы смотрел тупо.
— Да, добышник был, царство небесное! — сказал дядя Миняй.
— К хрестьянскому делу радельщик был! — добавил дядя Митяй.
И пошли себе все дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна с своими слезами, приготовляясь назавтра же начать изучение той бедственной трудовой науки, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя с детьми и в конце которой (вот сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка, для дочери, быть может, название деревенской сахарницы, для нее самой — медленная голодная смерть.
Может ли эта баба думать о чем-нибудь? Нет, она не может ни о чем думать, даже о своем собственном положении. Она не имеет времени размыслить, что оно горько и безнадежно, а должна мыслить только о том, что оно неизбежно и что следует смириться перед ним. Она не может даже наплакаться вдоволь над собою, она не может наплакаться над телом своего добышника, да и слезы, которые она прольет при этом, будут слезы не бескорыстные, они будут отравляться мыслью: на кого-то ты меня покинул, как-то завтра я хлеба себе добуду с детьми малыми!
— Что ты теперь будешь делать? — спросил я эту самую бабу.
— А что делать! стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду! — отвечала она, и в глазах ее не блеснуло ни злобы, ни негодования, с языка не сорвалось ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее и детей беспомощными, а ежели по временам и погладят по голове старшего сынишку, то с тайной мыслью: славный солдат будет!
Вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем никаких резонных оснований относиться к ней с уважением — это правда; но отчего же тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не поторопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на всю жестокость ее, дикость и неразвитость, имеет для нас нечто симпатичное и заманчивое? А вот почему.
Все эти Митяи — народ вовсе не злой и даже не испорченный; они равнодушно поглядывают на бобылкино несчастие совсем не по окаменелости сердечной, поглаживают бобылкина сынишку, с мыслью, что из него будет славный солдат, вовсе не по злорадству. Все это они делают потому, что опыт и история доказали им достаточно, что все они равны перед несчастием, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгоду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет их, но и не останавливает надолго их внимания. Что тут плакаться над чужою бедою, когда завтра та же самая беда может стрястись над ним самим? Да и есть ли еще время плакать? Да и не стряслась ли уже эта беда? Не есть ли она вековечная его сожилица и сопутница, которой и ждать-то совсем лишнее?
Повторяю: вот она, эта истинная истина жизни толпы, и вот где, по моему мнению, стоит настоящий исход для деятельности. Пусть всякий, выходящий на арену, подумает об этом, пусть пристальнее вглядится в толпу, и припомнит, что был немецкий поэт Гёте, который, в плохом переводе г. Струговщикова, сказал:
Кто не едал с слезами хлеба
и т. д.
ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ
ЛЕГКОВЕСНЫЕ ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ
Периодические заметки
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ — ЛЕГКОВЕСНЫЕ. — ИХ ТОРЖЕСТВО, ОПАСЕНИЯ
И ОКОПЫ
Каких-нибудь три-четыре года времени — и как многое изменилось! Сколько умолкло, сколько поникло головой! Сколько, напротив того, выползло на свет таких, которые и не надеялись когда-нибудь покинуть те темные норы, в которых они бессильно злоумышляли!
Незрелость мысли, пошлость и животненность стремлений, отсутствие идеалов, ложные страхи, коварство, подозрительность, — какая горькая, сжимающая сердце картина! И во главе всего «Belle Hélène» и всеобщий исступленный канкан…
Я знаю, что многие даже сомневаются, может ли время с подобными признаками считаться достоянием истории, что многие думают, что это не более как исторический провал, на дне которого копошатся велегласные русские публицисты. Я знаю, вместе с тем, что подробный анализ современных общественных интересов в значительной степени оправдывает такой безотрадный взгляд на переживаемое нами время, [что это как будто совсем и не «время» в историческом значении этого слова, а, скорее, «мрак времен»]…[16] Я знаю все это и за всем тем верю и утверждаю, что многое в этом мрачном воззрении или преувеличено, или основано на недоразумении.
Современная эпоха имеет не только триумфаторов, но и побежденных; шумные и восторженные клики первых удачно оттеняются голосами стенящих и вопиющих, и таким образом общий гимн торжества утрачивает до известной степени томительное свое однообразие. Если бы современный триумфатор прилепился всеми инстинктами своего существа исключительно к «Belle Hélène» — я согласен, это было бы зрелище вполне безнадежное. Но этого нет. Современный триумфатор — бельеленист по преимуществу; он легкомыслен, легковесен и любострастен до бесконечности; но вместе с тем он боится. Он боится, чтоб у него не отняли то мясо, на которое он так плотоядно заглядывается; он боится, чтоб, сверх ожидания, не опустился занавес между ним и тою растленною наготою, которая одна в состоянии пробуждать его вожделения. Поэтому он озирается и ищет кругом тех ужасных людей, которые, злоумышляя против «Belle Hélène», тем самым посягают на его единственную духовную пищу. Сверх того, как ни привлекательно наслаждение нагим мясом, оно слишком олимпически однообразно, чтобы удовлетворить вполне человека даже самого легковесного. И вот в триумфаторе сама собой рождается потребность кой-кого ущипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. Он с мрачною подозрительностью взглядывается в своих ближних и, как разъяренный самец гориллы, рвет зубами все, в чем видится помеха для его плотоядности.
Как ни ужасен этот признак, но в то же время он заключает в себе семя надежды. Если есть необходимость озираться, [преследовать и подозревать], — стало быть, не все еще предано непробудному сну, стало быть, еще живо в обществе нечто такое, что не дает ему окончательно обрюзгнуть и умереть.
Если б не было побежденных, не было бы и триумфаторов. Если мысль цепенеет при виде крашеных гробов, громко величающих себя столпами мира, то та же самая мысль сумеет даже сквозь сплошную массу живых могил провидеть иные сферы, иные интересы, иную температуру, иную жизнь. История не останавливается от того, что ничтожество делается на время как бы законом и обеспечением человеческого существования; она знает, что это явление эфемерное, что и под ним и даже рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь.
Легковесные люди — герои современного общества. Чем легковеснее человек, тем более он может претендовать на успех, тем более может дерзать; а ежели он весит менее золотника, то это такой блаженный удел, при котором никаких препон в жизни для человека существовать не может. Пользуясь репутацией общественного столпа, такой человек беспрепятственно проникает во все танцклассы, имеет безграничный кредит в кондитерских и ресторанах и обольстительным своим видом зажигает неугасимый огонь в сердцах дам. Физика торжествует; легкие тела поднимаются вверх; тела плотные и веские остаются в низменностях. Золотники стоят триумфаторами по всей линии, во всех профессиях; они цепляются друг за друга и образуют такую густую цепь, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадных орудий. Еще очень недавно вы видели этих бесконечномалых, еще недавно вы думали, что это не больше как жужжащие комары, которые потому только и обращали на себя внимание, что от них нужно было отмахиваться. Теперь это не просто комары, а целая масса комаров, претендующая затмить собою солнечный свет. Их жужжание не просто жужжание, а совокупность миллионов жужжаний, имеющая все признаки трубного гласа. И, что всего страшнее, за этими золотниками уже виднеются в перспективе десятые и сотые доли золотников, которые тоже не заставят себя ждать и своим бесконечнейшим ничтожеством победят даже бесконечное ничтожество золотников.
Кажется, трудно было вообразить что-нибудь ничтожнее какого-нибудь Феденьки Козелкова. Болтливый глупец, назойливый нахал, пустопорожний носитель либеральной галиматьи, он, по-видимому, соединял в себе все данные, чтобы сделаться львом своего времени, — и что же? Он оказался слишком тяжеловесен, слишком глубокомыслен, слишком дальновиден и прозорлив; он подавлял золотников основательностью и вескостью своих суждений — и вот бесконечномалые скучились, составили комплот и свергнули-таки Феденьку с его пьедестала!
Я встретил его на днях на улице; по-прежнему в нем совершался процесс болтания, по-прежнему он смотрел фофаном, но увы! фофаном не торжествующим, а грустным и приниженным.
— Ты видишь? — сказал он мне, указывая на рой бесконечномалых, суетившихся тут же у наших ног, — но подожди, то ли еще будет! Эти неизмеримомалые — великаны в сравнении с теми, которые придут на их место!
Затем Феденька заговорил об умеренном либерализме, о своих подвигах на поприще постепенного преуспеяния, о том, сколько ему нужно было осторожности, осмотрительности и даже самоотвержения, чтобы дать надлежащее направление молодым всходам общественной самодеятельности и проч.
Внимая речам его, я очень мало понял, но в то же время в первый раз в жизни удивился их мудрости. Меня как-то непривычно поразили звуки человеческого голоса. Я сравнивал эти речи с зловредным жужжанием золотников и вздыхал… почти плакал. Если б у меня под руками был лавровый венок, то, клянусь, я непременно надел бы его на чело этого пустопорожнего мудреца!
Все проходит, все изменяется. Были идеи — они сменились словами; были слова — они сменились бессвязным любострастным стенанием. Теперь мы жалеем о словах, мы жалеем об этих скудно наделенных внутренным содержанием речах, в которых все-таки слышались знакомые человеческие звуки. Представители бездонного красноречия становятся в наших глазах любезными, даже великими, ибо ежели они не обладали идеями в действительном значении этого слова, то несомненно, что у них были, по крайней мере, обрывки идей. Хватаясь за эти обрывки, можно было добиться исходного пункта, можно было даже временно установить бродячую мысль оратора. Это одно уже было драгоценно, потому что давало возможность предъявлять требования, восстановлять колеблющую нить суждения, и мало-помалу, с помощью ангельского терпения приводить оратора к заключениям более или менее человеческим.
Увы! эти драгоценные обрывки мысли исчезают бесследно, исчезают в виду всех! Бессвязный гул, который доходит до наших ушей, не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных с ней отношениях. Единственное внутреннее содержание этого гула, единственная, если можно так выразиться, мысль его — это непримиримая злоба, это доходящая до остервенения ненависть к мысли. И тут уже нет ни суда, ни разбирательства: всякая мысль, каково бы ни было ее содержание, противна золотнику, уже по тому одному, что она мысль, а не похоть, не вожделение. Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые делаются равны перед безграничною злобою похотливой легковесности; все они подлежат [преследованию и казни] гонению, потому что они убеждения.
«Легковесный» может чувствовать голод, сгорать от любострастных желаний, может ощущать физическую боль, но мыслить не может. Он изгнал мысль из домашнего своего употребления и на этом изгнании основал свое величие. Посмотрите, как он волнуется, как он ловко по временам скользит, по временам перескакивает через препятствия, как он подставляет ножки другим, подобно ему, бесконечномалым, как он стремится, цепляется, изгибается… Не думайте, однако же, чтобы мозговое его вещество было насколько нибудь причастно этому кропотливому движению и чтобы вся эта суета выражала что-нибудь, кроме самого простого физического упражнения; взгляните вперед, и вы убедитесь, что где-нибудь вдали мотается кусок мяса, по поводу которого целым пожаром вспыхнуло вожделение в этом легковесном ничтожестве и к которому вдруг устремились все инстинкты его бесконечно-малого существа. Не подходите к нему в это время: он жирует, а потому зол и может укусить.
Я встретился недавно с одним товарищем по школе. Ребенком он был так себе; не слишком фискалил, подсказывал довольно удовлетворительно и даже охотно курил в печку, хотя никогда не попадался. Я давно потерял его из вида и вдруг узрел во всеоружии. Оказалось, что он имеет прочное общественное положение, что он испытал в жизни et ceci et cela,[17] что камелии от него без ума и что, наконец, в будущем его ожидает блестящая перспектива.
— Какие же твои цели? — спросил я его.
— А ближайшая моя цель — съесть вот этот кусок ростбифа (дело было в ресторане), — сказал он мне и от предположения тотчас же перешел к исполнению.
— А потом?
Он несколько изумился моему любопытству, однако ж отвечал:
— А потом — выпить стакан хорошего лафита!
— Да… но не вся же жизнь тут. Вероятно, есть цели, есть убеждения…
В этот раз он взглянул на меня уже не с изумлением, а с строгостью.
— Убеждения, любезный друг, — сказал он мне, — могут иметь люди беспокойные или недовольные. Мы люди покойные и довольные; мы не страдаем так называемыми убеждениями; мы стремимся и достигаем.
Сказавши эти слова, он величественно встал с дивана, кивнул буфетчику и вышел, не доевши даже своего завтрака. Я устремился ему вослед, чтобы спросить, что же наконец заключается опасного или гнусного в слове «убеждение» и как поступить, если эта гнусность ни под каким видом не хочет вытравиться из сердца? — но он был уже далеко. Я видел только, как сверкала на солнце его круглая гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворные ноги.
Я уверен, что в настоящее время он питает ко мне злобу непримиримую и что представься случай, он позабудет все связи прошлого и отомстит-таки мне за свой неудавшийся завтрак.
Был у меня и другой товарищ, по фамилии Швахкопф (из немцев), которого специальность состояла в том, что он ни на одном языке не умел выражаться по-человечески и всем и каждому жаловался, что у него в голове нет «мизль» (мысль). Встречаю на днях и его — тоже чуть ли не сплошь изукрашен бриллиантами общественного доверия…
— Ну что, как «мизль»? — спрашиваю я его, по старой привычке.
— Мой «мизль» — нет «мизль»! — ответил он мне с таким уморительным глубокомыслием, что я не утерпел и бросился его целовать.
Передо мной воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, как этот добродушный Швахкопф натуживался и потел в поисках за мыслью, как мы, неразумные его товарищи, издевались над этими потугами и, наперерыв друг перед другом, предлагали к его услугам самые изумительные, самые беспримерные мысли. Стало быть, однако, этот человек чувствовал потребность мысли; стало быть, он сознавал, что без мысли не жить ему на свете, — и вдруг, какой переворот! «Моя мысль — нет мысли!» Сквозь какое горнило сугубых гнусностей должен был пройти этот простодушный субъект, чтоб прийти к такому отчаянному афоризму.
Бесстыдство как замена руководящей мысли, сноровка и ловкость как замена убеждения и успех как оправдание пошлости и ничтожества стремлений — вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора. «Прочь мысль! прочь убеждения!» — на все лады вопиет победоносное комариное воинство, и горе тому профану, который случайно или по неведению врежется в этот сплошной рой с своими так называемыми idées de l’autre monde! Его заязвят, зажужжат, засосут, и ежели не покончат навсегда, то, наверное, на долгое время оставят в теле отвратительный зуд!
«Легковесный» встречается всюду, во всех профессиях, во всех кружках так называемого общества. Вы узнаете его по нахальному его взгляду, по искусственной развязности его поступи, по плотоядному выражению улыбки и, наконец, по растленной беззастенчивости его речей. Жаргон этой jeunesse dorée, этого особого, до сих пор достаточно не исследованного вида человека, не просто ничтожен, но положительно посрамителен для человеческого слуха. Это какой-то каскад неслыханных и нескладных слов, не соединенных между собой никакою внутреннею связью и возбуждающих в собеседнике не ответную работу мысли, но поползновения похоти.
«Легковесный» ленив, несмотря на свою юркость, неспособен, несмотря на то что за все берется, невежествен, несмотря на то что никогда не краснеет. Прикосновение его к какому бы то ни было делу действует тлетворно и разрушительно. Несмотря на это, он успевает именно потому, что нагл и угодлив в одно и то же время, и своею открытой враждой к мысли и убеждению зарекомендовывает себя как человека на все готового. С этим скудным запасом он забирает все вверх и вверх, ничего не видя, ничего не понимая, не имея даже никаких целей, кроме самого процесса забирания вверх и вверх. «Ты взялся за такое-то дело, — говорите вы ему, — но ведь ты понятия об нем не имеешь, ты даже в первый раз услышал об нем в ту минуту, как за него взялся!» Но он даже не удостоит вас ответом на такую речь; он просто посмотрит на вас с обычным своим простодушным бесстыдством, как будто говорит: «чудак! разве нужно понимать дело, чтобы взяться за него!»
Увы! он прав, потому что успех оправдывает его превыше всех ожиданий, он прав, потому что какое же может быть дело в этом вихре канкана, к которому обращены все стремления общества.
Итак, «легковесный» беззастенчив, невежествен, неспособен, самонадеян… и сверх того чувствен как жаба! Это последнее качество будет со временем подводным камнем, о который вдребезги разобьется утлый челн «легковесного». С одной стороны, удовлетворение чувственности стоит дорого, с другой стороны, количество легких способов добывать деньги с каждым днем сокращается. Лоретки, камелии и кокотки спасут когда-нибудь общество от «легковесных», и вот почему я смотрю на них не только без ненависти, но даже с некоторым умилением. Мне все кажется, что каждая из них вот-вот проглотила одного из «легковесных», и хотя имя им легион, но я знаю, что и прожорливость кокотки ни с чем не сравненна, а потому надеюсь и жду.
Сознавая свое внутреннее бессилие, «легковесный» окапывается. Не сознавать такого очевидного факта он не может; ни для кого не тайна, что «легковесный» есть не что иное, как продукт временного затмения общественного смысла; что он всплыл наверх благодаря роковому сцеплению дурного свойства случайностей; что он нигде не встретит к себе ни сочувствия, ни уважения, потому что и за ним и перед ним — пустота и прах; что рано или поздно (и скорее рано, чем поздно) он пропадет сам собой, без шума и треска, не оставив на месте ничего, кроме ничтожной комариной погадки. Но пламень животолюбия горит в нем так сильно, что даже при полном сознании недолговечности он бодрится и строит кругом себя укрепления.
Признаюсь откровенно, я не верю в наши укрепления. Инженеры, что ли, наши несообразительны, но всегда как-то так выходит, что или укрепления выстраиваются совсем не там, где следует, или же что под видом укреплений воздвигаются карточные домики. Оттого, когда нам приходится палить, то мы или палим по своим, или убеждаемся, что без пороху палить невозможно. Было время (и довольно продолжительное), когда мы укреплялись и окапывались с особенным рвением, когда мы мечтали даже, что вот-вот окопаемся и от себя, и от целого мира. И что ж? — в ту самую минуту, когда мы с гордостью помышляли, что дело окапыванья наконец совершилось, когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-наплотно закупорить себя, как в бутылке, — вдруг оказалось, что инженеры по всей линии сплоховали и что в бутылку, бог весть откуда, налезло множество совсем ненужных элементов! Я живо помню отчаянье моего учителя географии при этом известии. Он до того понадеялся на родных инженеров, что даже в учебнике своем написал: «Россия есть бутылка, со всех сторон осмотрительно закупоренная» — и вдруг пришлось вновь обратиться к общепринятой терминологии и вновь переименовывать Россию из «бутылки» в «государство»! Я помню много и других отчаяний и изумлений, разразившихся по этому поводу, и с тех пор мною овладело сомнение. Я сомневаюсь не только в прочности, но даже в необходимости укреплений.
Вот, думаю я, уничтожены шлахбаумы — и сердце России не дрогнуло; упразднено крепостное право — и помещики сугубо возвеселились; сдан в архив откуп — и кабаки приумножились; наложена печать молчания на уездные и земские суды — и злодеи не только не торжествуют, но наипаче трепещут; найдена излишнею предупредительная цензура — и Хан с Богушевичем не дремлют! А ведь какие, казалось, твердыни и какого переполоха надлежало опасаться по поводу их падения! И ничего! не только ничего, но даже как будто этих твердынь совсем и не бывало! Это до такой степени поразительно, что можно идти далее и утверждать, пожалуй, что если признается нужным упразднить даже казенные палаты и особые о земских повинностях присутствия, то и эту невзгоду Россия выдержит с благоразумием, достойным всякой похвалы.
Когда я соображаю все это, то недоверие к укреплениям и окопам, воздвигаемым легковесными, усугубляется в душе моей еще более. Мне начинает даже казаться, что это вовсе и не окопы, а так, дрянные песочные стенки, кой-как слепленные собственными слюнями золотников.
Повторяю: я очень хорошо понимаю опасения «легковесных». Представлять собою одно ничтожество — и втайне сознавать это; не обретать в себе ни единой струны, которая служила бы связью с миром живых, — и в то же время сгорать жаждой навязать себя этому миру во что бы ни стало; ежеминутно волноваться вопросом: отчего же меня не бьют? и неужто я, во всех отношениях гадина омерзительная, до сих пор жив? — и в то же время ощущать, как стонет утроба от приливов животолюбия… воля ваша, едва ли найдется положение мучительнее этого! Напуганное воображение невольно вступает в свои права, овладевает всеми способностями, человека и начинает рисовать картины самого мрачного свойства.
Мир населяется грубиянами и беспокойными; тысячи ловушек, тысячи засад представляются умственному <взору>; куда ни обернись — везде посягательство, везде брешь, сквозь которую вот-вот ворвется неведомая какая-то сила и беспощадно выметет из жизни все непотребное и позорное… И чем спокойней поверхность окружающей трясины, чем меньше вскакивает на ней пузырей, чем тяжеле и глубже царствующее окрест безмолвие, тем подозрительнее озирается «легковесный», тем сомнительнее представляется ему будущее. Тут самое безмолвие принимает угрожающий характер, самые могилы как будто провещевают. «Нет! Это неспроста! не может быть, чтоб меня не били! Это интрига! это недостойный комплот!» — умозаключает «легковесный» и, гонимый страхами, начинает разгораться, разгораться… и злоумышлять.
«Вы меня презираете — хорошо! Я мирюсь с вашим презрением! В сущности, я не претендую ни на сочувствие, ни на уважение; я требую одного: чтоб меня трепетали!» Так вещает легковесный и, вслед за словом, начинает плести бесконечную сеть коварства и лжи, в чаянье опутать ею те остальные проблески истины и добра, которые светом своим оскорбляют, его взоры.
Я не нахожу нужным доказывать здесь, до какой степени страхи «легковесных» преждевременны и преувеличенны. Всматриваясь внимательно, я не вижу ни одного симптома, ни одного зловещего признака. Напротив того, все обстоит благополучно. Жизнь, конечно, делает свое дело, не останавливаясь, но никому до сих пор не приходило на мысль укорять ее в таких произвольных движениях, которые оправдывали бы торжество «легковесных» с их темною свитой угроз, предательства и коварства. Увы! в ней с большим основанием можно отыскать недостаток цепкости и бедность инициативы, нежели поползновение к забиячеству, ее скорее можно укорить в несокрушимом стремлении к застою, нежели в искании бурь. Смирно стоит она, в ожидании, не упадет ли с неба благодать, и ежели таковая упадает, то не бросается на нее с легкомысленностью ребенка, но с осмотрительностью мужа, сейчас оторванного от сна, рассматривает эту благодать и, насытивши взоры, вновь отправляется досыпать прерванный сон.
Против такого скромного течения жизни бесполезны всякого рода твердыни. Воздвигайте укрепления, устраивайте окопы — жизнь не тронется ими, ибо не заметит их. А ежели вдобавок вы начнете еще палить, то положительно перебьете только своих единомышленников. Те единицы, против которых собственно и направляются стрелы, ускользают легче, нежели можно предполагать. Они слишком разбросаны, слишком стоят особняком, чтобы направляемые в них удары были всегда метки и верны. Да притом, и влияние их вовсе не так заметно, чтобы можно было оправдать им необходимость пальбы. Желая достать их, вы истребляете множество неповинных, которые, не понимая причин тревоги, изумленными взорами вопрошают: за что ты дерешься?
Стало быть, первое доказательство бесполезности окопов заключается в том, что они не имеют цели и не вызываются необходимостью. Второе доказательство серьезнее. Жизнь самая скромная может наконец приметить, что против нее умышляется нечто недоброе, и заметить это тем скорее, чем чаще ей напоминают о том фальшивыми тревогами и искусственными страхами. С той минуты вопрос: за что ты дерешься? — мгновенно утрачивает всякий личный характер; он переходит из уст в уста, начинает интересовать умы обывателей и, постепенно овладевая их помыслами, становится в укор всем насущным потребностям дня. Обыватель делается самонадеян и даже отчасти нахален; хотя он не протестует против оплеух, но хочет уяснить себе это явление, хочет дойти до сознания, в каких случаях плюха с обстоятельствами дела согласна и в каких — нет. Казалось бы, что тут-то именно и ждать от твердынь благодати…
Увы! опыт доказывает, что в этих случаях твердыни сугубо несостоятельны. Во-первых, как ни усердствуйте, а всех перепалить ни под каким видом не разрешается; во-вторых, не следует терять из вида, что в обстоятельствах этого рода всегда играет немаловажную роль измена. Она незаметно пробирается в самое сердце твердынь и ядом своим растлевает сердца палителей. Поднимается свара и рознь в самом святилище; возникает мысль о предательстве; оказываются дезертиры; костюм ренегата становится très élégant et très porté.[18] И вот в одно прекрасное утро твердыни накрываются паутиною!
Да; вопрос: за что ты дерешься? — есть один из тех жизненных вопросов, к которым следует подходить с осмотрительностью. Будь я на месте «легковесных», я не только избегал бы случаев, могущих возбудить его, но даже если бы, паче чаянья, он упал ко мне с неба, то постарался бы ласкою и вежливым обращением так обворожить его, что он сам устыдился бы своей нескромности и поспешил бы лопнуть вместе с прочими пузырями, от времени до времени появляющимися на поверхности трясины.
Достигнуть этого вовсе не трудно. Чтобы сделать свое торжество прочным, «легковесным» следует только быть скромными. У них есть «Belle Hélène», есть танцклассы, есть канкан — чего еще нужно? Они могут наслаждаться этими благами на всей своей воле, — и конечно, никто не посягнет на их наслаждения, никто не заметит их. Нет спора, что они распространяют кругом предосудительную атмосферу глупости и бездельничества, но ведь и это дело поправимое: стоит только почаще курить. Одним слов<ом>, все шло бы отлично, если б не замешались тут ложные страхи и пагубная самонадеянность. «Легковесные», не довольствуясь скромной долей, для которой они предназначены самой природой, хотят буйствовать, хотят уязвлять, хотят возбуждать вопросы. Злополучные! они не понимают, что есть случаи, когда попасться на глаза уже значит пропасть, исчезнуть, погибнуть.
ИТОГИ
ГЛАВА V[19]
Первая редакция
К числу непомнящих родства слов, которые чаще всего подвергаются всякого рода произвольным толкованиям, несомненно принадлежит слово «анархия».
Герои улицы прибегают к этому выражению во всевозможных случаях. Прикасается ли человек к вопросам, имеющим общественный характер, ему кричат: «Что вы делаете? Разве вы не видите, что там, на дне, таится анархия!» Углубляется ли человек в самого себя — говорят, что он делает это неспроста, что он замышляет анархию. Предъявляет ли человек самые скромные требования к жизни, — его предостерегают, что всякое требование постепенно приведет за собою другие требования, а затем и анархию. Занятие науками считается анархией, занятие науками естественными — анархией сугубою.
Был момент, когда чуть ли не вся Россия была заподозрена в стремлении к анархии, когда только идиот да отъявленный жулик могли считать себя свободными от клички вроде анархиста, поджигателя, революционера, нигилиста и т. п. Это было время очень тяжелое, но что оно было — это ни для кого не тайна. И даже не момент продолжалась эта терроризация во имя анархии, а долго, дольше, чем можно вместить (и, однако ж, мы вместили), и характер ее был тем жестче, что накануне она сама считала свое дело проигранным и, следовательно, с наступлением благоприятного момента сочла долгом наверстать все прошлые неудачи. Накануне — ликование и скрежет зубов; назавтра — тоже ликование и скрежет зубов, но уже в обратном смысле. И какое ликование! с воплями, с гиканьем, с травлею, со всеми принадлежностями несомненно торжествующей дикости!
Накануне прогрессисты еще чувствовали себя неуязвимыми и, указывая на безграничное пространство, кричали: вперед! Под рукою они даже заявляли о своем сочувствии молодому поколению. «Это ничего, — говорили они, — что молодые люди увлекаются; наступит время, когда и им придется вспомнить, что они кость от костей наших!» И действительно, вспомнить пришлось не далее как назавтра, и так вспомнить, как не приходилось никогда до этого времени и как придется, быть может, вспоминать лишь в будущем, когда страна российская почувствует себя достаточно крепкою, чтоб разом покончить со всякими анархиями, гидрами, безднами и т. д.
В одно прекрасное утро вылезли из нор консерваторы с такими ожирелыми затылками, каких никто до тех пор не подозревал. Это были так называемые столпы. Они стекались отовсюду, свободно разгуливали по стогнам столичного города и едиными устами вопили: анархия! Из провинциальных берлог приезжали дикого вида люди, чтоб крикнуть это ужасное слово и затем вновь скрыться в берлогу. Патагонцы сводили счеты, припоминали прошлые обиды и все это сваливали в одну кучу под общим наименованием анархии. На первых порах они, разумеется, с особенной яростью набросились на прогрессистов, потому что у нас так уж заведено, что всякий человек прежде всего кусает своего соседа. И так как каждый прогрессист есть не что иное, как переодетый ретроград, то укусить его было не в пример сподручнее, нежели запускать зуб в мякоть более или менее неизведанную. И много исчезло тогда прогрессистов, яко исчезает дым, но большинство все-таки, извернулось и, смело сбросивши взятые напрокат одежды, в свою очередь благим матом закричало: анархия! Состоялся компромисс, в силу которого на одной стороне стали переодетые и непереодетые консерваторы, на другой — лишенные одежд птенцы. И досталось же тогда на орехи птенцам за то, что они легкомысленно поверили слову: вперед!
А между тем, стоит лишь пристальнее вникнуть в то значение, которое дается нашими уличными философами слову «анархия», и всякий убедится, что здесь все основано на самом вопиющем извращении понятий вполне ясных и не подлежащих спору.
В самом деле, что такое «анархия» в глазах уличной толпы? Анархия — это возбужденное состояние умов; анархия — это скептическое отношение к преданию, регулировавшему жизнь; анархия — это искание истины новой, уровень которой более подходит к уровню нарастающих нравственных и материальных условий жизни; анархия, наконец — это сама жизнь, выдвинувшаяся из старой колеи и пробивающая себе колею новую. Или, говоря иными словами, анархия — это все то, что обусловливает движение, прогресс. Ежели в обществе возникает сомнение в удовлетворительности идеалов, которыми оно до того времени руководилось, или в законности рамок, которыми оно добровольно или невольно ограничивало себя; если установившиеся веками отношения оказываются искусственными, стеснительными и ненужными; если человек заподозревает непререкаемость предания и делает попытку, независимо от предания, уяснить себе положение, которое он занимает в обществе и природе, — все это признаки, которые, по мнению уличной толпы, неразрывны с существованием анархии. А так как и самая история развития человеческих обществ есть не что иное, как история разложения масс под влиянием сознательной мысли, то очевидно, что и история не может быть ничем иным, как непрерывною анархией. И ежели уличная толпа не высказывает этого последнего заключения, то только потому, что она под именем истории разумеет тот или другой учебник, изданный для руководства в семинариях и кадетских корпусах.
Инициатива подобного рода мнений об анархии исходит обыкновенно от людей бессовестных и потому слывущих умными (у нас и до сих пор еще в ходу истина, что «умный человек не может быть не плутом»). Эти люди с удивительным умением пользуются истинами, которые по плечу толпе. Толпа обобщает с трудом; она не имеет ни подготовки, ни досуга для обобщений, ибо конкретность насущной минуты подавляет ее всецело. Поэтому ей понятны лишь истины, основанные на грубейшем эмпиризме, или такие, которые когда-то считались истинами, но за несостоятельностью покинуты мыслящей средою и пущены в обращение масс в виде истертой мелочи. Но толпе эти истины дороги, потому что у нее нет других, потому что доступ в область критической проверки еще закрыт для нее. Все это хорошо известно всякому имеющему дело с массами, всякому желающему иметь на них влияние. Но дело в том, что человек, не вполне разлученный с совестью, понимает, что созидать свой успех на истинах, признанных негодными, значит заведомо прибегать к обману, и потому останавливается перед таким предприятием. Напротив того, человек бессовестный и прожженный чувствует здесь себя совершенно свободным. А потому, когда он является домой и начинает утверждать, что косность есть жизнь, а движение — смерть, то толпа мгновенно захмелевает. Выделяются сонмища людей глупых и усердных, которые не могут различать ни того, на чьей стороне находится их интерес, ни того, куда собственно клонится речь ловких людей, вопиющих об анархии, а могут только во всякое время мгновенно наливаться кровью. Вот эти-то глупые люди и составляют так называемую стену, о которую разбивается прогрессирующая мысль. И — странное дело! несмотря на то что всеми их побуждениями руководит одна бессознательность, по временам они доходят до озлобления даже горшего, нежели то, которое питает их руководителей.
Начинается бред наяву. Глупые люди рассказывают друг другу анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных бесчинствах, сопряженных с «анархией». Об «авторитете» упоминается как о чем-то погибшем, поруганном, посрамленном. Толпа вздыхает и вместе с «авторитетом» мнит и себя погибшею, поруганною и посрамленною. Но попробуйте заставить любого из этих вздыхающих людей, чтоб он дал сколько-нибудь ясное определение предмета его воздыханий — и вы тщетно будете дожидаться ответа. Самые добросовестные выпучат глаза; бессовестные и прожженные изрыгнут ругательство и посулят нелегкое.
Что же такое в самом деле этот «авторитет», об охранении которого так стужается уличная толпа? В действительности это не что иное, как жизненный идеал, которым в данную минуту руководится общество или отдельный человек и уровень которого вполне соответствует уровню духовного и нравственного развития минуты. В этом соответствии заключается вся сила авторитета, все его жизненное значение; с исчезновением его идеал уступает место бессмысленному идолу, дальнейшее существование которого возможно лишь под условием бессознательности, возведенной в систему и поддерживаемой целым рядом насилий.
Но коль скоро сила авторитета находится в зависимости от его соответствия уровню потребностей жизни, то из этого само собой следует, что понятие о незыблемости авторитетов есть понятие по малой мере спорное. Он незыблем, покуда человек находит в нем прочную руководящую нить для жизни; но как скоро жизнь затопляет поставленные им грани — ясно, что наплыв новых требований должен затопить и износившийся от времени авторитет. При низкой степени человеческого развития авторитет представляется в самой грубой форме, или, говоря точнее, значение авторитета присвоивает себе все то, что может «приказать» и против чего «ничего не поделаешь» — кто же, однако, назовет подобный авторитет незыблемым? Можно ли назвать незыблемыми и множество других подобных же авторитетов, при посредстве которых человек некогда разъяснял все свои сомнения, но которые, в сущности, привели за собой лишь массу заблуждений, как, например: авторитет стихийных сил, авторитет безусловного подчинения природе и т. д.
Нет сомнения, что ответ на все эти вопросы может быть только отрицательный, ибо отрицание в этом случае подтверждается самою историей. Она доказывает, что авторитеты постепенно утрачивают свою первоначальную грубую форму и приобретают форму более тонкую и сложную. Не об авторитете, в смысле принципа, идет здесь речь, а об авторитете «имярек». Следовательно, ежели мы видим человека, который отрицает известный авторитет, то это не значит, что здесь отрицание захватывает самый принцип авторитета, а значит только, что оно простирается только на авторитет данный. Собственно говоря, во всех этих пресловутых отрицаниях даже отрицания никакого нет, а есть только перемещение авторитета из сферы низшей в высшую. Авторитет стихий заменяется авторитетом физической силы, авторитет физической силы — авторитетом силы нравственной и духовной; авторитет бессознательного подчинения природе — авторитетом сознательного отношения к ней. В чем же можно тут заподозрить подрыв? Терпит ли «авторитет», как принцип, от подобных перемещений?
Напротив того, здесь-то именно он и получает действительную прочность и силу. Прочность, о которой так много хлопочут сторонники «авторитета», приобретается лишь тогда, когда ослабляется приказательный характер авторитета и заменяется характером естественно-обязательным. Но очевидно, что эта нравственно обязательная сила может быть достигнута лишь тогда, когда человек относится к авторитету сознательно, когда он может дать себе ясный отчет в том, что и почему он в данном случае признает. Вот эту-то сознательность и имеют в виду те движения человеческой мысли, которым ошибочно присвояется название анархических. Не в ущерб авторитету возникают эти движения, а в видах его упрочнения, и не произвольно возникают, а именно тогда, когда старый авторитет обнаруживает себя недостаточно состоятельным, чтоб удержать мысль от колебаний, в которые повергает ее всякое руководящее начало, достоинство которого исключительно основано на бессознательном к нему доверии. Такого рода начала могут иногда до поры до времени поддерживать жизненный строй, но, в сущности, эта поддержка будет мнимая и человек, который решится проникнуть в те формы, которые она создает, не встретит внутри их ничего, кроме тления и праха.
Следовательно, ежели перед нашими глазами происходит в обществе движение, стремящееся расширить арену человеческой деятельности и освободить ее от связывающих ее пут, то, как бы ни поражало нас это движение своею необычностью, мы не вправе видеть в нем ни «анархии», ни так называемого «попрания авторитета». Остережемся, ибо хотя слово «анархия» кажется для всех ясным, но в действительности смысл его понятен лишь очень немногим. Употребляя это выражение без разбора, мы рискуем смешать его со словом «успех» и под предлогом упразднения бесчинств упразднить самое развитие жизни. И не то отдаленное развитие, которое сулят нам мечтатели и утописты, а развитие обыденное, без которого немыслим ни один шаг в человеческой жизни.
Пусть каждый вникнет ближе в собственную жизнь, и он увидит ее усеянною множеством всякого рода идолов, наводящих страх, уничтожающих самые законные проявления человеческого существа, благодаря нравственному оцепенению, в котором обретается большинство. И это не вчерашняя история, а очень давняя. Человечество прошло сквозь тьмы тем идолов, веруя им и ожидая от них спасения, покуда наконец избранные люди не доказывали, что спасения следует искать совсем в другом месте. К счастью для человечества, эти избранные люди никогда не вымирали окончательно, как никогда же не переводились и глупцы, кричавшие им вслед: анархия! Глупцов пугали страшные слова. «Ломать», «разрушать», «уничтожать» — этих страшных слов достаточно, чтобы привести толпу в тревожное состояние. Толпа не спрашивает ни того, что предполагается ломать, ни того, можно ли создать новое, не сломавши старого. Она бьется и изнемогает под игом всевозможных невольных союзов и искусственных комбинаций и не понимает того, что то недовольство, которое она ощущает, может быть устранено только устранением причин, его породивших. Ломать — это ломать, и ничего больше, вредный или благотворный смысл этого слова совершенно зависит от того, на какой предмет простирается его действие. Если известное установление или обычай существует давно, то это еще не значит, что он непогрешим и что следует безгранично терпеть его во имя одной его давности. Это значит только, что мир искони был наполнен людьми, которые пугались страшных слов. А те, которые страшных слов не пугаются, а говорят прямо, что ветхое ветхо, негодное негодно, — те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб. Христианство сломало языческий мир и утвердилось на его развалине — ужели тут было нечто похожее на анархию? Разрушенное крепостное право — ужели это анархия? Упраздненный винный откуп, уничтоженный инспекторский департамент гражданского ведомства — все это анархия, анархия, анархия? Нет, конечно, никто не заподозрит ничего анархического ни в одном из поименованных выше движений человеческой мысли. Так обобщайте же, милые люди, обобщайте! С помощью обобщений вы от инспекторского департамента дойдете до самых сложных комбинаций, которые, в сущности, столь же мало драгоценны, как и упомянутый выше департамент.
Таким образом оказывается, что искание анархии в том движении живой мысли, которая стремится дать формам человеческого общежития такую устойчивость, которая обеспечивала бы индивидуальное счастие, есть дело не только несправедливое, но и в высшей степени вредное по своим практическим последствиям. Это значит подрывать жизнь в самом корне, значит уничтожать всякую надежду на прогресс. Видя мужика, круглый год наполняющего свой желудок мякинным хлебом, мы не имеем права сказать, что таково нормальное и фаталистически предопределенное положение вещей, но обязаны верить, что оно изменится к лучшему. Иногда мы до того привыкаем к подобного рода зрелищу, что оно нимало даже не смущает нас, но это свидетельствует только о нашем притуплении и нимало не обязательно для людей, более чутких к воспринятию впечатлений. И когда эти люди напоминают нам, что хлеб с лебедою есть ненормальный хлеб, что мужик есть человек и как человек имеет право на свою долю человеческого счастия, мы не должны называть их ни анархистами, ни даже утопистами, а просто благонамеренными людьми, которые пробуждают нас от оцепенения и не дают нам коснеть в фаталистическом индифферентизме.
Не справедливее ли будет, если мы назовем анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает, убежденное, что все, что предстояло ему совершить, благополучно совершено и далее идти некуда? — вот вопрос, которого разрешение несравненно интереснее, нежели голословные и, в сущности, ничего не разъясняющие обвинения в попраниях, глумлениях, ломках и разрушениях.
Если б возможно было предположить, что общество — не говоря уже о современном обществе, а просто когда-нибудь в отдаленном будущем — получит право сказать, что все предстоявшие ему задачи разрешены, тогда, конечно, следовало бы допустить и осуществление для него так называемого «золотого века». «Золотой век не позади, а впереди нас», — сказал один из лучших людей нашего времени, и, конечно, в этой фразе нет ничего ни смешного, ни преувеличенного, потому что человек так уж устроен, что ему непременно хочется золотого века, и во всяком признаке прогресса он видит приближение его. Но это все-таки золотой век относительный, то есть тот, который возможен по условиям данного времени. Что же касается до абсолютного золотого века, до той минуты успокоения, самодовольства и духовного и материального равновесия, когда человек найдет основание счесть себя опочившим от дел, то предположение о таком порядке вещей по малой мере не имеет за себя ничего верного и решительного. До сих пор творчество природы, как и личное творчество самого человека, представляются нам бесконечными. Природа представляет нам неистощимый родник открытий, человек, с своей стороны, заключает в себе неистощимый родник анализирующей и обобщающей силы. Кто может сказать, какая миллионная часть сил природы не представляет для нас таинства? кто может сказать, какая миллионная часть собственных сил и способностей человека открыта ему? Даже внешние признаки планеты, которую человек населяет, далеко не вполне известны ему, и тот преемственный прирост новых племен, новых произведений природы прямо доказывает, что арена человеческой промышленности все больше и больше расширяется. Кончится ли когда-нибудь этот прирост и что станется с нашей планетой, когда он кончится? погибнет ли она или будет свидетельницей общего блаженства? — обо всем этом можно только гадать, но утвердительных ответов на эти вопросы дать нельзя.
«Но мир открытий есть мир науки — никто и не мешает последней иметь с ними дело». Так возражают обыкновенно те близорукие люди, которые во что бы то ни стало хотят поставить непроницаемую перегородку между наукой и жизнью. Однако ж эти люди заблуждаются очень грубо. В жизни, как и в природе, нет ничего стоящего особняком, а ежели мы и видим попытки организовать насильственное особничество, то попытки эти всегда кончаются не менее насильственным разрывом искусственно воздвигаемых перегородок и форм. Несмотря на то что уличная толпа и до сих пор не усматривает живой связи между жизнью науки и ее собственною обыденною жизнью, разлагающее влияние первой на последнюю не требует даже доказательств. Самый жалкий адепт бессознательности, сам того не подозревая, пользуется плодами освобождения от уз, которые приносит с собой наука. Он пользуется сравнительно большим довольством, нежели столь же бессознательный отец его, он чувствует себя в более разумных отношениях к окружающей природе, сознает себя освобожденным от множества страхов и опасностей, которые сопровождали каждый шаг его предка. И ежели, благодаря его неразвитости, новое вино продолжает еще бродить в старых мехах, то придет же наконец минута, когда старые мехи разорвутся, и тогда сами собой разлетятся в прах все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассириянами, вавилонянами, римлянами, греками и т. д.
Таким образом, даже говоря абсолютно, никак нельзя утверждать, чтобы для человечества когда-нибудь могла наступить эпоха полного успокоения. Гораздо с большим правом можно предположить, что прогресс изменит характер (как он изменяет его и теперь, постепенно переходя из области политической в область общественную), но что он будет продолжать свое действие — это, кажется, не должно подлежать сомнению. Тем менее права на подобное успокоение мы можем признать за временами более близкими нам и тем меньше можем отказывать в сочувствии тому духу движения, который обнаруживается перед нашими глазами. Если нас смущает неправильность проявлений этого духа, то мы не должны забывать, что эта неправильность отнюдь не составляет его органического недостатка, но есть последствие условий времени и недостаточности нравственного и духовного развития современного общества.
Стоит оглянуться кругом себя, чтобы понять, до какой степени самонадеянны мечты тех, которые предумышленно или бессознательно мнят себя достигшими пристани. Сколько обделенных или считающих себя обделенными! сколько униженных и оскорбленных! сколько людей, до сих пор поставленных судьбой вне пределов истории! сколько людей, одаренных природой и не знающих, что делать с этими дарами! сколько препятствий при проявлении самых законнейших требований природы человеческого существа! Естественно ли, чтоб все это смолкло, застыло, добровольно покрыло себя пеплом забвения? Чтобы правильно ответить на этот вопрос, пусть всякий сторонник успокоения обратится к своей совести и мысленно поставит самого себя за пределы истории.
Жизнь знает, что самый вопрос, поставленный в этой форме, есть вопрос безумный, и потому отвечает на него по-своему. Она поступается целостью форм, завещанных преданием; она дает жизнь новым элементам, узаконяет тех, которые в смысле политическом и историческом считались не имеющими рода и племени. Поступая таким образом, она не делает ничего необычайного, а только совершенствует саму себя. Мешать ей в этом значит идти наперекор основных ее законов, значит быть нарушителем естественного ее хода, значит быть подрывателем, попирателем, разрушителем, анархистом.
Да; истинные анархисты не там, где их обыкновенно указывают, а там, в той окрепшей среде, которая все готова остановить, на всю природу набросить покров забвения, чтобы только ничто не мешало ей предаваться дешевым утешениям праздности. И когда эти праздные и себялюбивые мечтатели, при помощи горькой случайности, одерживают в обществе верх, тогда, действительно, наступает самая горчайшая из всех анархий, о которых когда-либо свидетельствовала история.
Замечательно, что никогда так называемые анархисты, то есть сторонники прогресса, не действовали с такою ужасающею жестокостью, с какою всегда и везде поступали анархисты успокоения. Одичалые консерваторы современной Франции в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия самые дикие из приверженцев Парижской коммуны. И все это делается во имя успокоения, во имя того самого успокоения, которое самый самодовольный из членов одичалой корпорации считает невозможным. Пусть же этот факт будет замечен, пусть послужит он мерилом для сравнения последствий, которые влечет за собой торжество той или другой партии. А если прибавить к тому, что жертвами анархии успокоения являются обыкновенно люди, находящиеся в полном развитии сил, и что, следовательно, с исчезновением их подсекается жатва будущего, то ясность факта сделается еще более непререкаемою и очевидною.
Допустим, однако ж, что успокоение, которого так добиваются философы уличной толпы, наконец достигнуто — в чем же заключается его сущность? в том ли, что общество действительно придет к обладанию всеми материальными и духовными благами, сумма которых составляет то, что обыкновенно называется счастием? в том ли, что оно найдет себе руководящую нить, при посредстве которой устранятся терзающие его колебания? в том ли, наконец, что, не овладев еще счастием, оно увидит мерцание его животворящего луча?
Нет, ничего подобного не даст это хваленое успокоение; оно не даст ни счастья, ни даже надежды на него. Успокоение — это прекращение жизненного процесса, и ничего больше,
Когда жизнь застывает, то людям близоруким кажется, что все, подлежавшее достижению, достигнуто и более идти некуда. Но в действительности достигнута только анархия, то есть господство горчайшего из насилий, какое только может себе представить человеческий ум.
Обделенные не протестуют, униженные не поднимают головы; поставленные вне пределов истории не порываются перешагнуть эти пределы. Все это правда. Но неправда то, что в этом отсутствии протеста, в этой безгласности они нашли себе удовлетворение. Они все-таки остаются обделенными, униженными и поставленными вне пределов истории и не протестуют только потому, что находятся в оцепенении.
Когда общество находится в оцепенении, оно не может иметь ни стремлений, ни руководящих идей. Оно или просто-напросто гниет под игом бессознательности, или же бредет как попало, не имея впереди ни цели, ни светящегося пункта. Это общество, доведенное до отчаяния, до изнурения; это общество, у которого нет другого девиза, кроме одного: «не твое дело».
Можно ли придумать девиз более анархический, более противный человеческой природе?
Ответ на этот вопрос до такой степени не подлежит сомнению, что даже поборники успокоения понимают, что невозможно серьезно уверить человека, что ему нет дела до самого себя. Было время, когда девиз «не твое дело» прилагался в самых широких размерах, когда на нем одном основывалась вся жизнь, но это время принесло плоды горькие, и в настоящее время нет того идиота, который бы не сознавал этого. Но, отвергая девиз в его наготе, мы тем не менее отнюдь не отказываемся от его сущности. Мы придумываем бесчисленное множество перегородок, которыми и делим жизнь на две совершенно независимые друг от друга половины: заповедную и дозволенную. В дозволенной половине отводится место всем мелочам и подробностям жизни, то есть всему тому, что в действительности не дает никакого удовлетворения, а только обманывает; в заповедной половине прячется все то, что действительно развязывает руки и дает человеку возможность сознавать себя человеком. И когда затем нам говорят, что девиз «не твое дело» нимало не утратил своего господствующего значения, мы оскорбляемся, негодуем, перечисляем по пальцам и кричим: анархия!
А анархия-то в том именно и заключается, что ум человеческий утрачивает способность обобщений и весь погружается в тину мелочей и подробностей. Охваченный со всех сторон миниатюрнейшими интересами, он находится под игом непрерывающегося обольщения, живет не действительною здоровою жизнью, а жизненным маревом. Нет широких убеждений, нет великих целей, нет стремлений и идеалов — отовсюду выглядывают жалкие обрывки, стоящие особняком, не соединенные между собой никакою связующей идеей.
Два фрагмента третьей редакции
1
Недавно один известный адвокат дал очень удачную характеристику тех уличных воззрений, которые до сих пор считаются у нас высшим критериумом для оценки человеческой деятельности. «У каждого из нас, — сказал он, — была такая пора, когда он смотрел титаном, готовым весь мир обнять, пересоздать и превратить в рай; потом пора эта проходит, титан возвращается к обыденным занятиям и становится добродушным филистером». Определение это очень верно, не в том, конечно, смысле, что оно разделяет человеческую деятельность на две неизбежные половины: одну — титаническую, другую — филистерскую, и делает последнюю как бы венцом всей жизни (если б это было так, если б титанство было только ступенью к филистерству, то на это явление самый преисполненный страхов человек не стал бы смотреть серьезно: пускай, мол, молодые люди потитанствуют, все равно все там будут!), а в том отношении, что чрезвычайно метко выражает те взгляды, которые на толкучем рынке пользуются безграничным кредитом. Момент, когда человек сознает себя титаном, когда он мечтает «превратить мир в рай» — это момент, когда общество вправе ожидать от него всевозможных бесчинств; напротив того, момент, когда человек, познав тщету общих идей и общих интересов, становится филистером — это момент, когда общество с уверенностью может возложить на него свои упованья. Свежее, сильное, самоотверженное — это погибель; гнилое, дряблое, лукавосебялюбивое — это оплот. Здесь вся сущность уличной доктрины и базис для дальнейших оценок <и> определений. Если вы будете сообразоваться с этой доктриной — вы будете почтены; если вы не хотите сообразоваться, то вольны сделать и это. Но помните, что «не сообразоваться» можно только под личною за сие ответственностью. Не горячитесь, титанствуйте понемножку, и притом так, чтобы можно было заранее хоть приблизительно определить момент вашего превращения в филистера. Попробуйте потитанствовать не в меру, и вы увидите, что вам даже не дадут возможности своевременно увенчать свою жизнь превращением в добродушного филистера.
2
Так бы оно, конечно, и было, если б ловкие люди и тут не сумели отыскать для себя лазейку. Все дело, как мы сказали, в том, чтоб человек массы понял, где находится его интерес, чтоб он не механически только пользовался освобождением от уз, а сознал как значение этого освобождения, так и источник, из которого оно к нему пришло. Что момент этого сознания, тот момент, когда человек получит возможность критически относиться к насущной действительности и отсюда делать посылки к будущему, рано или поздно наступит для него, — это не подлежит никакому сомнению; но нельзя не сознаться, что путь, который в этом случае ему предстоит совершить, есть путь в высшей степени трудный и загроможденный всякого рода преткновениями. Дело в том, что общие задачи человечества встречаются здесь с задачами ловких людей, имеющими характер совершенно противоположный. Ловкие люди знают, что момент сознательности будет моментом суда над ними, но сверх того они знают и то, что покуда этот момент не наступил, они все-таки остаются полными властелинами той безапелляционной исторической силы, которая одних призывает к действию, других устраняет от нее. И вот с пособием этой силы навстречу человеку массы идет весь арсенал консервативно-анархических орудий: и систематическое утверждение невежества, и прямая угроза, и хитрость, и… даже либерализм. А так как к последнему средству наши патентованные анархисты начали с недавнего времени прибегать с особенною охотой (это и немудрено, потому что даже для них уже стало ясно, что толпа все-таки смотрит на либерализм благосклоннее, нежели на простое оглушение), то здесь нелишне будет рассмотреть, в чем заключается сущность этого пресловутого консервативного либерализма, результатом которого, по мнению ловких людей, должно быть общее успокоение.
Консервативный либерализм — это уступка подробностей и мелочей; это прогресс, изготовляемый в виде обрывков, плавающих там и сям на обширной поверхности жизни; это не прямой и голый отказ, но отказ, сопровождаемый изворотом и заключающий в себе спекуляцию на человеческое легковерие.
Было время, когда наше общество не имело другого девиза, кроме пресловутого «не твое дело». Девиз этот прилагался в самых широких размерах, и притом с такою ясностью, которая не допускала даже недоразумений. «Не твое дело», — говорилось всем и каждому, и все и каждый понимали значение этого девиза и сообразно с ним поручали свои души и тела тому Неизвестному и Непредвидимому, от которого ни оборониться, ни спастись невозможно. Коли хотите, это был своего рода порядок, правда похожий на сатурналию, но все-таки порядок, которому наивно удивлялись даже люди, не чуждые порядков иных. Все, как один! правой — левой! вперед, назад! — картина такого единства действия соблазняла. Сатурналию разгадали уже позднее, когда созрели плоды этого диковинного порядка, когда пришлось их вкушать и когда они оказались гнилыми и отвратительными на вкус. Это была минута откровения. Многие тогда догадались, что порядок, имеющий в своем основании девиз «не твое дело», хорош только до тех пор, покуда внешние обстоятельства разрешают обществу спокойно гнить и покуда оно само не увидит, что гниение только по наружности спокойно, но в сущности влечет за собой всякого рода унижения и обиды, которые рано или поздно приходится выносить на своих боках. Но, добравшись до этой истины, догадливые люди, вместо того чтоб серьезно анализировать основы насущного положения вещей и обратиться к основам иным, впали в сентиментальность, начали целоваться и обниматься друг с другом и ударились в мелочи и подробности, как будто факт всецело разлагающийся может быть сплочен частными спайками и заклепками.
Это была ошибка со стороны догадливых людей, хотя нельзя не сознаться, что впасть в эту ошибку было весьма нетрудно. Откуда вышли наши догадливые люди? — они вышли непосредственно из того порядка, в основании которого лежало «не твое дело». Но такого рода порядок имеет ту особенность, что он не всего человека ошеломляет, а губит в нем лишь общий смысл жизни, делает его неспособным к обобщениям. Человек перестает быть живым членом общества, но право прозябания, право жизненных отправлений не отнимается от него. У него есть отдельный угол, в котором он даже может временно схорониться от оглушений. Время освящает для него этот угол, делает его мерилом всех желаний, и надежд в будущем. В пределах его он чувствует нечто похожее на самостоятельность, за порогом — не видит ничего, кроме людей, производящих порядок и, разумеется, принимающих соответственные сему меропри<ятия>. Понятно, что для него это единственная жизненная подробность, с которою он мирится вполне искренно, и что представление о ее незатейливых удобствах он переносит с собой всюду, куда бы ни кинул его случай или житейская нужда. Не широких удобств общественности требует он от жизни, а мелких и отрицательных удобств домашнего очага, вполне характеризующихся выражением: «я никого не трогаю, не трогайте и меня». Находясь в дороге, он думает: хорошо, кабы не попался встречу насадитель порядка, в лице исправника, кабы не подломился мост, кабы в лесу не напали лихие люди, кабы не притеснил станционный смотритель, кабы поздорову воротиться домой. На базаре он думает: хорошо, кабы не попасться на глаза насадителю порядка, в лице квартального, кабы не обсчитал купчина, кабы не засадили в кутузку, кабы поздорову воротиться домой. Идя в суд, он думает: хорошо, кабы рассудили по-божески, кабы не засудили вконец, кабы поздорову воротиться домой. Все эти подробности мелькают в голове человека беспрерывно, но только подробности, и ничего больше. Связи, существующей между ними, он обнять не может, зависимости их от иного, высшего порядка — тоже. Он не прочь воротиться домой поздорову, но как устроить это — он даже не пытается формулировать, ибо девиз «не твое дело» столь ясен на этот счет, что даже не допускает никаких попыток в этом смысле.
Представьте же себе теперь этого человека, с головы до ног пропитанного доктриною, заключающеюся в девизе «не твое дело», и в то же время догадывающегося, по отвратительному вкусу ее плодов, что девиз, которым он до сих пор руководствовался, есть девиз фальшивый. Что прежде всего представится его уму в первую минуту, как только он почувствует себя свободным от давившего его кошмара? Очевидно, ему представятся те подробности, с которыми он вырос и на которых было утверждено его воспитание. Он припомнит все, что его стесняло, кололо и удручало, и на всякую отрывочно припоминаемую подробность попытается наложить заплату. И будет таким образом починивать то в одном, то в другом месте, без системы по мере припоминания, покуда не встретится лицом к лицу с всеобщею неудачею. Да и тогда он вряд ли отрезвится, а скорее всего, свалит вину на новость предприятия и на собственное неискусство в деле починок.
Вот тут-то, в этом бесплодном бродяжничестве по полю подробностей, и настигает общество так называемый консервативный либерализм. «Вы жалуетесь, — говорит он, — что вам на каждом шагу говорили «не твое дело», что вы не могли выйти из дому, не опасаясь, чтоб вас не настиг насадитель порядка, не обсчитал купчина, не засудил суд. Хорошо, мы устроим все это для вас таким образом, что вам придется только пожинать плоды. Мы припугнем исправника, заберем в руки купчину и дадим судей, которые изумят мир благородством манер. В одно прекрасное утро вы проснетесь, и все кругом вас будет первый сорт. Но затем живите скромно, помните, что требования ваши удовлетворены, и не явите себя неблагодарными».
Что же такое, однако ж, в сущности, эти подробности, об исправлении которых так радеют наши либеральные консерваторы? Подробности — это такие эпизоды общественной жизни, которые возникают из условий данной минуты, затем изменяются, развиваются или упраздняются тоже согласно с условиями другой данной минуты, и совокупность которых не только немыслимо устроить наперед, но даже и предвидеть нельзя. Это не существенное основание жизни, а только одна из внешних ее принадлежностей, которая вырабатывается жизнью и ею же и устраивается. Дайте жизни широкое и разумное основание, подробности организируются сами собою, сообразно с главными основами жизни. Вот естественный ход вещей, и глубоко заблуждаются те, которые к подробностям хотят применить общие основания. Самый лучший исправник все-таки человек, который имеет свое миросозерцание, может не понимать известных явлений и вообще на каждом шагу впадать в ошибки. Но, кроме того, чтобы основать известный строй вещей на одной уверенности в добросовестности того или другого общественного деятеля, нужно предположить в нем такое напряженное состояние нравственных и духовных сил, которое ни на минуту не изменяло бы самому себе. А между тем опыт представляет нам самые убедительные примеры совершенно противного. Да оно и в природе вещей. Как бы ни был нестомчив исправник, не может же он ежеминутно ловить неблагонадежных и неблагонамеренных людей. Подобно прочим смертным, он чувствует потребность отобедать, погулять, выспаться. Кто же во время этих естественных жизненных отправлений будет исправлять его обязанности? Или же на сей раз временно допускается анархия?
Таким образом, когда либералы-консерваторы делают уступки относительно мелочей и проходят молчанием главные основания жизни, они поступают совершенно наоборот естественному ходу вещей. Понятно, что и результат бывает совершенно обратный, так что иное либеральное предприятие, по наружности сулящее бог весть какие последствия, в сущности разрешается совершенно ничем. Прекраснейший судья может, сколько ему угодно, оставаться прекраснейшим судьей, и ежели он очень наивен, то будет не без горестного изумления замечать, как прекраснейшие дела возникают и разрешаются в обществе, не заглядывая в его камеру. Если же он не наивен, то поймет, что прекраснейшим судьею ему даже быть невозможно. Точно такая же участь ожидает и прекраснейшего исправника, если он, в разгаре своих прекрасных действий, вдруг услышит простое и короткое слово: довольно! На первых порах он, быть может, усомнится, но подтверждение не замедлит, а за ним, конечно, не замедлит и тот акт, который так верно характеризуется русскою поговоркою: на все махнуть рукой.
Да; «махнуть на все рукой» — вот единственный исход всевозможных либерально-консервативных затей, и, к сожалению, мы собственным опытом испытываем на себе всю тяжесть такого исхода. Нет человека, сознательно относящегося к жизни, который не сказал бы себе это, который не смотрел бы на проходящие перед его глазами факты, как на марево. Исключение составляют или люди, специяльно занимающиеся уловлением анархии, или же нищие духом, которые, погрязши в подробностях, совершенно утратили способность возвышаться до общих идей. Для первых — это вопрос самозащиты, вопрос ограждения их личных интересов от наплыва действительно либеральных стремлений; для вторых — это просто вопрос умственной их ограниченности, на которую не может действовать даже неуспех их усилий.
Поэтому, когда говорят, что уступка мелочей и подробностей есть не что иное, как спекуляция на человеческое легкомыслие, что это тот же отказ, но сопряженный с изворотом; когда утверждают, что при господстве подобных уступок девиз «не твое дело» нимало не упраздняется; когда, наконец, доказывают, что в изобилии мелочей и подробностей заключается злейшая из всех возможных анархий, ибо человек, охваченный свитой миниатюрных интересов, теряет из вида великие жизненные цели и принимает за действительное благо то, что, в сущности, составляет лишь ничтожнейший атом его, не имеющий силы, благодаря своему уединенному положению; когда говорят, утверждают и доказывают все это, тогда говорят, утверждают и доказывают истину, уяснение которой составляет самую насущную потребность общества, утратившего представление об общих основаниях жизни.
А эта истина влечет за собой другую истину: указание действительных анархистов, разрушителей и попирателей, в лице либералов-консерваторов (увы! нынче у нас уж нет просто консерваторов!), идущих наперекор естественному ходу жизни, подрывающих ее истинные основания и отдающих общество в жертву всевозможным колебаниям и страхам. Вот единственные разрушители, которых общество должно остерегаться, единственные анархисты, на которых оно должно указывать как на врагов своих, единственные утописты, вращающиеся в пустоте и бессильные когда-либо выбиться из нее. У них одних нет руководящих начал, для них одних будущее подобно бездонным хлябям, преисполненным неизвестности и тьмы.
И когда эти праздные и самолюбивые мечтатели одерживают, благодаря горькой случайности, верх в обществе, тогда зло делается единственным двигателем человеческих действий и ненависть — единственным регулятором общественных отношений.
ПРИМЕЧАНИЯ
САТИРА ИЗ «ИСКРЫ» ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ
Впервые — «Искра», 1870, № 6, 5 февраля, стр. 209–216, № 8, 19 февраля, стр. 289–296, № 11, 12 марта, стр. 385–390; подпись: Посторонний наблюдатель. Авторство Салтыкова установлено В. В. Гиппиусом — см. его статью «М. Е. Салтыков — сотрудник «Искры» в «Ученых записках Пермского гос. университета», № 1, Общественные науки, вып. 1, 1929, стр. 43–66. Текст сатиры был перепечатан в ЛН, т. 11/12, стр. 274–276, с комментарием Вас. Гиппиуса, который, с некоторыми сокращениями, и использован для настоящего издания. Текст сатиры печатается по журналу «Искра».
Салтыков высмеивает в «Похвале легкомыслию» дворянский либерализм, отождествляя его с той самой дворянской реакцией, от которой либералы сами на словах отмежевывались. Основными тезисами российского либерализма эпохи реформ оказались сентенции: «сначала всё уступи, дабы впоследствии всем воспользоваться» и «пользуйся, но так, чтобы никто не заметил». К этим тезисам присоединяется третий — откровенно реакционный: «будь счастлив и не взирай» (то есть не размышляй). И если первым двум тезисам иронически предпочтены правила обывательски-благонамеренной морали: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся» и «ничем не пользуйся, и пусть все замечают», — третий тезис пришлось ограничить с точки зрения той же морали: «взирай, но взирай с рассмотрением».
«Похвала легкомыслию» органически связана с салтыковской сатирой 60-х годов, когда Салтыков вступил в решительную борьбу с либерализмом. В «Похвале» откликаются мысли и образы «Нашей общественной жизни» (1863–1864), «Писем о провинции» (особенно двух первых — 1868), «Признаков времени» (особенно очерк «Легковесные» — 1868). С другой стороны, многое из намеченного в «Похвале» получило развитие в дальнейшем творчестве Салтыкова: в «Итогах» (1871), «Дневнике провинциала в Петербурге» (1872), в «Современной идиллии», «Пестрых письмах» и других циклах. Но особенно близка «Похвала» сказке «Либерал» (1885). Написанная уже в иной исторической обстановке, после запрета «Народной воли», в разгар победоносцевщины, она усиливает, сгущает то, о чем в 1870 г. можно было говорить сравнительно мягко. Тезисы об уступках превращаются здесь в три правила общественного поведения либерала: «по мере возможности», «хоть что-нибудь» и, наконец, «применительно к подлости», после чего либерал получает заслуженный плевок в лицо. Эту именно сказку использовал В. И. Ленин в борьбе с народнической публицистикой — в работе 1894 г. «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».
Если сказка «Либерал» дает «эволюцию российского либерала» в предельно метких и обобщенных образах и формулах, причем задевает не одно либеральное дворянство, но и оформившийся к этому времени мелкобуржуазный либерализм и оппортунизм, то история этих образов и формул в творчестве Салтыкова естественно приобретает особый интерес. В этой истории особое место принадлежит «Похвале легкомыслию» — широко развернутому сатирическому фельетону на тему о судьбах российского либерализма (в данном контексте в первую очередь — дворянского).
Заглавие сатиры связывается с первой фразой «Хищников» (1869): «Пою похвалу силе и презрение к слабости». Прототипом этих ироничееких «похвал» была, конечно, знаменитая «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Парадоксальная защита враждебной точки зрения — для окончательного ее разоблачения, по методу «приведения к нелепости» — характерна для многих сатир Салтыкова (ср. «Круглый год», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке»).
Стр. 402. За всем тем Афины пали… — Падение Афин, так же как и Гибель Рима, — обычные для Салтыкова сопоставления для обозначения неизбежности конца исторически изживших себя, но физически еще существующих явлений действительности. Ср. также в «Письмах к тетеньке»: «Вспомните древних римлян: заблуждались они, заблуждались, а что из этого вышло? сначала падение Западной Римской империи, а потом и Восточной».
Стр. 403…вытаскивать <…> те бирюльки, которые на потребу. — Вытаскивание бирюлек — один из образов салтыковской сатиры для обозначения случайности мыслей и поступков у людей, не обладающих цельным мировоззрением и определенными идеалами. Этот образ встречается в аналогичном смысле в «Наших глуповских делах» (1861), «Дневнике провинциала…» (1872), «Недоконченных беседах» (1873), «Письмах к тетеньке» (1882), «Пестрых письмах» (1884).
…сделаны были распоряжения об открытии Америки. — Остроты об «открытии» и «закрытии» Америки по распоряжению начальства см. также в «Господах ташкентцах» (1869–1872), где директор департамента обращается к своему подчиненному со словами: «Любезный друг, я желал бы, чтобы вы открыли Америку», в «Характерах» (1860), в рукописной редакции «Сказки о ретивом начальнике» (1882).
Стр. 405…суворовское: заманивай его, братцы, заманивай! — Этим возгласом Суворов в битве у реки Треббии с французами во время Итальянского похода (1799) подбодрил и заставил остановиться один из русских полков, бежавший под натиском неприятеля.
Стр. 407. Сравнивая эти две школы легкомыслия, из которых одна говорит: «сначала все уступи, а потом всем пользуйся», а другая вещает: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся»… — Два противоположных тезиса легкомыслия имеют тонкие отличия друг от друга, связанные с оттенками идеологии и поведения реальных объектов сатиры. При всем том главный яд сатиры заключается в отсутствии существенной разницы между тезисами: «пользоваться» (подразумевается — гражданскими и политическими правами) все равно не придется ни «уступающим» либеральным политикам, ни аполитичным обывателям (которым и «уступать»-то нечего). Это сближает «тезисы легкомыслия» с другими примерами мнимо-противоположных сентенций в щедринской сатире. В очерке «На заре ты ее не буди» (1864) консерваторы говорят: «шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай», «красные» возражают: «отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед». В главе четвертой «Экскурсии в область умеренности и аккуратности» в том же смысле сопоставляются сентенции: «доверься, но доводи до сведения; предоставь, но смотри в оба» и более «превосходные»: «доводи до сведения, но доверься», «смотри в оба, но предоставь».
Стр. 408…прошу ко мне отобедать, но предупреждаю, что вы должны так отобедать, чтобы я этого не заметил… — Подобное приглашение «откушать незаметно» фигурирует также в IV главе «Итогов» (см. стр. 469).
Стр. 410. Сельская радость <…>. Права. <…> Обязанности. — Эпизод о конституции для крепостных, введенной Андрюшей Гнусиковым, представляет собою вариант аналогичного эпизода из очерка «В деревне» (1863), предшественник Гнусикова — помещик Многоболтаев. Мотив помещичьей конституции был впоследствии использован Терпигоревым в «Оскудении». Самый текст конституции имеет в творчестве Салтыкова несколько параллелей: законодательство Беневоленского в «Истории одного города», «Устав вольного союза пенкоснимателей» в «Дневнике провинциала…», проекты Феденьки Кротикова в «Помпадуре борьбы» и особенно «Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении» в восьмой главе «Современной идиллии». В этом уставе каждая «свобода» обставлена теми же оговорками, что и в гнусиковской конституции.
Стр. 412…по-старинному: я «приказал», а выборные гнусиковской земли «приговорили» <…>. Как в Новгороде <…> или то бишь в Москве! — Отождествляя формы правления «Вольного Новгорода», «Москвы боярской» и «конституционные» установления «либерального» помещика Гнусикова, Салтыков проводит мысль о том, что в историческом прошлом России и в ее послереформенном настоящем народ и общество по существу всегда находились вне активного участия в политической жизни. В этой мысли содержится полемический выпад против теории «двух начал» — вечевого и единодержавного — известного историка Н. И. Костомарова. Его книгу «Северно-русские народоправства» (1863) Салтыков имеет в виду в словах: «Да и костомаровские «Народоправства» были еще у всех в свежей памяти» (стр. 413).
Стр. 418…надлежало бы привести здесь несколько биографий знаменитых мужей… — Неосуществленный замысел «биографий знаменитых мужей, которые наиболее прославились своим легкомыслием», ср. с упоминанием о мужах, которые «наиболее прославились неуклонностью», в «Истории одного города».
ИТОГИ
Первые четыре главы впервые — ОЗ, 1871, № 1, стр. 123–136; № 2 стр. 303–314; № 3, стр. 178–185; № 4, стр. 327–345 (вып. в свет соответственно 17 янв., 22 февр., 17 марта, 16 апр.). Без подписи. Пятую главу Салтыкову опубликовать не удалось (см. ниже).
Рукописи первых четырех глав неизвестны. Эти главы были перепечатаны во втором томе «Сочинений М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина)», СПб. 1889, стр. 467–509. Первоначально Салтыков предполагал повторить здесь текст ОЗ.[20] Однако «Итоги» появились в «Сочинениях» с изменениями и сокращениями, которые могли быть сделаны только автором. Эта окончательная редакция и воспроизводится в настоящем издании. Приводим один из вариантов ОЗ:
К стр. 453, после абзаца «Утвердительный ответ в пользу выхода…»:
Для них приятно и не безвыгодно, что существуют пламенные люди, которые готовы усыплять общественное мнение картинами всероссийского прогресса; но в то же время самое слово «прогресс» настолько противно что они не желают даже одним упоминовением об нем заявить о своей солидарности с ним. Эта последняя обязанность всецело возлагается на прогрессистов, которые таким образом, сами того не сознавая, являются очень удобными орудиями и застрельщиками самых яростных консерваторов.
Пятая глава «Итогов», написанная в июле или начале августа 1871 г. (см. ниже), была уже отпечатана в августовской книжке ОЗ за 1871 г., но по представлении этой книжки журнала в цензуру обратила на себя внимание председателя С.-Петербургского цензурного комитета А Петрова. В донесении от 16 августа начальнику Главного управления по делам печати М. Р. Шидловскому он писал: «Преследовать судом за эту статью невозможно. По моему мнению, даже неудобно было бы мотивировать административное взыскание; но она обличает направление журнала».[21] 31 августа 1871 г. Салтыков сообщил А. М. Жемчужникову: «Я в августовской книжке поместил статью совершенно спокойную по тону, в которой доказывал, что слово «анархия» употребляется в ненадлежащем смысле и что анархистами должны называться собственно те, которые ставят преграду прогрессу, — и должен был эту статью вырезать ввиду угроз для журнала».
Окончательный авторский текст пятой главы неизвестен. Сохранились лишь черновые автографы с отдельными перебеленными Салтыковым страницами. Два из них содержат текст двух более или менее полных редакций главы; два других представляют собою отрывки ее третьей редакции. Вторая редакция дает более распространенный по сравнению с первой редакцией текст — по объему она превышает первую в полтора раза. Во второй редакции развернуты многие важные положения статьи, — например, о «торжествующей анархии консерватизма», в текст введено прямое упоминание о Пьере Леру, и пр. Последовательность работы Салтыкова над пятой главой устанавливается путем анализа его правки в тексте и вставок на полях: в тексте второй редакции Салтыковым учтены вставки, сделанные им на полях рукописи первой редакции, в текст третьей редакции введены вставки с полей второй редакции, а перебеленные литы третьей редакции отражают последнюю стадию их черновика. На одном из сохранившихся листов третьей редакции помета Салтыкова: «Вместо этой страницы следует набирать вложенный поллист до конца, а потом перейти к следующей странице на обороте». Нельзя категорически утверждать, что эта неизвестная в полном виде редакция служила оригиналом для набора, так как отдельные страницы ее в процессе перебеливания превращены Салтыковым в черновик, но, вероятно, третья редакция была уже очень близка к наборной рукописи.
Текст второй редакции был опубликован впервые в сокращенном виде В. Кранихфельдом в газете «Киевская мысль», 1914, № 116, 28 апреля. Полностью тексты первой и второй редакций опубликованы Н. Яковлевым в сб.: «М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы». Ред., предисловие и комментарии С. Борщевского, «Academia», М. — Л. 1931, стр. 281–325 и 533–537. При этом, однако, допущена ошибка в характеристике этапов авторской работы (первая редакция принята за вторую и наоборот). В настоящем издании принята последовательность первых двух редакций, установленная Б. М. Эйхенбаумом при публикации их в т. VII изд. 1933–1941. Там же были впервые опубликованы отрывки третьей редакции.
В настоящем издании за основной текст пятой главы принимается черновой автограф второй редакции (текст первой редакции и отрывки третьей см. в разделе «Из других редакций»). В автографе второй редакции имеется два больших вычерка: первый после абзаца «Посмотрим теперь…» (стр. 479) — вычеркнутый отрывок в несколько измененном виде был перенесен Салтыковым в начало статьи (стр. 473, абзац «В самом деле…»); второй вычеркнутый отрывок, с абзаца «Все это до такой степени справедливо…» по абзац «Eteignons les lumières et allumons le feu…» (стр. 482–483), восстановлен нами.
Начиная в 1871 г. новый публицистический цикл с обязывающим названием «Итоги», Салтыков хотел «исследовать» в нем общие результаты десятилетия реформ, начавшегося отменой крепостного права. «Крестьянская реформа» — это «исходный пункт», «к которому неизбежно должен восходить и по сю пору каждый, желающий изложить свои общие воззрения по экономическим и публицистическим вопросам», — отмечал В. И. Ленин в 1897 г..[22] Осмысление и оценка всего пути России после 19 февраля 1861 г. ведется Салтыковым в широком историческом и философском плане, в соотнесении с событиями новейшей европейской истории и высокими критериями «справедливости для всех», выдвигаемыми утопическим социализмом. В «Итогах» изложены в этой связи важнейшие мысли Салтыкова о социалистическом идеале и историческом развитии общества, о франко-прусской войне и Парижской коммуне, о задачах литературы.
В связи с десятой годовщиной Манифеста и «Положений 19 февраля 1861 г.» большая часть консервативной и либеральной прессы («Моск. ведомости», «Русск. вестник», «СПб. ведомости», «Голос» и др.) выступила с новыми славословиями реформам 60-х годов[23] и упованиями на продолжение реформаторских усилий правительства. Прямо противоположной была оценка «десятилетия реформ» в демократической печати. Живучесть крепостничества, бесправие и обнищание масс, неудовлетворительность реформ «сверху» — постоянные темы разнообразных материалов, печатавшихся в 1871 г. в «Отеч. записках», — рецензий и «Внутренних хроник», статей и «провинциальных фельетонов».[24] «Итоги» Салтыкова в этом ряду «юбилейных» выступлений журнала занимают центральное место.
В новом цикле Салтыков подводил итоги не только изменениям в русской жизни, но и эволюции в своей оценке их на протяжении пореформенных лет, отраженной уже частично в «Признаках времени» и в «Письмах о провинции». Высоко оценивая и теперь значение самого освобождения личности крестьянина от крепостной неволи, Салтыков более зорко схватывает в своем итоговом анализе глубинные социально-экономические тенденции пореформенного развития России, невероятно тяжелые и разорительные для крестьянства, и констатирует, что с точки зрения подлинного социального прогресса созданные реформой новые условия жизни, по существу, мало что изменили. Сатирическое определение «мундирное возрождение» (глава I) указывает на бюрократический характер проведения реформ 60-х годов, мизерность конечных результатов казенного «прогресса», уподобляемых усовершенствованиям «кантиков» и «погончиков» чиновничьих мундиров. С позиций «отрицания мундирного принципа вообще» Салтыков исследует далее многообразные стороны русской действительности после десяти лет реформ,
Отдельные факты, противоречащие «духу всеобщего обновления», обсуждались и на страницах либеральной и даже охранительной печати. Так, в 1871 г. широкое внимание общественности привлекли беззакония властей Пермской губернии, которые были выявлены сенаторской ревизией.[25] О результатах этой ревизии писалось до множестве корреспонденций и статей.[26] Однако во вскрытых в Пермской губернии «произволе полиции, бессудности суда и экономическом самоубийстве производительных сил»[27] либеральные публицисты видели только досадное исключение на светлом общероссийском фоне. Для Салтыкова же и пермские беззакония, и сам привычный «способ их устранения» — с помощью сенаторской ревизии — были принципиальным свидетельством сохранения дореформенной системы административно-полицейского произвола и практической бесконтрольности, полной необеспеченности интересов и прав личности управляемых.[28]
Лишь немногие либеральные публицисты критиковали не отдельные частности, а общие результаты реформаторской деятельности правительства. Так, с большой серией серьезных статей «Десять лет реформ»[29] выступил известный общественный деятель 60-х годов А. А. Головачев, близкий знакомый Салтыкова еще по Твери (в 1862 г. он был привлечен Салтыковым к участию в проектировавшемся издании журнала «Русская правда»). Головачев отмечал половинчатость, «отрывочность» реформ, непоследовательность и противоречивость принципов, положенных в их основу. Он одушевлен просветительской идеей «уничтожения всех остатков» крепостного права. В рассуждениях Головачева, писавшего о «крепостнических замашках», «старых порядках даже в новых учреждениях», о сословных тенденциях в земстве, его бессилии перед администрацией, наконец, в требованиях законности и ее гарантий и т. п. ощущается влияние «Писем о провинции» и вообще публицистики Салтыкова этих лет, а также и непосредственного общения с ним. Но Головачев все же оставался в пределах «постепеновской», либеральной идеологии, ограниченной рамками апелляции к самодержавной власти. Эти мотивы исключительно «мирного прогресса, без борьбы и потрясений», явная направленность против «мнений несбыточных и утопических»,[30] очевидно, и вызвали прямой иронический отклик Салтыкова на книгу Головачева в очерке «Зиждитель» цикла «Помпадуры и помпадурши» (1874; т. 8 наст. изд.). Но и раньше, еще до выхода статей Головачева отдельным изданием, в «Итогах» и затем в «Самодовольной современности» «отталкивание» от этих статей входит, несомненно, в полемический подтекст доказательств высокого значения «утопий» в историческом развитии.
Анализ пореформенной действительности в «Итогах» охватывает результаты реформ не только в хозяйственной, социальной практике, в деятельности государственного аппарата, но и в идейной жизни общества. По мнению Салтыкова, «конкретность», четкость политических и социальных требований, выясняемых в широком и результативном общественном движении, — существенная примета зрелости общества (глава III). В русском обществе относительно четкое выражение «конкретных» социальных «желаний» он находит лишь в период предреформенного общественного подъема, в годы, определенные впоследствии В. И. Лениным как период «первой революционной ситуации» в России. После реформы постепенно вновь возобладали мелочное копание либеральных «прогрессистов» в «подробностях», «бесформенное», «призрачное» празднословие славянофилов и почвенников. Писатель приходит к заключению, что реформы не вывели широкие круги русского общества из состояния «доисторического» политического индифферентизма — наследия крепостной эпохи.
Крепостнические традиции, нравы и образ жизни Салтыков определяет как «крепостной фаланстеризм». Общий вывод Салтыкова о результатах «нашего обновления»: «Крепостной фаланстеризм продолжает проникать собой все явления общественной жизни, он только лишился прежнего плотного центра, но в разлитом виде едва ли не представляет еще больше угроз» (глава IV), — развивает, таким образом, заключения «Хищников», «Писем о провинции», направленные против либерального «энтузиазма», и становится еще более содержательным и всеобъемлющим. В сатирическом определении «крепостной фаланстеризм» иронически сопоставляются охранительно-консервативное понимание крепостнического прошлого России как царства «гармонии» и «тишины» (деспотии верхов, пассивности низов, политического и экономического застоя — в интерпретации Салтыкова) и обывательское ходячее понимание социалистического фаланстера будущего как царства неподвижной «гармонии», раз навсегда достигнутого «равновесия» личных стремлений.
Салтыков обосновывает в «Итогах» (главы IV и V) свое понимание социалистического идеала. Оно опирается на общие посылки теории Фурье, Кабе и Леру о движении человечества через смены исторических форм цивилизации к строю всеобщего социального равенства и подкрепляется положениями антропологической философии о соответствии «такой общественной комбинации» подлинной «человеческой природе». Вместе с тем Салтыков обращается и к новейшему историческому опыту, к показаниям самой жизни об «изменяемости общественных форм, для всех видимой и несомненной», и наибольший акцент делает на бесконечности движения, совершенствования форм социальной жизни.[31] Мысль Леру о «золотом веке» он развивает как мысль о конкретной цели исторического прогресса на каждом данном этапе, за достижением которой будут следовать все новые задачи и новые усилия человеческого творчества. Понятие об «абсолютном золотом веке» как о состоянии «равновесия», освобожденного от трудов и исканий, отвергается Салтыковым на основании общего убеждения просветителя и материалиста в бесконечном развитии мира и соответственно — возможностей его познания и преобразования. По мнению Салтыкова, прогресс вечен, он будет лишь изменять свой характер, «как он изменяет его теперь, постепенно переходя из области политической в область общественную». Но общее направление прогресса — к социалистическим идеалам «общества без обделенных». Речь идет, пишет Салтыков, «об отыскании таких законов общежития, которые могли бы умиротворить человечество».
В соответствии с этим основная мысль цикла — о принципиальной недостаточности реформ для подлинного обновления жизни — естественно дополняется едкой сатирической критикой «либеральных консерваторов» — проповедников немедленного «успокоения», стремящихся убедить русское общество, будто оно уже «достигло пристани», — тех либеральных идеологов, которые (подобно, например, В. Безобразову) после реформы от поверхностного «фрондерства» перешли, по существу, к солидарности с властью, сохранив, однако, «прогрессистскую» фразеологию, совмещаемую с непреодолимой страстью к «куску».[32]
Русский пореформенный либерализм Салтыков высмеивал многократно и в очерках «Признаки времени», и в «Письмах о провинции», и в других произведениях 60-х годов. В «Итогах» его критика либерализма выходит за национальные рамки. Реакционную роль «либеральных консерваторов» Салтыков показывает также и на материале западноевропейских событий всемирно-исторического значения.
Либерально-консервативные идеологи, официальная печать определяли любые революционные попытки, радикальные идеи и даже «самую жизнь, вышедшую из старой колеи и пробивающую себе новую колею», словом «анархия». Салтыков, пользуясь своим излюбленным приемом переосмысления понятия противника с целью обратить против него его же оружие, доказывает (в главе V), что действительная анархия, влекущая за собой «приостановку жизни, равнодушие, почти оцепенение» общества, — это борьба единого либерально-охранительного стана с «утопиями», травля «отрицателей», «птенцов» — революционных демократов России 60-х годов и только что совершившаяся весной — летом 1871 г. кровавая расправа «либерального» правительства Тьера с коммунарами в Париже.
В июле — августе 1871 г. слова «анархия», «попрание авторитетов» не сходили со страниц официозной и либеральной печати в связи с разгромом Парижской коммуны, судом в Версале в июле над ее уцелевшими в живых членами (Курбе, Груссе, Журдом, Ферре и др.) и начавшимся 1 июля в Петербурге нечаевским процессом, по которому обвинялись в «заговоре» для «ниспровержения установленного в государстве правительства» 87 человек. Так, «Русск. вестник» утверждал, что «во Франции революция и междоусобие сделались предметом очень распространенного учения и обычной практики» и привели к упадку, а теперь эти «преступные» идеи подхвачены русскими «передовыми людьми», «подтрунивающими над авторитетами».[33] Публицист «Русск. вестника» П. Щебальский писал о «противуобщественной силе, которая дала жизнь Парижской коммуне»,[34] и единстве стремлений «наших и французских разрушителей».[35] «Голос» также отождествлял «анархические» цели русской молодежи с программой «коммуналистов» Франции.[36]
Возмущенный печатной бранью в адрес революционеров и всего молодого поколения, Салтыков предлагал Некрасову (в письме от 17 июля) начать с августа публикацию в «Отеч. записках» материалов «нечаевского дела», а в сентябре дать «свод статей, появившихся по этому поводу в газетах и журналах» (о «неизреченном холопстве» которых он писал А. М. Жемчужникову 31 августа). Последнее намерение было выполнено Салтыковым в статье «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики».[37] Прямая защита обвиняемых была, разумеется, невозможна в печати, поэтому она проведена в «Итогах» в скрытой форме (глава V). Вместе с тем отповедь «одичалым консерваторам современной Франции» звучит здесь во весь голос.
Обосновывая свое понимание исторического прогресса как законной смены старых «мехов» (государственных и политических форм) новыми по мере осознания массами расширяющегося «уровня потребностей жизни», писатель утверждает: «Те, которые говорят прямо, что ветхое — ветхо, негодное — негодно, те вовсе не суть проповедники анархии, но суть ревнители и устроители человеческих судеб».
Судьбы прогресса в России и Европе для Салтыкова неразрывны с судьбой революционной Франции (см. также очерк «Сила событий»). В главе III «Итогов» он с горечью констатирует, что жизнь не дает ответа, «в чем именно заключается полнота» идеалов русского общества и «выяснится ли она когда-нибудь настолько, насколько, например, выяснились идеалы французского общества». Здесь Франция — классическая страна эеволюций, демократической и социалистической идеологии — служит для Салтыкова мерилом исторической активности, четкости и широты идеалов. Эту высшую меру прилагает он и к русской действительности. Поэтому так неразрывно сплетаются затем в произведении две кардинальные его темы: итоги реформ в России и Парижская коммуна во Франции; поэтому столь органично для завершающей главы «Итогов» слияние этих тем в страстной защите русских революционеров и героев-коммунаров.
Расправа с Коммуной, встреченная российскими охранителями как восстановление «порядка», «спокойствия» после полосы «насилий», «террора» и «грабежей»,[38] — обличается Салтыковым в V главе «Итогов», как мрачная «сатурналия» — кровавый пир реакции: «…Анархисты успокоения в одни сутки уничтожают более жизней, нежели сколько уничтожили их с самого начала междоусобия наиболее непреклонные из приверженцев Парижской коммуны!»[39] Указывая на это «мерило для сравнения последствий» «торжества той или другой партии», Салтыков добавляет, что террор «одичалых охранителей» уничтожает лучшие, молодые силы страны, «непосредственно посекает жатву будущего». Однако «обделенный все-таки не перестает быть обделенным», и новый взрыв неизбежен.
Не состоявшееся по вине цензуры выступление Салтыкова должно быть поставлено хронологически в ряд первых и наиболее прозорливых откликов русской демократии на явление Коммуны. Близкие переклички с заключительными страницами «Итогов» мы находим лишь в высказываниях П. Л. Лаврова и в стихотворениях Некрасова «Смолкли честные, доблестно павшие…» и «Страшный год».[40]
Существенный интерес представляют в «Итогах» высказывания Салтыкова по принципиальным вопросам литературы (глава IV), особенно о воспитательном ее значении, которое заключается «в подготовлении почвы будущего». Салтыков формулирует здесь задачи, которые стоят перед литературой — «выразительницей общественной совести» — в борьбе за социальный прогресс, за социалистический идеал: «исследуя нравственную природу человека» в наличных «общественных комбинациях», литература вместе с тем «провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека».
Обличая «уличную литературу», создававшую искаженные, подчас пасквильные образы «нигилистов» (объект критики здесь, несомненно, и «Бесы» Достоевского, и «На ножах» Лескова, в 1871 г. печатавшиеся в «Русск. вестнике»), Салтыков ратует, как и в «Напрасных опасениях», «Годовщине», за воспитание литературой в обществе «жажды подвига», который считает концентрированным выражением «нравственной природы» человека, призывает к созданию «новых типов» борцов за социалистическое будущее, способных стать жизненным примером для «современного человека».
Стр. 422. Прогрессисты, «в надежде славы и добра», бегут вперед. <…> Не вдруг укорачивайте! <…> Дозрели мы или не дозрели? — Салтыков здесь и далее иронически перечисляет основные темы консервативной и либеральной публицистики 1856–1862 гг., характеризуя, как обычно, начальной строкой «Стансов» Пушкина либеральные упованья в связи с реформами. Не вдруг. — См. прим. к стр. 7. Дозрели мы или не дозрели? — Вопрос о «незрелости» (неподготовленности к «великим реформам»), о «неспособности к самодеятельности» русского общества постоянно дебатировался в печати (см., например, передовую в СО, 1862, № 235, 1 октября — «Нашим рьяным прогрессистам», а также прим. к стр. 272 наст. тома), что неоднократно вызывало насмешки демократической публицистики (см., например, январско-февральскую хронику «Наша общественная жизнь» 1863 г. в т. 6 наст. изд.; статью Писарева «Бедная русская мысль». — РС, 1862, № 4, отд. II, стр. 41. — Д. И. Писарев. Сочинения в 4-х томах, т. 2, М. 1955, стр. 66).
…встретиться с человеком, который на вопрос: «какой из двух мундиров лучше?» — отвечает: «оба лучше», и на этом прекращает разговор. — Эзоповская характеристика позиции, занятой во время крестьянской реформы наиболее последовательными деятелями революционной демократии, в частности Чернышевским. Он отвечал молчанием на борьбу между крепостнической и либеральной тенденциями в осуществлении реформы, ибо понимал «ее основной буржуазный характер», враждебность обоих лагерей трудящимся, неспособность «крепостническо-бюрократического государства» дать им подлинное освобождение, и «обиняками» проводил эту мысль в подцензурной печати (см.: В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 289–292).
Стр. 425. Безответность <…> заставляет предполагать <…>, или что у отрицателей совсем нет никаких доктрин, или что они имеют какие-то доктрины, но не хотят о них повествовать. — Консервативная и либеральная печать или обвиняла демократическую публицистику, в частности «Отеч. записки» и Салтыкова, в отсутствии положительной программы, или намекала на революционно-социалистическую подоплеку их критики пореформенной действительности: см., например, статью В. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» (РВ, 1869, № 10, стр. 481–484); статью «Критические заметки о текущей литературе…» («Заря», 1869, № 7; без подписи, возможно — Н. Страхова, стр. 165–166); рецензию Суворина на изд. 1869 (ВЕ, 1869, № 4, стр. 981, 988). Суть суворинской рецензии Салтыков в письме к Некрасову от 5 апреля 1869 г. определил так: «…Не видно, дескать, какие у него <Салтыкова> политические и общественные убеждения, а остроумие, мол, есть». См. также стр. 541, 551 наст. тома.
Стр. 427. Вскую — тщетно (старославянск.).
…корень доктрины, навлекшей на себя подозрение, кроется в естествознании. <…> Действительный мир оказывается миром чудес, мир чудес — действительным… — Салтыков указывает на роль философского материализма и естественных наук в разрушении привычно-религиозного и авторитарно-монархического сознания, обнажении «призрачности» его понятий. См. также «Проект совр. балета» в наст. т. и «Совр. призраки» в т. 6 наст. изд. На опасность «учения о материализме», проводимого «в связи с направлением социальным» «преимущественно в журнале «Современник», указывал в отчете Александру II за 1862 г. шеф жандармов В. А. Долгоруков: «Имея целью объяснить все существующее законами физической природы, оно отвергает все нравственные начала: разум, бессмертие, религию и, наконец, самое бытие творца» (цит. по изд.: А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. XV, П. 1920, стр. 593). В походе против материализма русских демократов приняла участие консервативная и славянофильская печать. В передовой «Дня» № 39 от 28 сентября 1863 г. И. Аксаков писал: «…Какую точку опоры в нравственной борьбе России с полонизмом <то есть с польским национально-освободительным движением> представят вам материалисты, проповедующие <…> совершенное разрушение всех нравственных основ общества, равнодушие к вопросам веры и народности?»
Стр. 430. Тьмы низких истин мне дороже… — Из стихотворения Пушкина «Герой».
Стр. 431. Период брожения — время общественного подъема 1856–1861 гг. Ср. стр. 422, 450 и прим. к ним.
Стр. 432. Говорят, что все это признаки очень здоровые <…>. Солидные люди усматривают задатки так называемого трезвого отношения к жизни… — Радость по поводу «отрезвления» общества выражали, например, Катков и И. Аксаков в №№ 1 «Моск. ведомостей» и «Дня» за 1863 г.
Умереть — уснуть… — Из монолога Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет» (акт. III, сцена I; перевод Н. Полевого).
Это была знаменитая в летописях битва против нигилистов, свистунов, космополитов и проч. — См. комментарий к январско-февральской хронике «Наша общественная жизнь» 1863 г. в т. 6 наст. изд. и к очерку «Лит. положение» в наст. томе.
Стр. 433…обнародованные на днях в «Московских ведомостях» результаты недавней ревизии Пермской губернии. — Речь идет о передовых статьях в №№ 12 и 13, 16 и 17 января 1871 г.
Стр. 437. Под видом чествования ревизора предпринимался целый ряд волшебнейших объядений… — Развернутое описание дореформенной ревизии см. в рассказе «Приезд ревизора» (1857; т. 3 наст. изд.),
Стр. 440…о вторжении вредных и неблагонадежных элементов (особенный вид преступности, рекомендуемый г. академиком Безобразовым, но <…> в уголовный кодекс не внесенный). — Иронический выпад против статьи В. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты», где он писал, что «лучшие представители» «здоровой общественной среды» (к которым причислял себя) должны «зорко следить за неблагонадежными материалами» и «неблагонадежными понятиями» в литературе (РВ, 1869, № 10, стр, 486). Безобразов же имеется в виду ниже в словах: «В эту благодатную страну ездят наши департаментские экономисты…» и т. д. Ср. прим. к стр. 325.
Стр. 441…что в высших правительственных сферах существовало лишь в качестве проекта… — В апреле 1870 г. в Государственном совете обсуждался проект административно-полицейской реформы (см. стр. 627–629).
Стр. 442. Верхотурский исправник высек одного почтсодержателя… — Случай из служебной практики исправника Митяшева, которому вслед за этим была «дана награда», хотя губернское правление назначило дознание о его противозаконных действиях (МВ, 1871, № 12, 16 января; см. также ВЕ, 1871, № 10, стр. 636).
…и в других двух случаях, приведенных в «Московских ведомостях». — В передовой в № 13 от 17 января 1871 г. писалось: «Купец взыскивал следовавшие ему с двух других торговцев деньги в течение шести лет»; «когда был разграблен обоз другого купца, то первое распоряжение полиции по этому делу последовало <…> через два с половиной года после происшествия».
Стр. 446…по поводу французско-прусской войны <…> общественное мнение <…> интересовалось этим громадным историческим фактом. — См. об этом в очерке «Сила событий» и в комментарии к нему.
Стр. 447…воздух был буквально насыщен проектами всевозможных союзов, наступательных и оборонительных войн, трактатов и т. д. — Такие проекты противостоять усиливающейся мощи Германии наполняли с августа — сентября 1870 г. страницы «Моск. ведомостей» и «Голоса».
Стр. 448…вопрос о классическом и реальном образовании. — Этот вопрос с 1864 г. постоянно дебатировался в русской печати (см. прим. к стр. 120). С 1866 г., когда министром народного просвещения стал гр. Д. А. Толстой, сторонники изучения в гимназиях двух древних языков и исключения из их курса естественных наук (чтобы помешать распространению материализма и атеизма в молодом поколении), во главе с Катковым, получили официальную поддержку. В министерстве к весне 1871 г. были выработаны проекты нового устава гимназий и реальных училищ, отдававшие монополию доступа в университеты воспитанникам классических гимназий При обсуждении проекта министерства в сенате и Государственном совете мнения разделились, но 30 июля 1871 г. новый устав был утвержден.
Одни видят разгадку будущих русских судеб в слове «цельность», другие — в слове «смирение», третьи — в слове «любовь», четвертые <…> сулят слово новое, неслыханное. — Речь идет о программных требованиях официально-националистической, славянофильской и почвеннической публицистики. О «новом слове» см. прим. к стр. 16 в т. 5 наст. изд.
Стр. 450…один момент <…>, когда можно было уловить очертания наших общественных желаний… — Годы наивысшего демократического подъема, революционной ситуации (1859–1861).
Стр. 452…нравственное равновесие <…>, по предположению Фурье, достигается при посредстве гармонической игры страстей… — По теории Фурье, природа человека требует свободного сочетания и удовлетворения всех присущих ему «двенадцати страстей», невозможного в собственническом обществе (Ш. Фурье. Новый хозяйственный и социетарный мир. — Избранные сочинения, т. IV, М. — Л. 1954, стр. 99). См. также в т. 6 наст. изд. статью «Как кому угодно» и комментарий к ней.
Стр. 453…«ныне отпущаеши…» — С этими словами праведник Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, не увидев Христа, обратился к всевышнему, узрев божественного младенца (Еванг. от Луки, II, 25–29).
Стр. 453–454…разговоры о каком-то знамени <…>, инсинуации насчет неблагонадежных элементов, наплыв которых якобы не следует допускать… — Новый выпад против Безобразова (см. прим. к стр. 440).
Стр. 457…четыре столоначальника… — Перечисляемые далее департамент недоумений и оговорок — сатирический псевдоним министерства юстиции, департамент дивидендов и раздач — министерство торговли, департамент отказов и удовлетворений — сенат, департамент изыскания источников и наполнения бездн — министерство финансов. К этим строкам в ОЗ следовало подстрочное примечание:
Пишущий эти строки считает долгом удостоверить, что все эти департаменты действительно существуют… в одном беллетристическом произведении, которое имеет появиться на страницах «Отеч. зап.». Произведение это называется «В погоне за счастьем, история моих изнурений». Хотя содержание его имеет характер преимущественно памфлетический, но, в видах угождения прекрасным читательницам, произведение будет снабжено обоими сортами любви — законною и незаконною, браками, крестинами и даже погребениями.
Среди последующих сочинений Салтыкова памфлета с таким названием нет, и неясно, какой из своих очередных замыслов имеет он в виду (возможно, замысел «Дневника провинциала в Петербурге», который он начал печатать в «Отеч. записках» с января 1872 г.).
Департамент любознательных производств — сатирический псевдоним III Отделения.
Стр. 458…один известный своею находчивостью экономист. — По-видимому, новая сатирическая стрела в адрес Безобразова.
…«я могу плясать! <…> радуюсь». — Вольный пересказ монолога Юсова из комедии Островского «Доходное место» (1857; действ. III, явл. 3).
Стр. 462. Поклонников доктора Панглоса <…> нынче очень много. — Доктор Панглос — персонаж философского романа Вольтера «Кандид». Один из ходовых (неточных) вариантов изречения Панглоса — «все к лучшему в этом лучшем из миров» — Салтыков применяет здесь для характеристики той части современной ему литературы, которая заявляла о своем удовлетворении существующим положением вещей и тем самым отказывалась от борьбы за его изменение, за «подготовление почвы будущего».
Стр. 466…слова «вдруг» и «все» оказывают <…> ошеломляющее действие, какое в комедии Островского («Тяжелые дни») оказывают мудреные слова вроде «жупел» и т. д. — В «Тяжелых днях» (1863) богатая купчиха Настасья Панкратьевна Брускова жалуется, что боится «мудреных слов»: «…Как услышу я слово «жупел», так руки-ноги и затрясутся» (действ. II, явл. 2). Салтыков уподобляет этой купчихе либерально-консервативную публицистику, пугавшую общество анархией и насилием как неизбежными, будто бы, последствиями борьбы за «утопии» — за передовые общественные идеалы.
Стр. 468…говорил о каком-то «крае»… — то есть о надеждах получить назначение начальником какой-то губернии.
Стр. 469. «Волосатый». — См. прим. к стр. 20.
Стр. 471…момент <…>, когда чуть не вся Россия была заподозрена в анархических стремлениях… — Время пореформенной реакции с ее кульминациями в 1862–1863 и 1866 гг.
Стр. 472…сколько было в то время выпито шампанского! сколько разослано телеграмм! — Салтыков напоминает о шовинистической кампании в связи с польским восстанием 1863 г., когда верноподданнические чувства дворянского общества выражались адресами Александру II, «патриотическими» обедами, приветственными телеграммами Муравьеву (Вешателю) (см. прим. к стр. 113, 114 в т. 6 наст. изд.).
…патагонцы сводили счеты <…>, досталось же тогда на орехи птенцам… — Речь идет о массовых политических репрессиях 1862–1863 и 1866 гг. Патагонцы — здесь — дикари, крайние реакционеры, птенцы — демократическая и революционная молодежь.
Стр. 473. Разложение масс. — Это понятие в философии XIX в. шло от гегельянства и означало появление и развитие общественно активных личностей передового сознания из однородной, не тронутой сознанием массы.
Стр. 474. «Умный человек не может быть не плутом». — Слова Репетилова в «Горе от ума» Грибоедова (действ. IV, явл. 4).
Стр. 475. Глупые люди — обывательская масса, инстинктивно враждебная прогрессу («мгновенно наливаются кровью»), используемая охранительными идеологами и политиками — «бессовестными людьми» — в борьбе с передовым общественным движением.
Стр. 478 «Ничего не пощадили, даже…» — то есть даже бога, религии (см. также прим. к стр. 16 в т. 6 наст. изд.).
…давность обычая еще не обусловливает его непогрешимости… — Салтыков полемизирует с охранительной и либеральной печатью, утверждавшей, что русские демократы «относятся с гордым презрением ко всему существующему, ко всему реальному, выработанному тысячелетиями» (рецензия без подписи на «Исторические письма» П. Л. Лаврова (Миртова). — РВ, 1871, № 2, стр. 834). С подобными же обвинениями выступали против подсудимых по «нечаевскому делу» «СПб. ведомости» (см. передовую в № 180, 3 июля).
Стр. 479. С помощью обобщений вы от инспекторского департамента гражданского ведомства дойдете и до других более сложных комбинаций… — Этот департамент был упразднен в 1858 г. Здесь эзоповски выражена мысль, что вся самодержавно-бюрократическая система изжила себя.
…когда перед нами стоят люди, которые называют лебеду лебедою, мы поступаем <…> бесчестно <…>, передавая, их на поругание толпе. — Полемика с охранительной и либеральной печатью, твердившей во время нечаевского процесса о беспочвенности революционных попыток в России в связи с благодеяниями царя и помещиков крестьянам (см., например, РВ, 1871, № 8, стр. 627; Г, 1871, № 183, 4 июля, фельетон «Петербуржца», стр. 1).
Стр. 480…акцизная система может быть названа золотым веком… — См. прим. к стр. 190.
Стр. 481…историю с «пагубным материализмом»… — О преследовании материализма см. прим. к стр. 427.
Стр. 482. Разлагающее влияние — здесь — в смысле аналитического воздействия.
…в прах разлетятся все хитросплетенные союзы, завещанные нам ассириянами, вавилонянами, римлянами, греками и т. п. — Напоминая об исторических судьбах распавшихся или уничтоженных древних империй и царств Ассирии, Вавилона, Рима и Византии, Салтыков намекает на неизбежность падения русского самодержавия, когда в массы проникнет сознание, что эта форма политических отношений («союзов») «осуждена историей».
Да; это единственные разрушители <…>, единственные мечтатели, никогда не могущие выбиться из пустоты. <…> Для них одних будущее подобно бездонным хлябям… — Салтыков переадресует реакции и ее идеологам обвинения, которые те обрушивали на русских революционеров в связи с «нечаевским делом». Так, Катков в передовой № 161 «Моск. ведомостей», 25 июля 1871 г., писал, что их цель — «всеобщее разрушение для разрушения». Передовая в № 180 «СПб. ведомостей», 3 июля, называла подсудимых «представителями лишь своей собственной разгоряченной фантазии». Автор фельетона в № 183 «Голоса», 4 июля, утверждал: «…О том, что поставить на место разрушенного, имелись самые смутные понятия», — и приписывал действия подпольных организаций в России махинациям заграничных «предпринимателей политических движений для осуществления самой несбыточной мечты, когда-нибудь западавшей в головы этих пустозвонных болтунов, именно революции в России» (подразумевались М. Бакунин и Огарев).
Стр. 483. Eteignons les lumières et allumons le feu… — Строки рефрена стихотворения Беранже «Les Missionnaires» («Миссионеры»). У Беранже — «rallumons», то есть вновь зажжем (имеются в виду костры инквизиции).
Заподозривается, например, NN в анархических стремлениях <…>. Отыскивается переписка любовного содержания. <…> Начинается выемка человеческой души. — Здесь имеются в виду не только преследования и суды над участниками Парижской коммуны, но также следствие и процесс по «нечаевскому делу». Консервативная печать смаковала, в частности, отношения подсудимого Ткачева и его невесты Дементьевой, которая решилась в интересах дела на фиктивный брак с другим подсудимым, Орловым (см., например, П. Щебальский. Наш умственный пролетариат. — РВ, 1871, № 8, стр. 638–639)
НЕОКОНЧЕННОЕ
<КТО НЕ ЕДАЛ С СЛЕЗАМИ ХЛЕБА…>
При жизни Салтыкова этот текст не публиковался в качестве самостоятельного произведения, и неясно, представляет ли он законченную статью или, скорее, фрагмент какого-то более обширного замысла. Значительная часть текста вошла, в измененном виде, отдельными абзацами, перетасованными с новым текстом, в «Письмо шестое» цикла «Письма о провинции» (ср. стр. 491–492 и 254–255, 492–495 и 248–251). На основании этих обстоятельств текст «Кто не едал…» помещается в настоящем издании не в основном разделе, а в разделе «Неоконченное».
Впервые статья опубликована Н. Яковлевым в ЛН, т. 11/12, стр. 245–251, по черновой автографической рукописи без заглавия. В настоящем издании печатается по указанной рукописи — единственному источнику текста.
Работа над «Кто не едал…» относится, скорее всего, к лету 1868 г., ко времени, непосредственно предшествовавшему возникновению «Письма шестого» цикла «Письма о провинции», с содержанием которого статья тесно связана и в котором, как сказано, использована большая часть ее текста. Обычно такие включения текста неопубликованных произведений в новые производились Салтыковым вскоре после написания первых и как только выяснялось, что по каким-либо обстоятельствам они не могут быть опубликованы в данный момент. В пользу отнесения «Кто не едал…» к лету 1868 г. говорит и непосредственная перекличка суждений о русской истории в этом наброске с «Историей одного города», печатавшейся в «Отеч. записках» с начала 1869 г., а также употребление в «Кто не едал…» сатирического понятия «чужеядные» (стр. 490), совпадающего с характеристикой помещичьего паразитизма в пятом «письме из провинции», опубликованном в сентябре 1868 г.
Стр. 489. Кто не едал с слезами хлеба <…> гласит Гете в плохом переводе г. Струговщикова. — Цитируется начало стихотворения Гете «Арфист» по изданию: «Стихотворения Александра Струговщикова, заимствованные из Гете и Шиллера», кн. 1, СПб. 1845, стр. 40. В предисловии Струговщиков писал, что «не считает себя вправе выдавать» предлагаемые стихотворения за переводы: он стремился передать лишь «главнейшие впечатления подлинника», «общий тон и колорит» (там же, стр. II).
Стр. 491…толпа <…> одна только и может, с законным основанием, назваться «властительницей наших дум». — «Властителем наших дум» назвал Пушкин Байрона в стихотворении «К морю».
Стр. 493…к какой угодно высшей цели. — То есть к проповеди социализма.
…как выражается г-жа Падейкова… — См. рассказ «Госпожа Падейкова» в т. 3 наст. изд.
ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ
ЛЕГКОВЕСНЫЕ
При жизни Салтыкова эта первая редакция очерка не была опубликована по цензурным причинам (подробнее см. на стр. 535–536 и 554). Начальная и заключительная части опубликованы Б. Эйхенбаумом в т. 7 изд. 1933–1941, стр. 502–505, по рукописи.
В настоящем издании впервые публикуется полностью по указанной рукописи. Большую часть рукописи составляет копия рукой Е. А. Салтыковой, с авторскими поправками, остальная часть — беловой автограф Салтыкова, обозначенный им цифрой «4». Рукопись предназначалась для набора: об этом свидетельствует помета в углу первого листа — «Отеч. зап. № 1, отд. 2-е».
Текст настоящей первой редакции частично, в переработанном виде, был использован Салтыковым в очерке «Лит. положение» и в «Письме четвертом» цикла «Писем о провинции» (ср. стр. 499 и 55, 500 и 71, 505–509 и 226–229).
ИТОГИ
ГЛАВА V
Первая редакция
О первой публикации первоначальных редакций пятой главы «Итогов» и установлении их последовательности см. выше, стр. 657–658.
Первая редакция представляет собою черновой автограф с многочисленными вставками и несколькими вычерками. На полях последнего листа автографа имеются две карандашные выписки рукой Салтыкова: помета «Du Bois Calame»[41] и цитата «Запасшися крестьянин хлебом, // Ест добры щи и пиво пьет. Державин. Осень во время осады Очакова».
Текст первой редакции пятой главы печатается в настоящем издании полностью, по окончательному слою рукописи (варианты не представляют самостоятельного значения и не приводятся).
Стр. 517. «Золотой век не позади, а впереди нас», — сказал один из лучших людей нашего времени… — Салтыков цитирует книгу П. Леру «De l’Humanité, de son principe et de son avenir» (второе изд., Париж, 1845) — «О человечестве, его принципах и его будущем». См. также стр. 480 и 661 в наст. томе.
Два фрагмента третьей редакции
О первой публикации фрагментов третьей редакции см. выше, стр. 658.
Первый фрагмент представляет собой беловую вставку в начало рукописи, в текст, вырабатывавшийся на основе абзацев второй редакции «Совсем другой смысл…» — «Все это неопровержимо доказывается…» (стр.473–475). Кроме того, ранее в рукописи имеется еще небольшая выписка рукой Салтыкова на полях, против рассуждения о понятии «авторитет» (см. стр. 475):
Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились и малы и худы, нам нужны были общие уставы человечества!
Речь проф. Моск. ун. Морошкина «Об Уложении и его дальнейшем развитии».
Второй фрагмент является новой редакцией конца главы и представляет собой частично перебеленную рукопись, частично — черновую. Текст его вырабатывался на основе абзацев второй редакции пятой главы «Но ловкие люди и тут отыскивают…» — «А между тем в этом изобилии…» (стр. 481–486).
Примечания
1
наконец.
(обратно)2
дорогой мой.
(обратно)3
Уничтожен!
(обратно)4
Полноте! Полноте!
(обратно)5
Вот именно!
(обратно)6
Отсюда рождается гнев.
(обратно)7
пусть злые дрожат, пусть добрые ободрятся!
(обратно)8
хочешь — не хочешь.
(обратно)9
понимаешь.
(обратно)10
Честное слово!
(обратно)11
Социализм, коммуна — все едино!
(обратно)12
Эту главу «Итогов», предназначавшуюся для «Отечественных записок», 1871, № 8, Салтыков должен был вырезать из журнала, ввиду угроз для издания со стороны цензуры. Изъятый текст неизвестен. Но сохранились пять автографических рукописей, в которых содержатся разные редакции и фрагменты главы V. В основном разделе настоящего тома печатается наиболее полная вторая редакция. Первоначальный текст и фрагменты из позднейших доработок см. в разделе Из других редакций.
(обратно)13
«О человечестве и т. д.».
(обратно)14
В рукописи зачеркнуто.
(обратно)15
Считаю нужным оговориться здесь, что под словом «толпа» я везде разумею собственно так называемую «чернь». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)
(обратно)16
В рукописи зачеркнуто.
(обратно)17
и то и се.
(обратно)18
очень элегантным и модным.
(обратно)19
См. первые четыре №№ «Отеч. зап.» 1871. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)
(обратно)20
Письмо Салтыкова к Л. Ф. Пантелееву от 30 марта 1887 г.
(обратно)21
ЛН, т. 13/14, стр. 142.
(обратно)22
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 509.
(обратно)23
См., например: П. Щебальский. Наш умственный пролетариат. — РВ, 1871, № 8, стр. 627.
(обратно)24
См. например, в отд. «Совр. обозрение» анонимную рецензию на книгу Скалдина «В захолустье и в столице», СПб. 1870 (ОЗ, 1871, № 2, стр. 211–213); «Внутр. хронику» Н. А. Демерта (№ 3, стр. 153–171); его же «Темные и светлые стороны нашего общества» (№ 6, стр. 225–226); «В дороге» А. Л. Шиманова (№ 6, стр. 344–355).
(обратно)25
Проводилась с июля по ноябрь 1870 г. сенатором П. Н. Клушиным; в ходе ее уволены за злоупотребления большинство высших губернских чиновников во главе с губернатором Лошкаревым.
(обратно)26
См., например, в МВ корреспонденцию некоего «N» «Из Перми» (№ 1, 1 января), передовые в №№ 12 и 13; 16 и 17 январями другие материалы.
(обратно)27
Очерк «Дореформенная губерния» за подписью «Ч». — ВЕ, 1871, № 10, стр. 629.
(обратно)28
Политическую глубину анализа Салтыкова подтверждают выводы новейшего исследования. См.: Н. М. Дружинин. Сенаторские ревизии 1860—1870-х гг. (К вопросу о реализации реформы 1861 г.). — «Истор. записки», т. 79, 1966, стр. 175.
(обратно)29
Печатались в ВЕ с февраля 1871 по май 1872 г., в 1872 г. изданы отдельной книгой.
(обратно)30
См.: А. А. Головачев. Десять лет реформ (1861–1871), СПб. 1872, стр. 2, 7, 213, 260, 283, 387, 395 и др.
(обратно)31
«Произвольная регламентация подробностей» будущего социалистического общества в разных школах утопического социализма критиковалась Салтыковым и ранее. — См. в т. 6 наст. изд. мартовскую хронику «Наша общественная жизнь» 1864 г., статью «Современные призраки» и комментарий к ним.
(обратно)32
О значении «прогрессистской» идеологии в общей системе охранительной идеологии обстоятельнее было сказано в журнальном тексте (см. вариант к стр. 453) и в рукописной третьей редакции V главы (см. стр. 522–627).
(обратно)33
РВ, 1871, № 2, стр. 823, 829, 834; рецензия без подписи на «Исторические письма» П. Л. Миртова (Лаврова).
(обратно)34
«Идеалисты и реалисты». — РВ, № 7, стр. 184.
(обратно)35
«Наш умственный пролетариат». — РВ, № 8, стр. 643.
(обратно)36
Г, 1871, № 183, 4 июля.
(обратно)37
ОЗ, 1871, № 9 (т. 9 наст. изд.)
(обратно)38
См., например, фельетон в Г, 1871, № 183, 4 июля, и статью Г. де Молинари «После разгрома». — РВ, 1871, № 8, стр. 496–498.
(обратно)39
Сравнение с первой редакцией, где вместо непреклонные было дикие, показывает существенный нюанс в оценке Коммуны Салтыковым. Некоторые акты Коммуны и ее отдельных деятелей он не приемлет, ибо для него революционное насилие — лишь самая последняя, крайняя возможность в борьбе со старым миром. Однако в процессе работы над текстом главы он стремится в самом выборе эпитетов и формулировок акцентировать главное — уважение к подвигу коммунаров, солидарность с их благород ными целями и идеалами.
(обратно)40
Подробнее об отражении событий Парижской коммуны в творчестве Некрасова и в русской демократической печати см. в статье И. Власова (при участии С. Макашина) «Некрасов и Парижская коммуна». — ЛИ, т. 49/50, стр. 397–428.
(обратно)41
Смысл этой пометы неясен. По предположению Б. Эйхенбаума (изд. 1933–1941, т. 7, стр. 513), Du Bois — вероятно, французский скульптор и художник XIX в. Dubois; Calame — швейцарский художник-пейзажист того же времени.
(обратно)
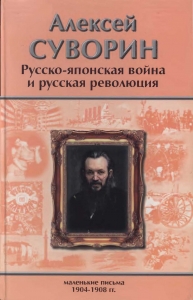

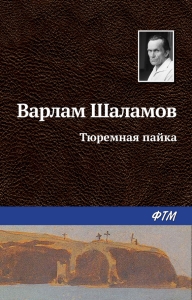


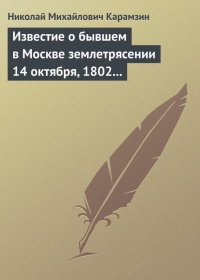

Комментарии к книге «Сатира из Искры. Итоги», Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Всего 0 комментариев